Егор Гайдар Долгое время. Россия в мире. Очерки экономической истории
© Е. Т. Гайдар, наследники, 2005, 2015
© ООО “Издательство АСТ”, 2015 Издательство CORPUS ®
* * *
Введение
Первые наброски предлагаемой вниманию читателя работы я написал в начале августа 1991 года. Тогда для нас самой актуальной научной, да и жизненной, задачей было не столько понять, чем же был советский социалистический эксперимент на фоне долгосрочных тенденций социально-экономического развития в мире, сколько предугадать, с какими ключевыми проблемами столкнется Россия, стремясь к интеграции в мировую систему рыночных отношений.
Дальнейшее развитие событий – августовский путч, его провал, крах СССР и социалистической системы, трудное начало рыночных реформ – заставило меня надолго отложить работу над этой тематикой.
В свое время Ленин прервал работу над “Государством и революцией”, объяснив это тем, что интереснее делать революцию, чем писать о ней. Ничего интересного и романтического я в революциях не вижу. Мне ближе китайская мудрость: “Не дай вам Бог жить в эпоху перемен”. Но могу засвидетельствовать, что быть активным участником революционных событий и пытаться продолжать научные исследования проблем долгосрочного социально-экономического и политического развития непросто.
Последние 15 лет были для России временем бурных изменений социально-экономической и политической структуры. Рухнули Советский Союз с его тоталитарным политическим режимом и командной экономикой, вассальные режимы в Восточной Европе. Сформировались новые, независимые, государства, границы, установления.
Советский Союз 1989 года, Россия 1992 года и тем более Россия 2004 года – разные страны. В них по-разному организованы экономика, структура собственности, государственные и общественные институты. Крах социализма положил начало длительному периоду институциональной неустроенности, когда старые правила и установления уже не работали, а новые еще не работали и не могли работать: за ними не было традиции, привычности, общественного согласия. Наступило время слабых и неустойчивых правительств, ненадежных денег, дурно соблюдаемых законов – время, когда государство плохо справляется со своими обязанностями по обеспечению законности и порядка именно потому, что не может меняться синхронно с обществом; общество уже ушло туда, где еще нет государства. Такой период всегда тяжел для тех, кто его переживает.
Сейчас, когда я пишу эти строки, основные задачи собственно постсоциалистического перехода в экономике России решены. Рыночные институты, пусть несовершенные, сформированы. Трансформационная рецессия (см. гл. 9) позади. Экономика несколько лет устойчиво растет. Вызывающие тревогу социальные, экономические и политические проблемы остаются, но это уже другие проблемы.
Слабая судебная система, коррумпированный и неэффективный государственный аппарат, слабый банковский сектор лишь некоторые примеры. Но все это проблемы, которые в той или иной мере встречаются и в рыночных экономиках, никогда не переживавших деформаций, связанных с социалистическим экспериментом.
Важный результат тех перемен, которые произошли в последние годы, – возвращение России в современный мир. Это возвращение трудное и противоречивое, отнюдь не триумфальное и еще не вполне завершенное. Перед Первой мировой войной российская интеллектуальная и деловая элита уже была частью европоцентристского мира. В последующие десятилетия эти связи прервались или критически ослабли. “Большой террор”, изоляционизм, ксенофобия, шпиономания, жесткое ограничение личных контактов, информационного обмена надолго отделили нашу страну от мира. Но в последние годы мы в мир возвращаемся.
Именно потому, что Россия снова становится частью современного мира, необходимо понимать, как он устроен, как и почему он стал таким, каковы важнейшие тенденции, определяющие мировое развитие, какие над ним нависают проблемы и противоречия.
Перед нашей страной стоят серьезные долгосрочные стратегические проблемы, но важно знать и учитывать, что с похожими проблемами уже сталкивались другие страны, ушедшие вперед по уровню экономического развития.
В обществе, уставшем от перемен, революционных потрясений, политические элиты, пришедшие к власти и обеспечившие хотя бы относительную стабильность, хоть какой-то порядок, получают необычную в истории свободу маневра, даже выбора стратегического курса. Такой свободы никогда не имеют политики, действующие в периоды долгосрочной стабильности социально-экономических и политических институтов или, напротив, в дни бурных, революционных потрясений.
Постсоциалистический переходный период по своей природе исторически короткий. Формирующиеся институты, принимаемые решения, разумеется, могут оказывать долгосрочное влияние на развитие событий в экономике и обществе, но само время сжато, измеряется месяцами, годами, днями и никогда – поколениями.
В политике периода постреволюционной стабилизации заложено объективное противоречие. Оно состоит в том, что стратегические решения, от которых зависит траектория движения страны на поколения вперед, приходится принимать политическим лидерам, только что вышедшим из периода потрясений, смут и кризисов. Оперативный кругозор этих лидеров по необходимости сжат до месяцев, в лучшем случае до нескольких лет (до ближайших выборов), а серьезное обсуждение долгосрочных перспектив кажется непозволительной роскошью.
При выработке стратегии развития страны надо видеть стоящие перед ней проблемы, находить пути их решения. В середине 80‑х годов прошлого века в СССР десятки институтов в рамках работы над “Комплексной программой научно-технического прогресса” были заняты обсуждением перспектив развития страны на 15‑20‑летний период. Почти никто не занимался тем, что происходило сегодня и будет происходить в советской экономике, скажем, в ближайшие 3–9 месяцев. В годы переходного периода ситуация кардинально изменилась. Появилось много интересных материалов, посвященных текущей конъюнктуре, но мало работ, ориентированных на стратегические проблемы развития, долгосрочное прогнозирование[1]. Между тем важнейшие проблемы, которые придется решать в России на протяжении следующих десятилетий, – демографическая динамика, изменение возрастной структуры населения, устойчивость пенсионной системы, сдвиги в структуре производства и потребления, обусловленные выходом на постиндустриальную стадию развития, – имеют долгосрочный характер. Чтобы конструктивно обсуждать их, нужны длительная историческая ретроспектива, понимание логики долгосрочных изменений, проблем, порождаемых инерционностью институтов, созданных на более ранних стадиях развития.
Если мы хотим смотреть не назад, а вперед, выработать решения, позволяющие России в XXI в. взять реванш за неудачи XX в., занять достойное место в ряду свободных и преуспевающих государств, надо попытаться понять, в чем состоят уроки, которые можно извлечь из опыта мирового развития, представлять, в каком окружении нам предстоит вырабатывать и реализовывать собственную линию развития. Вот что побудило меня вновь через много лет вернуться к исследованию долгосрочных тенденций мирового социально-экономического развития, поиска места России в меняющемся мире.
Те проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня или столкнемся в будущем, не случайный набор трудностей, связанных с постсоциалистическим переходом, а проявление долгосрочных тенденций. Они тесно связаны с адаптацией к процессу глобальной трансформации социально-экономических и политических структур, получившему название “современный экономический рост”, который начался в XIX в.
Выйдя из постсоциалистического переходного периода, Россия не оказалась в устойчивом стационарном состоянии. Она осталась частью глубокого и масштабного, до сих пор незавершенного и трудно прогнозируемого процесса изменений в организации жизни общества. Если не понять этого, можно сделать немало ошибок при выработке ключевых решений в области социально-экономической политики. Попытка ответить на некоторые вопросы, связанные с интеграцией России в происходящие в мире глобальные процессы, – цель данной книги.
Книга написана для тех, кто интересуется проблемами долгосрочного социально-экономического развития, выработки стратегии развития России в XXI в. Это не публицистика. От тех, кто захочет ее прочитать, требуется желание и умение анализировать большие массивы статистического материала. Однако я стремился сделать ее доступной для любого заинтересованного и образованного читателя, в том числе и для того, у кого нет профильного экономического и исторического образования.
Объем работ, посвященных тенденциям долгосрочного социально-экономического развития, безграничен. Как ни пытаешься расширить круг используемой литературы, он все равно остается неполным. Там, где это возможно, я цитирую либо наиболее известные, широко упоминаемые в научном сообществе работы, либо те, которые доступны читателю в русскоязычных изданиях.
Безбрежность проблематики заставляет максимально ограничивать круг обсуждаемых вопросов. В связи с этим в центре внимания автора книги все то, что связано со стержнем экономической политики – финансами, государственными доходами и расходами на разных стадиях экономического развития.
Эта работа была бы невозможна без статистической революции XX в., радикально увеличившей объем доступных нам знаний о долгосрочных тенденциях развития мира и отдельных стран.
Работы С. Кузнеца, М. Абрамовича, А. Мэддисона, Б. Митчелла, П. Байроша, Р. Голдсмита и многих других исследователей резко расширили возможности сравнительного анализа национальных траекторий развития[2]. Труды исследователей были дополнены системными усилиями ОЭСР, МВФ, Мирового банка, Европейского банка реконструкции и развития, ООН, входящих в ее структуры организаций по формированию длинных рядов статистических показателей, характеризующих социально-экономическую динамику. Не следует переоценивать качество исторической статистики. Чем глубже уходят в прошлое ряды данных, тем они менее надежны, включают все больше неочевидных допущений. Тем не менее тот объем знаний о социально-экономическом развитии, которым мы располагаем, позволяет по-новому посмотреть на тезис К. Маркса, сформулированный в середине XIX в., о том, что более развитые страны показывают менее развитым картину их собственного будущего. К середине 50‑х годов XX в. этот тезис был серьезно скомпрометирован. Доступные сегодня статистические материалы показывают: развитие идет сложнее, оно не носит линейного характера[3]. Тем не менее социально-экономические изменения взаимосвязаны и своеобразно, но повторяются в тех странах, которые следуют за лидерами современного экономического роста.
Опыт показал, что тенденции, характерные для развития стран-лидеров, могут радикально меняться. Их трудно прогнозировать. В нашем случае задача облегчается тем, что мы не ставим целью анализ эволюции социально-экономических структур в этих странах. Цель книги иная: на основе опыта развития лидирующих стран выявить ключевые проблемы, которые в ближайшие десятилетия предстоит решать странам догоняющего развития (в том числе России), отстающим от лидеров примерно на 1–3 поколения.
В условиях быстрых изменений индустриального и особенно постиндустриального глобального мира любые попытки прогнозировать детали производственной структуры на длительные сроки малоэффективны. Разумный исследователь не возьмется всерьез обсуждать перспективы целлюлозно-бумажной или полиграфической промышленности в России на несколько десятилетий вперед. Но глубокие сдвиги в социальной сфере, занятости, структуре валового внутреннего продукта, связанные с ними институциональные проблемы, с которыми стране придется рано или поздно столкнуться (если мы сумели остаться в орбите современного экономического роста), – все это можно и нужно рассматривать, опираясь и на анализ нынешних российских реалий, и на опыт стран-лидеров. Этот опыт важен для анализа перспективных проблем, с которыми сталкиваются менее развитые страны (см. гл. 1–3).
Предмет книги – попытка проанализировать этот круг вопросов, использовать накопленный в мире опыт для выработки стратегии следующего этапа реформ в России. Масштабы задачи заставили разбить изложение на два тома. Все, что связано с проблемами глобализации, местом России в мире, долгосрочными изменениями мировой денежной системы, регулированием валютного курса, открытием глобального рынка капитала, изменениями роли торговой и промышленной политики, – тема следующего тома.
Первый том состоит из четырех разных по проблематике и логике, но, на взгляд автора, взаимосвязанных разделов. Первый из них посвящен собственно феномену современного экономического роста, тому, в какой степени можно использовать опыт наиболее развитых стран для анализа стратегических перспектив России. В этом разделе невозможно было обойтись без обсуждения вопроса о том, как марксистские представления о долгосрочных тенденциях развития общества смотрятся на фоне опыта XX в.
Процесс изменения уровня жизни, структуры экономики, расселения, радикально трансформировавший организацию общественной жизни, возникает не из вакуума. В его основе – набор своеобразных институтов, необычных для предшествовавших ему долгосрочно устойчивых аграрных обществ. На рубеже XIX – XX вв. он получил название “капитализм” (кстати, смешение капитализма как набора установлений, открывающих дорогу быстрому экономическому росту, и самого этого роста – основа многих ошибок и недоразумений в литературе, посвященной анализу логики развертывания социально-экономических процессов).
Читателю может показаться странным, что в книге, посвященной долгосрочным тенденциям, связанным с современным экономическим ростом и стратегическими проблемами развития России, присутствует раздел, в котором рассматриваются проблемы функционирования аграрных обществ, а также формирования системы институтов, получившей название “капитализм”. Но, на мой взгляд, вне этого контекста невозможно понять специфику траектории развития России, стоящие перед ней ключевые проблемы долгосрочного развития. Поэтому второй раздел книги посвящен факторам, препятствующим ускорению темпов развития в условиях аграрных цивилизаций, тому, как специфические условия европейской эволюции позволили нейтрализовать их действие, открыть дорогу инновациям, сделать их массовое использование неизбежным.
Современный экономический рост приводит к взаимосвязанным социально-экономическим изменениям в странах, имевших на предшествующих стадиях развития различную цивилизационную историю. Это накладывает отпечаток на то, как национальные элиты и общества приспосабливаются к вызовам современного экономического роста.
Третий раздел книги посвящен специфике развития России: от аграрного общества до ранних этапов современного экономического роста и социалистического эксперимента, тем аномалиям, которые стали результатом использования модели развития, опирающейся на формирование командной экономики, проблемам постсоциалистического перехода.
Содержание трех первых разделов автор считает в своем роде расширенным введением к последнему – четвертому разделу книги и к обоим томам в целом. Он посвящен долгосрочным социально-экономическим проблемам, обозначившимся на стадиях высокоиндустриального и постиндустриального развития в странах – лидерах современного экономического роста: это изменение возрастной структуры населения, миграционные процессы, уровень государственной нагрузки на экономику, функционирование и эволюция систем социальной защиты, систем финансирования образования и здравоохранения, изменение способов комплектования вооруженных сил, поиск баланса между устойчивостью и гибкостью демократических институтов. Различные способы решения всех этих проблем накладываются на сегодняшние и будущие российские реалии.
На протяжении последних 15 лет мне пришлось активно участвовать в политическом процессе, в выработке ключевых решений по социально-экономической политике – от размораживания цен и введения конвертируемой валюты в России до проведения радикальной налоговой реформы 2000–2002 годов. Тем не менее предложенная вниманию читателя книга – не мемуары. Я постарался в максимальной степени уйти от дискуссии о том, что в России за эти годы было сделано правильно или неправильно. Много раз и говорил, и писал об этом. Но полностью избежать обсуждения подобной проблематики в главах, посвященных России (см. гл. 8–9), оказалось невозможно.
Эта книга написана не с позиции человека, проработавшего всю жизнь в исследовательском институте. Активное участие в политике, особенно на этапах кризисного развития, переломных моментов истории, когда меняются все социально-экономические и политические структуры, – занятие малоприятное, но оно дает одно преимущество: позволяет сформировать картину мира существенно иную, чем та, которая стоит перед глазами даже очень добросовестного и квалифицированного исследователя.
Личный опыт помогает понимать, что бывает, а чего не бывает в реальной жизни, как устроен процесс принятия принципиальных решений. Если бы у меня была в свое время возможность дописать ту давнюю, начатую в 1991 году, работу, абстрагируясь от этого опыта, сейчас перед читателем была бы совсем другая книга.
Менее всего хотелось бы, чтобы кто-то мог откликнуться на написанное известным афоризмом: “Вся эта теория годна лишь для дискуссии о ней”[4]. Специальная целевая аудитория книги – те, кто работает или рано либо поздно будет работать в органах власти, вырабатывать и проводить в жизнь решения, от которых зависит развитие России в долгосрочной перспективе. По своему опыту, по опыту своих друзей и коллег, работавших или работающих в правительствах (причем отнюдь не только в российских), хорошо знаю, как трудно в череде срочных проблем сохранить видение стратегической перспективы. Надеюсь, что соображения, сформулированные в этой работе, будут полезны тем, кому доведется в первые десятилетия XXI в. формировать стратегию национального развития нашей Родины.
Хочу поблагодарить М. Алексеева, Н. Бажова, Л. Васильева, С. Васильева, Э. Воробьева, М. Домбровского, В. Кудрова, Л. Лопатникова, В. Мау, В. Мельянцева, Б. Миронова, О. Лациса, Л. Радзиховского, С. Синельникова, В. Стародубровского, В. Цымбала, В. Ярошенко, Е. Ясина за то, что взяли на себя труд прочитать и прокомментировать рукопись или отдельные главы, дали ценные советы. Благодарю О. Лугового за неоценимую помощь в работе по сбору и анализу исторической статистики. Благодарю Е. Мозговую, Н. Зайцеву, Т. Лебедеву, Л. Мозговую за помощь в технической работе над книгой и И. Мазаева за помощь в подготовке картографического материала. Эта книга не была бы написана без терпения и помощи моей любимой жены Марии Стругацкой.
Разумеется, ответственность за возможные неточности и ошибки несет автор.
Раздел I Современный экономический рост
Глава 1 Cовременный экономический рост
Выводы относительно экономического будущего представляются, однако, далеко не в столь мрачном свете, как это можно было бы заключить по современному состоянию России. Естественные природные богатства России, ее пространства, труд ее населения, быстрая исправимость культурным и духовным творчеством дефектов невежества и неорганизованности масс представляют такие реальные возможности, которые могут быстро восстановить наши производительные силы, поднять нашу экономику, а с ней постепенно и утраченную политическую мощь. Для этого нужна твердая экономическая политика, оперирующая реальными возможностями, а не социальными устремлениями, для этого с идеологических высот нужно спуститься в гущу жизни и брать ее такой, какова она есть в действительности, а не такой, какой желает ее видеть воображение. Для этого нужно дело, а не фраза и лозунги, хотя бы и очень высокого содержания.
В. И. Гриневецкий[5] Послевоенные перспективы русской промышленностиЕсли следить за современным миром по первым полосам серьезных газет, он кажется зыбким, постоянно меняющимся. Беспорядки в Ираке, взрывы в Израиле, столкновения в Чечне, напряженность в Кашмире. Если же смотреть за его развитием как бы отстраненно, оценивая происходящее хотя бы год за годом, он представляется устойчивым, даже статичным. Внимательный наблюдатель заметит колебания, связанные с экономическим циклом, обнаружит, что темпы роста мировой экономики изменяются в пределах 2–4 % в год, обратит внимание на плавающие котировки акций, политические катаклизмы в отдельных странах. Но жизнь подавляющего большинства людей – будь то в Мексике, Швеции, Японии или в США – меняется мало. Они, как правило, работают там, где работали два-три года назад, живут, где жили. У них примерно тот же достаток, тот же набор потребительских благ, те же обычаи и нормы поведения. Случаются, конечно, и радикальные изменения организации жизни в отдельных странах, их совокупностях – крушение существовавших режимов, революции, войны. Крупнейшим из таких изменений конца XX в. стал крах социализма в СССР и Восточной Европе. Но это скорее исключения, чем правило. Страны, которые два-три года назад были богаче других, так и остались богатыми, бедные – бедными. В большинстве случаев перемены не более заметны, чем при переходе от одного статичного кадра к другому, соседнему. Именно в таком “коротком” взгляде на мир кроется причина распространенных представлений о неизменности сложившегося в мире порядка, об “отставших навсегда” странах, о “золотом миллиарде”, который никого не пускает в свой круг. Но стоит начать отслеживать происходящее на планете не по годам, а по более крупным отрезкам времени, как картина меняется.
§ 1. Тысячелетия статичного состояния общества
Всего за два прошедших века, время жизни восьми-девяти поколений, в мире произошли беспрецедентные перемены. На их фоне трудно поверить, насколько устойчивыми, статичными были основные контуры общественной жизни на протяжении тысячелетий, последовавших за формированием первых аграрных цивилизаций в Междуречье и долине Нила и их постепенным распространением на Земле.
Уровень душевого валового внутреннего продукта в Риме начала новой эры, в Китае эпохи Хань[6], в Индии при Чандрагупте[7] принципиально не отличался от среднемировых показателей конца XVIII в.[8] (табл. 1.1).
Таблица 1.1. ВВП на душу населения в Китае на начало новой эры и в мире на 1820 год, международные доллары 1990 года[9]
Среднедушевой ВВП характеризует не только уровень производства и потребления, но и уклад жизни, занятость, соотношение городского и сельского населения[10]. Все это, как будет показано в гл. 4, практически не менялось на протяжении тысячелетий.
Кажется, что мир статичен, почти неподвижен, исторический процесс идет медленно, неторопливо[11]. Однако в этих неподвижных декорациях возникают и рушатся империи, зарождаются и распространяются мировые религии.
При этом мир отнюдь не единообразен. Особенности цивилизаций определяют разную организацию жизни аграрных обществ. Очевидные примеры: относительно малодетная семья, характерная для Западной Европы начала – середины 2‑го тысячелетия, или необычно широкое распространение грамотности в Японии эпохи сёгуната Токугава[12].
Истории известны случаи, когда экономическое развитие внезапно ускорялось, чуть ли не достигая темпов форсированного экономического роста, характерных для Европы XIX в. Наиболее часто упоминаемый пример: ускоренное развитие Китая эпохи Сун[13] в XI–XII вв., результаты которого произвели столь ошеломляющее впечатление на Марко Поло, выходца из самой развитой части Европы XIII в. Но этот “китайский рывок” носил временный характер. За подобными историческими эпизодами не следовали систематические перемены. Важнейшие черты экономической и социальной жизни на протяжении тысячелетий оставались стабильными, претерпевая лишь медленные, эволюционные изменения.
Время аграрных цивилизаций не было эпохой полного технологического застоя. Человечество обрело водяные и ветряные мельницы, хомут, тяжелый плуг, удобрения, трехпольную систему земледелия. Все эти новшества постепенно распространялись в мире. Шло накопление технологических знаний и навыков, которые становятся базой будущего экономического подъема. Однако по сравнению с двумя последними столетиями темпы инноваций были медленными. Применение новых технологий и инструментов растягивалось на многие поколения.
По мере углубления экономико-исторических изысканий специалисты постепенно сдвигают в глубь веков время, начиная с которого развитие Западной Европы, оставаясь неспешным по масштабам последних двух столетий, ускоряется по отношению к остальному миру. Еще 10–15 лет назад считалось, что ускорение началось на рубеже XV–XVI вв. В своей последней работе один из самых авторитетных экономических историков, А. Мэддисон, предлагает отодвинуть эту историческую веху до X–XI вв.[14].
Идет дискуссия о том, насколько Западная Европа конца XVIII в. опережала по своему развитию другие крупные аграрные цивилизации[15]. Низкая степень достоверности существующей исторической статистики не позволяет делать однозначные выводы. Однако несомненно, что к этому времени в самых развитых западноевропейских странах – Англии и Голландии – такие показатели, как душевой ВВП, грамотность, доля населения, занятого вне сельского хозяйства, доля городского населения, существенно превышали средний мировой уровень.
Как бы мы ни оценивали динамику западноевропейского развития в эту эпоху, люди, жившие тогда даже в самой динамичной стране, Англии, в своей повседневной жизни вряд ли замечали происходившие в ней перемены. Характерно, что в середине XVIII в. в экономических спорах мелькали оценки важнейших показателей английской экономики, сделанные В. Петти и Г. Кингом за полвека до этого, словно они были способны отразить новые реалии[16]. Подавляющая часть мирового населения жила в условиях стабильного, медленно меняющегося аграрного общества, там же производилась большая часть мирового ВВП. В начале XIX в. валовой внутренний продукт Индии и Китая – крупнейших аграрных цивилизаций двух предшествующих тысячелетий – более чем втрое превосходил ВВП Западной Европы.
§ 2. Современный экономический рост: понятие и основные черты
На рубеже XVIII–XIX вв. в Западной Европе начались масштабные социально-экономические перемены, особенно заметные в контрасте со стабильностью и устойчивостью предшествующих тысячелетий (см. карта 1). Этот процесс получил – по традиции, идущей от С. Кузнеца, – не слишком удачное, но укоренившееся название “современный экономический рост”[17]. Под современным экономическим ростом он понимал существенный, длительный и устойчивый рост производства валового общественного продукта (в расчете на душу населения) на фоне глубоких и быстрых изменений в жизни общества – материальных, социальных и духовных, которые и стимулировали повышение эффективности экономики[18]. “В ходе анализа, основанного на условных измерениях национального продукта и его компонентов: населения, рабочей силы и т. п., – пишет С. Кузнец, – родились шесть характеристик современного экономического роста. Первая, и наиболее очевидная, – это высокие темпы роста подушевого продукта и населения в развитых странах, многократно превосходящие соответствующие показатели в остальном мире. Вторая характеристика – темпы роста производительности труда, или выход продукции на единицу затрат. Даже когда к труду как основному производительному фактору мы добавляем другие факторы, опять-таки темпы роста оказываются многократно превосходящими соответствующие показатели, наблюдавшиеся в прошлом. Третья характеристика – высокие темпы структурной трансформации экономики. Важнейшие аспекты структурных изменений включают сдвиг от сельского хозяйства в пользу несельскохозяйственных профессий, а в недавнем прошлом – от промышленности в сторону сектора услуг; изменение в шкале производственных единиц и соответствующий сдвиг от частного предприятия в сторону общественной организации хозяйствующих компаний с соответствующими глубокими изменениями в профессиональном статусе труда. К этому можно прибавить сдвиги в некоторых других аспектах экономической структуры (в структуре потребления, в соответствующих пропорциях внутренних и внешних поставок и т. д.). Четвертая характеристика – это стремительные изменения в тесно взаимосвязанных и крайне важных структурах общества и его идеологии. На ум немедленно приходят урбанизация и секуляризация как компоненты того, что социологи определяют как процесс модернизации. Пятая характеристика: при возросших возможностях технологий, в частности в сфере транспорта и коммуникаций (как мирных, так и военного назначения), экономически развитые страны стремятся распространить свое влияние на весь остальной мир, таким образом делая его единым в том смысле, в каком это не было возможно ни в какую из предшествующих современной эпох. Шестая характеристика: распространение современного экономического роста, несмотря на его частные эффекты, проявляющиеся в общемировом масштабе, ограничено тем, что уровень экономического производства в странах, где проживает 3/4 мирового населения, по-прежнему не дотягивает до минимального уровня, который возможен при современных технологиях”[19].
Современный экономический рост разительно отличается от наблюдавшихся прежде эпизодических подъемов производства в аграрных обществах существенно более высокими темпами роста производства, которые значительно опережают увеличение численности населения, а также своей протяженностью во времени.
Сам С. Кузнец относил начало современного экономического роста к середине XVIII в.[20], его последователи – к 1820‑м годам XIX в., после наполеоновских войн в Европе[21]. Впрочем, расхождения не принципиальны. Важнее то, что на грани XVIII–XIX вв. сначала в самых развитых странах Европы, затем в Западной Европе в целом, а за ней и во все более расширяющемся круге государств мира начинаются радикальные изменения (табл. 1.2).
Современный экономический рост начинается в Англии, распространяется на Бельгию, Голландию, Францию, немецкие княжества района Рейна, протестантские кантоны Швейцарии, Каталонию, Богемию, а в 1830‑х годах – на Австрию и Соединенные Штаты. В странах Скандинавии он начинается в середине XIX в., в России – в 80‑х годах XIX в.[22]. Карты хорошо иллюстрируют процесс современного экономического роста в мире (см. вкладку: карты 1, 2).
В первые десятилетия XIX в. вызов радикально меняющейся и усиливающейся Англии, а затем и всей Западной Европы, необходимость для каждой страны адаптировать свою национальную стратегию к этому вызову становятся важнейшим фактором в мировом развитии.
Таблица 1.2. Среднегодовые темпы роста ВВП[23] в Западной Европе и в мире в целом с 1000 по 1998 год по периодам, %
Источник: Maddison A. The World Economy: A Millennial Perspective. P.: OECD, 2001. P. 262.
Характерная черта современного экономического роста – появление новых технологий, использующих последние достижения науки. Именно это становится важнейшим механизмом долгосрочного ускорения экономического роста, базой глубоких структурных изменений сначала в Западной Европе, а затем и в мире. Средние темпы роста производительности труда в странах, входящих сегодня в ОЭСР, в период между 1820 и 1913 годами примерно в 7 раз выше, чем в предшествующее столетие. За тот же период душевой ВВП в них увеличился более чем втрое, доля занятых в сельском хозяйстве сократилась на 2/3. Объем мировой торговли вырос в 30 раз. Сформировались глобальная экономика и глобальная финансовая система[24].
Долгое время анализ современного экономического роста осложнялся его смешением с капитализмом[25] – специфической формой организации производственных и общественных отношений, которые сложились в Западной Европе в XVI–XVIII вв.[26].
Дать определение термина “капитализм” сегодня труднее, чем в конце XIX – начале XX в., когда он получил широкое распространение. Слишком много радикальных изменений в структуре социально-экономических отношений, описываемых этим словом, произошло за последнее столетие. Но термин укоренился, уйти от его использования невозможно. Автор понимает под ним примерно то же, что и те, кто использовал его в XIX в., – специфический набор характерных для Северо-Западной Европы, затем для Западной Европы институтов, предполагающих определенную, гарантированную законом и традицией частную собственность, широкое распространение производства, ориентированного на рынок, конкуренцию, определенную, не оставляющую власти возможности произвольных решений налоговую систему[27]. Многие черты социально-экономической структуры и организации общества на протяжении последних двух веков менялись. Но этот набор институциональных установлений, сформировавшихся сначала в городах‑государствах Италии, получивший распространение в городах‑государствах Северной Европы, затем в Нидерландах, в Англии, далее в Западной Европе и потом по миру, в его фундаментальных чертах остался неизменным[28].
§ 3. Структурные изменения в обществе
Капиталистические институты проложили дорогу глубоким структурным изменениям в обществе, которые связаны с современным экономическим ростом[29]. Как это происходило – тема следующих глав. Но в странах – лидерах современного экономического роста[30] предпосылки к нему формируются на несколько поколений раньше, до того, как темпы экономического развития радикально ускоряются, а социальная структура общества претерпевает серьезные изменения. Для аграрных обществ характерны низкие нормы сбережений. Уровень доходов большей части населения не оставляет места для накопления средств и инвестиций. Как правило, доля инвестиций в ВВП не превышает 5 %. У. Ростоу считал важнейшей предпосылкой индустриализации, или, по его терминологии, скачка, повышение доли инвестиций в ВВП с величины меньше 5 % до 10 %[31]. Последующие экономико-исторические исследования подтверждают этот вывод. Однако в Англии XVIII–XIX вв. такое повышение доли инвестиций в ВВП растянулось на срок значительно больший, чем представлялось У. Ростоу[32]. Независимо от времени, которое потребовалось для повышения нормы накопления, в индустриальных обществах она существенно выше, чем в аграрных.
В странах – лидерах современного экономического роста меняется демографическая картина. Происходит снижение смертности. Продолжительность жизни, стабильная на протяжении тысячелетий (за исключением периодов войн и великих эпидемий), увеличивается: в Англии – с 40 лет в начале XIX в. до 46 лет в 1900‑м, 69,2 года в 1950‑м и 77 лет в 2000 году соответственно. В странах, где современный экономический рост начался позже, продолжительность жизни увеличивается быстрее. Важнейшим фактором роста средней продолжительности жизни становится снижение младенческой смертности, свидетельствующее о прогрессе в здравоохранении (табл. 1.3, карты 4, 5). На этом фоне радикально ускоряются темпы роста мирового населения (табл. 1.4).
В аграрных обществах подобное (хотя и не столь резкое) ускорение роста народонаселения прерывалось масштабными катастрофами. Наиболее характерный пример – великая эпидемия чумы середины XIV в. в Западной Европе (табл. 1.5).
С началом современного экономического роста в Западной Европе угроза демографических катастроф, вызванных голодом и эпидемиями, отступает. Резкое ускорение роста мирового населения идет на фоне беспрецедентного повышения душевого производства и потребления (табл. 1.6).
Радикальные изменения происходят и в занятости. Как уже говорилось, еще в начале XIX в. подавляющая часть мирового населения (85–90 %) была занята в сельском хозяйстве. К концу XX в. – уже меньше половины. В странах – лидерах современного экономического роста перемены еще резче. В большинстве стран Западной Европы доля работающих в сельскохозяйственном производстве сократилась к концу XX в. до 3–4 %.
До середины XX в. быстро росла доля занятых в промышленности. Именно поэтому в конце XIX – первой половине XX в. современный экономический рост было принято отождествлять с индустриализацией. С середины XX в. тенденция меняется. Наиболее развитые страны вступают в постиндустриальную стадию развития[36]. На фоне продолжающегося снижения числа работающих в сельском хозяйстве в наиболее развитых странах доля занятых в промышленности начинает быстро сокращаться, динамично растет численность работников в сфере услуг (табл. 1.7).
Таблица 1.3. Динамика младенческой смертности, число смертей на 1000 детей в возрасте до 1 года[33]
Источник: 1 Mitchell B. R. International Historical Statistics. Europe 1750–1993. London: Macmillan Reference LTD, 1998.
2 M i tc h e l l B. R. International Historical Statistics. Africa, Asia & Oceania 1750–1993. London: Macmillan Reference LTD, 1998.
3 UNPD Database (/).
Таблица 1.4. Среднегодовые темпы прироста численности населения[34], %
Источник: Maddison A. The World Economy: A Millennial Perspective. P.: OECD, 2001. P. 242.
Таблица 1.5. Численность населения в Западной Европе в период с 1000 по 1500 год, млн человек
Источник: Maddison A. The World Economy: A Millennial Perspective. P.: OECD, 2001. P. 32.
Таблица 1.6. Душевой ВВП на душу населения в мире и в Западной Европе, долл.[35]
Источник: Maddison A. The World Economy: A Millennial Perspective. P.: OECD, 2001. P. 264.
Таблица 1.7. Структура занятости в главных секторах экономики, %
Источник: Maddison A. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OECD, 1995. P. 39; World Development Indicators 2003, World Bank; United Nations Common Database (/); Россия в цифрах 2003. Краткий статистический сборник. М.: Госкомстат России, 2003.
Перемены в занятости неразрывно связаны с изменением структуры расселения. В аграрном обществе доминировала деревня, городов было немного. Такое расселение уходит в прошлое, городской образ жизни становится преобладающим (табл. 1.8). Причем в большинстве стран мира этот переход происходит буквально на наших глазах (см. карту 3). Прогноз ООН говорит о том, что к 2025 году на планете практически не останется государств с долей городского населения ниже 25 %, а среднемировой уровень уже далеко шагнет за 50 %-й рубеж. Еще полвека назад в городах жило менее трети населения мира.
Таблица 1.8. Доля городского населения, %
Источник: 1 Bairoch P. Cities and Economic Development: From the Dawn of History to the Present. Chicago: The University of Chicago Press, 1988.
2 United Nations Common Database (/).
3 Engerman S. L., Gallman R. E. The Cambridge Economic History of the United States. Vol. II. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
Одно из проявлений непредсказуемости современного экономического роста – поворот вспять у некоторых стран-лидеров тенденции к урбанизации, важнейшей его черты на протяжении XIX – первой половины XX в. С середины 1960‑х годов в наиболее развитых странах проявляется тенденция к дезурбанизации, сокращению доли населения, проживающего в крупных городах[37].
В аграрных обществах подавляющая часть населения неграмотна. С современным экономическим ростом не только широко распространяется грамотность – сначала в Западной Европе, а потом и в других частях мира, – но и быстро увеличивается продолжительность обучения (табл. 1.9). Речь идет о массовом среднем (школьном) образовании, расширении доли тех, кто обучается в высшей школе. (Подробнее об этом см. ниже, в гл. 13.)
Вслед за переменами в занятости и расселении людей трансформируются нормы демографического поведения, структура семьи. В аграрных обществах работа женщин вне домашнего или крестьянского хозяйства была редкостью. В XIX в. и особенно в XX в. она получает массовое распространение. К концу XX в. примерно половину рабочей силы в развитых странах – лидерах современного экономического роста составляли женщины. Сокращается рождаемость. В XVIII в. на одну женщину в Западной Европе приходилось примерно 5 рождений (в России в конце XIX в. – 7,1), к концу 2‑го тысячелетия этот показатель опускается в Западной Европе ниже уровня, обеспечивающего простое воспроизводство населения. После демографического взрыва и быстрого увеличения европейского населения на ранних этапах современного экономического роста темпы роста населения резко замедляются. В некоторых странах-лидерах численность коренных жителей начинает сокращаться.
Таблица 1.9. Средняя продолжительность обучения, количество лет
Источник: Maddison A. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OECD, 1995; World Bank Database (); UNESCO database (); Maddison A. Chinese Economic Performance in the Long Run. P.: OECD, 1998.
Для аграрных стран характерны государственные изъятия в пределах 10 % ВВП. Случалось, что правители пытались увеличить налоговое бремя сверх этого предела. Как правило, такие попытки приводили к подрыву налоговой базы, бегству крестьян с земли, распространению бандитизма, крестьянским восстаниям. (Подробнее см. ниже, в гл. 4 и 11.) Современный экономический рост, повысивший уровень жизни и технологические возможности государства, позволяет радикально увеличить государственную нагрузку на экономику. Налоговые изъятия в странах – лидерах современного экономического роста достигают 30–50 % ВВП. Раньше не менее половины государственных расходов составляли затраты на военные нужды. На протяжении последних двух веков их доля падает. Как правило (если исключить периоды мировых войн), в бюджетах расширенного правительства развитых стран они не превышают 5–10 %. Доля государственных расходов на социальные нужды (пенсионная система, образование, здравоохранение, пособия по безработице и т. д.) растет.
В начале XIX в. роль международной торговли в мировой экономике была ограниченной, ее объем не превышал 1 % суммарного ВВП стран мира. Международные рынки капитала существовали, они охватывали наиболее развитые страны Западной Европы, но их влияние на мировую экономику оставалось ничтожным.
На протяжении последних двух веков мировая торговля по темпам роста опережала мировой ВВП, а ее доля в нем к 2000 году составила 26 %[38] (табл. 1.10). Подавляющая часть мирового ВВП производится сегодня в странах, интегрированных в глобальный рынок капитала.
Таблица 1.10. Годовые (средние за период) темпы роста мировой торговли и мирового ВВП, %
Источник: Maddison A. The World Economy: A Millennial Perspective. P.: OECD, 2001 (с 1870 по 1998 год); World Development Indicators 2003, World Bank (за 1999, 2000 годы).
Параллельно изменениям в производстве, расселении, уровне жизни, образовании, организации семейной жизни трансформируются политические институты. К началу XIX в. доминирующий тип политической организации – традиционная монархия. Лишь в редких случаях, в основном в странах, где формировались предпосылки современного экономического роста, конституционная монархия дополнена институтами, представляющими интересы граждан[39]. В начале XXI в. развитые страны в подавляющем большинстве – демократии, в основе политического устройства которых лежит всеобщее избирательное право.
Сами изменения, вызванные современным экономическим ростом, предъявляют новые требования к социально-экономическим и политическим институтам. Если для аграрного общества, в котором организация экономики и уклад жизни не изменялись тысячелетиями, важнее всего было поддерживать стабильность, сохранять традиции, то для периода современного экономического роста главное – институциональная гибкость, способность генерировать и использовать инновации, позволяющие адаптироваться к условиям быстро меняющегося мира.
§ 4. Национальные траектории современного экономического роста
Начавшись в Англии, распространившись затем на Соединенные Штаты Америки, континентальную Западную Европу, другие части мира, современный экономический рост оказывает влияние на все государства. Они столкнулись с усилением экономической, финансовой и военной мощи стран, где процесс индустриализации начался. Элиты стран, отстававших в развитии, знали о возможности заимствования накопленных странами-лидерами знаний и производственных навыков. Для адаптации к изменившемуся миру необходимо было вырабатывать национальные стратегии. Там, где культурные традиции и институциональная история аграрных обществ были близки к сформировавшимся в Англии, США, Франции, Германии, социально-экономическое развитие пошло по траектории, во многом повторяющей английскую, но, как правило, с более активным использованием протекционистских мер, с заметным вмешательством государства в экономическое развитие. Страны, где в условиях аграрного общества традиции существенно отличались от европейских, адаптировались к реалиям современного экономического роста с большим трудом.
Яркий пример – Китай, на протяжении двух тысячелетий занимавший 1–2‑е места на планете по масштабам экономической деятельности. Этой стране с ее приверженностью традициям и стабильности, самодостаточной культурой и убежденностью в своем центральном месте в мире потребовалось полтора века, чтобы приспособиться к вызовам изменившейся реальности, запустить механизмы современного экономического роста. Произошло это лишь после десятилетий смут и гражданских войн, унесших десятки миллионов жизней. Сейчас внимание политиков и экономистов приковано к высоким темпам развития Китая последней четверти XX в. Но не надо забывать, что и сегодня доля Китая в мировом ВВП почти втрое ниже, чем была в 1820 году.
При всех различиях, унаследованных от традиционного аграрного общества, страны, сумевшие создать предпосылки ускоренного экономического развития, демонстрируют схожие изменения важнейших параметров, определяющих социально-экономическую структуру общества. Зная один из них – размер душевого ВВП, – можно с высокой вероятностью определить структуру занятости, особенности расселения, уровень грамотности, среднюю длительность обучения, государственную нагрузку на экономику и даже характер политического режима.
Взаимосвязь подобных показателей не жесткая. Есть демократии, которые сложились на необычно ранних стадиях развития общества, например Индия. Существуют государства, где высокий уровень душевого ВВП объясняется богатством природных ресурсов; они, как правило, по показателям социального развития отстают от других государств с аналогичным уровнем душевого ВВП. Цивилизационные установки, унаследованные от аграрных обществ, темпы снижения рождаемости влияют на характеристики демографического перехода. Тем не менее взаимосвязи между важнейшими социально-экономическими параметрами на различных стадиях современного экономического роста дают исследователям, изучающим долгосрочные проблемы социально-экономического развития, ценные инструменты анализа.
§ 5. Эволюция России на фоне мирового развития двух последних столетий
В XIX в., с началом современного экономического роста в Западной Европе, Россия стала отставать в экономической, финансовой и военной мощи от ведущих европейских держав. Поражение в Крымской войне, обнажившее это отставание, поставило российскую элиту перед необходимостью приступить к созданию новой национальной модели развития. Специфика российской национальной стратегии в условиях современного экономического роста – тема гл. 8 настоящей книги. Здесь отметим лишь очевидное ускорение развития страны в начале 80‑х годов XIX в. Именно к этому времени такой проницательный исследователь экономической истории, как А. Гершенкрон, относит начало индустриализации (современного экономического роста – в терминах С. Кузнеца) в России[40].
Рассматривая эволюцию российской экономики на фоне мирового развития последних двух столетий, можно убедиться, что российский душевой ВВП в 1820 году был близок к средним мировым показателям и (с поправкой на точность расчетов) оставался примерно на среднемировом уровне и в 1913, и в 2001 году (рис. 1.1).
Время от времени российский душевой ВВП отклонялся от среднемирового, но эти отклонения были невелики. Дистанция, отделяющая Россию от стран – лидеров мирового экономического развития (в XIX в. – от Англии, в XX в. – от США), в течение этих двух столетий колебалась, но в достаточно узком интервале (табл. 1.11)[41].
Сохраняющаяся многие десятилетия близость российских показателей к среднемировым достойна особого внимания, если учесть, что на протяжении последних двух веков как в мировом экономическом развитии, так и особенно в России (СССР) происходили беспрецедентные перемены и потрясения.
Таблица 1.11. Динамика текущего соотношения ВВП на душу населения России и душевого ВВП страны – лидера экономического роста
Источник: Maddison A. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OECD, 1995 (данные с 1820 по 1950 год); United Nations Common Database (/) (данные за 1990–2001 годы); Вопрос о соотношении душевого ВВП в СССР и Соединенных Штатах из-за различия экономических структур (см. ниже, гл. 9) был предметом долгих дебатов. Всемирный банк в 1980 году оценивал душевой ВВП СССР на уровне 37 % душевого ВВП США (см.: Ослунд А. Строительство капитализма: Рыночная трансформация стран бывшего советского блока / Под ред. И. М. Осадчей. М.: Логос, 2003. С. 72).
Рисунок 1.1. Отношение душевого ВВП России к мировому в 1820–2001 годах
Источник: Maddison A. The World Economy: A Millenial Perspective. P.: OECD, 2001 (за 1820 и 1913 годы); Расчеты ИЭПП на основе данных: Maddison A. The World Economy (за 2001 год). Реконструкция данных Всемирного банка на период до 1950 года дает сходные результаты в пределах точности расчетов. Большинство исследователей относит начало современного экономического роста в Западной Европе именно к 1820‑м годам XIX в., 1913 год – высшая точка развития Российской империи, 2001 год – последний, за который есть надежные данные.
Современный экономический рост – процесс незавершенный, он продолжается; для него характерны быстрые смены доминирующих тенденций. Вот почему сложно использовать выявленные закономерности для прогнозирования развития событий в странах-лидерах, находящихся в авангарде экономического прогресса. Страны, начавшие современный экономический рост в первые десятилетия XIX в., и те государства, где связанные с ним изменения произошли позже, находятся в разном положении[42]. Опыт первых (лидеров) позволяет вторым (странам догоняющего развития) предвидеть проблемы и тенденции, с которыми они столкнутся в будущем.
Одни исследователи полагают, что процесс глобализации будет развиваться и дальше, другие убеждены в обратном: мир стоит на пороге деглобализации. И те и другие оперируют убедительными доказательствами. Точно определить, какая из сторон в этом споре права, невозможно. Но как бы то ни было, можно уверенно утверждать, что России в следующие 50 лет предстоит столкнуться с проблемами, которые страны – лидеры современного экономического роста решали на протяжении второй половины XX в., на стадии исторического развития, ныне носящей название постиндустриальной.
Сравнив сегодняшние душевые ВВП России и стран – лидеров экономического роста, можно оценить разделяющую нас дистанцию (табл. 1.12).
Таблица 1.12. Время достижения странами – лидерами современного экономического роста уровня ВВП на душу населения России 2001 года
Источник: Maddison A. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OECD, 1995; Расчеты ИЭПП на основе данных из: World Development Report, World Bank, 2003.
Точность оценки душевого ВВП, рассчитанного с учетом паритетов покупательной способности, ограниченна. Сопоставлять полученные результаты следует с большой осторожностью. Однако данные табл. 1.12 свидетельствуют о том, что Россию от стран-лидеров отделяет сегодня дистанция в 40–60 лет[43]. Географию этих лагов можно увидеть на карте 6. Наибольшая дистанция (60 лет и более) отделяет нашу страну от Великобритании и стран переселенческого капитализма (США, Канада, Австралия). Далее следуют континентальная Западная Европа (Германия, Франция) и некоторые страны – экспортеры нефти (около 50 лет), затем – страны Южной Европы (около 30 лет). И наиболее близкими к российским оказываются показатели ВВП на душу населения стран Восточной Европы, Латинской Америки и быстро развивающихся стран Юго-Восточной Азии.
Сравним длительную эволюцию ВВП России и двух стран континентальной Европы. Франция и Германия наилучшим образом подходят для сравнительной оценки, поскольку они, как и Россия, дважды за прошедшее столетие стали аренами мировых войн, которые оказали негативное влияние на развитие всех трех стран. Приведенные данные (табл. 1.13–1.16) показывают, что отставание России от Германии и Франции по душевому ВВП было достаточно стабильным на протяжении примерно полутора веков.
Таблица 1.13. Оценка отставания России по уровню душевого ВВП[44] от Германии и Франции, годы
Таблица 1.14. Доля городского населения в Германии, Франции и России на сходных уровнях экономического развития, %
Источник: Bairoch P. Cities and Economic Development: From the Dawn of History to the Present. Chicago: The University of Chicago Press, 1988 (1800–1900 годы); UNPD Database, (1950–2000 годы).
Таблица 1.15. Доля занятых в сельском хозяйстве в Германии, Франции и России на сходных уровнях экономического развития, %[45]
Источник: Mitchell B. R. International Historical Statistics. Europe 1750–1993. London: Macmillan Reference LTD, 1998.
Таблица 1.16. Доля занятых в промышленности в Германии, Франции и России, на сходных уровнях экономического развития, %[46]
Источник: Mitchell B. R. International Historical Statistics. Europe 1750–1993. London: Macmillan Reference LTD, 1998.
Структурные изменения занятости в сельском хозяйстве и промышленности обнаруживают схожие тенденции. Более быстрое сокращение доли занятых в аграрном секторе России связано со специфическими чертами социалистической модели индустриализации: масштабное перераспределение ресурсов из села для финансирования капиталовложений в промышленность создало в СССР мощные стимулы к бегству крестьян в город. Рисунок 1.2 наглядно демонстрирует необычно высокие темпы урбанизации при социализме.
Рисунок 1.2. Рост доли городского населения во второй половине XX в. и прогноз ООН до 2030 года, %
Источник: UNPD World Urbanization Prospects: The 2001 Revision.
По некоторым показателям отставание России от стран – лидеров современного экономического роста было больше. Так, по числу учащихся на 1000 человек Россия лишь в 1930 году достигла уровня, характерного для Германии 1840 года, Франции 1860 года[47].
Мы прослеживаем траектории, по которым развивались страны на протяжении полутора веков – в эпоху глубоких социально-экономических изменений. Для России на этот период выпали две революции (1917–1921 годов и начала 90‑х годов)[48], крах двух империй, две мировые и одна гражданская войны, крупнейший в мировой истории социально-экономический эксперимент, который назывался социализмом, и его провал. Как справедливо замечает В. Мельянцев, процесс современного роста не линеен, флуктуации – весьма важный и необходимый элемент саморазвития и функционирования открытых, неравновесных биосоциальных систем[49]. И все же разрыв в уровне развития между Россией и крупнейшими странами континентальной Европы оставался стабильным и, повторим, составлял примерно два поколения (40–50 лет). Начав современный экономический рост в 80‑х годах XIX в. – на два поколения позже Западной Европы, – Россия почти полтора столетия удерживает сложившуюся дистанцию[50]. Из этого мог бы следовать вывод, что пятидесятилетний лаг задан. Однако история знает примеры успешного догоняющего роста, например, как отмечалось чуть выше, Японии. Для оценки долгосрочных перспектив России полезно анализировать социально-экономические процессы последнего полувека в странах – лидерах экономического роста и условия для ускорения ее экономического роста.
У. Истерли продемонстрировал уязвимость существующих моделей, которые объясняют различия в темпах экономического развития национальных экономик[51]. Есть базовые факторы, влияющие, как принято считать, на динамику роста: это доля инвестиций в ВВП, расходы на образование, открытость экономики и т. д. Но всегда найдутся страны, где эти факторы действовали, а роста не было. У. Истерли ввел в научный обиход не очень точное, но любопытное понятие: способность национальных институтов обеспечивать современный экономический рост[52]. Основываясь на реалиях российского развития последних полутора веков, можно утверждать: российские социально-экономические институты демонстрировали способность поддерживать экономический рост на среднемировом уровне.
Допустим, что существовавшая на протяжении полутора веков дистанция сохранится и дальше. Тогда через 50 лет уровень, и стиль жизни, и структура занятости, и инфраструктура будут в России примерно такими же, как сегодня во Франции или Германии. Это предполагает годовой рост российского душевого ВВП около 2 % – такими же темпами или несколько более высокими развивалась мировая экономика на протяжении последнего века. Однако если российская экономика в течение ближайших десятилетий будет развиваться так же, как в 1999–2004 годах, отставание от лидеров сократится до одного поколения.
Оценка расстояния, отделяющего Россию от стран-лидеров, нужна отнюдь не для привычных манипуляций цифрами роста и прогнозов на их основе. Она позволяет представить, чем наше развитие отличалось в прошлом и, по-видимому, будет отличаться в будущем от развития стран-лидеров, с какими структурными проблемами мы неизбежно столкнемся на следующих этапах экономического роста.
Сохранение на протяжении полутора веков практически неизменной дистанции между Россией и странами – лидерами современного экономического роста по важнейшим показателям социально-экономического развития на фоне крупномасштабных изменений в мире, мировых войн, революций, социальных катастроф отнюдь не гарантирует эту неизменность в будущем. Трудно поручиться, что Россия 2050 года по основным социально-экономическим характеристикам, душевому ВВП, потреблению важнейших товаров и услуг, занятости, продолжительности жизни и т. д. будет близка к Германии и Франции 2000 года. Но трудно утверждать и обратное. Мы говорили о реальной возможности сократить отставание до 25 лет, до одного поколения. Но нельзя исключить и другое. Российское общество может не справиться с важнейшей задачей – выработать оптимальную стратегию своего развития в постиндустриальную эпоху. Российская элита может втянуться в опасные эксперименты. Тогда отставание от лидеров возрастет. Если наше общество проявит политическую волю и муд рость, извлечет уроки из ошибок, допущенных более развитыми странами, дистанция сократится. Глобальное экономическое развитие, на фоне которого нашей стране придется вырабатывать собственную национальную стратегию, не детерминировано, его будущая траектория не очевидна.
Важно понимать: если России удастся обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие, то на протяжении следующего полувека в стране будут идти процессы, пусть не полностью идентичные тем, что были характерны для стран – лидеров современного экономического роста во второй половине XX в., но сходные с ними. И встающие перед страной проблемы лучше решать не тогда, когда они обострятся до предела, а заблаговременно, имея свободу маневра и необходимые ресурсы.
В XX в. весь мир имел возможность учиться на ошибках России. Крах социалистического эксперимента в нашей стране стал важнейшей прививкой против попыток его повторения. Пора подумать о том, как в XXI в. научиться извлекать уроки из ошибок других.
Все сказанное о значении опыта стран-лидеров для анализа долгосрочных перспектив развития России может показаться тривиальным. И на рубеже XIX и XX вв. стратегические проблемы России рассматривали сквозь призму опыта наиболее развитых стран. К этому опыту апеллировали, сопоставляли с ним российские реалии. В докладной записке царю Николаю II С. Витте сравнивает Россию с развитыми странами Запада по показателям структуры производства и потребления, формулирует меры, которые необходимы, чтобы преодолеть отставание от стран-лидеров[53]. В. Гриневецкий в работе, оказавшей большое влияние на авторов плана ГОЭЛРО, основывает свое видение стратегических проблем развития страны на сравнении топливных балансов России и наиболее развитых государств[54]. М. Туган-Барановский рассматривает перспективы развития земельных отношений в России на базе анализа последних тенденций, характерных для землевладения Франции и Германии[55]. П. Струве, проанализировав опыт развитых стран, приходит к выводу, что капитализм в России – единственная возможность для подъема производительных сил страны, считает его могущественным фактором культурного прогресса, фактором, не только разрушающим прошлое, но и созидающим[56]. И те авторы, которые не считали себя ортодоксальными марксистами, оставались в то время под сильным влиянием марксизма с характерными для него представлениями о “железных законах истории”, о том, что более развитые страны демонстрируют отстающим картину их будущего.
Опыт XX в. показал, как осторожно надо обходиться с “железными законами истории”, как далеки от действительности бывают прогнозы, которые базируются на, казалось бы, несомненном историческом опыте и характерных для стран-лидеров тенденциях. Именно это в 50‑х годах XX в. послужило поводом для энергичной атаки на саму возможность изучить и выявить исторические закономерности, предпринятой самыми авторитетными мыслителями-либералами того времени – К. Поппером, Ф. Хайеком, И. Берлиным[57].
Поэтому, прежде чем дальше анализировать перспективы развития России на основе опыта и проблем, выявившихся в странах-лидерах на протяжении последнего полувека, необходимо обсудить, возможно ли вообще изучать закономерности социально-экономического развития и строить на их основе хотя бы сценарные прогнозы. А для этого стоит проанализировать судьбу учения К. Маркса о законах истории и постараться выяснить, что дал опыт XX в. для понимания закономерностей развития человеческого общества.
Глава 2 Экономический детерминизм и опыт XX века[58]
Маркс фактически создал новую экуменическую организацию, некую антицерковь с полным концептуальным аппаратом, способным, по крайней мере в теории, дать ответы на все возникающие вопросы – общие и частные, исторические и натуралистические, моральные и эстетические.
Исайя Берлин[59]Пожалуй, никто из мыслителей, занимавшихся проблемами общественного развития, не оказал такого влияния на исторические процессы в мире последних полутора веков, как К. Маркс. И сегодня в научной литературе на него ссылаются в 5–10 раз чаще, чем на самого цитируемого либерального экономиста в истории – А. Смита. С тиражами сочинений К. Маркса, его последователей сопоставимы разве что тиражи Библии.
На протяжении почти века марксизм был в России господствующей идеологией, используемой для осмысления развития страны и мира[60]. Он продолжает влиять на общественное сознание и сегодня. В подавляющем большинстве советские люди не имели доступа к иному социальному образованию, кроме вульгаризированного марксистского. Одна из главных его догм состояла в том, что крах капитализма и торжество социализма неизбежны. Двадцатый век показал ее ошибочность. В нынешней России общественное сознание потеряло точку опоры. При обсуждении происходящего в мире доминируют малосистемные апелляции к немарксистским социальным теориям, перемешанные с набором клише из исторического материализма и политэкономии Маркса.
Главное в марксизме – метод исторического анализа, представление о производительных силах как о важнейшем факторе, который по мере общественного развития модифицирует структуру производственных отношений и само общество. Вот несколько краеугольных камней марксистской теории: производственные отношения, в свою очередь, могут оказать влияние на развитие производительных сил; более развитая страна показывает менее развитой картину ее будущего; общественные формации закономерно сменяют друг друга; революции необходимы и неизбежны при смене общественных формаций; классовая борьба – важнейшая составляющая общественной жизни и процесса общественных изменений. Философия истории в марксистском понимании не только метод изучения прошлого, но и способ анализа тенденций развития отдельных стран и всего мира. Он основан на формулировании детерминант, определяющих изменение организации общественной жизни, закономерностей, вытекающих из самого факта наличия этих детерминант.
§ 1. Исторические условия возникновения марксизма
Для понимания сути и места марксизма в интеллектуальном развитии человечества, его возможности влиять на современный общественный анализ необходимо принять во внимание особенности эпохи, в которой формировались основы этой доктрины.
В XVIII–XIX вв. Англия, а затем и Западная Европа в целом вступают в эпоху быстрых и очевидных изменений в экономике и обществе. Идет перераспределение рабочей силы из сельского хозяйства в промышленность, людей – из деревни в город. Возникают производства, в массовых масштабах использующие машины. Появляются новые средства транспорта: железные дороги, суда с паровыми двигателями. Рушатся социальные институты и социальная иерархия, характерные для аграрного общества, возникают новые проблемы, порожденные урбанизацией, динамикой экономической конъюнктуры. Сохранять старую, традиционную, статичную картину мира становится невозможным: она со всей очевидностью противоречит новым реалиям. Отсюда растущий спрос на концепции, способные объяснить происходящие перемены, их причины, внутреннюю логику, заложенные в них тенденции, потребность в теории, формулирующей законы развития современного общества.
Маркс был не первым, кто попытался ответить на этот вызов времени. О закономерностях исторического развития и исторических перемен пишут французские историки периода Реставрации, К. Сен-Симон и его ученики, П. Прудон, О. Конт, Г. Бокль, последователи германской исторической школы.
До конца XVIII в. бедность была в первую очередь уделом деревни. В городах было немало бедных, но доля городского населения к этому времени еще была невелика (табл. 2.1).
Таблица 2.1. Доля малоимущих в общей численности населения для отдельных европейских городов, XV–XVII вв.
Источник: Cipolla Carlo Maria. Before the Industrial Revolution. Methuen, 1981. P. 15.
Веками малоземелье, неурожаи, вспышки голода удерживали темпы роста населения на низком уровне. Когда бедность сконцентрирована в деревне, для элиты, в том числе интеллектуальной, она малозаметна. С началом современного экономического роста, ускорением прироста населения, сокращением сельской занятости, урбанизацией бедность перемещается в города. Городские бедняки – это те, кто обречен на голодную смерть. Бедность становится зримой, и это происходит на фоне технических инноваций, беспрецедентного роста производственных возможностей.
В деревне бедняк может обратиться за помощью к членам большой семьи или соседям. Она не гарантирована, но отказ предоставить ее противоречит традициям. С переездом в город большая семья распадается, а нормы соседской взаимопомощи не действуют. Традиционные механизмы социальной солидарности разрушены, а новые еще не созданы. К тому же продолжительность трудового времени в течение года в ходе промышленной революции увеличивается с 2,5 тыс. до 3 тыс. ч[61].
Урбанизация порождает новые причины бедности. При натуральном крестьянском хозяйстве, ограниченности рынков риски, связанные с колебаниями экономической конъюнктуры, были невелики. Главными угрозами оставались неурожаи, войны и эпидемии. Теперь же доступность продовольствия – это первая забота города. Роль рынков в экономике растет, и колебания конъюнктуры приводят к неожиданным массовым увольнениям, что лишает городскую бедноту последних средств к существованию. Механизмов регулирования социальных последствий безработицы еще нет. Свидетельство социальной дестабилизации раннего индустриального периода – рост преступности по сравнению с уровнями, характерными для традиционного аграрного общества. Лишь на следующих этапах индустриализации, примерно через два поколения после ее начала, уровень преступности начинает снижаться[62].
Давно идет дискуссия о том, как менялся уровень жизни английских низших классов в первой половине XIX в. Из-за недостатка надежных данных она, вероятно, никогда не завершится. Однако у современников не вызывал сомнения тот факт, что по мере индустриализации реальная заработная плата занятых в промышленности падала, а нищета среди рабочих росла[63].
Вообще же тогда считалось, что бедность низших классов полезна, а в повышении их благосостояния таится опасность для общества[64]. С последней четверти XVIII в., со времени публикации книги “О природе и причинах богатства народов” А. Смита, заработную плату рассматривали исключительно как средство поддержания жизни рабочих и воспроизводства низших классов. Через несколько лет после выхода этой работы ее уже часто цитируют в английском парламенте. Еще через несколько лет изложенные в ней представления становятся основной аргументацией в спорах на экономические темы. Естественность законов, которые определяют уровень заработной платы и невозможность его повышения, – один из ключевых тезисов Д. Рикардо.
Т. Мальтус понимал социально-политическую уязвимость представления о том, что повысить уровень жизни основной массы населения при существующем общественном устройстве невозможно. Он попытался вывести это положение не из организации общества, а из природных закономерностей: постоянный рост народонаселения – объективная реальность, она-то и не позволяет улучшать жизнь низших классов[65]. В 1798 году он пишет, что тенденции к улучшению условий жизни работающих бедных не существует и не может существовать[66]. Несколько десятилетий спустя Дж. Маккулох утверждает: “…Фабричная система неблагоприятно влияет на положение большинства занятых в ней”[67].
А вот мнение другого автора – Дж. Хикса: “Сакраментальный вопрос английской истории: почему период, потребовавшийся для повышения реальной заработной платы, оказался столь протяженным, несмотря на ее колебания между 1780 и 1840 годами? Как бы то ни было, резкое отставание динамики заработной платы от экономического развития в это время очевидно”[68].
Представления исследователей, которые доказывали ошибочность господствовавших взглядов об ухудшении положения рабочего класса на начальных стадиях индустриализации в Англии, объединены в работе “Капитализм и историки” под редакцией Ф. Хайека[69]. Но и ее авторы согласны с тем, что в 30–40‑е годы XIX в. мнение об углубляющейся нищете рабочих было широко распространено. И эти представления бытовали в то время, когда происходили серьезнейшие социальные перемены и беспрецедентное расширение экономических возможностей[70]. В такой обстановке концепция, связывающая логику экономического развития, неотвратимость коренного изменения общественного устройства и сдвигов к улучшению жизни низших классов, просто не могла не появиться.
В 40‑е годы XIX в. К. Маркс оказался свидетелем бурных изменений в производительных силах и связанных с ними перемен в организации общественной жизни. Они носят масштабный, системный характер, протекают на фоне растущих производственных возможностей и бедственного положения основной части населения. А экономическая теория твердит: жизнь рабочих лучше не будет, это невозможно, иного способа производства, кроме капитализма, придумать нельзя.
К середине XIX в. ведущая роль промышленности стала для всех очевидной. Новые реалии обусловили два центральных вывода К. Маркса. Развитие промышленности – атрибут социально-экономического прогресса. На авансцену истории выходит промышленный пролетариат. Он становится ведущей социальной силой в общественном развитии. Обнищание трудящихся как следствие развития капитализма представлялось одной из важнейших особенностей Нового времени.
Этот тезис – один из наиболее противоречивых в теории К. Маркса, но в то же время он и один из важнейших в марксистской идеологии. Ухудшение положения трудящихся считалось очевидным фактом на протяжении первой половины жизни К. Маркса, примерно до 1860‑х годов. Именно в этот период закладывались основы и разрабатывалось мировоззрение создателей нового учения. Вдумчивый исследователь не мог обойти данную проблему. Об обнищании трудящихся писали решительно все: публицисты, правительственные чиновники, ближайший друг и соавтор К. Маркса – Ф. Энгельс[71]. Обнищание вписывалось в гегелевскую диалектику при описании логики исторического прогресса (точнее, естественным образом следовало из этой логики) – трудящиеся через обнищание (отрицание собственности) приходят к новому положению, становясь господами своей жизни и даже истории (отрицание отрицания).
Какой вывод из этого сделает исследователь, готовый допустить возможность других способов производства? Он естественен: капитализм, развиваясь, обостряет до предела внутренние противоречия между богатеющими и нищающими и создает технологические возможности, позволяющие организовать производство и общество иначе. Будучи продуктом общественной эволюции, капитализм не вечен.
Этот вывод накладывается на гегелевскую диалектику, которая видит экономику и общество развивающимися системами, подкрепляется примером других стран, менее развитых, где тоже происходят подобные перемены. Сомнений быть не может: Англия показывает своим последователям картину их будущего[72].
§ 2. “Железные законы истории” и их судьба
Еще нет четкой картины мирового развития в условиях современного экономического роста, никому не известно, что начался сложнейший исторический процесс, в ходе которого возможны неожиданные изменения, казалось бы, непоколебимых, прошедших испытание временем тенденций. К. Маркс опирается на опыт развития европейских государств, накопленный за несколько десятилетий. Ему кажется, что он понимает закономерности наблюдаемых перемен, – открыл “железные законы истории”, хотя и не любит употреблять это выражение. События, развивающиеся в Европе, подкрепляют его теорию: следующие за Англией страны во многом повторяют характерные для нее тенденции трансформации производительных сил, социальных перемен.
Обсуждение совокупности взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса на общественное развитие и экономику – за пределами темы данной книги. Однако их влияние на траекторию мирового развития имеет к ней непосредственное отношение. В короткой надгробной речи на похоронах ближайшего друга и соавтора Ф. Энгельс называет главное, на его взгляд, свершение К. Маркса: открытие законов исторического развития[73]. В одной из работ соратник первооткрывателя пишет: “Хотя «Манифест» – наше общее произведение, тем не менее я считаю своим долгом констатировать, что основное положение, составляющее его ядро, принадлежит Марксу. Это положение заключается в том, что в каждую историческую эпоху преобладающий способ экономического производства и обмена и необходимо обусловливаемое им строение общества образуют основание, на котором зиждется политическая история этой эпохи и история ее интеллектуального развития, основание, исходя из которого она только и может быть объяснена; что в соответствии с этим вся история человечества (со времени разложения первобытного родового общества с его общинным землевладением) была историей борьбы классов, борьбы между эксплуатирующими и эксплуатируемыми, господствующими и угнетенными классами; что история этой классовой борьбы в настоящее время достигла в своем развитии той ступени, когда эксплуатируемый и угнетаемый класс – пролетариат – не может уже освободить себя от ига эксплуатирующего и господствующего класса – буржуазии, – не освобождая вместе с тем раз и навсегда все общество от всякой эксплуатации, угнетения, классового деления и классовой борьбы”[74].
Важнейший для анализа и прогноза вывод из Марксова видения закономерностей, присущих историческому процессу, мы уже называли: более развитые страны демонстрируют менее развитым картину их будущего. Отсюда всего шаг до тезиса о “железных законах истории”, которые указывают обществу направление его движения. Ф. Энгельс в своих работах неукоснительно следует логике “железных законов истории”[75].
Разумеется, отцы-основатели марксизма вовсе не предполагали, будто все страны пойдут по одной и той же траектории развития, проложенной Англией. Они понимали, что не всем удается создать предпосылки для возникновения капитализма и связанного с ним роста производства[76]. У национальных путей развития возможны особенности[77].
Однако страны, которые решат проблемы формирования капиталистического строя принципиально, по основным направлениям, определяющим изменения в организации экономики и общества, пойдут общим путем. Каждому уровню развития производительных сил будет соответствовать определенная, заданная система производственных и общественных отношений.
Трудно переоценить влияние, которое оказал Маркс на осмысление закономерностей мирового социально-экономического развития. Как воспринимали это учение его последователи, описал признанный лидер марксизма в России конца XIX в. Г. Плеханов: “Собственно говоря, до Маркса общественная наука была гораздо более лишена твердой основы, чем астрономия до Коперника. Французы называли и называют все науки, имеющие дело с человеческим обществом, sciences morales et politiques (моральные и политические науки), в отличие от «sciences», «наук» в собственном смысле этого слова, которые признавались и признаются единственно точными науками. И надо сознаться, что до Маркса общественная наука не была и не могла быть точной”[78].
В 1969 году Дж. Хикс в работе “Теория экономической истории” сетовал на то, сколь мало сделано для систематического приложения экономико-теоретических идей к анализу исторического процесса за 100 лет после публикации работ К. Маркса[79]. Д. Белл, автор первой и, пожалуй, лучшей книги, посвященной проблемам постиндустриального общества, утверждает, что все серьезные исследователи, рассматривавшие проблемы долгосрочного социально-экономического развития, были постмарксистами[80].
Совокупность базовых тезисов марксизма, его претензия на обладание знанием законов истории вместе с преобразовательной нацеленностью историко-философской доктрины придают учению мессианский характер. Это хорошо видно из одного из самых известных документов революционного марксизма – “Манифеста Коммунистической партии”. Его авторы и не пытались это скрывать. В наиболее развитом виде доктрина сформировалась к концу 1860‑х годов, когда был опубликован первый том “Капитала” (1867 год).
Й. Шумпетер был в числе тех исследователей, которые первыми обратили внимание на ныне общепризнанное: в марксизме неразрывно связаны элементы научной теории и светской религии. Если научный характер, опора на обширный фактический материал, теоретические построения придают марксизму убедительность, то элементы светской религии – объяснение мироустройства, прогнозы развития, руководство к практическим действиям, рассуждения на тему добра и зла – делают его особенно притягательным. Шумпетер также отмечал, что марксизм дает молодому человеку, который не обладает системными взглядами на взаимосвязи общественных процессов, целостное представление об устройстве мира, о законах его развития и собственном моральном долге[81]. К. Поппер, в юности увлекавшийся марксизмом, а затем посвятивший большую часть жизни полемике с Марксом, обращал внимание на завораживающее обаяние марксизма: идеи Маркса создают ощущение, будто ты познал законы истории и увидел картину будущего, дают неявный моральный посыл – помочь свершиться неизбежному[82].
В конце XIX в. представления о закономерностях происходящего в наиболее развитых странах, о том, что новое так или иначе пробьет себе дорогу в жизнь, широко распространены в мире, в том числе и среди тех, кто марксизму не симпатизирует[83].
Представление о “железных законах истории”, которые задают тенденции в общественном развитии, становится весомым аргументом в политических дискуссиях. Обосновывая историческую необходимость даровать народу свободу, С. Витте в 1905 году писал Николаю II: “Ход исторического процесса неудержим. Идея гражданской свободы восторжествует если не путем реформы, то путем революции… Попытки осуществить идеалы теоретического социализма, – они будут неудачны, но они будут, несомненно, – разрушат семью, выражение религиозного культа, собственность, все основные права”[84].
Сегодня главная проблема, связанная с законами исторического развития в том виде, как их сформулировал Маркс, кроется в самой природе феномена, объяснения которого мы ожидаем, – в сути современного экономического роста. Это незавершенный, продолжающийся процесс динамичных и глубоких преобразований, не имеющий прецедентов в мировой истории. Для него характерны масштабные изменения прочно устоявшихся тенденций. Именно отсюда многочисленные ошибки исследователей, пытавшихся экстраполировать в будущее современные им тенденции в развитии стран-лидеров. Д. Рикардо, известный английский экономист, публиковавший свои работы в эпоху промышленной революции, неправильно понял важность сопутствующих ей технологических усовершенствований и предсказал длительную стагнацию экономики Англии[85]. Т. Мальтус опирался на достоверные сведения об ускорившихся в конце XVIII – начале XIX в. темпах роста населения в Англии, строил на них свои выводы. Теперь мы знаем, что экстраполяция характерных для ранних стадий демографического перехода тенденций на более поздние стадии неправомерна.
Многие десятилетия современный экономический рост отождествляли с индустриализацией: он сопровождался быстрым ростом доли промышленности в ВВП и структуре занятости. Во второй половине XX в. выяснилось, что индустриализация лишь одна из стадий современного экономического роста, ей на смену приходит другая: за счет промышленности растет доля сферы услуг. В те времена, когда Маркс работал над своими трудами, еще не проявился коварный характер современного экономического роста, его способность преподносить сюрпризы тем, кто счел себя знатоком его логики, закономерностей развития. И Маркс, используя доступный ему теоретический и фактический материал, пытался постичь законы развития капиталистического способа производства, выявить его противоречия, механизмы крушения общественного строя, при котором рост производства идет на фоне увеличивающейся нищеты основной массы населения.
§ 3. Начало кризиса марксизма
Тезис об абсолютном и относительном обнищании рабочего класса как характерной черте капитализма оказался первым из опровергнутых историей ключевых положений марксизма. До 60‑х годов XIX в. еще можно было спорить, растет или нет реальная заработная плата английских рабочих, но затем ее повышение становится очевидным фактом[86]. А ведь неизбежность обнищания отнюдь не частность для марксизма, а едва ли не главная причина, по которой, в концепции Маркса, крах капитализма неизбежен.
Пытаясь устранить противоречие между Марксовой теорией и реальностью, Ф. Энгельс указывает на исключительное положение Англии, ее промышленную монополию в Европе и мире. Рано или поздно монополии придет конец, и тогда вновь даст о себе знать старая тенденция – к обнищанию рабочего класса[87]. К концу XIX в. слабость английского рабочего движения разительно противоречила уровню развития капитализма в Англии. Этот факт стал даже для марксистов тривиальным.
Постепенно тенденция к росту реальной заработной платы рабочих проявляется в следующих за Англией странах континентальной Европы. В конце XIX в. марксисты пытаются спасти чистоту учения: у Маркса, по их словам, речь идет не об абсолютном, а об относительном обнищании пролетариата[88]. Но это со всей очевидностью противоречит работам основоположника, поскольку краеугольный камень учения Маркса – тезис о невозможности улучшить положение рабочего класса в условиях капитализма.
На этапах более зрелого индустриального общества социально-политический фон экономического развития изменяется. Еще недавно английские рабочие, лишенные избирательных прав и социальной защиты, с трудом адаптирующиеся к городской жизни, работе на фабрике[89], были антиподами политической элиты, которой их интересы и чаяния безразличны; они казались мощной революционной силой, способной по мере обострения противоречий капитализма сокрушить его. К 1860–1870 годам английская буржуазия проявила гибкость, предоставила большинству рабочих-мужчин избирательное право. Начинает сокращаться рабочий день, увеличивается продолжительность отпусков и времени нетрудоспособности, за которую выплачивается пособие; трудовой год в странах – лидерах современного экономического роста сокращается в среднем примерно с 3 тыс. ч до менее 2 тыс. ч. Сокращение рабочего дня способствует как улучшению здоровья трудящихся, так и повышению качества трудовых ресурсов[90].
Рабочие быстро, всего за два поколения, адаптируются к новым реалиям, к жизни в городе и работе на фабрике. Их политическая активность растет, она приводит к серьезным изменениям в рабочем законодательстве. Это, в свою очередь, вызывает рост реальной заработной платы. Английское рабочее движение превращается в политическую силу, ориентированную на реформы, улучшающие положение рабочих, а не на революционное свержение капитализма. В 70‑80‑х годах XIX в. К. Маркс и Ф. Энгельс пишут об английских рабочих с нескрываемым раздражением[91]. Английский рабочий класс не оправдал ожиданий классиков марксизма.
Из поздних произведений К. Маркса нетрудно понять, что перспективы социалистической революции вызывали у него все большие сомнения. Это состояние растущего пессимизма удается преодолеть во времена Парижской коммуны, но поражение последней и укрепление во Франции режима Третьей республики усиливают скептические настроения по отношению к неизбежности пролетарской революции. К. Маркс перестает работать над “Капиталом”[92]. В то же время растет его интерес к менее развитым странам, прежде всего к России (см. об этом ниже, в гл. 8).
Модификации историко-философской доктрины, сделанные самими ее основоположниками, касались условий осуществления социального переворота. Практика свидетельствовала, что революционные катаклизмы, стремление пролетариата взять власть в свои руки не находятся в линейной зависимости от прогресса капиталистических отношений. В противном случае следовало бы ожидать, что Англия покажет пример развития не только производительных сил, но и революционного движения, приближения общества к социализму. Между тем практика свидетельствовала, что революционное движение (и рабочие партии) активнее развивается в более отсталых странах. Во Франции, а не в Англии периодически происходили революционные взрывы. Если события 1848–1851 годов еще можно было трактовать как продолжение буржуазной революции (хотя социалисты чуть было не пришли к власти), то в 1870–1871 годах революция (и особенно Парижская коммуна) имела выраженный пролетарский и социалистический характер.
В еще менее развитой, хотя и быстро растущей Германии сформировалась и укрепляется социал-демократия, рассматривающая себя как партию рабочего класса, основанную на марксистском учении. Марксизм становится популярным в России. Здесь нарастает революционное движение под социалистическими лозунгами[93].
Напротив, не только в Англии, но и в США, где капитализм развивался невиданными темпами, признаки революции не проявляются. Рабочие партии здесь остаются слабыми. Концентрация богатства на одном полюсе не приводит к социальному взрыву на другом. Рассуждения К. Маркса и Ф. Энгельса на тему о США и Англии содержат два рода утверждений. С одной стороны, это варианты объяснений, почему не происходит революционного взрыва, а рабочие остаются пассивными: в США пассивность рабочего движения объясняется постоянным притоком иммигрантов и обилием свободной земли[94], в Англии (как указывалось выше) – монопольным положением в мировой промышленности, обеспечивающим рост благосостояния английских рабочих за счет рабочих других стран. С другой стороны, основоположники марксизма пытаются доказать, что в конечном счете развитие идет по пути, предначертанному еще в середине 1840‑х годов, но за всем их построением стоит плохо скрываемая обида на пролетариат наиболее развитых стран, не понимающий “общих условий освобождения”[95].
Продвижение марксистских идей на восток потребовало уточнения еще одного принципиального вопроса: в какой мере универсальны закономерности, сформулированные К. Марксом? Неизбежно ли все страны должны будут повторить путь Англии, двигаться от феодальных к капиталистическим производственным отношениям и на основе последних к социализму? Или, формулируя тот же вопрос в этических терминах: насколько обязательно пройти через тяготы и страдания капитализма, чтобы прийти ко всеобщему счастью и братству при социализме?
Ход событий подталкивал к выводу, что революция – не магистральное направление развития буржуазной цивилизации. Возможность революции нарастает на определенном, начальном этапе развития буржуазных отношений, когда происходит поляризация классов и положение трудящихся, переселяющихся из деревни в город, может ухудшаться. Недаром после Англии центр революционной борьбы смещается во Францию и в Германию (отстававшие от Англии на 30–40 лет), а затем – в Россию (еще одно 50‑летнее отставание).
Отстающие страны демонстрируют, что революционное движение разворачивается даже при отсутствии классических для марксизма предпосылок, при сохранении традиционных форм организации социально-экономической жизни. Речь идет в первую очередь о России, о возможности использовать общину как ячейку, исходный пункт социализма. Здесь среди немарксистских социалистов была распространена точка зрения, что община создает условия для перехода к социализму, минуя капитализм. Положительный ответ на этот вопрос означал бы существенный пересмотр учения об общественно-экономических формациях. Известно, что в последние 10–15 лет жизни К. Маркс обратился к этой проблеме, стал изучать русский язык, работал с российскими статистическими материалами. В его бумагах сохранились размышления по данному поводу. Характерно, что большинство из них не было предано гласности при жизни автора. В них он говорит о том, что через развитие общины возможно прийти к социализму. Следовательно, к социализму ведут разные пути и опыт западного капитализма не универсален. К. Маркс возражает против превращения его “очерка возникновения капитализма в Западной Европе” в некую “историко-философскую теорию о всеобщем пути, по которому роковым образом обречены идти все народы, каковы бы ни были исторические условия, в которых они оказываются”. Он призывает вместо построения универсальных исторических законов “изучать каждую из этих эволюций в отдельности” и затем сопоставлять их друг с другом[96].
Из этого вытекают далекоидущие выводы. Сохранение общины позволяет перейти к социализму, минуя тяготы буржуазной эксплуатации. В определенной ситуации сохранившаяся община – это “элемент возрождения русского общества и элемент превосходства над странами, которые еще находятся под ярмом капиталистического строя”[97]. В черновике эта мысль уточняется: “Жизни русской общины угрожает не историческая неизбежность, не теория, а угнетение государством и эксплуатация проникшими в нее капиталистами”[98] (курсив мой. – Е. Г.).
Понимание нелинейности общественного развития К. Марксом в поздние годы его жизни заставляет вносить модификации в теорию общественных формаций. Впоследствии “Краткий курс истории ВКП (б)” сведет эту теорию к пресловутой “пятичленке”, по которой мир развивается, переходя последовательно от одной формации к другой, более высокой. У К. Маркса все сложнее. Он выдвигает гипотезу о существовании трех фаз развития общества: первичной (архаической) общественной формации, основанной на общественной собственности, наиболее развитой формой которой является земледельческая община; вторичной формации, основанной на частной собственности, и формации, вновь основанной на общественной собственности, напоминающей архаичную, но уже предполагающей более высокую фазу развития производительных сил[99]. Из этого тезиса следует ряд выводов принципиального характера:
• формации могут существовать не только последовательно, сменяя одна другую, но и параллельно. Различные страны, находящие ся примерно на одном уровне развития производительных сил, могут характеризоваться различными общественными формами (азиатский способ производства, рабовладение, феодализм);
• необязательно все страны должны пройти через одни и те же фазы развития общества (одни и те же производственные отношения), даже если их производительные силы находятся на сопоставимом уровне;
• существует множество факторов помимо экономических, оказывающих влияние на формы общественной жизни данной страны.
§ 4. Конфликт между теорией и “светской религией”
В последние годы жизни К. Маркс стал скептически отзываться о “вечных, железных, великих законах”[100]. Это означало существенную трансформацию исходной доктрины, ее усложнение, вызов “светской религии”, которая не может быть сложной и многозначной, должна давать простые рецепты.
Обозначилось противоречие. Развитие научных основ марксизма предполагало усиление внимания к нюансам, исключениям из правил. Но это для интеллектуальной элиты. Марксизм же как “светская религия” требовал сохранения неколебимости догматов, минимизации исключений, выпячивания “железных законов”. Дальнейшее научное развитие марксизма означало признание, что часть исходных установок не соответствует долгосрочным трендам развития цивилизации, предполагало пересмотр первоначальных идей. “Религия” требовала решительной борьбы против попыток пересмотра не только логических конструкций, но и буквы нового “писания”.
Сам К. Маркс оказался в ловушке. Сложилась парадоксальная ситуация: марксизм стал заложником интеллектуальной мощи работ своего основоположника, его политического успеха. К. Маркс к концу жизни видел, что многое из написанного им опровергается развитием событий в мире. Но предложенная доктрина благодаря своей внутренней непротиворечивости и простоте овладела массами. А, как писал он сам, идея, овладевая массами, становится материальной силой. К. Маркс пытается пересматривать некоторые элементы доктрины, но видит, что пересмотр отдельных фрагментов рушит все здание. А вокруг этого здания сформировались массовые партии, мировоззрение, цель жизни и судьбы сотен тысяч (и даже миллионов) людей. Все это может быть погребено под обломками, если здание рухнет. Да и соратники не склонны позволять сотрясать основы учения, под знаменем которого строится их борьба и политическая карьера[101].
Читая поздние работы К. Маркса, нетрудно заметить, что в последние годы жизни он осторожно относится ко всякому произносимому слову, пытается внести коррективы, не посягая на суть учения, добавляет новые фрагменты. Но все это не выходит за рамки писем и черновиков. Наиболее смелые гипотезы оказываются даже не в частных письмах, а в черновиках, не предназначенных не только для публикации, но даже для отправки корреспонденту. Эти наброски или остаются в столе (“предоставляются грызущей критике мышей”, как он сам однажды выразился по другому поводу[102]), или лишаются наиболее интересных пунктов, когда оказываются переписанными набело[103].
Так развивается конфликт между религиозной и научной сторонами марксизма, который будет оказывать сильное влияние на интеллектуальные поиски XX в. Для стран, провозгласивших марксизм своей официальной идеологией (“государственной религией”), этот конфликт будет иметь трагические последствия, поскольку защита “чистоты марксизма” станет использоваться для оправдания политических репрессий.
§ 5. Ревизия марксизма, вызов постиндустриального развития
Один из ближайших соратников Маркса и Энгельса, с которым в последние годы жизни они вели оживленную переписку, Э. Бернштейн, выступил с работами, направленными на ревизию их наследия, ее адаптацию к изменившемуся миру, где надежды на социалистическую революцию и крушение капитализма становятся призрачными.
Предложенная Э. Бернштейном ревизия марксизма – переориентация социал-демократии с революционных целей на реформистские, приближенная к интересам низших классов перестройка институтов капиталистического общества – задала новую траекторию, по которой в XX в. эволюционировали идеология и политика левых и социал-демократических партий. Однако до того, как правота Бернштейна стала очевидной, мир вступил в период глобальных потрясений 1914–1945 годов. Две мировые войны, замедление темпов экономического роста, социалистическая революция в России, великий кризис, которого так ждал Ф. Энгельс[104], социальная дезорганизация, массовая безработица в странах – лидерах современного экономического роста, неспособность их национальных элит преодолевать кризисные ситуации, успехи советской индустриализации, победа СССР в войне – все это с избытком перекрывало неточности прогнозов Маркса в важных, но, на взгляд его последователей, частных вопросах. Социалистическая революция произошла не там и не так, как он предсказывал, не в самой развитой капиталистической стране, а в той, которая находилась на ранней стадии индустриализации. Но ведь произошла.
К концу Второй мировой войны большинство исследователей в странах – лидерах современного экономического роста были убеждены в том, что Великая депрессия была лишь временно приостановлена войной и вновь возобновится после ее окончания. В это время активно обсуждалось то, что надо делать при возникновении вновь безработицы, сопоставимой по уровню с той, которая была характерна для 1929–1933 годов[105].
На этом фоне тезис о фундаментальной правоте марксистских схем исторического прогресса к середине XX в. практически не подвергался сомнению. Не только восточные революционеры, но и западные интеллектуалы (и даже некоторые буржуазные политики) признавали его правоту. Не во всем, конечно, но общая тенденция экономического прогресса, казалось, была предсказана К. Марксом правильно. Происходит концентрация производства и капитала, кризисы становятся более разрушительными (причем кризисы не только экономические, но и военно-политические), общество требует усиления централизованного регулирования. В эти годы почти все соглашались, что необходимо государственное вмешательство в экономику для преодоления экономических кризисов, которые “широко воспринимались как признак конца капитализма”[106]. За этим следовал вывод о “конце истории”, в котором видели, правда, не столько торжество коммунизма, сколько торжество тоталитаризма[107].
В 1940‑е годы Й. Шумпетер в работе “Капитализм, социализм и демократия” извиняется, что вынужден затрагивать столь тривиальную тему, как неизбежность победы социализма. Да, на его взгляд, механизмы, которые трансформируют капитализм в социализм, иные, чем представлял себе К. Маркс. Обнищание пролетариата не состоялось, и социального взрыва не будет. Но Маркс был прав в оценке главных тенденций капитализма: концентрация капитала, укрупнение производства, монополизация, бюрократизация экономической жизни, утрата ведущей роли предпринимательства. В неизбежности продолжения этих процессов кроется источник социализации экономики и общества.
Й. Шумпетер повторяет ошибку Маркса: экстраполирует на будущее тенденции, десятилетиями определявшие развитие стран – лидеров современного экономического роста. Для зрелой индустриальной эпохи характерны крупные производственные комплексы, использующие преимущества масштабов, конвейерной организации производства, стандартизации. Другие факторы вый дут на первый план на постиндустриальной стадии развития. Но в конце 1940‑х годов сохранение тенденции к концентрации производства представляется Й. Шумпетеру, как и многим другим исследователям, несомненным.
В середине XX в. ветер истории не наполняет паруса корабля либерализма. При всех отклонениях реального исторического развития в конце XIX – второй половине XX в. от логики “железных законов истории” многие еще верят, что основоположники марксизма в целом верно оценивали главные закономерности мирового социально-экономического развития. И наиболее авторитетные мыслители-либералы предпринимают атаку на саму возможность выявить и проанализировать законы исторического развития. К. Поппер, Л. фон Мизес, Ф. Хайек, И. Берлин публикуют работы, в которых критикуют концепцию исторических закономерностей[108].
Кульминацией этой атаки стала публикация в 1957 году книги К. Поппера “Нищета историзма”, главная идея которой – невозможность прогнозировать развитие человечества на основе научных или иных рациональных методов[109]. Другая работа на ту же тему – увидевшая свет в 1954 году книга И. Берлина “Историческая неизбежность”[110]. Самый серьезный аргумент либералов – ключевая роль в социально-экономическом развитии достижений науки и новых технологий. На человеческую историю оказывает влияние растущий багаж знаний. Мы не располагаем методами, позволяющими предсказать его воздействие на социально-экономические процессы. Дать научный прогноз дальнейшего развития исторического процесса невозможно[111].
Аргументация противников “железных законов истории” носит не научный, а скорее идеологический характер. К. Поппер признавал, что его критика представлений о существовании исторических законов – вклад в борьбу против фашизма и тоталитаризма[112].
Марксистскую догму о закономерности исторического процесса широко и активно используют тоталитарные режимы, стремясь сделать ее идейно привлекательной. Ф. Хайек отмечает: “Практически все социалистические школы использовали философию истории как способ доказательства преходящего характера разных наборов экономических институтов и неизбежности смены экономических систем. Все они доказывали, что та система, которая основана на частной собственности на средства производства, является извращением более ранней и более естественной системы общественной собственности. И так как они исходили из того, что капитализм ухудшает положение рабочего класса, неудивительно, что у них получались построения, доказывавшие неизбежность его крушения”[113]. Продолжая мысль автора, добавим от себя: именно поэтому подобные построения должны быть отвергнуты.
Аргументация Ф. Хайека была убедительной. На протяжении последующих десятилетий историки, не причислявшие себя к марксистам, дабы не рисковать своей научной репутацией, избегали обсуждать долгосрочные тенденции исторического развития[114]. Публикуя в начале 1960‑х годов работу, посвященную закономерностям современного экономического роста, У. Ростоу снабдил ее защищающим от идеологических упреков подзаголовком: “Некоммунистический манифест”[115].
Пик популярности и признания идеологии часто несет в себе подготовку к ее глубокому кризису. В соответствии с марксистской философией истории для кризиса социалистической идеи должны были созреть материальные предпосылки. И действительно, подлинный и глубокий кризис марксизма как теоретической базы социализма и коммунизма наступил только с кризисом зрелого индустриального общества, с формированием новой технологической базы. Иными словами, сам кризис марксизма стал подтверждением правоты его историко-философской доктрины.
С начала 1950‑х годов современный экономический рост в странах-лидерах преподносит исследователям очередной сюрприз: некоторые характерные для предшествующего периода (1914–1950 годы) тенденции меняют свою направленность на 180 градусов. Резко ускоряются темпы экономического роста, расширяется мировая торговля. Глобальные потрясения и кризисы 1920‑1930‑х годов уходят в прошлое. В странах-лидерах растут расходы на социальные программы. Занятость в промышленности, которая на протяжении десятилетий была локомотивом экономического развития, начинает сокращаться – сначала в США, потом в Западной Европе. Занятость в сфере услуг растет.
Можно выделить следующие особенности новой технологической базы, проявившиеся во второй половине XX в.:
• структурный сдвиг в экономике, суть которого в сокращении доли промышленности, росте доли сектора услуг (как в производстве, так и в занятости). Доля услуг к концу XX в. превышает половину объема национального производства наиболее развитых стран мира. Это подрывает один из важнейших постулатов исторической концепции марксизма о “всемирно-исторической роли” промышленного пролетариата;
• возрастает динамизм развития производительных сил, технологий. Это повышает уровень неопределенности в организации технологического процесса. Важнейшие тенденции развития производства оказываются непредсказуемыми. Концентрация производства, стандартизация производственных процессов перестают быть важнейшими факторами, повышающими эффективность экономики. Они уступают эту роль гибкости, способности быстро перестраивать производство, систему оказания услуг, переориентировать их на меняющийся потребительский спрос. Это подрывает еще одну фундаментальную черту (и в представлении многих – преимущество) социалистической системы – возможность долгосрочного планирования и координации действий хозяйственных агентов; • происходит насыщение спроса продуктами, необходимыми для обеспечения жизнедеятельности человека. Проблема бедности (или неравенства) в развитых странах перестает быть проблемой выживания индивида. Потребности выходят на новый уровень, их удовлетворение связано с индивидуальными склонностями человека. Это предопределяет сдвиги как технологического, так и социального характера: кризис конвейера, диверсификация потребностей.
По мере роста благосостояния подавляющая масса населения становится собственником, заинтересованным не в переделе созданного продукта, а в создании условий для непрерывного продолжения такого роста. Общество, достигшее благосостояния, в котором большинству граждан “есть что терять”, не любит нестабильности, тем более оно не склонно к революционным взрывам. Интерес к революционному марксизму, предполагающему радикальный передел собственности, ослабевает.
Столкнувшись с вызовом постиндустриального развития, социалистические страны либо оказываются неспособными адаптироваться к нему, что приводит к глубокому кризису и краху (Советский Союз, соцстраны Восточной Европы), либо начинают перестраивать свою экономическую систему, восстанавливают в ней рыночные элементы, отходят от автаркии, интегрируются в мировое хозяйство (пример – Китай)[116].
Модный аргумент, используемый сегодня неомарксистами, – ссылка на то, что социализм, построенный в СССР, в странах советской империи, не был подлинным социализмом. По этому поводу Я. Корнаи справедливо пишет: “Официальное руководство каждой из стран, входивших в состав социалистической империи, декларировало, что существующая система является социалистической. Зачем искать определение для социальной системы, существующей в этих странах, иное, чем они сами используют? К тому же социально-экономические установления этих стран по меньшей мере некоторые школы социалистической мысли считают характерными для этой системы”[117].
На этом фоне двойственная природа марксизма – как научной теории и светской религии – сказывается на его судьбе особенно сильно. Джоан Робинсон, один из самых образованных критиков марксизма, писала: “Разница между ученым и пророком состоит не в том, что он говорит, а в том, как воспринимаются его слова. Долг последователей ученого – в проверке его гипотез, в поиске фактов, которые им противоречат. Долг последователей пророка – в повторении его слов”[118]. Перед первыми остро встает вопрос качества выбранного ими инструмента научного познания, точности теоретических прогнозов. Для поклонников светской религии сама мысль о возможности ошибок и неточностей в трудах отцов-основателей – святотатство.
Между тем в прогнозах социально-экономического развития у К. Маркса и Ф. Энгельса много деталей, которые чем дальше, тем больше расходятся с очевидными и неоспоримыми фактами. Жесткость марксистской конструкции не позволяет адаптировать ее к новым реальностям, сохранить то, что в ней интересно и ценно: анализ общества как развивающейся целостности, взаимосвязь уровня технологического развития (по марксистской теории – производительных сил) и социальных институтов (производственных отношений)[119].
Из всех попыток адаптировать наследие К. Маркса к реалиям второй половины XX в. наиболее системной является совокупность работ И. Валлерстайна. Он доказывает, что в марксизме должна быть скорректирована одна из составляющих метода, применяемого для исследования социально-экономических процессов; речь идет о выборе уровня анализа. Еще в XVI в. мир стал интегрированной социально-экономической системой. Поэтому анализ мирового развития, основанный на исследовании тенденций в отдельных, вырванных из глобального контекста странах, непродуктивен. В мире есть богатое, сильное ядро и бедная, слабая периферия. Та или иная страна способна изменить свое положение в мировой системе, перебраться из периферии в ядро. Однако это ничего по сути не меняет. Противоречия между реальными траекториями национального развития и прогнозами Маркса не принципиальны. Пусть десятилетиями сотни миллионов людей жили при социально-экономической системе, которую ее лидеры нарекли социализмом, все равно мировое хозяйство оставалось капиталистическим. “Если мы говорим о стадиях – и мы должны говорить о стадиях, – то это должны быть стадии развития социальных систем, рассматриваемых как тотальность. В XIX и XX вв. была лишь одна мировая система – капиталистическая мировая экономика”[120]. Как считает И. Валлерстайн, капитализм наделен большей внутренней энергией и устойчивостью, чем предполагал Маркс, но внутренние противоречия этой формации неизбежно приведут к взрыву, к переходу к социалистической системе и созданию мирового правительства. Говоря о современной мировой системе, он отмечает: “Я не думаю, что она просуществует долго… Когда ее противоречия не позволят ей дальше функционировать, будет бифуркация, последствия которой невозможно предсказать… Эта историческая система, как и все исторические системы (соответствующие историческим стадиям Маркса), не только имела начало (генезис), но… будет иметь и конец. И только тогда мы можем сконцентрировать внимание на том, какую систему… мы хотим создать”[121] (курсив мой. – Е. Г.).
Главная проблема таких прогнозов состоит в том, что современники не могут проверить их точность. Выстроенная Марксом схема мирового развития – картина жесткая, но убедительная (“более развитые страны показывают менее развитым лишь картину их собственного будущего”[122]). В интерпретации И. Валлерстайна эта картина становится мягкой, пластичной. Отказ от анализа национальных траекторий влечет отрицание возможности использовать опыт социально-экономического развития развитых стран при оценке перспектив более бедных. В отличие от многих Марксовых построений, которые проходят тест К. Поппера на фальсифицируемость, т. е. на определение того набора фактов, который сможет ее подтвердить или опровергнуть[123], картина мира И. Валлерстайна позволяет легко включить в себя любое развитие событий.
Итак, к началу 3‑го тысячелетия метод анализа исторического процесса и его закономерностей, предложенный в середине XIX в. К. Марксом, оказался скомпрометированным, хотя и сохранил немало сторонников[124]. Прогнозы основоположника не оправдались, события в странах – лидерах современного экономического роста пошли по иному, нежели он предполагал, руслу. Социалистический эксперимент провалился, “железные законы истории” не сработали. И все же, если абстрагироваться от идеологического противостояния и попытаться оценить, что дал накопленный за два века опыт мирового развития для понимания тенденций и закономерностей современного экономического роста, нетрудно убедиться: многие фундаментальные методологические тезисы, сформулированные Марксом полтора века назад, подтвердились.
§ 6. Марксизм и современность. Некоторые выводы
Важнейший тезис марксизма состоит в том, что производительные силы (или технологический базис) общества предопределяют его экономические, социальные и политические отношения (институты). Этот тезис более важен, чем другие построения марксизма. Именно в нем основа представления о законах движения общественного прогресса. Все остальное (включая структуру общественно-экономических формаций, роль классовой борьбы, обобществления), каким бы важным оно ни казалось идеологам и политикам, лишь более или менее адекватное применение этого принципа к анализу реалий этапов исторического развития. Возникает вопрос: а как, по каким параметрам можно оценить уровень развития производительных сил? Технологический прогресс непрерывен, его фазы удается выделять лишь с определенной степенью абстракции.
Лучший параметр, используемый для оценки того, что К. Маркс называл уровнем развития производительных сил, – среднедушевой ВВП, рассматриваемый в исторической ретроспективе и в сопоставимом для межстранового анализа виде[125]. Определенного уровня этого показателя можно добиться лишь на заданной технологической базе. Среднедушевой ВВП, характерный для индустриального общества, не может быть достигнут на базе технологий общества традиционного (аграрного). Для современного постиндустриального общества характерен уровень ВВП более высокий, чем тот, который достигается, когда промышленность доминирует в структуре производства и занятости.
Даже поверхностный анализ исторической статистики позволяет увидеть наличие связи среднедушевого ВВП с изменениями в социальной и политической организации общества.
Можно попытаться оценить то, насколько подтвердились жизнью другие тезисы (“законы” исторического развития), сформулированные К. Марксом.
• Он правильно оценил характерные для современного экономического роста изменения в производстве и социальной структуре и динамичный характер общества на этом этапе развития. Показал, что социально-экономические институты не остаются неизменными, постоянно развиваются. Опыт XIX–XX вв. это подтвердил.
• Он показал, что между производственными отношениями и развитием производительных сил есть не только прямая, но и обратная связь, что возможны ситуации, когда сложившиеся производственные отношения становятся тормозом в развитии производства. Современные неоинституционалисты называют это институциональными ловушками.
В то же время Маркс переоценил возможность прогнозирования развития человеческого общества в условиях современного экономического роста, не понял, да и не мог понять, располагая доступной ему информацией, насколько этот процесс нестационарен, какими непредсказуемыми и резкими могут быть изменения, казалось бы, устойчивых, проверенных опытом тенденций, характерных для стран-лидеров.
Как справедливо отмечает Дж. Б. Делонг, история прошлого столетия в отличие от всей предшествующей истории человечества – это в первую очередь экономическая история[126]. А. Мэддисон пишет, что, если исключить работы К. Маркса и Й. Шумпетера, круг серьезных исследований, посвященных экономическому росту во второй половине XIX – начале – середине XX в., крайне ограничен.
Возможно, это связано с тем, что историки и экономисты, которые пытались анализировать развитие капитализма на его ранних стадиях, не могли воспользоваться плодами революции в исторической статистике. Ее совершили труды С. Кузнеца, разработавшего современную систему национальных счетов и стимулировавшего реконструкцию исторической статистики в странах – лидерах современного экономического роста[127].
Работы С. Кузнеца, М. Абрамовича, А. Мэддисона, Р. Барро, основанные на обширной социально-экономической и демографической статистике, которой при Марксе не было, убедительно показывают ключевую роль технологического прогресса (развития производительных сил – по К. Марксу) в трансформации социальных структур и социальных отношений. Эти исследования позволили вскрыть устойчивые, хотя и не жестко детерминированные связи между уровнем производства, структурой занятости, способом расселения, демографическими данными, развитием образования, показателями здоровья нации[128]. Используя ту же методологию, политологи продемонстрировали зависимость между уровнем экономического развития и политической организацией общества[129].
С. Кузнец и его последователи анализировали траектории, по которым шло развитие стран – лидеров современного экономического роста. Х. Ченери и М. Сиркин пришли к сходным выводам, изучив статистику по совокупности стран, пребывавших в 1950–1970 годах на разных уровнях развития. Их работы позволяют продемонстрировать, как в условиях современного экономического роста этот уровень связан с социально-экономическим состоянием общества[130].
Подтверждение роли производительных сил в формировании институтов современного общества – сближение институтов развитых стран. Можно говорить об их конвергенции. Между протестантской Великобританией, католической Францией, конфуцианской Японией больше общего в характере производительных сил, соответствующих им формах экономических и политических отношений, чем при сравнении каждой из этих стран с другими, более близкими им в культурно-историческом или религиозном отношениях, но находящимися на более низком уровне развития. Другое дело, что процессы институциональной конверсии длительны и не прямолинейны.
Для С. Кузнеца в его анализе социально-экономической динамики характерно стремление абстрагироваться от роли общественных институтов в экономическом развитии. Главным в его работах остается вопрос: какие взаимосвязанные изменения в экономике и обществе сопровождают экономический рост? А почему в тех или иных странах они происходят быстрее или, напротив, медленнее, он, как правило, не обсуждает.
Группа исследователей, объединенных неоинституционалистским подходом к анализу развития национальных экономик и всей экономической истории, сделала упор именно на последнюю проблему. В центре внимания Д. Норта и его коллег стоит вопрос, как институты[131] (по Марксу – производственные и общественные отношения) влияют на экономический рост и социальное развитие, какие факторы определяют их эволюцию, в каких случаях может формироваться система институтов, препятствующих экономическому развитию. Отвечая на него, Д. Норт приходит к выводу: важнейший фактор, определивший формирование такой системы, – противоречие интересов государства и общества. Отсюда шаг до другого вывода: социальная революция – предпосылка для трансформации производственных отношений, крушения элит, препятствующих формированию новой системы институтов. Д. Норт пишет: “Хотя значительный объем работ был проделан для анализа истории технологии и ее связи с экономическими результатами, обычно эти работы оставались вне основного тела экономической теории. Исключением были работы К. Маркса, который пытался объединить технологические изменения с институциональными изменениями. Представления Маркса, которые связывали изменения производительных сил (под которыми он обычно имел в виду технологию) с производственными отношениями (под которыми он имел в виду элементы организации общественной деятельности и особенно право собственности), были первой попыткой объединить технологические ограничения и ограничения, связанные с организацией человеческих отношений”[132]. Из другой работы Д. Норта: “Марксистская схема анализа дает наиболее сильное средство исследователям именно потому, что она включает те элементы, которые отсутствуют в неоклассической традиции: институты, права собственности, государство, идеологию. Тезисы Маркса о критической роли прав собственности в эффективной экономической организации и роли противоречий между существующими правами собственности и производственными возможностями, создаваемыми новыми технологиями, являются его фундаментальным вкладом в исследование экономической теории”[133]. Несмотря на то, что неоинституционалисты подчеркнуто дистанцируются от наследия К. Маркса, их взгляды на экономическое развитие очевидно близки к марксистским[134].
Как отмечал Ф. Бродель, “…гений Маркса, секрет притягательности его идей лежит в том, что он был первым, кто сконструировал социальные модели, ориентирующиеся на долгосрочное развитие. Но эти модели были слишком простыми и неизменными. Им придали силу закона и начали использовать как готовые автоматические объяснения процессов, протекающих в любом месте и в любом обществе… Именно это в последнее столетие ограничило эффективность использования самых сильных средств анализа социальных процессов”[135].
Основоположник марксизма был убежден, что закономерности, которые он наблюдал с середины XIX в. в Англии, имеют общий характер и в дальнейшем не только сохранятся, но и будут усиливаться[136]. Марксова теория прибавочной стоимости, которая сегодня кажется столь архаичной и оторванной от жизни, неплохо описывала известные его современникам реалии аграрных и раннеиндустриальных обществ. Й. Шумпетер утверждал, что теория прибавочной стоимости Маркса неправильна, но гениальна[137].
Острый классовый конфликт – очевидная реальность Англии во время создания “Манифеста Коммунистической партии” – положен в основу концепции классовой борьбы как важнейшего процесса мировой истории. И Маркс предсказал обострение этой борьбы.
Социальная дезорганизация, присущая ранним этапам индустриализации, превращается у него в закон абсолютного обнищания рабочего класса при капитализме. Тенденцию концентрации зарождающегося капитала он объявляет общим законом развития капитализма.
Располагая сегодняшним опытом, мы должны осторожнее подходить к анализу долгосрочных закономерностей и взаимосвязей социально-экономического развития. Историческая практика показала, насколько динамичен и нестационарен современный экономический рост, как опасно прогнозировать грядущие экономические и политические события и процессы в странах-лидерах. Не случайно даже в самых интересных работах, посвященных долгосрочным тенденциям социально-экономического развития, последние разделы, содержащие анализ настоящего и прогнозы на будущее, выглядят слабее других, менее убедительно[138]. Лишь историческая дистанция позволяет адекватно оценивать происходящее сегодня.
Вопреки представлениям К. Маркса и его последователей на одном и том же уровне развития производительных сил исторически долгое время могут сосуществовать радикально отличающиеся друг от друга системы экономических и социальных институтов. Однако в странах с разными институциональными и культурными традициями на близких уровнях развития наблюдаются схожие структурные перемены, встают одни и те же проблемы. Поэтому на вопрос, который сформулирован в конце первой главы, можно ответить так: опыт XX в. не дает оснований отказываться от апробированного метода анализа долгосрочных проблем. Те, кто исследовал и анализировал их в начале XX в., считали его естественным и добротным. Учтем их мнение. Изучая отечественные реалии, не станем отмахиваться от опыта стран – лидеров современного экономического роста, проблем, которые возникали в процессе их развития.
Глава 3 Общее и особенное в современном экономическом росте
В истории цивилизации, как и в человеческой жизни, детство имеет решающее значение. Оно во многом, если не во всем, предопределяет будущее.
Ж. Ле Гофф[139]До войны были коллективистские мечты. После нее – коллективистские проекты, которые превратились в коллективистские кошмары.
Ф. Хайек[140]В просто устроенном мире К. Маркса экономическое развитие выглядит линейным процессом: менее развитые страны следуют по пути, пройденному странами более развитыми. Как отмечалось выше, К. Маркс и Ф. Энгельс никогда не понимали это буквально. Многие места в их работах демонстрируют, что они допускали те или иные отклонения в национальных траекториях развития. Но речь могла идти о деталях, пусть даже и существенных. В исторической реальности социально-экономическая трансформация стран, включившихся в процесс современного экономического роста, оказалась нелинейной и многомерной[141]. Есть много параметров, которые влияли и будут влиять на траектории национального развития. Для ясности картины выделим четыре важнейшие оси координат, определяющие экономическую динамику.
1. Историческое время. На каком этапе развития находится мировая экономика в тот момент, когда страна вступает в процесс современного экономического роста?
2. Доминирующая идеология. Как она влияет на государственную политику и национальные стратегии развития?
3. Отставание от лидеров. Насколько велика дистанция, отделяющая рассматриваемую страну от самых развитых стран?
4. Влияние традиций. Как социально-культурные и институциональные установления, унаследованные со времени аграрных цивилизаций, воздействуют на траектории развития в индустриальную и постиндустриальную эпохи?
Воспользуемся данными научной литературы о средних по странам мира параметрах[142], которые показывают связь между уровнем экономического развития и основными характеристиками общества – хозяйственными, социальными, демографическими, политическими, – и проанализируем, как отклоняются национальные траектории развития от среднемировых по каждой из четырех важнейших осей координат.
§ 1. Историческое время
Вступая в эпоху радикальных перемен, связанных с современным экономическим ростом, страны-лидеры трансформируют собственную социально-экономическую структуру и в то же время диктуют условия развития остальному миру. Их возрастающая экономическая, финансовая и военная мощь заставляет отставшие государства либо отказаться от национальной независимости, став колониями или полуколониями, либо вырабатывать стратегии, необходимые для запуска современного экономического роста.
На разных этапах своего развития страны – лидеры современного экономического роста сталкиваются с вызовами меняющегося мира. Это вынуждает их трансформировать важные параметры своих социально-экономических систем. Такие изменения в свою очередь накладываются на динамично трансформирующуюся картину устройства мировой экономики, товарных и финансовых рынков, задают условия, к которым вынуждены приспосабливаться страны догоняющего развития. Даже в близких по размеру душевого ВВП странах интеграция в мировой рынок, таможенная защита отечественной промышленности, условия функционирования рынка капитала, допустим, в 1900, 1950 и 2000 годах, принципиально различны.
В развитии мировой экономики при современном экономическом росте можно выделить три больших периода.
Первый охватывает время с начала 1820‑х годов до 1914 года. В течение полувека, до 1870‑х годов, рост мирового производства концентрируется в основном в Западной Европе и странах, основанных европейскими колонистами. Затем процесс ускоряется, в него вовлекаются неевропейские страны, в первую очередь Япония. Мировая торговля растет высокими темпами, заметно опережая рост экономики. Формируется интегрированный рынок капитала, основанный на золотовалютном стандарте с доминирующей ролью фунта стерлингов как мировой валюты. Возникает открытый рынок рабочей силы, растут масштабы международной миграции.
Ведущие мировые державы прямо ограничивают права зависимых и полузависимых стран на проведение собственной таможенной политики, стремятся захватить их рынки. На начальной фазе индустриализации все активно применяли тарифную защиту своей промышленности. Германия, Италия, Япония, Россия прибегали к стратегии импортозамещающей индустриализации. Это порождало настоящую тарифную борьбу: принятие Германией в 1879 году протекционистского тарифа[143] вызвало немедленный ответ со стороны Франции в 1881–1892 годах. Россия и США в это время тоже придерживались протекционистской политики. Во второй половине XIX в. импортные тарифы США достигают 40–45 %[144].
Независимые страны активно используют протекционистские меры, чтобы защитить формирующиеся отрасли промышленности от конкуренции со стороны товаров, производимых в странах-лидерах, в первую очередь в Англии. Последняя в свою очередь навязала свободу торговли Индии и другим колониям, а также многим странам, формально не входившим в Британскую империю, – Китаю, Персии, Таиланду, Турции. По соглашениям, которые американцы вынудили подписать Японию, ее импортные тарифы не могли превышать 5 %. В таких условиях способность государства проводить независимую тарифную политику, поддерживать новые отрасли экономики становилась предпосылкой сохранения национального суверенитета. Напротив, утрата суверенитета означала принудительное открытие внутреннего рынка для конкуренции товаров, производимых в странах-лидерах.
То, в какой степени создание колониальных империй, дорогу к которым проложило военное и финансовое превосходство уходящей вперед Западной Европы над другими регионами мира, сказалось на экономическом и социальном развитии стран, ставших колониями и полуколониями, утративших суверенитет, – предмет длительной дискуссии, в которой субъективизм неизбежен. Те, кто отстаивает благотворное влияние колониального наследия, обычно упоминают созданную инфраструктуру, повышение уровня образования, подготовленные кадры, оставленные в наследство законодательство и демократические институты. Те, кто говорит о его негативном влиянии, обращают внимание на длинную историю дискриминации по национальному признаку, разрушение основ промышленности под влиянием конкуренции товаров, произведенных в метрополии, невозможность проводить самостоятельную внешнеторговую и промышленную политику, финансовые выплаты в пользу метрополии (табл. 3.1)[145].
Таблица 3.1. Некоторые показатели, характеризующие экономические отношения Великобритании и Индии в колониальный период (1868–1930 годы)
Источник: Maddison A. The World Economy: A Millennial Perspective. P.: OECD, 2001. С. 87.
Даже если признать некоторое смягчение колониального режима на протяжении XX в., трудно отрицать то, что мир XVIII–XIX вв. отнюдь не был проникнут духом сострадания к слабым, а жил по принципу “горе побежденным”. История правления англичан в Индии с характерными для нее запретами для тех, у кого индийское происхождение, работать на государственной службе, высокими пошлинами на импорт индийского текстиля в Англию при снятии всех ограничений на ввоз английского текстиля в Индию, с насильственным внедрением собственных институтов, с превращением наследственных сборщиков налогов (заминдаров) в собственников земли – все это свидетельство того, что утрата национальной независимости была серьезной угрозой.
Для времени, когда наращивающий экономическую, финансовую и военную мощь Запад со всей очевидностью уходил вперед, создавая угрозу для своих ближних и дальних соседей, когда страх перед ним подталкивал к самым своеобразным с точки зрения исторического опыта импровизациям, позволяющим избежать той же трансформации, которую пережила и переживает Западная Европа, характерны слова известного и влиятельного российского философа К. Леонтьева: “Всегдашняя опасность для России – на Западе; не естественно ли ей искать и готовить себе союзников на Востоке?
Если этим союзником захочет быть и мусульманство, тем лучше… Если племена и государства Востока имеют смысл и залоги жизни самобытной, за которую они каждый в свое время проливали столько своей крови, то Восток встанет весь заодно, встанет весь оплотом против безбожия, анархии и всеобщего огрубения”[146].
В. Ленин был прав, когда говорил о неравномерности развития как об одном из источников кризисов современного ему капитализма. Неспособность ключевых участников мирового политического процесса в конце XIX – начале XX в. адаптироваться к реальности подъема экономической и военной мощи Германии, Японии и США была одной из важнейших причин мировых катаклизмов 1914–1945 годов.
Проявляются два фактора, которые подтачивают основы стабильности мирового порядка. Один из них – снижение доли Англии, страны-лидера, финансового центра мировой экономики, в мировом ВВП международных финансах, падение ее военной мощи по отношению к конкурентам. К концу XIX в. развитие других крупных держав, в первую очередь Германии и США, вступивших на путь современного экономического роста позже Великобритании, делает неизбежным переустройство англоцентричной цивилизации. Несиловых механизмов для этого не находится. Это подталкивает мир к двум глобальным войнам[147].
Второй фактор – назревающий кризис золотовалютного стандарта. Эта система, укоренившаяся в Англии с конца XVII в., позволяла поддерживать долгосрочную стабильность фунта стерлингов. Его золотое обеспечение, которое отменяли лишь во время крупных войн, а затем восстанавливали при сохранении довоенного паритета к золоту, позволило Англии играть роль мирового финансового гегемона, задавало международные стандарты ответственной денежной политики. Стабильность английской валюты стала важнейшей предпосылкой развития финансового рынка и самого современного экономического роста. Золотовалютный стандарт был образцом для подражания в денежной политике других государств. В конце XIX в. две крупные страны догоняющего развития – США и Россия – одна за другой проводят денежные реформы, направленные на введение золотовалютного стандарта. Привлекательность этой системы в том, что уровень номинированных в золоте цен “привязан” к мировым запасам драгоценного металла, которые стабильны и существенно изменяются лишь из-за открытия новых крупных золотых месторождений, что случается нечасто. Она делает денежную политику независимой от правительств, склонных под давлением финансовых проблем идти на злоупотребления и махинации, создавать избыточную ликвидность, подрывать стабильность национальной валюты. Эти преимущества золотовалютного стандарта особенно важны для первого периода современного экономического роста, когда мировое производство развивается еще относительно низкими темпами при стабильности мировых запасов золота.
На ранних стадиях современного экономического роста возникает объективная проблема: добыча золота может не обеспечить увеличение его мировых запасов до размеров, соответствующих росту мирового ВВП, а дефицит золота способен спровоцировать общее падение цен – явление для рыночной экономики потенциально опасное. Однако при гибко изменяющейся в сторону понижения номинальной заработной плате дефляция не страшна. В конце 70‑х годов XIX в. введение золотого стандарта в США прошло на фоне снижения цен и не вызвало серьезного роста безработицы[148].
В дальнейшем в странах – лидерах современного экономического роста в условиях роста влияния профсоюзов, введения всеобщего избирательного права ситуация в сфере трудовых отношений меняется: на снижение спроса и цен работодатели отвечают не сокращением номинальной заработной платы, а снижением уровня занятости[149]. Это увеличивает потенциальные издержки дефляции. При высоких темпах глобального развития и невозможности точно прогнозировать предложение монетарного золота привязка основных мировых валют к золотому запасу порождает постоянную угрозу дефляционного кризиса.
Второй период развития мировой экономики в условиях современного экономического роста приходится на 1914–1950 годы. Это время глубокого кризиса: две мировые войны, экономические потрясения конца 20‑х – начала 30‑х годов, спровоцированные многими факторами, в числе которых и кризис золотовалютного стандарта. Снижаются темпы роста мировой торговли и ее доли в ВВП, растет протекционизм, широкое распространение получают запретительные тарифы. Все это прокладывает дорогу торговым войнам, конкурентной девальвации национальных валют, приводит к свертыванию мирового рынка капитала, широкому распространению ограничений на валютные операции.
Движение в сторону протекционизма не было универсальной чертой этого периода. П. Байрох обращает внимание на попытки вернуться к более либеральному торговому режиму в 1927–1928 годах. Но после введения США в июне 1930 года протекционистского тарифа уровень таможенных пошлин в мире достигает беспрецедентной высоты. К концу 1931 года 25 ведущих участников международной торговли в ответ повышают свои пошлины на американскую продукцию[150]. Пошлины на продукцию обрабатывающей промышленности составляют в среднем 45–50 % и превышают предшествующий пик 1891–1894 годов на 5–10 %. За 3 года (1929–1932) объем мировой торговли сократился номинально на 70 %, в реальном выражении – на 25 %[151].
Поворот к протекционизму, ограничению торговли, закрытию рынков капитала, обусловленный экономическими проблемами стран-лидеров, меняет условия развития для стран догоняющей индустриализации. Те из них, которые в предшествующий период ориентировались на интеграцию в мировой рынок и имели высокую долю внешней торговли в ВВП, оказываются в наиболее сложном положении. Когда страны-лидеры играют по протекционистским правилам, развитие на основе политики свободной торговли оказывается малопродуктивным. Успех приносят другие стратегии – ориентация на автаркию, закрытие рынка, государственное регулирование экономики. При том что сталинская индустриализация сопровождалась масштабным экспортом зерна и импортом машин и оборудования, в целом она основывалась на политике автаркии[152]. Для правительств многих развивающихся стран на долгие десятилетия она стала образцом для подражания.
С конца 40‑х – начала 50‑х годов глобальная экономика вступает в следующую фазу развития. Завершение Второй мировой войны дало возможность Западной Европе и Японии использовать накопленный в США технологический потенциал. В современный экономический рост включаются многие развивающиеся страны, на долю которых приходится до 2/3 населения и 3/4 ВВП “третьего мира”. Это в первую очередь Китай и затем Индия. Среднегодовые темпы роста душевого ВВП развивающихся стран повышаются с 0,4–0,6 % в 1900–1938 годах до 2,6–2,8 % в 1950–2001 годах. Теперь их темпы вдвое выше, чем те, которые демонстрировали в XIX в. страны-лидеры[153].
В течение 23 лет (1950–1973) мировая экономика демонстрирует аномально высокие среднегодовые темпы роста ВВП: 4,91 против 1,85 % в 1913–1950 годах (рост душевого ВВП составил соответственно 2,93 и 0,91 %). Международная финансовая система перестраивается на базе бреттон-вудских институтов.
Страны-лидеры извлекли уроки из предшествующего периода кризисного развития. В рамках Генерального соглашения о тарифах и торговле они предпринимают согласованные усилия по снижению уровня тарифной защиты, либерализации мирового рынка, отказываются от прежней политики, направленной на жесткое ограничение тарифного суверенитета менее развитых стран, они признали свою ответственность за либерализацию мировой торговли и предоставили развивающимся странам широкие права на таможенную защиту. Средний таможенный тариф в странах ОЭСР снижается с почти 11 % в 1950 году до 6 % в конце XX в. Еще более разительными оказываются эти “перепады” по отдельным странам – членам ОЭСР (табл. 3.2).
Таблица 3.2. Отношение таможенных сборов к объему импорта (2002 год – средний таможенный тариф) в странах ОЭСР, %
Источник: 1 Расчеты ИЭПП на основе данных из: Mitchell B. R. International Historical Statistics 1750–1993, Macmillan Reference LTD, 1998 (как отношение таможенных сборов к импорту).
2 Расчеты ИЭПП на основе данных из United Nations Common Database, UN (как отношение собранных импортных пошлин к импорту).
3 Средний таможенный тариф в странах ОЭСР, проценты. Данные World Trade Organization, Annual Report by the Director-General, 15 November 2002 ().
Таблица 3.3. Среднегодовые темпы роста мировой торговли по периодам, %
Источник: Maddison A. The World Economy: A Millennial Perspective. P.: OECD, 2001. P. 265, 362 (за период с 1870 по 1998 год); World Development Indicators 2003. World Bank.
Таблица 3.4. Средняя доля экспорта в ВВП для стран ОЭСР в 1961–2000 годах, %
Источник: Расчеты ИЭПП на основе данных World Development Indicators 2003. World Bank.
Ограничения валютных операций, которые были введены на предшествующем этапе, отменяются. Восстанавливается конвертируемость валют стран – лидеров экономического роста сначала по текущим, а затем и по капитальным операциям.
Для новой волны глобализации характерны существенно более низкие торговые барьеры, чем существовавшие до начала Первой мировой войны. Однако ограничение миграционных потоков становится жестче, а доля экспорта капитала в ВВП уменьшается[154]. Еще одно отличие глобального мира конца XX в. от предыдущего периода современного экономического роста: мировая денежная система уходит от золотовалютного стандарта. Последние связи обрываются в 1971 году, когда США отказались обменять на золото американские доллары, предоставленные им иностранными центральными банками. Теперь большая часть денежных расчетов базируется на бумажных валютах с плавающим курсом[155].
Перемены в глобальной экономике радикально трансформируют условия, в которых странам догоняющего развития приходится вырабатывать национальные стратегии роста. В середине XX в. еще сильно влияние прежних тенденций в мировом развитии: протекционизма, свертывания мировой торговли. Поэтому столь популярна концепция импортозамещающей индустриализации, ориентированной на тарифную защиту промышленности, закрытие внутреннего рынка, государственный активизм. И только постепенно становится ясно, что ситуация в мире изменилась. Все более отчетливо проявляется, становится устойчивой тенденция к экспансии мировой торговли, открытию рынков, в том числе рынков стран-лидеров. Это предоставляло догоняющим странам возможность избрать новую стратегию, ориентированную на увеличение экспорта, интеграцию в мировую экономику. Что же касается старой – импортозамещающей – индустриализации, то она оказывается прямым путем к хроническим кризисам и нестабильности, особенно когда национальная элита не способна вовремя сменить курс экономической политики[156].
Страны-лидеры задают следующим в их фарватере государствам не только глобальные условия торговой и финансовой организации мира, но и идеологические ориентиры, используемые при выработке и проведении социально-экономической политики, формы государственных институтов. Как справедливо отмечал Дж. Кейнс, “идеи экономистов и политических философов, и когда они правильны, и когда они неправильны, оказывают большее влияние на мир, чем это обычно понимают. Мало что в такой степени управляет миром”[157].
§ 2. Доминирующая идеология
Хотя после краха Римской империи Западная Европа не стала единым государством, многие аспекты культуры, обмен идеями, институциональные инновации – все это сближало западноевропейские народы, стимулировало интеграционные процессы[158]. Предпосылки к началу современного экономического роста в Европе только формировались, а новая идеология, порожденная начавшейся социально-экономической и политической трансформацией, уже влияла на умы элиты, на развитие судьбоносных для европейских государств событий.
Формирование в Западной Европе установок на превосходство абсолютной монархии как формы политического устройства, которые отражали историческую реальность – укрепление государства и деградацию феодальной системы, оказало серьезное влияние на развитие России[159]. Характерная для Европы XV–XVII вв. тенденция к концентрации власти в руках королевских династий имела четко очерченную идеологическую основу: священное, Богом данное королю право управлять подданными, абсолютная власть монарха – неотъемлемый элемент нормально организованного государства. В Англии эта тенденция сталкивается с противоположной, вырастающей из специфики английского развития, – ростом влияния и расширением прерогатив парламента[160].
С началом современного экономического роста, подъема европейской экономики, глобализации мирового исторического процесса усиливается влияние доминирующих идеологических установок на государственную политику и национальные стратегии развития. Отчетливо выделяются три периода, во время которых господствовали принципиально разные идеологии. Первый начинается после Английской революции XVII в. Конституционная монархия, парламент, подотчетное ему правительство, гарантии прав собственности и личности, развитие рынков, технологические новации, английская система сельского хозяйства – все это вызывает восхищение у современников, стремление повторить в странах континентальной Европы опыт островного государства. Известно влияние британских идей на формирование взглядов Вольтера, французских просветителей XVIII в.[161]. В работах Д. Юма и А. Смита либеральная картина мира приобретает стройность и завершенность[162]. Теперь ясно, что необходимо сделать, чтобы добиться благосостояния нации: нужны мир, разумные законы, необременительные налоги, гарантированная от конфискаций собственность, устранение барьеров на пути свободной торговли[163]. При частных различиях эта либеральная картина доминирует в сознании европейской элиты, ориентированной на модернизацию экономики своих стран, вплоть до середины XIX в.[164]. Она же оказывает серьезное влияние на формирующуюся систему институтов, стратегию политического развития в США на рубеже XVIII и XIX вв. Влияние идеологической волны, связанной с подъемом Англии и либеральными идеями в Европе, видно на примере экономической политики Екатерины II, пытавшейся проводить в жизнь систему свободной конкуренции и ликвидировать частные монополии[165]. Волна либеральной идеологии охватывает мир. С середины XIX в. ситуация меняется. На ранних этапах современный экономический рост и индустриализация вызвали социальную дезорганизацию, обнажили вопиющую бедность в городах, особенно заметную на фоне растущего производства. Появились неслыханные прежде бедствия: экономические кризисы и массовая безработица. Либеральная парадигма не позволяла ответить на вопрос, как решать эти проблемы. Политэкономы вели ожесточенный спор с лидерами рабочего движения, требовавшими принять трудовое законодательство, и настаивали на том, что этот путь бесплоден и вреден для самих рабочих[166].
В процесс современного экономического роста вступают новые страны. По уровню развития они далеки от Англии – доминирующей промышленной державы мира. У них другие традиции. Свобода торговли для Англии выгодна, это бесспорно. Но для национальных элит отнюдь не очевидно, что страны догоняющего развития также нуждаются в свободной торговле[167].
Уже на ранних этапах развития капитализма стремление сгладить социальные противоречия стимулирует создание систем социальной защиты. Это происходит в первую очередь в Германии. Вопреки предсказаниям политэкономов трудовое законодательство и защита интересов рабочих приводят не к кризису, а к ускоренному экономическому росту. Это подрывает доверие элит к либеральной парадигме, способствует формированию новой идеологической волны, в основе которой лежит представление о необходимости активного участия государства в социально-экономическом развитии, его способности решать порожденные индустриализацией проблемы общества и экономики. Носители новой идеологии неоднородны по составу, среди них политики, экономисты и философы самых разных, порой полярно различающихся взглядов – от К. Маркса до О. Бисмарка[168]. Но их объединяет недоверие к рыночным институтам, убежденность в том, что вмешательство государства полезно и даже необходимо для экономики и жизни общества[169]. К началу революции 1917 года в России влияние этой большой идеологической волны сильно[170].
В России тех дней представление о том, что все общественные и экономические проблемы страны можно решить, лишь усилив вмешательство государства в экономику, в регулирование и распределение, было всеобщим; его разделяли практически все политические силы[171].
Великие революции имеют немало сходных черт и механизмов развития[172]. Однако есть и кардинальные отличия. Реакция политических элит, их ответ на революционные вызовы во многом определяются той идеологической волной, которая господствует в мире в период той или иной революции. Во времена Великой французской революции доминировала либеральная волна, в 1917–1922 годах, когда в России после революционных событий шла Гражданская война, – волна дирижистская[173].
Идеологическая волна, поднявшаяся на этапе индустриализации, связавшая нарастание социальных проблем с капитализмом и индустриализацией, предлагающая в качестве панацеи расширение функций государства в экономике вплоть до полной ликвидации рыночных механизмов, оказала непосредственное влияние на формирование политического и экономического режима в России и Китае после двух крупнейших революций XX в. Опыт Великой депрессии и советской индустриализации серьезно повлиял на формирование экономической политики многих стран догоняющего развития в послевоенный период[174].
Не остались в стороне и страны-лидеры. В Великобритании в 1945 году пришло к власти правительство лейбористов с развернутой программой национализации и завоевания государством командных высот в экономике[175]. В конце 1940‑х годов правоцентристы ФРГ – христианские демократы – принимают программу, где декларируется, что капиталистическая система не соответствует национальным и социальным интересам немцев, поскольку не дает возможности взять под контроль командные высоты в экономике и ввести централизованное планирование[176].
С конца 70‑х – начала 80‑х годов XX в. ситуация еще раз меняется. Страны – лидеры экономического роста вступили в постиндустриальную стадию развития. Стало очевидным, что в условиях высокоразвитого постиндустриального общества есть предел перераспределению средств с помощью налогов и бюджетов. Финансовые проблемы лидеров обостряются, повышаются темпы инфляции. Негативное влияние избыточного государственного регулирования на экономическое развитие выходит на поверхность. В социалистических странах темпы роста экономики падают, социалистическая система перестает быть образцом для подражания. В условиях постиндустриального мира и глобальной экономики тезис о позитивном влиянии государственной промышленной политики и тарифной защиты внутреннего рынка на ускорение экономического роста становится все более спорным. Поднимается новая большая идеологическая волна: очередной поворот к либерализму, к ограничению роли государства в экономике, к развитию рыночных механизмов и свободе торговли. И то обстоятельство, что крах социализма в СССР и новая революция в России начала 90‑х годов XX в. пришлись на время подъема этой волны, серьезно повлияло на формирование новой мировой идеологии.
Догоняющим странам приходится прокладывать траектории своего развития не в вакууме, а в условиях динамично меняющегося мира[177], правила игры в котором и влияющие на эти правила доминирующие идейные установки формируют не они, а лидеры. Для стран с близким уровнем развития, со схожими структурными характеристиками экономики и общества оптимальные решения в области денежной, торговой и промышленной политики не остаются заданными, они в значительной степени зависят от происходящего в мире.
Третье тысячелетие мир встретил в условиях глобальной экономики, свободной торговли и господства неолиберальной идеологии. Сказать, насколько продолжительным будет этот этап в мировом развитии, невозможно. Опыт показал рискованность прогнозов, основанных на экстраполяции доминирующих тенденций в странах-лидерах. Но и сегодня, и в обозримом будущем, по крайней мере до тех пор, пока вектор развития событий в мире значительно не изменится, это остается той точкой отсчета, которую нельзя игнорировать, обсуждая стратегические проблемы стран догоняющего развития, в том числе России.
§ 3. Отставание от лидеров
Вступающих в современный экономический рост отделяет от его лидеров неодинаковая дистанция. Государства континентальной Западной Европы в XIX в., как правило, отставали от Англии всего на 1 поколение, страны Южной и Восточной Европы – на 2–3. А Китаю потребовалось почти полтора века, чтобы только сформировать предпосылки для начала современного экономического роста[178].
Временной лаг между началом современного экономического роста в Англии и стартом этого процесса в странах, которые ныне относятся к самым развитым и входят в ОЭСР, составлял 1–3 поколения. Теоретически все они имели равные возможности, чтобы воспользоваться благами науки для развития новых технологий. На самом деле первыми за лидером устремились те, у кого сформированные на стадии аграрного развития институты были наиболее гибкими, позволяли адаптироваться к специфическим требованиям динамичного развития, связанным с ним структурным переменам. У стран, вступивших в гонку позднее, отстававших в развитии от лидеров на 2–3 поколения, возникали серьезные проблемы, но были и преимущества: элиты этих стран знали, как трансформировались социально-экономические структуры у тех, кто шел впереди, могли предвидеть предстоящие трудности.
Вопрос о наличии или об отсутствии тенденции к конвергенции уровней экономического развития – одна из наиболее дискуссионных проблем в теории современного экономического роста. Со времени публикации классической работы Р. Солоу[179] представление о том, что менее развитые страны, имеющие возможность опереться на технологии, созданные в странах-лидерах, должны расти темпами более высокими, чем лидеры, получило широкое распространение. Однако реальности второй половины XX в., растущий разрыв между уровнями душевого ВВП наиболее развитых и наименее развитых стран заставили усомниться в универсальности этой тенденции (табл. 3.5). После продолжительной дискуссии[180] постепенно сформировалось мнение, что при наличии тенденции к конвергенции уровня развития стран, успешно адаптировавшихся к условиям современного экономического роста (“Клуб конвергенции”), дистанция стран-лидеров по отношению к странам, не сумевшим адаптироваться к изменившимся условиям развития в XIX–XX вв., увеличилась[181].
Таблица 3.5. Соотношение душевых ВВП наименее и наиболее развитых стран, %
Источник: Maddison A. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OECD, 1995. P. 202–206.
М. Абрамович обращает внимание на то, что в 1870–1979 годах при сближении показателей уровня производительности труда в странах – лидерах современного экономического роста медиана их дистанции по отношению к США практически не изменилась[182] (табл. 3.6).
Один из ранних примеров конвергенции, сближения показателей уровня развития стран, вступивших в процесс современного экономического роста позже лидеров с параметрами, характерными для наиболее развитых стран, – Скандинавия. Скандинавские страны начинают современный экономический рост, индустриализацию лишь с середины XIX в., на поколение позже, чем наиболее динамичные страны континентальной Европы. В 1870 году душевой ВВП Швеции составлял 52 % душевого ВВП Англии, 60 % душевого ВВП Голландии, 62 % душевого ВВП Бельгии. К 1910 году эта дистанция сокращается: соответствующее соотношение составляет 63; 81 и 75 %.
Таблица 3.6. Сравнительные уровни производительности труда в развитых странах в 1870–1979 годах (ВВП на человеко-час США = 100)[183]
Источник: Abramovitz M. Thinking about Growth, and other Essays on Economic Growth and Welfare. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P. 226.
Причины успешного развития Скандинавских стран, позволившие им сократить, а потом и преодолеть дистанцию, отделяющую их от лидеров современного экономического роста, – предмет оживленной дискуссии. Одно из объяснений – высокий по европейским стандартам середины XIX в. уровень распространения образования в Скандинавских странах[184]. К 1850 году Швеция была наиболее грамотной страной Европы. К концу XIX в. распространение начального образования в Швеции значительно опережает показатели, характерные для большинства стран Западной Европы. Авторы более поздних исследований, признавая роль образовательного потенциала Скандинавских стран, позволившего им активно использовать технологии, созданные в странах – лидерах современного экономического роста, обращают вместе с тем внимание на открытость их экономик, последовательную линию на интеграцию в мировой рынок[185]. В условиях первого периода глобализации такая экономическая политика была эффективным способом ускорения развития.
Еще один пример успешной стратегии догоняющего развития, позволяющей сократить, а затем ликвидировать разрыв в уровнях душевого ВВП, – опыт Японии во второй половине XIX–XX в. Этому способствовала долгосрочная традиция ориентации на институты более развитых стран, характерная для этой страны. В V–VI вв. н. э. дистанция между Японией и Китаем по уровню развития была велика. Японская элита осознавала себя элитой варварской страны, призванной овладеть опытом более развитого и цивилизованного общества. С этого времени заимствование институциональных структур – органическая часть японской традиции[186]. Именно этот факт облегчил Японии использование той же стратегии, но уже с ориентацией не на Китай, а на страны западной цивилизации со второй половины XIX в.[187]. Японские власти сумели осознать, что экономический подъем Запада связан не только с современной техникой, он основывается на принятии свободного рынка, частного права. Когда эти установления удалось включить в систему национальных институтов, Япония продемонстрировала один из самых успешных примеров экономического роста на рубеже XIX и XX вв., к концу 60‑х годов XX в. по уровню душевого ВВП вплотную приблизилась к странам-лидерам[188]. В свою очередь формирование экономической политики стран Юго-Восточной Азии во второй половине XX в. находилось под очевидным влиянием опыта успешного развития Японии и опиралось на заимствование японских установлений[189].
Запоздавшие с индустриализацией страны вынуждены были для преодоления своей отсталости мобилизовывать на финансирование индустриализации более значительную часть валового национального продукта, чем страны-лидеры. В период промышленного рывка Великобритания инвестировала в производство 6–7 % ВВП, Франция – 10–11, Германия – 10,5–11,5, Италия – 11,5–12,5, Япония – 13,5–14,5, а США – 15–16 %[190].
А. Гершенкрон был одним из первых исследователей, выявивших связь различия национальных путей индустриализации с уровнем относительной экономической отсталости. На базе обширного экономико-исторического материала он показал, что тезис о более развитой стране, демонстрирующей менее развитой картину ее собственного будущего, далек от реальности[191], подметил связь между отставанием от лидеров и уровнем государственного участия в экономическом развитии. Чем дистанция длиннее, тем, как правило, более активную роль играло государство, обеспечивая в своей стране условия для начала современного экономического роста[192]. (Об этом см. ниже, в гл. 11.) С увеличением дистанции, отделяющей от лидеров, расширяются возможности технологических заимствований, которые поощряет и организует государство. Развитие событий во второй половине XX в. показало, что эта зависимость не универсальна, однако в целом она сохраняется[193]. Страны, вступившие в процесс современного экономического роста в XX в., как правило, демонстрируют более высокие показатели государственной нагрузки на экономику, чем страны-пионеры на тех же уровнях развития (табл. 3.7–3.9). Современный экономический рост, радикальное расширение экономических возможностей в странах, которые им охвачены, трудности запуска его механизмов в тех государствах, где институциональных предпосылок для него не существует, – все это неизбежно ведет к расширению пропасти между самыми развитыми и неразвитыми странами мира. Если в 1800–1820 годах лидеры экономического и технологического развития по уровню душевого ВВП опережали отстающих примерно в 2–3 раза, то к концу XX в. разрыв уже составляет десятки раз. Отсюда и большие возможности заимствовать опыт в овладении технологическим заделом, который создали лидеры.
Таблица 3.7. Доля государственных расходов в ВВП при сопоставимых уровнях развития в Великобритании, Японии и Турции
Источник: Maddison A. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OEСD, 1995; Данные, предоставленные ОЭСР.
Таблица 3.8. Доля государственных расходов в ВВП в Германии, Франции, Индии и Южной Корее на сходных уровнях экономического развития
Источник: Maddison A. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OECD, 1995; Tanzi V., Schiknecht L. Public Spending in the 20th Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2000 (Франция, Германия); International Financial Statistics 2004 (IMF), Economic Concept View: Government Finance, National Accounts (для остальных государств).
Таблица 3.9. Доля государственных расходов в ВВП в Германии, Франции и Бразилии на сопоставимых уровнях экономического развития
Источник: Maddison A. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OECD, 1995; International Financial Statistics 2004 (IMF), Economic Concept View: Government Finance, National Accounts.
Разрыв в уровне развития создает политическое давление на правительства развивающихся стран, побуждает их ускорить трансформацию. В результате темпы экономического роста, наращивания экспорта, перемены в структуре производства и потребления у стран, которые вступили в современный экономический рост только в XX в., выше мировых показателей, характерных для XIX в.[194]. Да и сами задаваемые лидерами производственные возможности возрастали в позапрошлом столетии значительно медленнее, чем в прошлом. Производительность труда в Англии в 1820–1890 годах растет почти вдвое медленнее, чем в США на протяжении последующего столетия американского лидерства в мире[195]. В странах, начавших современный экономический рост в XIX в., обычно его темпы составляли примерно 2 % в год; в тех же, кто оказался в этом процессе после Второй мировой войны, – 3–4 %, а иногда и выше – до 5–10 % в год[196].
В подавляющем большинстве новые технологии рождаются в странах – лидерах экономического роста, где сконцентрирована основная часть мирового научно-технического потенциала. И это создает проблемы для стран догоняющего развития. Современные технологии ориентированы на характерные для передовых государств условия, в том числе на высокую стоимость рабочей силы. Структура производственных расходов, в которых преобладают издержки на новое, дорогое оборудование, а не трудовые затраты, отнюдь не всегда оптимальна для менее развитых стран, где труд еще дешев[197].
Помимо возможности заимствовать у лидеров технологические инновации для догоняющего развития важен еще один фактор. Когда пионеры современного экономического роста проходили этапы социально-экономического развития, на которых страны, следовавшие за ними, оказались в XX в., не было представления о таких социальных институтах, как государственное пенсионное обеспечение, бесплатные образование и здравоохранение, пособия по безработице. Они формировались в ходе индустриализации, по мере осознания их роли в социальной организации и развитии индустриального общества, появления возможности обеспечить их финансовыми ресурсами. В странах догоняющего развития, которые ориентируются на стандарты лидеров, представления о необходимости и естественности подобных институтов возникают на более низких уровнях развития[198]. Это порождает риск перегрузки экономики налогами, что, в свою очередь, ставит преграды на пути устойчивого экономического роста, провоцирует финансовые кризисы и рост внешнего долга[199].
Созданные для обеспечения догоняющего развития национальные институты инерционны. В изменившихся условиях они могут препятствовать адаптации к следующему этапу экономического развития страны, решению проблем, характерных для постиндустриальной стадии[200].
Сочетание возможности технологических заимствований, разрыва между используемыми в национальной экономике технологиями и накопленным в мире объемом технологических знаний с опасностью институциональных ловушек, когда эффективные для запуска современного экономического роста решения оказываются непригодными на его последующих стадиях и при этом их трудно демонтировать, приводит к масштабным колебаниям долгосрочных темпов национального экономического развития[201]. Еще один фактор, который характеризует отставание от лидеров и во многом формирует своеобразные траектории развития, присущие догоняющим странам, – характеристики демографического перехода (см. ниже, гл. 10). У лидеров процесса модернизации демографические показатели изменялись медленно. Существенный рост продолжительности жизни, ощутимое снижение смертности в странах догоняющего развития – все это занимало десятилетия. Новые меры и противоинфекционные средства распространялись в мире быстрее, чем формировались новые социальные структуры и чем осваивались новейшие производственные технологии. Важнейшие демографические процессы – повышение продолжительности жизни и снижение смертности – также шли неизмеримо быстрее, чем в странах-лидерах, а выход на сходные показатели продолжительности жизни происходит при более низких показателях экономического развития (табл. 3.10)[202].
Однако, даже почти сравнявшись с лидерами по уровню продолжительности жизни и смертности, догоняющие страны по-прежнему уступают им в развитии социальных и общественных институтов, по всем показателям, которые характеризуют современное общество. Как и прежде, большая часть их населения живет в деревне и работает в сельском хозяйстве, уровень образования, особенно женщин, низкий. В странах догоняющего развития длительное время сохраняются крайне высокие темпы роста населения. В результате в XX в. доля этих стран в мировом населении существенно увеличивается. Такая траектория демографического перехода создает дополнительные препятствия на пути экономического роста[203].
Таблица 3.10. Средняя продолжительность предстоящей жизни при рождении в США, Великобритании, Франции, Германии, Китае, Бразилии, Мексике, Турции на сходных уровнях экономического развития
Источник: Maddison A. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OECD, 1995.
§ 4. Влияние традиций
Многие фундаментальные черты аграрного общества присущи разным цивилизациям. Как бы ни отличались национальные культуры, но структура занятости, расселения, демографическое поведение, уровень жизни большинства населения – все эти показатели сходны и в Средиземноморье времен Римской империи, и в Китае времен династии Мин[204], и в Индии накануне британского завоевания. Но институты аграрных обществ, определяющие их организацию, семейное поведение, устройство власти, во многом специфичны[205].
Важнейший фактор цивилизационной идентичности, влияния институтов традиционного общества на траекторию национального развития – религиозные традиции. С началом современного экономического роста, урбанизацией, широким распространением образования, как правило, связано снижение распространенности религиозных чувств в обществе[206]. Но этот процесс не носит линейного характера. Его ход зависит от специфики цивилизационных и национальных традиций.
В XVIII в. Д. Юм близко подошел к тому, чтобы сформулировать тезис о связи протестантской этики с подъемом стран Северо-Западной Европы[207]. М. Вебер отмечает: то, что в европейских странах среди протестантов больше богатых, чем среди католиков, общеизвестно и общепризнано. В Бадене, Баварии, Венгрии высшее образование не только более широко распространено среди протестантов; у них оно и в большей степени ориентировано на подготовку к техническим, промышленным, коммерческим профессиям[208].
В конце XX – начале XXI в., когда в течение десятилетий можно было наблюдать быстрый экономический рост стран с конфуцианской системой ценностей[209], а одной из самых динамичных стран Западной Европы стала католическая Ирландия, представления М. Вебера, который связывал подъем Европы, создание предпосылок для европейского капитализма с протестантской этикой, кажутся архаичными[210]. Но база распространения идей о роли религии в создании предпосылок начала современного экономического роста была реальной. Первыми в стадию современного экономического роста вступили именно протестантские страны Северной Европы и протестантские же регионы Нового мира. Лишь позже к этому процессу присоединились районы католической и православной Европы. Р. Инглхарт доказывает, что результаты сравнительного анализа динамики развития протестантских и католических стран за 1870–1938 годы подтверждают выводы М. Вебера. Последовавший за этим расцвет католических стран он объясняет изменениями в их культуре[211].
Исследования приоритетов родителей в вопросе о том, что должно быть главным в обучении детей, проведенные Г. Ленским и Д. Алвином в США, показывают сохранение существенных различий в ценностных системах, большую ориентацию протестантов на то, что связано с жизненным успехом. Но эти же исследования демонстрируют и постепенное сближение образовательных приоритетов различных религиозных групп[212].
В ряде отношений влияние протестантской этики на специфику национальных траекторий развития в Северной Европе очевидно. Речь идет о необычно раннем и широком распространении грамотности, причем среди обоих полов. Объясняется этот феномен массовым изучением Библии. Достойные протестанты должны были читать Священное Писание сами. Католическая церковь самостоятельное чтение не поощряла[213]. Лишь с течением времени первоначальный разрыв в уровне грамотности между протестантской и католической Европой был ликвидирован благодаря всеобщему начальному образованию. И чем, как не влиянием протестантизма, объяснить существенное сокращение числа праздников, увеличение числа рабочих дней в году? Ведь в католической Европе XVI в. праздники занимали четверть, если не треть, календаря.
Исследователи отмечают еще один параметр, по которому протестантизм оказывает влияние на долгосрочные тенденции эволюции социальных институтов, – это уровень государственной нагрузки на экономику. Есть протестантские страны с крайне высокой долей государственных расходов в ВВП. Но все страны – лидеры экономического роста, где доля государственных расходов в ВВП существенно ниже средней, характерной для стран ОЭСР, принадлежат к протестантской или, по крайней мере, некатолической традиции (США, Австралия, Канада, Швейцария)[214].
Специфика установлений, доставшихся в наследство от аграрных цивилизаций, оказывается устойчивой. Под влиянием перемен в организации общественной жизни она модифицируется, но не исчезает[215].
Историки спорят о том, сколько цивилизаций, имеющих существенные различия в системах институциональных и культурных традиций, унаследованных от аграрного общества, можно вычленить сегодня. Окончательного ответа на этот вопрос быть не может. Само понятие “цивилизация” слишком широко и неопределенно, чтобы можно было использовать жесткие дефиниции. Тем не менее чаще всего в последние годы специалисты говорят о китайской цивилизации (иногда объединяя, а иногда отделяя ее от японской), об индуистской, исламской, православной, западной, латиноамериканской и африканской цивилизациях. По вопросу о выделении двух последних идет оживленная дискуссия[216].
При анализе специфики цивилизационных установлений важно не допустить грубой, но распространенной ошибки: не спутать уровень социально-экономического развития страны с национальной спецификой.
К. Тацит пишет о германцах: “Когда они не ведут войн, то много охотятся, а еще больше проводят время в полнейшей праздности, предаваясь сну и чревоугодию, и самые храбрые и воинственные из них, не неся никаких обязанностей, препоручают заботы о жилище, домашнем хозяйстве и пашне женщинам, старикам и наиболее слабосильным из домочадцев… Строят же они, не употребляя ни камня, ни черепицы; все, что им нужно, они сооружают из дерева, почти не отделывая его и не заботясь о внешнем виде строения и о том, чтобы на него приятно было смотреть”[217].
Автор представлял более развитую страну и потому отнес признаки низкого уровня развития к национальным особенностям. Однако и после выравнивания уровней развития европейская семья по-прежнему существенно отличается от той, которая характерна для мусульманской цивилизации, а нормы сбережений в странах с конфуцианской традицией обычно выше, чем в той же Европе или Америке.
Выдержав испытание столетиями, национальные различия остаются устойчивыми и сегодня. Так, характерные черты конфуцианской этики – акцент на иерархические отношения, прагматизм, высокая ценность образования, трудолюбие, долгосрочный подход к возникающим проблемам – рассматриваются сегодня как база успехов стран этой традиции в адаптации к условиям современного экономического роста[218].
Индийская кастовая система – пример института, который вырос из традиционного аграрного общества, продемонстрировал свою живучесть в современном мире и продолжает заметно влиять на ход модернизации в Индии[219].
Межкультурные исследования подтверждают, что общества с единым происхождением (что проявляется в первую очередь в принадлежности к единой языковой семье) обладают сходными специфическими чертами в укладе и во взглядах на мир[220].
Европейские институты и установления со времен античности обладают чертами, которые отличают их от организации жизни в других аграрных цивилизациях, условно называемых восточными. Способ организации экономики и общества, получивший название “капитализм” и создавший предпосылки для современного экономического роста, сформировался в неразрывной связи с западными институтами.
Важнейшие черты западных, европейских общественно-политических структур – ограничение полномочий власти принятыми, закрепленными обычаями и правилами, разграничение власти и собственности, гарантии собственности и личных свобод. Этот набор установлений неестественен для неевропейских аграрных цивилизаций, где доминируют представления о безграничной компетенции власти, где власть и собственность тесно переплетены и потому трудноотделимы друг от друга[221]. Между тем, как справедливо отмечал Д. Родрик, институты приходится создавать, опираясь на имеющийся реальный опыт, местные знания и неизбежные эксперименты[222].
Начало современного экономического роста в Европе, вызовы догоняющего развития ставят перед элитами неевропейских стран сложную задачу: имитировать институты, у которых в неевропейских странах не было исторической традиции, формировавшейся в Европе на протяжении более двух тысячелетий. В этом сущность характерных для большинства стран догоняющей индустриализации проблем: слабости отечественного предпринимательского класса, недостаточных гарантий собственности, отсутствия стимулов к долгосрочным вложениям, коррупции в государственном аппарате, стремления перераспределять административную ренту. Все это способно на десятилетия парализовать экономическое развитие.
К числу важных и устойчивых традиционных черт, которые влияют на эволюцию современных обществ, относятся нормы семейного поведения. В Западной Европе рано, еще в первой половине 2‑го тысячелетия, укоренилась традиция малой семьи, в которой регулировалось число рождений на одну женщину[223]. Специфика европейской нуклеарной семьи, сформировавшейся еще до начала современного экономического роста, ее отличие от широкой семьи, характерной для других регионов мира, давно привлекала внимание исследователей. Многие авторы давно связали ее с материальными интересами Католической церкви[224].
Некоторые элементы подобной эволюции семейных отношений прослеживаются и в Японии эпохи Токугава. Здесь с началом современного экономического роста на протяжении 2–3 поколений происходит переход к нуклеарной семье, состоящей либо только из супругов, либо из родителей и детей[225]. Для большинства других аграрных цивилизаций характерна широкая семья, охватывающая большой круг близких и дальних родственников[226], с установками на семейную взаимопомощь и отсутствием ограничения рождаемости. Столь противоположные традиции и приводят к различиям демографического перехода в европейских и неевропейских странах. В последних рождаемость в начале современного экономического роста выше, чем в Европе, период ее снижения более продолжителен, численность населения возрастает быстрее. Эти факторы, как и упомянутая выше тенденция к более быстрому снижению смертности на ранних этапах современного экономического роста, характерная для стран догоняющего развития, определяют высокие темпы прироста численности их населения (см. табл. 1.4) и долгосрочные перспективы структуры мирового населения. В XX в. доля Европы в мировом населении сокращалась и, по прогнозам, будет сокращаться в текущем столетии (табл. 3.11).
Характерное для многих неевропейских цивилизаций, хотя и находящихся на высоком уровне социально-экономического развития, сохранение широкой семьи приводит к важным последствиям. Л. Харрисон обращает внимание на связь традиций широкой семьи с тем, что большинство предприятий в Корее и на Тайване находятся в семейной собственности. В то время как на Западе отсутствие взаимопомощи в рамках широкой семьи подталкивает к формированию системы социальной поддержки, которая финансируется из налоговых источников, в неевропейских странах социальную функцию на протяжении столетий несет поддержка родственников, в том числе и не самых близких. Потребность в помощи, организуемой и финансируемой государством, возникает позднее[227]. Эти традиции оказывают влияние и на динамику нормы сбережений[228].
Таблица 3.11. Доля Европы, Китая и Индии в мировом населении, %[229]
Источник: 1 Maddison A. The World Economy: A Millennial Perspective. P.: OECD. 2001. С. 243. 2 World Population Prospects. UNPD, 2003. .
Еще одно направление, на котором традиция широкой семьи определяет специфику институциональной эволюции во многих неевропейских странах, – ее роль в экономической и общественной жизни. Западные эталоны политической и предпринимательской деятельности ориентированы на прозрачность, универсальность и обезличенность отношений. На практике личные и родственные связи играют роль в принятии деловых и кадровых решений, но, как правило, ограничены узким кругом ближайших родственников (дети, родители, братья, сестры) в малодетной семье. Само использование родственных связей – при поступлении на работу, выборе партнера по сделке – принято считать предосудительным, противоречащим этическим стандартам. Во многих неевропейских странах ситуация принципиально иная: здесь взаимопомощь в рамках широкой семьи опирается на историческую традицию, а отказ от семейной поддержки, нежелание поддержать родственника причисляются к нарушениям этики[230]. В коррумпированном государстве, не способном защитить собственность и обеспечить выполнение контрактов, связи, основанные на родстве и взаимопомощи в рамках широкой семьи, становятся инструментом, который делает экономическую деятельность возможной и результативной[231]. У многих воспитанных в западной традиции наблюдателей такая система отношений, получившая название “crony capitalism”, вызывает искреннее недоумение[232].
Существуют и специфические факторы адаптации к современному экономическому росту, которые присущи отдельным цивилизациям и поныне определяют развитие многих государств. Очевидный пример – специфика ислама, одной из ведущих мировых религий, возникшей в рамках аграрной цивилизации. Ислам в большей степени, чем любая другая мировая религия, совмещает веру и право, санкционирует и детально регламентирует нормы семейных, общественных и экономических отношений. Из мировых религий ислам в наибольшей степени связан с кочевыми установлениями, в том числе с широким распространением дальней караванной торговли. Ислам – это расписание социального порядка[233]. Он включает набор правил – комплексный, определенный Богом, регулирующий правильную организацию общества. Эта модель существует в письменном виде; она доступна всем грамотным людям и всем тем, кто готов слушать образованных людей.
Некоторые исследователи истории ислама связывают проникновение религиозных норм в регулирование гражданской, экономической и политической жизни с быстрым политическим успехом ислама, отсутствием необходимости длительного существования в условиях наличия власти, не разделяющей религиозные убеждения сторонников учения. У раннего христианства в отличие от ислама не было возможности уйти от тезиса “Богу – Богово, кесарю – кесарево”[234].
Ислам твердо ориентирован на законопослушание. Роль Корана и законов шариата в исламских обществах обусловливает более жесткую, чем в других крупных цивилизациях, регламентацию человеческого поведения[235]. Это мировая религия, в наибольшей степени обращенная к житейским проблемам, как индивидуальным, так и социальным[236]. В этом и источник многих проблем, с которыми сталкиваются мусульманские страны в попытках адаптироваться к меняющимся условиям современного экономического роста. Жесткая конструкция норм, соответствующих реалиям общества кочевников-торговцев Ближнего Востока середины 1‑го тысячелетия н. э., не вписывается в реалии меняющегося мира. Отсутствие высшего авторитета организованной церкви делает особенно сложной адаптацию шариатского законодательства к новым условиям. Книгопечатание получает широкое распространение в мусульманском мире (который давно знал о его существовании в Китае и Европе) лишь в XVIII в. Для его внедрения потребовалось особое постановление богословских авторитетов о том, что книгопечатание не противоречит исламским нормам[237]. Действовавший в течение длительного времени в мусульманских странах запрет на использование печатного станка, рассматривавшийся как средство борьбы с ересями, сдержал распространение знаний и создание предпосылок к современному экономическому росту[238]. До настоящего времени объем переводной литературы на арабский язык остается аномально низким по сравнению со странами аналогичного уровня развития[239].
Еще одна проблема адаптации к реальностям современного мира, характерная уже не для всех исламских стран, а только для арабских стран, – необычно глубокое расхождение письменного и разговорного языка. Это разные языки[240].
Законы шариата не содержат идущей от римского права концепции юридического лица. Это осложняет формирование в исламских странах современных корпоративных институтов, лежащих в основе западного капитализма. Мир современного экономического роста динамичен, он радикально отличается от аграрных цивилизаций прошлого и требует от стран, пытающихся адаптироваться к его условиям, институциональной гибкости, способности быстро и радикально менять господствующие установления. В исламских государствах это приводит к постоянно возникающим противоречиям между религиозными догмами и потребностями экономического развития.
Характерная для аграрных цивилизаций неприязнь к ростовщичеству естественна, она основана на социально-экономических реалиях аграрного мира. Но в исламе она доведена до крайности – до прямого запрета кредитовать под проценты. Это мало совместимо с функционированием рынка капитала – важнейшим инструментом развития в условиях современного экономического роста. Исламские страны ищут и находят способы обойти религиозный запрет. Но для этого им приходится создавать необычные и не всегда эффективные финансовые механизмы[241].
Важнейший аспект общественной жизни, где установления ислама модифицируют траекторию развития в условиях современного экономического роста, – положение женщины. Коран твердо закрепляет господствующее положение мужчины в семье, обычай многоженства[242]. Все это адекватно реалиям патриархального общества кочевников-торговцев, но трудно сочетать с жизнью в обществе, вступившем в процесс современного экономического роста. В Саудовской Аравии женщина не имеет права водить машину, управлять катером или самолетом, путешествовать без разрешения мужчины, под контролем которого она находится. До 1964 года девочки в Саудовской Аравии не могли посещать школу. Традиция, по которой женщине предписано играть исключительно семейную роль, а ее участие в производстве и общественной жизни ограничено, приводит к тому, что женское образование распространяется медленно. Даже в период экономического роста занятость женщин остается низкой, а число рождений на одну женщину снижается черепашьими темпами (табл. 3.12, 3.13). Сохранение в арабо-мусульманском мире едва ли не самых высоких среднегодовых темпов роста численности населения (в 1980–2001 годах – 2,4 %, в том числе в арабских странах – 2,5–2,6 %) вызвало рекордный рост доли арабских и мусульманских стран в мировом населении – с 12,5 % в 1913 году до 19,6 % в 2001 году[243].
Таблица 3.12. Доля неграмотных женщин старше 15 лет в общей численности этой группы населения в странах, где численность мусульманского населения превышает 10 %, %
Источник: World Development Indicators 2003. The World Bank.
Таблица 3.13. Годовые темпы роста населения и коэффициент фертильности[244] в некоторых исламских странах, 1950–2000 годы, %
Источник: The Arab Human Development Report 2002. New York: UNDP, 2002.
Многие авторы обращали внимание на более высокую рождаемость в мусульманских семьях Индии по сравнению с основной массой населения страны и связывали ее с влиянием исламских культурных традиций[245]. Есть и специалисты, отрицающие такую зависимость и доказывающие, что если учесть набор иных факторов, таких как регион проживания, уровень доходов, уровень грамотности, то показатели рождаемости, характерные для мусульманских и немусульманских семей в Индии, оказываются близкими[246]. Однако данные табл. 3.14, где приведены сведения об уровне рождаемости в Индии, Пакистане при сходных уровнях душевого ВВП, достаточно красноречивы.
Таблица 3.14. Рождаемость в Индии и Пакистане в годы со сходным размером ВВП на душу населения
Источник: 1 Maddison A. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OECD, 1995; 2 World Development Indicators 2003. The World Bank.
Правда, в оценке влияния традиционных установлений на семейное поведение надо быть осторожным – помнить о динамичности и трудной предсказуемости социально-экономических изменений, связанных с современным экономическим ростом. На протяжении последних 20 лет распространение образования среди женщин в мусульманских странах стимулирует снижение рождаемости (табл. 3.15).
Таблица 3.15. Снижение коэффициента рождаемости[247] в некоторых мусульманских странах в последней трети XX в.
Источник: World Development Indicators 2003, World Bank.
Еще в 1970‑х годах было принято связывать более высокую рождаемость в странах католической традиции по сравнению с протестантскими странами с влиянием религиозных установлений. Сегодня, когда католические Испания и Италия относятся к числу западноевропейских стран с самыми низкими показателями рождаемости, этот тезис вышел из моды.
Другую группу стран, которые испытывают серьезные трудности при адаптации к современным реалиям, населяют народы, не прошедшие стадии аграрных цивилизаций, столкнувшиеся с вызовами современного экономического роста на уровне присваивающего хозяйства. Сюда же относятся этносы, для которых период аграрных цивилизаций, или протоцивилизаций, был очень коротким[248].
Великим аграрным цивилизациям – Китаю и Индии – потребовалось примерно полтора века, чтобы адаптироваться к условиям современного экономического роста, радикально перестроить устойчивую на протяжении столетий систему национальных институтов. Во второй половине XX – начале XXI в. их экономический подъем становится фактором, меняющим всю систему мировой экономики и политики, и, по всей вероятности, останется таковым и в первой половине текущего столетия[249].
Сейчас для многих стран Африки к югу от Сахары, которые населены народами, не прошедшими исторического периода аграрных цивилизаций, тоже пришло время адаптироваться к современным реалиям[250]. Они столкнулись с проблемами политической нестабильности, связанными среди прочего с эгоизмом и коррумпированностью правящих элит. Нередко это закрывает дорогу к ускоренным темпам развития, повышению уровня жизни (табл. 3.16).
Сегодня невозможно сказать, преодолимы ли подобные преграды, сколько времени понадобится, чтобы их устранить. Однако очевидно, что способность развивающейся страны адаптироваться к вызовам современного экономического роста напрямую зависит от длительности периода, в течение которого она жила в условиях аграрной цивилизации.
Еще один ключевой фактор, влияющий на траекторию национального развития в эпоху современного экономического роста, – унаследованная от аграрной стадии структура земельной собственности, степень ее концентрации[251]. Крайне неравномерное распределение земельной собственности в Латинской Америке, отсутствие здесь традиций европейского фермерства стали существенным фактором, ослаблявшим позиции среднего класса, а контраст непомерного богатства и вопиющей бедности приводит к нестабильности латиноамериканских правительств[252].
Таблица 3.16. Темпы роста ВВП на душу населения в африканских странах южнее Сахары, в Китае, Индии в 1961–2000 годах, %
Источник: Расчеты на основе данных World Development Indicators 2003. The World Bank.
Современный экономический рост вызывает глубокие и взаимосвязанные изменения важнейших характеристик общественной жизни – душевого производства и потребления, занятости, способа расселения, уровня образования, показателей рождаемости и смертности, средней продолжительности жизни, здоровья нации, государственного влияния на экономику, политической системы. Для каждого уровня душевого ВВП характерны определенные средние мировые показатели по каждому из перечисленных параметров. Однако необходимо помнить, что развитие любой страны не линейно и не одномерно. Более развитая страна своим опытом, своим примером демонстрирует менее развитой не будущее последней, а общие направления вероятных перемен. Национальные траектории зависят от множества факторов, которые, впрочем, поддаются и описанию, и анализу (с той или иной степенью точности).
Опыт XX в. показал, что представления о фундаментальной роли экономического развития, развития производительных сил в трансформации общественной жизни по существу верны. Чтобы разумно использовать эти представления на практике, необходимо видеть мир таким, какой он есть, – многомерным.
Раздел II Аграрные общества и капитализм
Глава 4 Традиционное аграрное общество
На своей работе земледельцы изнашивались так же быстро, как их орудия. Их били и нещадно эксплуатировали хозяева и сборщики налогов, их обкрадывали соседи и грабили мародеры, на них ополчались все враги рода человеческого – такова была доля земледельца… Земледелец являл собой законченный образ несчастного человека.
Монте П.[253] Египет РамзесовЕсли дворец роскошен, то поля покрыты сорняками и хлебохранилища совершенно пусты.
Дао Дэ Цзин[254]. Древнекитайская философияУверяю вас, единственный способ избавиться от драконов – это иметь своего собственного.
Шварц Е.[255] ДраконРадикальные перемены, происшедшие за последние два века, порождают интерес к причинам многовековой устойчивости, неизменности прежней жизни. Почему ее организация, уклад не изменялись тысячелетиями? Почему перемены не возникли раньше? В чем причины их начала именно в Западной Европе?
Современников, свидетелей стартовавшего в Европе экономического роста интересовали и исторические прецеденты – прежние периоды масштабных и взаимосвязанных изменений в экономике и обществе. Но в XIX в. историки были зашорены европоцентризмом – исторический процесс отождествлялся в первую очередь с европейскими событиями, такими как крушение Римской империи. Вот почему Маркс и Энгельс, объясняя наблюдаемые ими исторические события – формирование капиталистической системы производственных отношений, ее влияние на производственный процесс, – ищут аналоги в крахе римских институтов, в формировании специфических установлений раннеевропейского периода, получивших название “феодализм”.
Если взглянуть на историю человечества шире, становится ясно, что при всей значимости краха Западной Римской империи это событие по своему влиянию на взаимосвязанные черты общественной жизни несопоставимо с процессами, которые мы наблюдаем на протяжении двух последних веков. Рим не был центром Вселенной. Большая часть населения мира жила там, куда сведения о великой империи и ее крахе просто не доходили, доходили с большим опозданием либо были доступны лишь узкому кругу. Случившееся в Западной Европе в V в. н. э. не повлияло на жизнь китайской, индийской или иранской деревни.
Европоцентризм Маркса и Энгельса сыграл с ними злую шутку. Метод целостного изучения истории с упором на взаимосвязанные изменения технологии и институтов (по их определению – производительных сил и производственных отношений) оказался применительно к докапиталистическим структурам общественных отношений некорректным. Уже в то время, когда основоположники писали свои ставшие классическими работы, невозможно было игнорировать непреложный факт: формы организации производства и общества в мире за пределами Западной Европы многие века существенно отличались от специфически европейских, а периодизация “рабовладение – феодализм”, с большой натяжкой применимая для описания западноевропейской истории, никак не соотносится с историческими реалиями Китая, Индии и Японии. Но признание этого факта – вызов самой концепции “железных законов” истории. От “железа” практически ничего не останется, если принять, что историческая эволюция на протяжении длительных периодов допускает возможность существования принципиально разных по своей организации социальных и экономических систем в обществах, которые находятся на сходном уровне развития. Отсюда необычная для Маркса и Энгельса неопределенность в подходе к докапиталистическим формациям.
Азиатский способ производства у них то появляется, то исчезает. Его место в, казалось бы, стройной Марксовой картине исторического развития видится плохо. И это не случайно. Если азиатский способ производства – исторический предшественник рабовладения, то как, оставаясь в рамках представлений о производительных силах, которые определяют структуру производственных отношений, объяснить многовековое сосуществование столь различных формаций – азиатской и присущих более высоким стадиям развития? Если эта альтернативная форма организации способна существовать наряду с западноевропейскими, что остается от целостности всей истории человеческого общества?[256]
Доступная основоположникам марксизма информация не позволяла им осознать значимость исторического процесса, который по своему влиянию на взаимосвязанные изменения в организации жизни сопоставим с современным экономическим ростом. Речь идет о неолитической революции[257].
§ 1. Неолитическая революция
Десять тысячелетий назад люди занимались охотой, рыболовством и собирательством, вели присваивающее хозяйство. Постоянных поселений было мало, для тех времен характерен полукочевой и кочевой образ жизни. Еще не зародились такие элементы цивилизации, как организованное накопление знаний, грамотность. Но именно с этого исторического момента начинаются перемены в организации общественной жизни, в результате которых большая часть человечества переходит к производящему хозяйству – организованному земледелию, одомашниванию скота. Люди оседают на земле, растет население, появляются города. Как особый вид деятельности выделяются ремесла, позднее зарождается письменность, формируется стратифицированное государство. В жизни общества происходят масштабные и взаимосвязанные изменения, обусловленные развитием производительных сил – распространением земледелия и скотоводства. В ходе этих изменений и складываются специфические, устойчивые черты аграрной цивилизации как способа организации жизни на тысячелетия: от перехода к оседлому земледелию до начала индустриализации и современного экономического роста.
В историко-экономической литературе идет оживленная дискуссия: увеличивался душевой ВВП (и вместе с ним уровень жизни) за тысячелетия аграрного общества или нет? Некоторые исследователи считают, что рост был и можно выделить относительно длительные периоды, когда этот показатель в аграрных обществах увеличивался[258]. Но даже если их предположения верны, бесспорно, что темпы роста были низкими, несопоставимыми с теми, что наблюдаются последние два века (см. табл. 1.2 в гл. 1).
Основа экономики традиционного общества – земледелие и скотоводство, доминирующее место расселения – деревня, базовая общественная ячейка – крестьянская семья со своим хозяйством. В сельском хозяйстве занято более 85 % населения. На периферии оседлых цивилизаций разбросаны доцивилизационные общества, которые состоят из охотников и собирателей.
В разных странах формы общественной организации на протяжении аграрного периода различаются, иногда существенно, но занятость подавляющего большинства населения в сельском хозяйстве, ограниченное распространение городов, грамотности, демографические характеристики, уровень жизни, преобладание натурального хозяйства – все это черты аграрных цивилизаций.
Неолитическая революция, переход к новым формам организации производства и общественной жизни были временем радикальных, хотя и растянутых на тысячелетия, перемен и масштабных инноваций. Однако стоило основным институтам аграрной цивилизации окончательно сформироваться, как эти инновационные процессы замедлились[259]. И уже несколько десятилетий исследователи задают себе резонные вопросы: в чем причины этого замедления, почему те формы организации экономики и общества, тот уровень жизни, которые были присущи ранним аграрным цивилизациям, оказались столь устойчивыми, что продержались без существенных перемен длительный, охватывающий десятки поколений период развития человечества? Чтобы найти ответы на эти вопросы, надо понять отличия общества, сложившегося в ходе неолитической революции, как от предшествовавшего ему общества охотников-собирателей, так и от нынешней городской цивилизации.
Общество охотников-собирателей, как показывают антропологические исследования, было эгалитарным[260]. В то время люди жили группами численностью от 20 до 60 человек. В поисках диких животных и съедобных растений они часто меняли место обитания[261]. Для успешной охоты необходим лидер. Сообщество выбирает его из числа самых опытных и авторитетных своих членов. Сила, ловкость, охотничий опыт – залог престижа и авторитета. Статус лидера, как правило, не наследовался, не передавался из поколения в поколение. Успех на охоте давал дополнительные права на добычу, но они были ограничены нормами обмена дарами[262], традициями, которые диктовали правила распределения добытого[263]. При кочевом образе жизни возможности накапливать имущество ограниченны[264]. Определенные имущественные отношения, которые в современных терминах с большой натяжкой можно назвать отношениями собственности (например, закрепление охотничьих угодий за отдельными семьями), все же возникали. Впрочем, некоторые исследователи полагают, что говорить о собственности в данном случае не приходится – просто на семью или группу охотников сообщество возлагало ответственность за участок леса и поручало отслеживать добычу[265]. Собирательство было главным образом женским занятием, охота – мужским. Охотником становился каждый взрослый мужчина. Охотничьи навыки те же, что и военные, по крайней мере, в доаграрную эпоху. И сражались с неприятелем, как правило, тем же оружием, с которым охотились. Специальное военное снаряжение появилось позже, на более высоких стадиях развития. Племена охотников-собирателей отличались друг от друга: одни – агрессивные, воинственные, другие – миролюбивые, избегающие насилия. Это убедительно демонстрирует антропология. Характерно, что столкновения и межплеменные войны редко вспыхивали по экономическим мотивам. В обществах охотников-собирателей военные походы за добычей распространены мало. Основные причины вооруженных столкновений – кровная месть, похищения женщин, защита и передел территорий, но не присвоение чужой добычи[266]. Это понятно. Каждый мужчина – воин. Накопленного имущества мало. Племя легко может сменить место обитания, переселиться подальше от назойливых воинственных соседей. Соотношение стимулов к вооруженным столкновениям и их негативных последствий лишает войны и грабеж привлекательности.
Примеры влияния освоения новых знаний и навыков на изменение системы социальных отношений известны и до масштабных изменений, связанных с распространением земледелия и одомашниванием скота. Это изобретение огня[267]. До него почти нет сохранившихся примеров захоронения людей в возрасте старше 60 лет. Обычай убивать или оставлять умирать стариков широко распространен в раннем палеолите. После изобретения огня, когда его поддержание становится самостоятельной функцией, впервые появляются захоронения стариков[268]. Еще одно крупное нововведение, существенно изменившее образ жизни человечества в период, предшествующий неолитической революции, – изобретение лука. Он появляется в период верхнего палеолита. Наиболее раннее свидетельство его использования найдено при раскопках поселений периодов палеолита в Старом Свете, на территории современной Франции, относящихся к перигорской и салютрейской культурам (28–17 тыс. лет до н. э.)[269]. Но по масштабу взаимосвязанных изменений в социальной структуре, экономике, демографии неолитическая революция является уникальным периодом в истории человечества[270].
К. Киполла определяет неолитическую (сельскохозяйственную) революцию как процесс, в результате которого человек пришел к управлению, росту и совершенствованию имевшихся в его распоряжении растительных и животных ресурсов[271]. Дискуссия о том, что проложило ей дорогу, идет давно и вряд ли когда-нибудь завершится. Г. Чайлд, который, как упоминалось, ввел в научный оборот этот термин, связывал неолитическую революцию с окончанием ледникового периода и климатическими изменениями[272]. Эта гипотеза до сих пор не подтверждена, но и не опровергнута. В экономико-исторической литературе наибольшее распространение получила другая точка зрения: рост населения и его плотности уже не позволял вести присваивающее хозяйство; это объективно подталкивало к инновациям, которые позволяли прокормить на той же территории больше людей[273]. Между 100‑м и 10‑м тысячелетиями до н. э. население планеты росло, но не достигало предела, за которым охотники и собиратели уже не могли обеспечить свое существование. Затем возможности такой организации общества были исчерпаны. Дальнейший рост населения потребовал новых способов хозяйствования, которые могли бы повысить продуктивность использования земли.
§ 2. Переход к оседлости и начало имущественного расслоения общества
Истории перехода к оседлости и формирования аграрных цивилизаций посвящен огромный массив литературы. Детальное обсуждение этих процессов – за пределами нашей темы. Для нас важны те систематические изменения, которые происходят в организации общественной жизни на этом этапе.
Переход к сельскому хозяйству ведет к оседлой жизни не сразу. Первый шаг – подсечно-огневое земледелие – оставляет возможность для миграции сообщества. Однако по мере роста плотности населения таких возможностей становится все меньше. Приходится возделывать одни и те же земельные участки. Это стимулирует оседлость, постоянную жизнь всего сообщества и каждой семьи в деревне, которая остается на одном и том же месте в течение многих поколений[274].
Общество охотников-собирателей мобильно. Закрепление охотничьих угодий если и происходит, то не связано с жесткой технологической необходимостью. Обитающие в этих угодьях дикие животные и птицы лишь потенциальная добыча, но не собственность. В оседлом сельском хозяйстве все иначе. Возделывающая землю семья должна до начала пахоты и сева знать границы своего надела, на урожай с которого она может рассчитывать. Отсюда необходимость в определенных отношениях земельной собственности: земля – ключевой производственный фактор аграрной цивилизации. Эта собственность может перераспределяться в пределах общины, закрепляться за большими семьями, наследоваться или не наследоваться, но в любом случае должны существовать закрепленные обычаем земельные отношения, порядок разрешения споров. Это подталкивает аграрное общество к созданию более развитых, чем в предшествующую эпоху, форм общественной организации[275]. Проблемы, связанные с отношениями земельной собственности, усугубляются с приходом земледелия в долины больших рек. Здесь поселения земледельцев не отделены друг от друга крупными массивами необрабатываемых земель, расположены рядом. Их жители общаются с соседями. Возникают новые отношения, в том числе связанные с координацией совместной деятельности.
Технологии орошаемого земледелия трудоемки. Для мелиорации, орошения и полива полей, организации водопользования необходимо множество рабочих рук, которых в одной деревне может просто не найтись. Но соседям-земледельцам тоже нужна вода, и они объединяют и координируют свои усилия, всем миром внедряя передовые по тем временам сельскохозяйственные технологии. Неудивительно, что развитые цивилизации – не просто оседлые сельскохозяйственные общины, а именно цивилизации, – зарождаются в районах орошаемого земледелия – в Шумере, Египте.
Еще Ш. Монтескье отмечал, что усиление центральной власти связано с орошаемым земледелием. Этой же точки зрения придерживаются многие современные исследователи[276]. К. Витфогель, рассматривая специфические черты восточной деспотии, свел все к мелиорации и орошению[277]. Однако основы китайской централизованной бюрократии сформировались еще тогда, когда подавляющая часть населения Китая жила на неорошаемых землях. Лишь многие века спустя центр китайской цивилизации смещается на юг, в районы орошаемого земледелия. Бесспорно, технологии орошаемого земледелия способствовали становлению централизованной бюрократии в аграрных обществах, но не были главной и единственной его причиной.
Авторы некоторых работ, посвященных последствиям неолитической революции, отмечают, что формирование аграрного общества с характерными для него проблемами, связанными с регулированием отношений собственности, в первую очередь собственности на землю, предполагает усиление стратификации, выделение специализированных функций, мало совместимых с регулярным трудом в сельском хозяйстве. Отсюда необходимость в редистрибуции, т. е. мобилизации части ресурсов сельского сообщества на выполнение этих общих функций, на обеспечение круга тех, кто контролирует этот поток ресурсов, его распределение. Затраты на содержание тех, кто осуществляет общее руководство хозяйством – хозяйственное, административное, идеологическое, – так или иначе институциализируются, становятся привычными[278].
Для оседлого земледелия важно точно знать время, когда следует приступать к посевной и уборке урожая. Особенно это важно для ближневосточного центра цивилизации, где нет задаваемой муссонным циклом смены сезонов. Отсюда необходимость накопления и систематизации астрономических знаний, подготовки людей, способных выполнять эту функцию. Такая деятельность была связана с религиозными обрядами. Первые привилегированные группы, которые мы обнаруживаем в истории аграрных цивилизаций, – элиты религиозные. Характерная черта многих ранних цивилизаций – расположение храмов в речных долинах.
Первоначально административная иерархия в оседлых сельских сообществах не очень заметна, схожа с установлениями, характерными для эпохи охоты и собирательства. Принято считать вождество первой формой социальной организации с централизованным управлением и наследственной клановой иерархией, где существуют имущественное и социальное неравенства, однако нет формального репрессивного аппарата[279].
Первые зафиксированные в дошедших до нас источниках случаи, когда ресурсы земледельческих сообществ объединялись для выполнения специфических задач, стоящих перед оседлыми храмовыми хозяйствами, встречаются у шумеров. Они выделяли земли для совместной обработки. Урожай шел на нужды священнослужителей. Примеры протогосударств (вождеств)[280], где еще не существует регулярного налогообложения, а общественные функции выполняются за счет даров правителям, не носят фиксированного и регулярного характера, – это Шумер периода Лагаша[281], Китай периода Шань[282], Индия Ведического периода[283].
Общественные работы на принадлежащих всему сообществу полях воспринимаются здесь еще не как повинность, а как часть религиозного обряда[284]. Со временем появляется возможность изымать и перераспределять часть урожая, который превышает минимум, необходимый для пропитания семьи земледельца. А раз так – кто-то попытается специализироваться на изъятии и перераспределении, используя для этого насилие[285].
Таким образом, переход к оседлому земледелию вносит в организацию общества важный для последующей истории аспект: изменяется баланс стимулов к применению насилия. Если есть многочисленное невоинственное оседлое население, которое производит значительные по масштабам времени объемы сельскохозяйственной продукции, рано или поздно появится организованная группа, желающая и способная перераспределить часть этих ресурсов в свою пользу – отнять, ограбить, обложить нерегулярной данью или упорядоченным налогом. Это явление неплохо исследовано, и не о нем сейчас речь. Для нас важно, к чему это приводит. Возникает пропасть неравенства между большинством крестьянского населения и привилегированной верхушкой, готовой насильственно присваивать часть произведенной крестьянами продукции. Это важная черта аграрного общества.
Именно во время его становления получают распространение грабительские набеги за добычей[286].
В отличие от охоты, где навыки производственной деятельности мужчин близки к военным навыкам, земледелие по своей природе – занятие мирное. Первоначально, как уже говорилось, оно вообще было женским[287]. На ранних стадиях перехода к земледелию мужчины охотятся. Женщины, традиционно занимавшиеся собирательством, начинают осваивать мотыжное земледелие. Лишь постепенно, по мере роста роли земледелия в производстве продуктов питания, с появлением орудий, требующих больших усилий, в первую очередь плуга, в земледелии возрастает роль мужского труда.
Если для коллективной охоты необходимо организационное взаимодействие, то оседлое земледелие ничего подобного не требует. Оно позволяет значительно увеличить ресурсы питания, получаемые с той же территории. Сезонный характер земледелия вызывает необходимость накапливать запасы пищи. Чем дальше развивается сельское хозяйство, тем больше средств требуется на улучшение земли, ирригацию, хозяйственные постройки, инвентарь, жилища, домашний скот[288]. У крестьянина есть что отнять. Переселение для него сопряжено с серьезными издержками, ему проще откупиться от воинственного соседа, чем бежать с насиженного места. Применение насилия для присвоения результатов крестьянского труда становится выгодным, а потому получает широкое распространение[289].
С этого начинается переход от характерных для ранних цивилизаций храмовых хозяйств в речных долинах к царствам и деспотиям. Механизмы этого перехода – завоевание либо противодействие завоевателям. Любая жесткая схема, применяемая для описания процесса социально-экономической эволюции, плохо совместима с реалиями исторического процесса. По Ф. Энгельсу, возникновению государства непременно предшествует расслоение общества[290]. По К. Каутскому, сначала в войнах и завоеваниях возникает государство и лишь потом начинается общественное расслоение[291]. В реальности эти процессы переплетаются. Развивается аграрное производство, оседает на земле и концентрируется земледельческое население, возникает необходимость регулировать права собственности на землю, организовывать общественные работы, создаются предпосылки присвоения и перераспределения прибавочного продукта, складываются группы, специализирующиеся на насилии, и привилегированные, не занятые в сельском хозяйстве элиты, образуются государства. Все это происходит отнюдь не поочередно, в какой-то заданной последовательности, а одновременно, параллельно[292]. Специализация на насилии, связанное с ней право иметь оружие – обычно прерогатива элит[293].
В аграрных цивилизациях нередко практиковалась конфискация оружия у крестьян[294].
Насилие и его формы, перераспределение материальных ресурсов – предмет специальных исторических исследований. Иногда сформировавшиеся протогосударственные структуры раннеаграрного периода вступают в стычки с соседями. Это приносит им военную добычу, рабов, дань. Случается, что вступающее в конфликт с соседями агрессивное протогосударство порождает эффект снежного кома: у других сообществ остается единственный выбор – подчиниться и платить дань или стать столь же сильными и агрессивными. Нередко в роли племен, специализирующихся на организованном насилии, выступают скотоводы-кочевники[295]. В отличие от оседлых земледельцев у них производственные и военные навыки практически неразделимы, поэтому кочевое племя может выставить больше подготовленных, привыкших к совместным боевым действиям воинов, чем (при том же количестве) племя земледельцев. Набеги кочевников стали едва ли не важнейшим элементом в формировании аграрных государств[296].
Показателен пример варваров, обитавших вблизи центров аграрных цивилизаций. Они могли заимствовать технические новшества, прежде всего в области военного дела, у более развитых соседей; у них были стимулы к завоеваниям (богатства тех же соседей) и преимущества старого, нецивилизационного устройства жизни, где каждый мужчина – воин. Речь идет о первой цивилизации, известной нам из достоверных исторических источников, – шумерской. В отличие от Египта Месопотамия не имела естественных, легкообороняемых границ, была открыта для набегов. Расцвет городов Междуречья создавал варварам стимулы к насильственному отъему богатств, грабежам. В то же время весь социальный порядок шумерских поселений формировался духовенством, а не ориентированными на насилие структурами государства. Это препятствовало полноценной обороне от варварских набегов.
Возникшее в Междуречье царство как организационная форма отличалось от складывающегося эволюционным путем земледельческого общества, которым управляло духовенство. Это связано и с влиянием соседствующих пастухов-семитов, и с семитским завоеванием оседлых шумеров. Основатель Аккадской империи Саргон[297] – один из известных нам по письменным источникам создатель древнего государства, который воспользовался удачным географическим расположением земель и этнокультурными особенностями их жителей и соседей[298].
Завоеватели, установив контроль над оседлыми земледельцами, становились новой элитой, сплачивались вокруг власти, способствовали ее усилению. Будучи для местных чужаками, они облагали население высокими налогами[299]. Без чужеземной элиты формирование государства шло медленнее: в складывающихся социальных структурах долго сохраняются элементы племенного родства, власти в своих действиях ограничены представлениями о правах и свободах соплеменников.
§ 3. Становление аграрных государств
Итак, аграрные государства, как правило, формировались благодаря завоеванию оседлых земледельцев воинственными пришельцами, представителями чужих этносов. Недаром имя народа-завоевателя, будь то персы или лангобарды, нередко автоматически переносилось на всех привилегированных людей, освобожденных от уплаты налогов, например на воинов, к какому бы этносу они ни принадлежали. Впрочем, история знает и исключения. Япония – характерный пример государства, сформированного без завоевания чужими этносами. По крайней мере, следов такого завоевания историки не обнаружили.
В тех случаях, когда государство с оседлым населением завоевывают воинственные пастушьи племена, перемены испытывают и завоеватели. Покончив с кочевой жизнью, они становятся привилегированной элитой и живут за счет изымаемого у крестьян прибавочного сельскохозяйственного продукта либо сами превращаются в оседлых земледельцев, рано или поздно утрачивают связанные с происхождением и воинской службой привилегии и наравне с остальным населением платят подати в пользу привилегированных сословий[300]. Как бы ни формировалась система насильственного изъятия сельскохозяйственных ресурсов у аграрного населения, ее существование в аграрных обществах было повсеместным. Представление о платящих налоги как о зависимых, несвободных людях – характерная черта аграрных государств. Даже в Индии с ее кастовой системой, закреплявшей этническую разнородность общества после завоевания страны индоариями, происходит постепенное сближение статуса вайшьев (обязанных платить налоги ариев) и шудров (неприкасаемых, находящихся вне общества ариев). В Индии в 1‑м тысячелетии н. э. запрет тем, кто не принадлежал к касте воинов, иметь оружие был широко распространенной практикой.
Еще одна характерная черта периода становления стратифицированных аграрных государств – борьба царей за выгодный им порядок престолонаследия с представляющими этнос завоевателей народными собраниями. История Мидии, новохеттского царства[301], – иллюстрация этого процесса. Распространена ситуация, когда лидер протогосударства-завоевателя остается для своих соплеменников признанным вождем, но с ограниченными полномочиями, как это было с энси[302] в Шумере, а для завоеванных становится всемогущим повелителем.
Когда рядом расположено государство со специализированным аппаратом насилия и организованной регулярной армией, соседи вынуждены либо организовать свое общество подобным же образом, либо стать подданными, данниками. Цивилизованные аграрные империи своим примером давали образцы соседям. В истории Израиля очевидно влияние опыта Египта и других ближневосточных государств на формирование государственности, централизованной власти и налоговой системы. Об этом красноречиво свидетельствует Библия[303].
Характерный пример того, как эволюционировала социальная иерархия в аграрных обществах, – постепенное стирание различий между свободными общинниками и неполноправным, платящим налоги населением (“держатели царских земель”) в Среднем Вавилонском царстве. Подавляющая часть населения начинает платить налоги. Привилегированная элита налоги не платит и получает земельные наделы за несение воинской службы.
Формирование стратифицированного общества – от появления первых оседлых земледельческих поселений на Ближнем Востоке до создания развитых государств с упорядоченной налоговой системой – растягивается на тысячелетия. Начавшись, этот процесс распространяется с исторической неизбежностью, охватывая все новые и новые регионы.
С. Сандерсон так определяет аграрные государства: “Независимо от межстрановых различий аграрным государствам присущи по крайней мере пять фундаментальных характеристических черт. Во-первых, для них характерно деление на классы: небольшая группа знатных лиц, владеющих или по крайней мере контролирующих земельные наделы, и многочисленное крестьянство. Последние под угрозой насилия вынуждены платить знати дань в форме ренты, налогообложения, трудовых услуг или некоего сочетания вышесказанного к экономической выгоде последних. Эти взаимоотношения – пример чистой эксплуатации, подкрепленной военной силой. Во-вторых, отношения между знатью и крестьянством – основная экономическая ось общества… В-третьих, несмотря на разделение на классы знати и крестьян, между ними не существовало открытой классовой борьбы… В-четвертых, силой, цементирующей аграрные общества, выступает не какой-либо идеологический консенсус или общие представления о мире, а военная сила… Аграрные общества – это буквально всегда высокомилитаризованные общества, и подобная милитаризация неотъемлема от целей и стремлений доминирующих групп. Военная мощь подчинена двойной цели – внутренние репрессии и внешние завоевания. Наконец, в период между 3000 годом до н. э. и примерно 1500 годом н. э. аграрные государства оставались относительно статичными обществами. Ключевое слово здесь “относительно”, а мерилом для сравнения служит период социальной эволюции в течение нескольких тысячелетий до 3000 года до н. э. и современный период, начавшийся примерно в 1500 году н. э.”[304].
К тому времени, когда европейские исследователи начали изучать организацию земельных отношений в восточных аграрных государствах, в Европе укоренилось унаследованное от античности представление о частной собственности на землю. В этом причина путаницы во взглядах на земельную собственность в иных по типу организации обществах. Исследователи часто смешивают номинальную собственность верховного правителя на землю, которая гарантирует ему право взимать земельные налоги и в определенных случаях перераспределять наделы; собственность правящей элиты, дававшую право присваивать часть налогов с принадлежащих ей земельных угодий; права крестьян жить и кормиться на земле. И права элиты, и права крестьян в зависимости от ситуации могли быть предметом купли-продажи, которую государство санкционировало или просто не замечало[305].
§ 4. Эволюция неупорядоченного изъятия ресурсов в налоговые системы
Для функционирования аграрного общества важно, как группы, специализирующиеся на насилии, организуют и осуществляют изъятие ресурсов крестьянского населения. Самая тяжелая ситуация складывается, когда территория, на которой происходят поборы, не закреплена за определенной структурой. В этом случае у тех, кто может обирать крестьян, нет стимула что-то оставить им для выживания.
И отбирают все. Когда крах организованного государства открывает путь подобному стихийному насилию, происходит массовое разорение и уничтожение крестьянства, подрывается и рушится налоговая база. Неопределенность права изымать то, что Маркс называл прибавочным продуктом, подрывает государственность; в мире аграрных цивилизаций такие режимы скорее исключение, чем правило.
В стабильных аграрных обществах действует порядок, который М. Олсон называл “системой стационарного бандитизма”: четко определено, кто имеет право и возможность выжать из крестьянского населения максимум ресурсов, сохраняя при этом возможность для последующих изъятий[306]. По М. Олсону, это “вторая невидимая рука” – режим, способный для спасения экономики потеснить неупорядоченный бандитизм.
Если отбросить детали, характерные для аграрных цивилизаций, системы регулярного изъятия прибавочного продукта у крестьянских хозяйств можно подразделить на две группы. Первая в силу европоцентризма исторической науки получила название “феодализм”[307], вторая – “централизованная империя”.
Появление тяжеловооруженной конницы, потребовавшей значительных расходов на вооружение и содержание рыцарей, а также децентрализация насилия, связанная в первую очередь с норманнскими набегами в Европе, положили основу формированию здесь классической системы характерных для аграрного общества феодальных отношений[308]. Однако феодализм вовсе не европейское изобретение. Подобного рода структуры в аграрных обществах регулярно возникают при ослаблении центральной власти, ее неэффективности. Примеры институтов, которые формируют сходные с европейскими своды этических норм, мы находим в Китае эпохи троецарствия[309], в Японии во времена правления клана Фудзивара[310], во многих других аграрных цивилизациях.
Как справедливо отмечал Дж. Хикс, отношения “лорд – слуга” – важнейший элемент всей структуры аграрных цивилизаций[311]. Преимущество этой системы в ее простоте, не требующей сложной организации и администрирования, превосходящих возможности аграрных обществ. Крестьяне и господа живут рядом. При угрозе нападения замок господина – место, где крестьяне могут укрыться. Укоренившиеся на протяжении поколений связи воспринимаются как естественное положение вещей, приобретают силу традиции, становятся легитимными.
В отношениях “господин – слуга” всегда есть элемент сделки и торга. В условиях хаоса и норманнских набегов VIII–X вв. крестьянину нужен лорд-защитник с его замком. Но в эти отношения заложено заведомое неравенство. Господин при желании может отнять у крестьянина все, что посчитает нужным. Когда торговая составляющая в сделке сюзерена и вассала оказывается недостаточной для сохранения норм присвоения прибавочного продукта, вступает в действие другой сценарий – прямое насилие и закрепощение крестьянина, как это происходило в Восточной Европе начиная с XV в.
Подобная организация насилия порождает в аграрном обществе две главные проблемы. Первая из них – децентрализация власти. По соседству с поместьем одного барона расположены владения другого. Кто-то из них сильнее. У сильного есть стимул прогнать “стационарного бандита” послабее, захватить подконтрольное ему имущество, подчинить себе крестьян, которые раньше были обязаны платить соседу. При слабости центральной власти, характерной для феодальной организации аграрного общества, естественный результат такого способа присвоения прибавочного продукта – череда набегов, грабежей, междоусобных войн и те же риски, что характерны для ситуации “мобильного бандитизма”: падение численности населения, бегство с земли, переход крестьян к бродяжничеству, разбою и грабежу, дезорганизация общества, снижение возможностей для мобилизации прибавочного продукта[312].
Другая проблема – слабость самого государства, института, который обеспечивает возможность применять координированное насилие по отношению к другим сообществам. Феодал в своем замке может отразить нападение шайки грабителей или соседнего барона. С иноплеменным войском, готовым вырезать местную элиту и занять ее место, он не справится. Отсутствие у феодальной власти эффективно действующего налогового аппарата и, как следствие, ограниченность ее финансовых ресурсов – причины ее внешней слабости по отношению к окружающему миру. Феодальная армия – это рыхлая коалиция войск, наскоро сколоченных феодалами разного уровня, а не слаженный, управляемый единой волей воинский организм. Вот почему сохраняется риск быть завоеванным извне, что неминуемо повлечет за собой опустошение деревни, массовые грабежи, разорение.
На выбор между централизованным или децентрализованным управлением аграрным государством влияет характер доминирующей военной угрозы. Там, где на первом месте стоит угроза децентрализованного внешнего насилия, например набеги морских разбойников на Западную Европу VIII–X вв., больше стимулов к организации децентрализованной защиты; опасность массированных вторжений степных кочевников, нависшая над Китаем, требует создания централизованного государства.
Альтернатива феодальному способу изъятия прибавочного продукта в условиях аграрных обществ – централизованная империя[313]. Функции сбора государственных доходов и военные функции, централизованное финансирование государственных потребностей, в первую очередь армии, в ней разделены[314]. Феодальные отношения “господин – слуга” здесь отходят на второй план. Существует единая централизованная бюрократия, забирающая у крестьян прибавочный продукт. Большая часть его идет на содержание армии, остальное – на гражданскую бюрократию и двор, иногда – на организацию помощи крестьянам в случае голода[315].
Иногда в централизованных аграрных империях армия формируется на основе всеобщей воинской повинности. Классический пример – организация военного дела в Китае во времена Ханьской и Танской[316] династий. Но это скорее исключение, чем правило. Для овладения воинскими навыками требуется время, совмещать земледельческий труд и службу в армии трудно. Подобная система малоэффективна. Поэтому, как правило, организация насилия строится на основе профессиональной армии, отделенной от крестьянского труда.
Чтобы налоговая служба была хорошо организована, необходима достоверная информация об уплаченных налогах и налогоплательщиках. Это невозможно без письменности. В иерархически организованных государствах с развитой налоговой системой быстро распространяется грамотность, в первую очередь среди государственных служащих.
Для длительного и эффективного функционирования централизованной империи требуется налаженный бюрократический аппарат с четко организованными процедурами рекрутирования чиновников, их продвижения по службе, контроля за ними. На этом основывалась многовековая устойчивость китайской аграрной цивилизации – и это при всех перипетиях, связанных с династическими циклами и агрессией извне[317]. В Японии, где, как отмечалось выше, с VII в. китайская модель управления была образцом для подражания, именно слабость централизованной бюрократии порождала тенденции к феодализации.
У налоговых систем аграрных государств много общих черт. Отличия определяются уровнем развития, технологическими возможностями. В XVI в. испанские завоеватели обнаружили в Мексике налоговую систему, предполагающую использование принудительного труда, схожую с существовавшей в Китае времен империи Хань.
Хранящийся в Берлине иероглифический папирус эпохи Второй династии свидетельствует, что каждый египетский крестьянин должен был указать свое место жительства, общину, к которой он приписан и где он может быть в случае надобности привлечен к исполнению государственных натуральных повинностей. В противном случае его имущество и семья попадают в руки фараона, который может распоряжаться ими, как и им самим, по своему усмотрению[318].
Для налогообложения в аграрных цивилизациях характерно сочетание в различных пропорциях подушевого и поземельного налогов. Такие налоговые системы диктуют необходимость регулярно проводить перепись налогоплательщиков[319], требуют круговой поруки – солидарной ответственности сельского сообщества за уплату налогов. Налоговой администрации централизованных империй аграрного периода трудно дойти до крестьянского двора. Удобнее иметь дело с сообществами, объединенными общей ответственностью за уплату налогов[320]. По дошедшим до нас источникам в Китае такая система впервые возникает во времена Шан Яна[321]. Вероятно, именно ее эффективность обусловила победу государства Лу[322] в борьбе за гегемонию в Китае. Впоследствии основанная на круговой поруке система получает широкое распространение и в других аграрных цивилизациях.
В Египте, Междуречье, Китае, Японии, Индии переписи населения, земельной собственности, продуктивности вели чиновники. Цензы и кадастры позволяли устанавливать налоговые обязательства для сельского поселения. Связь изобретения письменности в Междуречье с организацией упорядоченного налогообложения хорошо известна историкам.
В условиях аграрных обществ обязательства по прямым налогам, как правило, не могут быть четко фиксированными. Само право представителей центральной администрации или феодального господина определять размеры крестьянских обязательств – фактор неопределенности в положении земледельца, его зависимости от произвола. А. Смит отмечает, что не только сами размеры налога, но и то, как он взимается, насколько плательщик оказывается во власти налоговой администрации, делают прямое налогообложение препятствием эффективной организации экономики[323]. Централизованная бюрократия позволяет избавиться от проблем, порождаемых междоусобными войнами, содержать постоянное войско, способное защитить страну от внешней угрозы. Отсюда характерные для периода аграрных цивилизаций представления о благотворности единого централизованного государства, об угрозах, связанных с феодализацией и междоусобицами. Именно централизованную империю принято считать идеальной моделью государственного устройства для аграрных обществ.
На протяжении двух тысячелетий, предшествовавших началу современного экономического роста, Китай по численности населения, объему экономической деятельности либо занимал место лидера, либо входил в число двух-трех ведущих по этим показателям мировых держав. Еще в XVIII в. многие европейские мыслители рассматривали его как образец для подражания в организации общества[324]. Характерные черты китайской модели – охватывающая всю страну централизованная бюрократия и меритократическая система, открывавшая при успешной сдаче экзаменов возможность войти в элиту, снижавшая роль происхождения, повышавшая социальную мобильность – способствовали ее долгосрочной устойчивости.
Важная особенность Китая, которая позволила сохранить на протяжении тысячелетий централизованное государство, – специфика китайской письменности. Когда изобретенный в Передней Азии алфавит достиг Поднебесной, иероглифическая система уже крепко укоренилась в структурах китайской цивилизации. Специфика иероглифики – отделение письма от устного языка – позволяет связать единой культурной и бюрократической традицией говорящие на разных диалектах народы, представители которых нередко не способны понять друг друга при устном общении. Нивелировавшая этнические различия китайская письменность стала важнейшим инструментом объединения страны в единое культурное целое.
Построенное на алфавите письмо, которое воспроизводит устную речь, объективно закрепляет этнические различия, облегчает формирование наций, препятствует сохранению единой империи. История Западной Европы после краха Западной Римской империи, расходящиеся траектории развития ее и Китая после заката империи Хань убедительно подтверждают роль письменности в судьбах государств[325].
§ 5. Династический цикл в аграрных обществах
Стабильность аграрных обществ во многом зависит от того, насколько их организация отвечает интересам элиты. Это хорошо иллюстрируют и тенденции к наследованию высокого социального статуса, и такое явление, как династический цикл. Элиты аграрных обществ стремятся сделать свой статус наследственным. Мало того, что они принадлежат к присваивающему прибавочный продукт меньшинству, им нужно передать это социальное положение потомкам. Аграрные общества пронизаны тенденцией к приватизации власти. Получив высокие должности от верховных правителей, присвоив права на связанные с должностями доходы и привилегии, элиты добиваются последнего недостающего им права – передавать эти блага по наследству.
На этом основана логика династического цикла – одна из движущих сил аграрных обществ, едва ли не важнейший механизм их функционирования. После завоевания извне, крестьянских восстаний и краха прежнего режима создается новая центральная власть с присущим ей организованным финансовым администрированием. Она еще продолжает крепнуть, но в ее недрах назревают приватизационные процессы – земля и должности закрепляются за новой элитой. У государства сокращаются возможности собирать доходы и финансировать армию. Приходится увеличивать налогообложение там, куда могут дотянуться руки центрального правительства. Налоговый гнет нарастает. Вспыхивают крестьянские беспорядки. Затем – крах династии, порой новое завоевание извне. Династический цикл замкнулся.
Централизация власти, повышение эффективности бюрократии, жесткие репрессии против пытающейся своевольничать элиты – это начало цикла. Приватизация, уход налогоплательщиков под покровительство сильных людей, эрозия налоговой базы, сокращение доходов казны – характерные черты его завершающей фазы. Основатели династии, нередко иноэтничные завоеватели, иногда вожди крестьянского восстания, держат тех, кого они привели к кормушке, в жесткой узде[326]. При их потомках энергетика власти слабеет, должности становятся наследственными, доходы правительства сокращаются.
Характерное проявление приватизационных процессов в конце династического цикла – недовольство в обществе, вызываемое дифференциацией богатства и бедности и ростом роли денег: они становятся важнее положения на государственной службе[327]. Инициативным людям удается перераспределить в свою пользу доходы, которые предназначались для государственной казны[328]. В Китае начала XIX в., стране развитой аграрной цивилизации, реальные объемы налогообложения вчетверо превышали официально установленные ставки. Три четверти присваиваемого шло местному чиновничеству[329].
Финансовый кризис затрудняет содержание и армии, и центральной бюрократии. Крушение империи, новое иноэтничное завоевание или крестьянское восстание подводят черту под очередным династическим циклом. Таковы черты династического цикла – важнейшего механизма функционирования китайского государства на протяжении тысячелетий.
Другой пример, иллюстрирующий династический цикл в условиях аграрной цивилизации, – эволюция Египта времени Древнего царства. В середине этого периода гробницы номархов[330] становятся роскошнее, гробницы царей – скромнее. Затем – распад страны, хаос, упадок периода 10–12‑й династий. Потом – новая централизация власти. После формирования Среднего царства, при Сенусерте III, – исчезновение богатых гробниц номархов. История гробниц фараонов-номархов – история централизации и приватизации власти в Египте[331]. Папирус Ипувера, повествующий о бедствиях, связанных с ослаблением централизованного государства, хаосом и запустением, – один из первых документов, фиксирующих развертывание династического цикла в аграрных цивилизациях[332]. Степень государственного вмешательства в организацию хозяйственной жизни в крестьянском сообществе в аграрных цивилизациях неодинакова. В Древнем Египте государство ликвидировало общины, взяло организацию производственной деятельности на себя. В Индии на протяжении всей ее истории сохраняется мощная, обладающая значительной автономией община. Эти крайние случаи объединяет то, что основная цель правящей элиты – изъять максимально возможное количество прибавочного продукта, создаваемого в крестьянском хозяйстве. Различны лишь формы такого изъятия.
Еще одна проблема централизованных империй, пытавшихся регулировать объемы налоговых изъятий, – контроль за собственным аппаратом. В отличие от самого государства, налоговый чиновник не заинтересован в сохранении налоговой базы. Проконтролировать его работу при технологических возможностях, характерных для аграрных цивилизаций, сложно. Следствие – вымогательства, избыточное обложение, жалобы на произвол сборщиков налогов. “…Выгода государя в том, чтобы иметь заслуженных [подданных] и назначать их на должности, а выгода чиновников в том, чтобы, не имея способностей, распоряжаться делами; выгода государя в том, чтобы иметь заслуженных [подданных] и вознаграждать их; выгода чиновников в том, чтобы, не имея заслуг, быть богатыми и знатными; выгода государя в том, чтобы выдающиеся люди служили ему по своим способностям; выгода чиновников в том, чтобы использовать в личных целях своих друзей и сторонников. Поэтому территория государства все урезается, а частные дома все богатеют; государь падает все ниже, а крупные чиновники становятся все могущественнее. Таким образом, государь теряет силу, а чиновники завладевают государством”[333].
Еще раз подчеркнем: независимо от того, на какой стадии династического цикла находится империя, сложилась феодальная иерархия или нет, важнейшим для аграрной цивилизации остается вопрос об организованном изъятии у крестьянского населения ресурсов в пользу правящей, специализирующейся на войне и государственном управлении элиты[334]. Здесь централизованное имперское государство сталкивается с неприятной альтернативой. Когда оно изымает прибавочный продукт в объеме, меньшем максимально возможного, на содержание армии может не хватить средств. Появляется риск, что соседнее агрессивное государство или кочевые племена сломят сопротивление войск и захватят страну. Это приведет к смене элиты. Если, напротив, изъятия запредельны, несовместимы с возможностью воспроизводить крестьянские хозяйства, возникают другие опасности: эрозия налоговой базы, бегство крестьян с земли, рост бродяжничества и разбоя, крестьянские восстания[335]. Один из классических документов Древнего Китая содержит слова: “Народ голодает оттого, что власти берут слишком много налогов… Трудно управлять народом оттого, что власти слишком деятельны”[336].
Поиск хрупкого равновесия между этими рисками – когда у крестьян отбирают максимум возможного, но не доводят их до полного разорения – стержень экономической политики аграрных цивилизаций[337]. История донесла до нас полемику по этому вопросу, разные позиции в ней. Ближайший советник Токугава Иэясу Хонда Масанобу говорил, что “крестьянину надо оставлять столько зерна, чтобы он только не умер”[338]. Поднявший налоговое бремя до предела китайский император Ханьского периода У-ди осознавал опасность этого шага, предостерегая против дальнейшего роста налогов[339].
Количество прибавочного продукта, которое элита аграрных обществ изымала у крестьян, определялось спецификой сельскохозяйственного производства. Больше всего можно было изъять в районах высокопродуктивного земледелия – в долинах крупных рек, на орошаемых землях. По библейским свидетельствам, египетские крестьяне отдавали фараонам пятую часть урожая. Правители Индии при Маурьях забирали у своих подданных четверть. По некоторым источникам, в других местах изъятия достигали половины собранного урожая. На бедных, малопродуктивных, засушливых землях у крестьян отбирали меньше. История донесла до нас представление о правильной, “справедливой” норме изъятия – 10 % урожая, знаменитая десятина.
Крестьяне не спешили делиться информацией о собранном урожае с теми, кто его у них отбирал. Упомянутое выше равновесие, грань, за которой налогообложение становилось невозможным, государство вынуждено было искать испытанным методом проб и ошибок[340]. Именно потому, что крестьянству и элите так нелегко найти эту тонкую грань, пусть даже неустойчивое равновесие высоко ценится и закрепляется традициями. Если прежде налогообложение достигало определенного уровня и не приводило к катастрофическим последствиям, элита аграрного общества воспринимала это как аргумент в пользу сохранения объема изъятий, считая его посильным для крестьян. Даже в высокоразвитой Франции XVIII в. распределение налогового бремени по провинциям, распределение их обязательств по взносам в казну – тальи – происходило на основе оценки опыта предшествующих лет: легко или трудно собирались тогда налоги.
Как указывалось, для централизованных аграрных государств систематизация сведений о налоговых обязательствах и налоговых платежах подданных, о том, сколько удалось изъять в той или другой области и на деревне, – важнейшая функция гражданской власти. Такая информация становится базой для определения текущих налоговых обязательств. Медленные изменения численности населения и объема хозяйственной деятельности позволяют лишь изредка вносить коррективы. Не нужно считать, сколько крестьянин может заплатить сегодня. Важно знать, сколько брали в предшествующие годы, не подрывая доходной базы. Иногда в хорошо организованных аграрных империях при этом учитывались различия, связанные с урожайными и неурожайными годами.
В централизованных империях эти принципы воплощаются в налоговых переписях, закрепляющих сложившиеся размеры обязательств. В феодальных системах обязательства низшего сословия закрепляются традицией.
Устойчивые отношения зависимого крестьянского населения и правящей элиты в рамках централизованного государства или феодальной иерархии – залог жизни аграрного общества без социальных взрывов и потрясений. Недаром китайская народная мудрость гласит: “Не дай Бог жить в эпоху перемен”. Ей вторит европейское присловье “долгих лет жизни королю”. В аграрном обществе периоды стабильности без внешних и внутренних войн, времена упорядоченных обязательств крестьян перед властью, закрепленных либо налоговым аппаратом централизованной империи, либо традицией феодальных установлений, воспринимались потомками как золотой век.
Характерное проявление роли традиции в условиях аграрных обществ – трехполье с разделением крестьянских участков на полосы. Известно, что такая организация земледелия менее продуктивна, чем та, которая возможна при консолидации участков, обрабатываемых крестьянским хозяйством. Однако она и более надежна, в меньшей степени зависит от колебаний продуктивности. В условиях, когда урожая едва хватает, чтобы прокормить семью, выполнить неизбежные обязанности перед государством или феодалом, выбор в пользу надежности – разумная стратегия[341].
Перемены – это новые династии, войны, эксперименты с налогами, увеличивающие их бремя, феодальные смуты и новые господа, не связанные традициями, действующие методом проб и ошибок. При долгосрочной стабильности способов производства и его структуры, неизменных системе расселения, образе жизни и других важнейших составных частях социально-политической структуры устойчивые традиции – элемент социальной организации, который обеспечивает ее приемлемое функционирование.
Представления о том, что богатые крестьяне государству не нужны, что все, кроме необходимого для поддержания жизни, должно быть у них изъято, а если не изымается – это признак плохого управления, широко распространены в аграрных обществах. Вот что пишет Ф. Бернье о реалиях Индии XVII в.: “…Все живут в постоянном трепете перед этим сортом людей, особенно перед губернаторами: их боятся больше, чем раб своего господина. Поэтому жители обычно стараются казаться нищими, лишенными денег; соблюдают чрезвычайную простоту в одежде, жилище и обстановке, а еще более в еде и питье. Они нередко даже боятся слишком далеко заходить в торговле из опасения, что их будут считать богатыми и придумают какой-нибудь способ разорить их”[342]. Сама суть аграрной цивилизации не только не стимулирует инновации, повышающие эффективность экономики, но и препятствует им[343]. Когда крестьянская семья, используя новые технологии, повышает урожайность, это привлекает внимание налогового агента централизованной бюрократии, или феодального лорда, или “мобильного бандита” – они видят возможность изъять у крестьянина что-то еще. Понятно, каким должно быть отношение земледельца к сельскохозяйственным инновациям. Человеческое знание, мысль продолжают порождать новое. И неизвестные прежде технологии все-таки получают широкое распространение. Но в саму структуру аграрной цивилизации с ее хищнической элитой, которая стремится выжать из крестьянства все до последнего, встроены механизмы, тормозящие внедрение любых инноваций[344].
Как справедливо отмечает В. Бартольд: “Сравнение Китая с Западной Европой лучше всего показывает, что успехи техники сами по себе не вызывают прогресса общественной жизни. Из примера Китая видно, что можно знать порох и не создать сильной армии, знать компас и не создать мореплавания, знать книгопечатание и не создать общественного мнения”[345].
В какой степени в аграрных обществах крестьянин закреплен на своем наделе, зависит от обстоятельств, в первую очередь от качества земли. Если это редкий по своим качествам и дефицитный ресурс, нет нужды силой государственной власти закрепощать крестьянина – он сам никуда не денется[346]. Если кругом много удобных для возделывания земельных угодий, крестьянин может перебраться на свободные земли к другому господину. В этом случае логика организации стратифицированного аграрного общества стимулирует жесткие формы прикрепления крестьян к земле. Но и в том и в другом случае о частной собственности в современном смысле этого слова говорить трудно. Земля – и важнейший ресурс производства, средство существования, и база для разнообразных поборов в пользу привилегированной элиты.
§ 6. Торговля в аграрном мире
Мы живем в мире, где подавляющее большинство товаров и услуг производят для продажи на рынке, у потребителя большая свобода выбора. Чтобы бизнес был успешным, производителю необходимо продать свой товар. И цена (с учетом качества) не может быть выше, чем у конкурентов. Если затраты выше, чем у других участников рынка, неизбежны финансовые проблемы, возможен крах предприятия. Для снижения издержек производства необходимы наилучшие с экономической точки зрения технологии. Предприниматель не может позволить себе роскошь ими не пользоваться. Сегодня все это настолько очевидно, что порой представляется неким всеобщим экономическим законом, действующим для всех форм организации производства.
Однако это не так. В эпоху аграрных цивилизаций подавляющая часть производства не ориентирована на рынок – она обеспечивает личное потребление плюс выплаты правящей элите. Вплоть до XIX в. большинство крестьянских семей вело производство для собственного потребления, обменивался и продавался на рынке лишь небольшой излишек произведенных продуктов. Если крестьянин применил новшество, позволяющее повысить продуктивность земли, это ни в малой степени не побуждает соседа следовать его примеру. Во-первых, натуральное хозяйство можно вести традиционными способами. А во-вторых, прогрессивного земледельца с помощью механизма круговой поруки понудят к дополнительным выплатам. Ориентация на земледельческие традиции, технологии, которые без изменений переходят из поколения в поколение, – разумная реакция на систему стимулов, сформированную государством и обществом.
Конечно, и экономика аграрной эпохи не обходится без рынка. Как отмечают антропологи, торговля в различных формах зарождается уже у доаграрных народов, в обществах охотников и собирателей. При этом, как правило, торговля носит межплеменной характер, а внутри племени доминирует обмен дарами[347]. Для торговли доаграрного периода характерно то, что ею движет не солидарность обменивающихся дарами, а равновесие сил, способность и готовность применить насилие. Если бы не это равновесие, можно было бы не торговаться, а просто отнять[348].
Более сложная структура общества аграрных цивилизаций повышает роль торговли. Крестьянам нужны не столь примитивные, как прежде, орудия труда. Материалы для их изготовления не всегда можно найти в районах орошаемого земледелия. Необходимость более совершенных инструментов насилия подталкивает к техническим нововведениям в военном деле. Для них часто требуются материальные ресурсы, отсутствующие в местах, где сконцентрировано оседлое сельское население. Усложнение технологий приводит к появлению новых занятий – не связанных с сельским хозяйством. Возникают гончарное, кузнечное и другие ремесла. Месопотамия, крупнейший центр цивилизации, не богата камнем и металлическими рудами. Это стало серьезным фактором развития торговли. Разумеется, можно было удовлетворить потребности в металле, организуя военные походы за пределы Междуречья. Порой так и поступали, но оказалось, что торговля, особый тип отношений между сообществами, сулит взаимные выгоды. Обмен основан на равноправии сторон в сделке. Это отмечал еще Аристотель[349]. Но в аграрных обществах к этому пришли не сразу. Немало исторических примеров, когда обмен, торговые сделки заключались под угрозой применения силы[350]. Из классических работ антропологов мы узнаем, что на некоторых африканских рынках представителям воинственных горских племен товары отпускали дешевле, чем другим покупателям[351]. Это еще не торговля в нынешнем понимании, над участниками обмена витает дух насилия, цены, условия сделки порой определяет право сильного, но это уже не отъем, не конфискация. Налицо радикальное отличие от типичных для аграрных цивилизаций отношений: изъятие прибавочного продукта, полное неравенство производящего и отбирающего.
Широкое распространение получает межгосударственная торговля, которая начиналась с обмена дарами. Складываются устойчивые, организованные самыми инициативными людьми своего времени – купцами – международные торговые связи, такие, например, как Великий шелковый путь. Становится привычной мелкая розничная торговля на базарах.
Торговля предполагает равноправные контрактные отношения. Это влечет появление новых правовых форм, необходимых для регулирования хозяйственных споров, выполнения контрактов. Аграрному государству эта функция чужда. Его главнейшая забота – облагать налогами подданных, а не создавать условия для их коммерческой деятельности. Торговцы сами создают кодексы, собственные правила. Здесь у групп, объединенных по этническим признакам, есть преимущества – им легче договориться между собой о нормах торгового оборота и обеспечивать их соблюдение[352]. У этнических меньшинств высокий уровень взаимодействия и взаимопомощи. Они не всегда следуют правилам поведения, которые элиты аграрных обществ навязывают большинству населения. Это одна из причин, почему меньшинства так часто специализируются на торговой деятельности. Они пришлые, не имеют земли для занятий сельским хозяйством, иногда власти прямо запрещают им заниматься сельским хозяйством и владеть землей.
Занятие торговлей, как правило, воспринимается с подозрением, считается неблагородным и потенциально опасным[353]. На то есть причины. В обществе, разделенном на управляющую элиту и крестьянскую массу, купец – инородное тело. Он нужен и полезен, но всегда вызывает подозрения. Его зажиточность, богатство не соответствуют его социальному статусу[354]. Традиционная китайская конфуцианская этика считает торговлю неизбежным злом[355] и требует тщательного контроля за ней со стороны власти[356]. Аграрное государство нередко вводило ограничения для торговцев на престижное потребление[357]. Имущество купца мобильнее крестьянского, его труднее отнять[358]. А стремление элиты отнять все, что можно, – органическая часть традиций аграрной цивилизации[359]. К тому же развитие торговли идет рука об руку с кредитными отношениями. В аграрном обществе кредит означает ростовщичество. Как правило, к ростовщикам крестьянские семьи обращаются в неурожайные годы, когда налоговая база и без того под угрозой. Это вызывает беспокойство правящей элиты, которая регулирует налогообложение, не допуская полного разорения крестьянских хозяйств, но не может помешать ростовщику разорить земледельца. Отсюда постоянные попытки властей запретить или ограничить ростовщичество, регулировать размер процента. Широко распространенные в религиях традиционных аграрных обществ запреты на ростовщичество и ограничение ставки процента имеют разумные основания. Соплеменник не должен попадать в долговое рабство, иначе с него нельзя будет брать налоги.
Негативное отношение аграрных империй к торговле переносится и на морские границы, прибрежные районы. К этим местам относятся с опаской, без желания их контролировать. Прибрежная полоса считается опасной для жизни зоной, местом ссылки нежелательных элементов. Причина понятна: отсюда исходит угроза децентрализованного насилия, пиратских набегов, обороняться от которых аграрным империям непросто. Власти предпочитают оставлять прибрежные территории ничьей землей и ограничивают торговое судоходство из-за пиратов.
Торговля приносит в мир аграрных цивилизаций динамизм, перемены, но по-прежнему остается на периферии общественной и экономической жизни. И в конце XVIII в. большая часть мирового населения вела натуральное хозяйство. А вот где конкуренция и связанное с ней быстрое распространение инноваций стало реальностью аграрного общества – это военное дело. Производственные, технологические новшества для большей части земледельческого населения означают лишь новые обязательства перед правящей элитой. От инноваций в организации армии прямо зависят судьбы самих элит. Революция в военном деле, обусловленная изобретением колесницы, поразительно быстро по стандартам эпохи охватывает государства Евразии. Не меньшее влияние на создание массовых армий оказала технология выплавки железа, сделавшая войны более доступными и демократичными, а заодно затронувшая и другие процессы социальной трансформации. Изобретение стремени позволило создать тяжеловооруженную конницу, во многом определившую социальную организацию Европы на грани 1‑го и 2‑го тысячелетий. Тяжелый арбалет, лук, потом порох – все это усиливает государственную власть, ведет к закату феодализма. Через военное дело, соперничество армий и вооруженных групп технологические инновации в эпоху аграрных цивилизаций начинают трансформировать и общественную жизнь. Не так обстоят дела с гражданскими изобретениями. Даже самые важные из них – ветряная и водяная мельницы, хомут, троеполье, компас – распространяются по миру медленно. И это понятно: здесь, в отличие от военного дела, нет жесткого механизма, который настоятельно требует следовать лучшим образцам, заставляет использовать прогрессивные технологии.
Подведем итоги. Сформировавшиеся аграрные цивилизации резко расширили возможности увеличивать объемы производства и численность населения. Однако они разделили общество на массу работающего на земле крестьянства и относительно немногочисленную привилегированную элиту, которая занята военным делом и государственным управлением. Внутри военной элиты идет непрерывная конкуренция – верх одерживают те, кто сильнее и кто успешнее прибегает к насилию. Эта часть элиты отнимает у крестьян максимум возможного. Стимулы повышать продуктивность сельского хозяйства слабы, практически они отсутствуют, поскольку результаты крестьянского труда присваивают те, кто не причастен к производству[360]. Таковы основы малодинамичного, по крупицам накапливающего технологический опыт общества, которое сохраняет обретенные на заре цивилизации черты на протяжении тысячелетий[361].
Неудивительно, что в таком обществе средние душевые доходы веками и тысячелетиями сохраняются на относительно стабильном уровне. Бывают периоды, благоприятные для общественной жизни и не очень благоприятные: времена долгого мира и стабильности, когда численность населения, а иногда и душевые доходы несколько повышаются, и времена войн, смут, всеобщего разорения. Но в целом для эпохи аграрной цивилизации характерны незначительные и несистематические колебания душевых доходов крестьянского большинства у черты его выживания и возможности воспроизводства населения. В этой общественной модели крестьян можно заставить отдать элите часть производимого продукта, но нельзя надеяться, что они сами будут стремиться увеличить объем изымаемого. Население мира растет, но мировой душевой ВВП лишь колеблется у постоянной черты, не проявляя видимой тенденции к повышению[362].
На фоне характерной для аграрного общества многовековой стабильности душевых доходов интересы исследователей привлекают редкие случаи, когда наблюдаются признаки растущего благосостояния. К таким эпизодам обычно причисляют расцвет античной цивилизации, период халифата Аббасидов[363], Китай эпохи Сун, Японию эпохи сегуната Токугава[364]. Характерные черты этих эпох – длительные периоды существования общества без больших войн и внутренних смут, стабильность организации налогообложения[365], необычно широкое по стандартам традиционного аграрного общества развитие торговли и связанной с ней специализации.
При Аббасидах исламские завоевания на два века объединили торговый мир Средиземноморья и Индийского океана единым языком и общей культурой. Постоянные конфликты Византии с Персией сменились гегемонией ислама, обеспечившей рост торговли, ускорение развития экономики в Арабском халифате.
Между 1600 и 1850 годами производство сельскохозяйственной продукции в Японии почти удвоилось при росте населения на 45 %. Рост душевого потребления очевиден. Эпоха Токугава была временем урбанизации. Ей способствовали объединение страны, прекращение внутренних войн, развитие торговли и сельской экономики. К концу XVI в. Осака и Киото почти сравнялись по численности населения с Парижем и Лондоном. К этому времени 5–7 % японцев жили в крупных городах. Сто лет спустя Япония стала одной из самых урбанизированных стран мира, высокая доля городского населения, более высокая, чем в Японии, была только в Нидерландах и Англии. Э. Кемпфер, побывавший в Японии в конце XVII в., пишет: “Киото представляет собой огромный магазин всех японских товаров, это главный торговый город страны. За редким исключением, здесь нет дома, где что-нибудь не изготовляли и не продавали”[366]. По оценкам Л. Гришелевой, к концу XVIII в. грамотными были почти все самураи-мужчины, половина женщин из самурайских семей, 50–80 % торговцев и ростовщиков, 40–60 % ремесленников. Грамотой владела едва ли не вся деревенская верхушка, среди крестьян со средними доходами грамотность достигала 50–60 %, а среди деревенской бедноты – 30–40 %. Правда, надо иметь в виду, что в Японии того времени к грамотным относили всех, кто способен был написать свое имя и прочесть простейший текст[367].
Оценивая явное экономическое и социальное ускорение развития Японии эпохи Токугава, нельзя не учитывать влияние развивающейся Западной Европы и накопленных в ней инноваций при всей изоляционистской политике Страны восходящего солнца. В японской литературе начиная с XVII в. ощущается сильное голландское влияние[368].
Из всех известных исторических эпизодов, когда в аграрных обществах отмечалось ускорение экономического роста, наиболее документирован период династии Сун в Китае. Для аграрной цивилизации необычно, если крестьяне производят продукцию на продажу, а не для удовлетворения собственных нужд; натуральное хозяйство здесь – правило, производство на рынок – исключение. В Китае этого периода сельское хозяйство, ориентированное на рынок, приобретает массовый характер. В XI–XII вв. здесь широко развита торговля, в том числе доставка товаров на большие расстояния, усиливаются освободившиеся из-под конфуцианского контроля торговые сословия. Цеховые объединения в Китае приобретают форму корпоративной производственной организации, их роль как инструмента государственного контроля за ремеслом падает, возрастает значение самоуправления[369]. Увеличивается потребность в деньгах. Налоговая система из натуральной, характерной для эпохи династии Тан, трансформируется в денежную. Еще в 749–750 годах денежные поступления составляли в объеме доходов китайской казны лишь 3,9 %, в 1065–1066 годах их доля достигает 51,6 %[370]. Это подталкивает крестьянское хозяйство к рыночной экономике. Широкое распространение получает и внешняя торговля – сухопутная и морская – с Японией, странами Юго-Восточной Азии.
Мировые достижения Китая эпохи Сун в производстве шелковых тканей, фарфора, в судостроении общеизвестны. Быстро растет производство металла на душу населения, достигая в XII в. уровня, характерного для Западной Европы рубежа XVII и XVIII вв.[371]. В XI в. ВВП Китая в ценах 1980 года и паритетах покупательной способности оценивается в 1200–1400 долл. на человека. В это время Европа отстает от Китая по душевому ВВП примерно вдвое[372]. При династии Сун в Китае начинает выходить первая в мире официальная газета. Годовой выпуск монет возрастает в 8 раз по сравнению с периодом позднего Тан. В этот период Китай становится самым урбанизированным обществом в мире[373].
Интересны и другие специфические черты династии Сун, необычные для Китая, хотя основные институты сохраняют преемственность традициям периодов Хань и Тан. К этим чертам следует отнести подчеркнутый антимилитаризм государства и общества[374], связанный с уроками танских войн, которые привели к перенапряжению сил империи и ее краху; менее жесткую регламентацию частной хозяйственной деятельности, в том числе торговой; большую вовлеченность в международный обмен; долгосрочную устойчивость господствующей элиты.
Отброшенная кочевниками к югу, расположенная у морского побережья империя покровительствует торговле и частной хозяйственной деятельности. Это необычно для норм аграрного общества. Во времена Сун формируется обширное торговое сословие со своей субкультурой. Китайская экономика освобождается от традиционного жесткого бюрократического регулирования.
Но период Сун вскрывает и многие проблемы развития по сценарию интенсивного экономического роста, характерные для аграрных обществ. Чем дольше длится период мира и стабильности, больше накапливает богатств ориентированная на мирную жизнь и обогащение при ней правящая элита, тем соблазнительнее для соседей использовать организованное насилие для присвоения этих богатств.
Несимметричность экономического процветания и военной мощи, характерная для аграрных обществ, проявляется здесь особенно очевидно. Валовой внутренний продукт созданного Чингисханом кочевого объединения вряд ли превышал 1 % ВВП империи Сун, готовой дорого заплатить за сохранение мира. Императоры стремились избежать ошибок своих предшественников времен позднего Тан и откупались от потенциальных завоевателей[375]. Для отражения набегов монголов-кочевников требовались оборонные расходы, необходимость финансировать которые вела к росту налогового бремени, возложенного на крестьянство. Когда война стала неизбежной, империя мобилизовала беспрецедентные для аграрных обществ оборонительные ресурсы и тем не менее не смогла остановить монгольское нашествие, сопровождавшееся разрушением созданного богатства, экспроприацией, ломкой общественных структур общества. Путь Сун был прерван, он оказался тупиковым. Империя не смогла противостоять давлению кочевников[376]. Комбинация мобильности и ударной мощи степной кавалерии в сочетании с заимствованными у аграрных цивилизаций организацией и военной техникой оказалась столь эффективной, что перевесила многократное превосходство империи Сун в людских и финансовых ресурсах. Монголы не отбросили Китай в варварство, они лишь восстановили на юге страны характерные для китайской традиции и доминировавшие на севере институты[377].
Один из самых интересных вопросов в истории аграрных цивилизаций: почему после крушения империи Сун и возвращения к прежним порядкам, восстановления регулярной китайской административно-налоговой системы, характерный для периода Сун интенсивный экономический рост при династии Юань[378] не восстановился? Это одна из тех проблем экономической истории, о которой будут спорить бесконечно. Однако сам факт прекращения быстрого экономического подъема после монгольского завоевания и смены элиты демонстрирует неустойчивость экономического роста в условиях аграрных цивилизаций.
Подавляющее большинство населения аграрного мира – крестьяне, которые хотят улучшить свое положение. Это подталкивает общество к инновациям, повышающим продуктивность труда и уровень жизни. Но правящая элита – своя или иноземная – присваивает плоды технологических новшеств. А раз так – для инноваций остается открытой узкая тропа, а никак не широкая дорога.
В конце XVIII в. в Китай отправился английский посол лорд Макартни. Он должен был установить с далекой страной дипломатические отношения и проинформировать тамошнюю администрацию о европейских технических достижениях. Вот что отметил в своих записках его секретарь Д. Стаунтон: “В этой стране считают, что все и так отлично и любые усовершенствования излишни или вредны”[379].
Глава 5 Иной путь
Ветер раздует пламя в жаркой крови
аргамака,
Травы сгорят под нами – пыль
и копытный цок.
Твой аргамак узнает, что такое атака!
Бросим робким тропам грохот копыт
в лицо!..
Олжас Сулейменов[380]После зарождения оседлых аграрных цивилизаций в Междуречье и Египте, а затем в Индии, Китае, других частях Евразии в мире на протяжении тысячелетий господствовали характерные для них социальные и экономические формы организации жизни. В мировой экономике преобладало высокопродуктивное для того времени земледелие, обеспечивающее высокую плотность населения и рост его численности.
Однако и в период истории, следующий за неолитическими революциями и предваряющий начало экономического роста, такая форма социальной организации была не единственной. Речь идет не только о сохранявшихся на периферии аграрного мира сообществах охотников, рыбаков и собирателей (специфику их жизненного уклада можно объяснить низким уровнем развития, трудностями освоения передовых аграрных технологий). Интересно другое: длительное и устойчивое сохранение обществ, которые находились в тесном контакте с оседлыми цивилизациями, заимствовали у них технические новшества, в первую очередь в военной сфере, были неотъемлемой частью евразийского мира и вместе с тем по своей социальной организации существенно отличались от соседствующих с ними аграрных цивилизаций. Их социальная структура представляла собой своеобразную аномалию.
§ 1. Специфика горских цивилизаций
Одна из таких форм общественного устройства получила распространение в горных районах. Как правило, там малопродуктивные почвы не давали возможности удовлетворить потребности специализирующейся на насилии, присваивающей прибавочный продукт элиты. Но природные условия позволяли вести кочевое или полукочевое скотоводческое хозяйство[381]. У горцев, как правило, есть постоянное место проживания, но часть года они кочуют со скотом.
Типичный пример установлений горских народов – социально-экономические традиции, сохранившиеся в горных районах Кавказа до конца XIX в. и поэтому хорошо исследованные и документированные. Здесь сочетаются яйлажное скотоводство, составляющее основу экономической деятельности и доходов[382], ограниченное, но дополняющее скотоводческую деятельность земледелие, полуоседлый способ проживания; кочуют со стадами только пастухи, основная же масса населения остается в местах постоянного проживания[383], отсутствует четкая социальная иерархия, характерная для оседлых аграрных обществ[384]; широко распространены грабежи живущих в предгорье и на равнинах народов[385]. Они дают доходы, дополняющие хозяйственную деятельность.
Даже освоив земледелие и одомашнив скот, жители гор сохраняют многие характерные для охотничьих народов черты. Сама специфика их занятий заставляет каждого взрослого мужчину, как и в охотничьем сообществе, владеть боевыми навыками[386]. Здесь нет характерных для земледельческих сообществ стимулов, которые побуждали бы специализироваться на насилии, создавать структуры для изъятия и перераспределения прибавочного продукта в пользу элиты. У горцев трудно что-нибудь отнять, да и отнимать почти нечего. Отсюда эгалитарный, малостратифицированный характер горских сообществ[387].
Перечисленные установления горских народов (сочетание яйлажного скотоводства[388] с ограниченным использованием земледелия, полуоседлый образ жизни и т. д.), а также сохранение некоторых демократических институтов, отсутствие упорядоченного налогообложения, воинственность никак не могут быть объяснены этническими особенностями народов, живущих в горах. Эти характерные черты четко прослеживаются в литературе, посвященной социально-экономической структуре очень разных в этническом отношении народов: шотландцев, черногорцев, чеченцев, афганских племен высокогорья[389].
В обществе охотников предводителем становится тот, кто пользуется авторитетом и может лучше других организовать охоту, у горцев – тот, кто способен возглавить сезонную миграцию, организовать взаимодействие людей, обеспечить сохранность скота. У такого предводителя нет права собирать с соплеменников постоянные налоги. Он, как и все, кормится от своих стад, время от времени получает нерегламентированные дары. Перед живущими на равнине оседлыми народами у горцев есть важное преимущество: они защищены горами и потому малоуязвимы. Поэтому, специализируясь на полукочевом скотоводстве и частично на земледелии, они “подрабатывают” разбоем, грабят живущих в долине крестьян[390].
Сложный рельеф местности и полиэтнический характер горского населения затрудняют создание объединений, способных совершать масштабные завоевательные походы[391]. Поэтому горцам редко удавалось завоевывать земледельческие народы. Но регулярные набеги горских племен и грабежи характерны для всей истории аграрных цивилизаций со времен Шумера[392].
§ 2. Историческая судьба кочевого скотоводства
Уклад полукочевников‑горцев – существенный элемент в истории евразийских сообществ, но все же частность, своеобразное исключение. А вот многовековое существование особой социально-экономической структуры, связанной со степным кочевым скотоводством, стало важнейшим фактором, повлиявшим на развитие цивилизаций Евразии в течение последних трех тысячелетий[393].
На Евразийском континенте и в Северной Африке начиная с шумерского периода шел, по современным представлениям, медленный, но постоянный обмен институтами, технологиями, инновациями. Остальная Африка, Америка, Австралия, удаленные от центра аграрного мира, существенно отставали в своем развитии. Именно поэтому происходящее в Евразии столь важно для понимания аграрной истории[394].
Переход к земледелию на первых порах неблагоприятно воздействовал на здоровье людей. Палеоантропологические данные показывают, что в это время средняя продолжительность жизни нередко падала[395]. Растительная пища, которая стала основой ежедневного рациона, была бедна белками, не содержала некоторых витаминов, необходимых для нормального развития человека. Все это создавало неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, повышало уровень смертности. Поэтому во многих районах мира охота и рыболовство сохраняли значение и в раннеземледельческий период. Но стратегическое решение проблемы недостатка белков животного происхождения требовало перехода к доместикации животных и развитию скотоводства, последовательного отказа от образа жизни, основанного на присваивающем хозяйстве[396].
Широкое распространение получило представление о том, что индоарии с самого начала были пастушеским народом, что специализированное кочевое скотоводство является естественной стадией между охотой и собирательством и оседлым земледелием[397]. Оно характерно для европейской традиции еще со времен античности[398].
Работы, выполненные во второй половине XX в., показали, что специализированное кочевое скотоводство возникает лишь постепенно из симбиоза земледельческой и скотоводческой деятельности, присущих раннему неолиту[399]. В начале неолитической революции, в период подсечно-огневого земледелия еще нет четкого разделения народов на оседлые, занятые земледелием, и кочевые, специализирующиеся на скотоводстве. И те и другие мигрируют, ведут жизнь полукочевников. Со временем – по мере развития оседлого земледелия в крупных центрах цивилизации и становления кочевого скотоводства – эти пути расходятся[400].
В широкой зоне евразийских степей распространение подвижных форм скотоводства относят к эпохе бронзы, 3‑му – началу 2‑го тысячелетия до н. э. В это время идет процесс разделения на более оседлых и более подвижных скотоводов. Собственно кочевое скотоводство развивается из характерного для бронзового века горно-степного образа жизни, для которого свойственно оседлое комплексное хозяйство, сочетающее мотыжное земледелие и скотоводство. На рубеже 2‑го и 1‑го тысячелетий до н. э., в конце эпохи бронзы – начале железного века, хозяйства многих племен горно-степной полосы становятся более подвижными, приобретают кочевой скотоводческий облик[401]. Открытие железа к концу 2‑го тысячелетия до н. э., его применение при изготовлении пахотных орудий расширили в Европе зону пашенного земледелия и в то же время способствовали дальнейшей специализации на скотоводстве в зоне полупустынь и степей Евразии, увеличили диапазон перекочевок и повысили подвижность скотоводческого неоседлого населения[402]. С этого времени социальная организация кочевников радикально отличается от установлений оседлых народов.
Приручение лошади и верблюда[403], овладение навыками верховой езды открывают дорогу формированию своеобразного хозяйственного уклада, получившего широкое распространение в полосе евразийских степей, на Аравийском полуострове, в Северной Африке, – степного, кочевого скотоводства[404]. Наряду с верблюдом и лошадью овца – животное, приспособленное к дальним перекочевкам, одомашнивание которого создает предпосылки для массового распространения специализированного кочевого скотоводства[405]. Массовое разведение домашних животных в азиатских степях и предгорьях начинается в первые столетия 1‑го тысячелетия до н. э., в так называемое позднеандроновское и предскифское время. Большинство скотоводческих племен степей Евразии вело полукочевой образ жизни. Кочевые племена, в течение круглого года передвигавшиеся с места на место и не имевшие постоянной оседлости, являлись исключением[406]. Как и у кочевников‑горцев, здесь производственные и военные навыки совпадают, каждый мужчина – воин. Принципиальное отличие заключено в том, что степные просторы позволяют прокормить больше людей, чем горные территории. Степное кочевое скотоводство в меньшей степени, чем горное, может сочетаться с земледелием, даже если последнее культивируется в ограниченных масштабах[407]. Степняки-кочевники неизбежно вступают в контакты с земледельческими народами для обмена продукцией. Степь облегчает коммуникации и образование широких племенных союзов, способных защитить торговые пути от разбоя[408]. Столетиями торговые связи между удаленными друг от друга сообществами прокладывались через пустыни и степи[409]. Для оседлого земледельческого населения дальняя торговля мало совместима с основным занятием. У кочевников это естественная часть жизни. Великий шелковый путь, связавший Китай с миром Средиземноморья, становится одним из важнейших средств торгового и культурного обмена в евразийском мире[410]. С начала 1‑го тысячелетия н. э. арабская караванная торговля – органичная составная часть международных связей: Индии – с Ближним Востоком и Европой. Не случайно столь позитивно относится к торговле ислам – мировая религия, с которой тесно связана история сообщества кочевников-скотоводов[411].
Мекка была торговой республикой, управляемой синдикатом богатых предпринимателей. Ее институты не были заимствованы у античного мира. Курьяши, составлявшие основу торговой элиты Мекки, лишь недавно оставили кочевничество, и их идеалы были кочевыми – максимум индивидуальной свободы, минимум публичной власти. Та власть, которая существовала, была городским эквивалентом племенных собраний, состоящих из глав семей, избранных по принципу богатства и репутации. Власть была чисто моральной[412].
Дальние торговые связи через степи и пустыни возможны не всегда. Иногда на эти пути накатывают волны межплеменных столкновений. Но стимулы к торговле сильнее войн. Караванам нужна охрана, а за нее надо платить. Доходы от торговли увеличивают не слишком богатые ресурсы степных кочевников. Дальняя торговля органически дополняет обмен между ними и оседлыми народами[413].
Регулярные войны Византии с Ираном, попытки последнего контролировать торговлю Византии с Китаем были фактором, стимулирующим развитие дальней караванной торговли через Аравийский полуостров, связывавший Индию и Византию[414]. То, что торговля была глубоко встроена в ткань арабских традиций, стало важным фактором сохранения арабами своей идентичности после завоеваний VII–IX вв., их мощного этнографического влияния на население более развитых регионов, таких как Сирия, Месопотамия, Египет. Победа арабского языка не была результатом действия властей. Во многих случаях христианам запрещалось говорить по-арабски, учить своих детей в мусульманских школах. Тем не менее ислам сделался религией большинства. Даже та часть населения, которая не приняла ислам, приняла арабский язык. В. Бартольд связывает это с тем, что “за арабом-воином следовал араб‑горожанин, которому и принадлежит главная заслуга в деле укрепления арабской национальности в покоренных странах”[415]. Хозяйство оседлого земледельца в основном носит натуральный характер. В истории аграрных обществ лишь изредка отмечаются периоды, когда производство земледельческой продукции на продажу становится массовым, а потребление крестьянина зависит от рынка. Что касается кочевников, то удовлетворение многих их жизненных потребностей связано с обменом, с торговлей. Одно лишь специализированное животноводческое производство – без продукции растениеводства, без изделий ремесленников – не может обеспечить кочевое сообщество. Если индийская община способна удовле творить свои потребности в ремесленных изделиях на основе внутриобщинного обмена и взаимопомощи, то степным кочевникам необходимы оружие, сбруя, ткани и многое другое, что они могут получить только с помощью торговли, причем чаще всего дальней.
Традиционная структура кочевого общества построена на кланах, среди которых есть господствующие и подчиненные. Иерархия кланов основана не столько на происхождении, сколько на военной мощи, способности управлять миграцией сообщества среди враждебного окружения. С укреплением межплеменной конфедерации клановая структура сохраняется, однако возрастает влияние военной аристократии. Тесная связь социальной стратификации с силой, воинским искусством и агрессивностью – характерная черта кочевых сообществ[416].
Историк и мыслитель Ибн Халдун, живший и работавший в XIV в., считал, что период, в течение которого кочевой род сохраняет претензии на знатность, обычно не превышает четырех поколений. Это утверждение относится к тем конструкциям, которые М. Вебер называл “идеальными моделями”[417]. Однако в устах проницательного исследователя жизни кочевников, знакомого с ней не по историческим источникам, – это яркое свидетельство неустойчивости иерархии в кочевых обществах.
Как и горцы, степные кочевники мобильны[418], в их сообществах роли пастуха и воина слиты воедино. Навыки, необходимые для охоты, военных действий и миграции в степи, близки. И еще одно важное сходство степняков и горцев: у тех и других нельзя изъять существенный объем прибавочного продукта. Все это препятствует формированию стратифицированного общества[419]. Ибн Халдун в своей классической работе “Введение в историю” подробно описал, почему кочевники-скотоводы более воинственны, чем оседлые земледельческие народы, объяснил причины, по которым в их среде значительно меньше закреплены иерархия, устойчивые формы государственности и налогообложения[420].
У степняков-кочевников, как правило, нет прямых налогов[421]. Есть иерархия, основанная на авторитете, умении организовать далекие переходы и успешные набеги. Есть имущественная дифференциация – в первую очередь по численности принадлежащего семье стада. Но кочевое общество, в отличие от земледельческого, не делится на платящее подати большинство и привилегированную элиту, которая присваивает прибавочный продукт, взимает налоги и специализируется на насилии[422]. В степи то и дело формируются крупные межплеменные союзы. Это требует координации действий. Однако до создания устойчивой администрации, которая вводит упорядоченную систему налогообложения, использует письменность, дело доходит редко. Такое случается, когда кочевники покоряют земледельческие народы.
Речь не идет о переходном процессе, когда социальная структура, характерная для присваивающего общества, разлагается, а на ее месте формируется новое стратифицированное общество. И кочевые племена, взаимодействующие с оседлыми народами, и аграрные цивилизации, тысячелетиями сохранявшие свои социальные формы, не демонстрируют тенденций к глубоким переменам.
В сообществах скотоводов-кочевников складываются принципиально иные, устойчивые общественные и экономические отношения, отличные от структур аграрного общества и в то же время остающиеся на присущем ему уровне технологических знаний.
На развитие событий в аграрном мире оказала влияние характерная для него асимметрия: несоответствие экономической продуктивности общества, производственного развития, масштабов экономической деятельности, с одной стороны, и его способности к организации насилия – с другой. Нигде эта черта не проявляется ярче, чем в многовековой истории отношений оседлых народов и степных кочевников между началом 1‑го тысячелетия до н. э. и серединой 2‑го тысячелетия н. э. Для степных кочевников оседлое население – своеобразный вид дичи, нападение на него – охота. Высокий экономический уровень оседлых цивилизаций делает их соблазнительной добычей для кочевников, но не гарантирует надежной защиты от них. Лишь после овладения порохом экономическая мощь оседлых народов дает им очевидные преимущества перед степняками. А пока совершенное искусство верховой езды и стрельбы из лука верхом – козырь легкой кавалерии кочевников в сражениях с войсками оседлых народов.
Из крупных цивилизаций наиболее уязвим для кочевников был Китай из-за своей относительной близости к евразийским степям. Но мобильные степные орды проникали даже в защищенную от них горами Индию. Наилучшая политика оседлого государства, которая позволяла ограничить давление степи, – испытанный метод “разделяй и властвуй”, разжигание среди кочевников внутренних конфликтов с помощью даров и подкупа. Пример удачного проведения такой политики – эволюция отношений Китая эпохи Хань с кочевым народом хунну во II–I вв. до н. э.
Аграрные империи, наиболее близко расположенные к территориям массового расселения кочевников, – Иран, государства Средней Азии, Китай – на протяжении десятков веков пытаются компенсировать военные преимущества агрессивных соседей, создавая новые, более совершенные виды оружия с применением передовых (по тому времени) технологий. Одна из самых серьезных инноваций – появление тяжелой конницы, способной противостоять степной кавалерии. Но вплоть до изобретения пороха военное преимущество оставалось за степью. Одна угроза, что неожиданно вторгшиеся мобильные группы могут за время короткого рейда сжечь посевы и перебить мирных крестьян, заставляла аграрные империи отказываться от неэффективных ответных карательных экспедиций и договариваться со степняками.
Чаще всего оседлое аграрное государство платило кочевникам дань за отказ от набегов. Чтобы сохранить лицо, правители империи нередко представляли эту дань как обмен подарками. Так было после поражения первого императора династии Хань от степного объединения хунну в III в. до н. э. Распространены были и прямые выплаты дани. Даже в XVIII в. Россия регулярно платила крымским татарам откуп за отказ от набегов на ее южные границы. Впрочем, от формы выплат суть экономических отношений не менялась. Наряду со скотоводством и дальней торговлей существенным ресурсом степных кочевников оставалась присваиваемая ими часть прибавочного продукта, созданного в оседлых аграрных государствах. По сути дела это все то же насилие по отношению к крестьянам. Лишь формы присвоения здесь иные – опосредованные местной элитой и налоговым аппаратом аграрных цивилизаций.
Для оседлых народов соседство с кочевниками неизбежно приводит к росту налоговой нагрузки. Независимо от формы обложения – будь это узаконенные налоги или прямые грабежи, собираемая дань или дополнительные сборы для организации отпора кочевникам, подарки степнякам или средства на содержание новой кочевой элиты – суть одна: возрастающее экономическое давление на оседлое сообщество, прежде всего на его земледельческое большинство.
Наряду с регулярными многовековыми отношениями оседлого населения и кочевников, торговлей и выплатой дани в евразийской истории было немало эпизодов, когда массы степных народов вторгались на территории аграрных государств, громили их армии, сметали старые элиты и вместо них создавали свои – тоже специализирующиеся на насилии, присваивающие прибавочный продукт.
Когда и по каким причинам возникают предпосылки для масштабных нашествий степных народов, в какой степени возможность нашествий и завоеваний зависит от внутренних процессов в степи и в какой – от ослабления аграрных государств в ходе династических циклов, – темы многолетних дискуссий. С точки зрения логики функционирования аграрного общества важно, что сама угроза завоеваний заставляет аграрные цивилизации мобилизовать ресурсы на нужды обороны, не позволяет элитам ограничивать налоговое бремя на крестьянство. Даже в тех государствах, где правители не отличались особой хищностью, не стремились выжимать из крестьян последнее, исходящая из степи угроза заставляла отбирать у земледельцев максимум возможного.
Еще одно важное направление, где взаимодействие со степью оказало влияние на функционирование всего аграрного мира, – смена элит, ломка социальной организации. Победоносные нашествия кочевников приводили не только к разрушению городов, гибели миллионов людей, сокращению населения, разрушению инфраструктуры, но и к насильственному смещению правящей элиты, разрушению традиционных механизмов, которые ограничивали изъятие ресурсов у земледельцев, предотвращали разорение деревень, бегство крестьян с земли[423].
Мы отмечали, что после падения империи Сун и возникновения династии Юань прекратилось характерное для периода Сун ускорение экономического роста. Какую роль сыграли при этом финансовое перенапряжение империи, разрушение и ломка социальной структуры – вопрос дискуссионный, но то обстоятельство, что достаточно необычная и хрупкая в условиях аграрного общества тенденция к ускоренному росту душевого валового продукта, к массовому внедрению инноваций прервалась именно после завоевания, вряд ли является случайным[424].
Ф. Бродель справедливо отмечает: “Общество принимало предшествующие капитализму явления тогда, когда, будучи тем или иным образом иерархизовано, оно благоприятствовало долговечности генеалогических линий и тому постоянному накоплению, без которого ничего не стало бы возможным. Нужно было, чтобы наследства передавались, чтобы наследуемые имущества увеличивались; чтобы свободно заключались выгодные союзы; чтобы общество разделилось на группы, из которых какие-то будут господствующими или потенциально господствующими; чтобы оно было ступенчатым, где социальное возвышение было бы если и не легким, то по крайней мере возможным. Все это предполагало долгое, очень долгое предварительное вызревание”[425]. В других аграрных цивилизациях Евразии регулярные вторжения кочевников перемешивали социальную структуру общества, не позволяли сформироваться тем династическим линиям, которые были характерны для Западной Европы.
Завоевав аграрное государство, новая элита из кочевников должна была предпринимать действия, направленные на придание устойчивости своей власти. Рано или поздно ей приходилось восстанавливать упорядоченную систему изъятия прибавочного продукта у земледельцев, учитывающую ограничения налоговых изъятий, характерные для стабильных аграрных обществ. Если победившие кочевники продолжали относиться к оседлому населению как к охотничьему трофею, объекту вымогательства и грабежа, их господство оказывалось недолгим[426].
Елюй Чуцай, один из китайских советников Чингисхана, задолго до окончательного покорения Китая говорил: “Хотя мы империю получили сидя на лошади, но управлять ею сидя на лошади невозможно”[427]. Победителям пришлось спешиться и занять ся управлением покоренными государствами. В Китае довольно быстро восстанавливается традиционная китайская система налогового администрирования. В Иране упорядочение системы изъятий прибавочного продукта заняло больше времени. Это происходит лишь в начале XIV в., после налоговой реформы Хасана[428]. Сама логика устройства аграрного государства, специализация меньшинства его населения на насилии, уязвимость крестьянского хозяйства, необходимость контроля за уровнем налогообложения, риски, связанные с переобложением, заставляют бывших кочевников-степняков на протяжении исторически короткого времени – жизни одного-двух поколений – восстанавливать или воссоздавать институты, характерные для аграрных цивилизаций до их завоевания.
Еще одно последствие завоеваний – радикальное изменение в положении самой кочевой элиты, пришедшей к управлению земледельческим государством. До его завоевания степное сообщество малостратифицировано, воины-кочевники налогов не платят. Теперь они стали правящей верхушкой, стоящей над многократно превышающей ее по численности крестьянской массой. Это положение порождает две диаметрально противоположные тенденции. Предводитель межплеменной конфедерации, удачливый военачальник заинтересован в воссоздании характерной для аграрного общества жесткой иерархии. Большинство его сподвижников, напротив, стремятся сохранить элементы привычной кочевому обществу военной демократии[429]. Там, где побеждает первая тенденция, возникает централизованная империя, в которой кочевая элита получает набор привилегий. Если сильнее оказывается вторая тенденция, формируются феодальные режимы с характерной для них децентрализованной системой изъятия прибавочного продукта и организацией насилия. Сохранить старые институты нестратифицированного общества кочевников в обоих случаях оказывалось невозможно.
Радикальное изменение стиля жизни – переход от кочевой жизни в степи к оседлости, отказ от кочевого скотоводства как основного занятия – влияет на потомков бывших кочевников, кардинально изменяет их установки: утрачиваются навыки, связанные с кочевой жизнью, скотоводством, набегами на соседей. Несмотря на усилия правящей верхушки сохранить их, время берет свое. История дает нам много примеров постепенного упадка боевых навыков среди кочевников, некогда завоевавших аграрную империю. Теперь у них другой баланс стимулов. Набеги соседей из степи на крестьян, производящих для осевшей на землю новой элиты прибавочный продукт, подрывают налоговую базу аграрного государства. Утратив мобильность, растеряв свои прежние военные преимущества, они через несколько поколений оказываются в том же положении, что и аграрные государства перед завоеванием и падением, испытывают такое же давление со стороны степи.
Степные завоевания регулярно “перепахивают” социальные структуры аграрных цивилизаций. Но и в зонах оседлого земледелия, и в степи организация этих структур в своих основных чертах остается неизменной. Две части евразийского мира сосуществуют рядом, торгуют и воюют друг с другом на протяжении десятков веков. Мир степных кочевников-скотоводов взаимодействует с миром аграрных земледельческих цивилизаций, оказывает серьезное влияние на его жизнь и развитие, но сам по себе не порождает долгосрочных динамических процессов, сил, способных устранить характерные для аграрных цивилизаций преграды на пути ускорения экономического роста.
Глава 6 Феномен античности
Ветер от стен Илиона привел нас ко граду киконов, / Исмару; град мы разрушили, жителей всех истребили. / Жен сохранивши и всяких сокровищ награбивши много, / Стали добычу делить мы, чтоб каждый мог взять свой участок.
Гомер. Одиссея. IX. 39–42Греки и римляне не знали ничего более достойного любви и более священного, чем родина. Они говорили, что ей обязаны жертвовать всем и что мстить ей столь же непозволительно, как мстить собственному отцу; что своих друзей можно выбирать только из числа ее друзей и что наилучшая судьба уготована тому, кто за нее сражается; что смерть ради ее защиты прекрасна и сладостна и что небеса приемлют лишь тех, кто послужил ей.
Из статьи в “Энциклопедии” Дидро и Д’АламбераМасштабная аномалия аграрного мира, изученная и документированная лучше, чем история горцев и степных кочевников, – мир античного Средиземноморья. Благодаря европоцентризму исторической науки середины XIX в. именно его история рассматривается как центральная в изучении докапиталистического развития. Из нее черпают представления об аграрных цивилизациях, поворотных точках в их становлении и эволюции.
§ 1. Природные предпосылки античной цивилизации
Основной элемент античного феномена – способность на века преодолеть одну из ключевых проблем аграрного мира: несовместимость крестьянского труда и военного дела. Чтобы оградить себя от специализирующейся на насилии элиты, крестьянскому сообществу необходимо обладать способностью к самоорганизации, умением своими силами обеспечить порядок и самооборону. Тогда средства, которые необходимо тратить на эти функции, может определять само крестьянское сообщество исходя из своих потребностей. Они будут меньше податей в аграрных монархиях, взимаемых в пользу правящего класса, или дани, которую приходится платить сменяющим друг друга разбойникам. Чтобы подобная социальная организация стала возможной, крестьянской общине необходимо выработать механизм совместного принятия и исполнения решений, который не даст скатиться к анархии, открывающей дорогу “мобильному бандитизму”. Учитывая слабость коммуникаций в аграрном обществе, надо понимать, что люди, принимающие решения, должны уместиться на центральной площади поселения. Небольшому самоорганизующемуся сообществу, которое обязано защищать себя, это легче сделать в защищенной горами долине у морской бухты, чем на континентальной равнине. Шансы на устойчивость такой организации выше, когда в общине доля занятых вне сельского хозяйства и обладающих полезными для военного дела навыками больше обычной для аграрного общества. Если горные районы и великие степи создали базу для специфических форм организации общества, характерных для горцев и скотоводов-кочевников, то античный феномен связан с морем. Морей много. Но лишь в Средиземноморье возникла особая, оказавшая серьезное влияние на развитие человечества форма общественной организации – полисная демократия. Акватория Средиземного моря уникальна: изрезанная береговая линия, множество островов, удобные бухты и гавани, откуда можно совершать неблизкие плавания, не теряя из виду сушу[430], почти нет приливов и отливов. Мореходство на Средиземном море начинается уже в 4‑м тысячелетии до н. э., когда появляются неолитические поселения на Крите. Морской транспорт при технологиях аграрной эпохи выгоднее и удобнее сухопутного. В античные времена стоимость перевозки груза через все Средиземное море с востока на запад была примерно такой же, как перевозка товара по хорошим римским дорогам на 75 миль. Благодаря низким транспортным расходам в Средиземноморье в торговый оборот были вовлечены значительные объемы товаров массового потребления[431] в отличие от сухопутных караванных путей, где торговля велась в первую очередь предметами роскоши, которая мало влияет на жизнь подавляющей части крестьянского населения[432]. Рыболовство, дополняющее ресурсы продуктов питания, поставляемых земледелием и скотоводством, получает в Средиземноморье широкое распространение, способствует развитию мореходства[433]. К тому же разнообразные природные условия позволяют жителям приморских территорий специализироваться на различной сельскохозяйственной продукции, использовать преимущества разделения труда. Здесь возникает средиземноморская триада: производство зерна соседствует с возделыванием на больших площадях оливок и винограда[434].
По данным археологических раскопок, специализация присутствует уже в крито-микенский период, хотя ее полное развитие приходится на более позднее время[435]. Урожаи оливок и винограда можно собирать на земле, малопригодной для выращивания зерновых культур. Это позволяет повысить продуктивность сельского хозяйства. Характерно, что северная граница проникновения греческой колонизации в Средиземноморье и районы Черного моря совпадает с северной границей распространения оливкового дерева, с регионом, в котором возможно использование средиземноморской триады[436]. Разные требования к земле – под пшеничные поля, оливковые рощи и виноградники – стимулируют межрегиональную специализацию и развитие торговли[437].
Однако у расширения торговли есть и оборотная сторона. Торговый корабль середины 2‑го тысячелетия до н. э., как и многие века потом, ничем не отличается от пиратского[438]. Пиратство везде, особенно в Средиземноморье, идет рука об руку с торговлей[439].
Гёте вложил в уста Мефистофеля слова: Кто спросит, как наш груз добыт? Разбой, торговля и война – Не все ль равно? Их цель одна![440]Народам моря в силу их малочисленности сложнее, чем степнякам, завоевывать крупные земледельческие государства. Перевозить по морю необходимые для масштабных военных действий крупные контингенты пеших воинов и тем более конницы в древнем мире было трудно. К тому же центры аграрных цивилизаций умышленно отодвигались от побережья. Поэтому морские кочевники, как правило, использовали свою мобильность для набегов и грабежей, а не для захвата других народов и их территорий. Завоевание датчанами, а затем норманнами Англии – исключение из правил. Другое дело – пиратство, морской разбой. Упоминания о нападениях пиратов как массовом явлении встречаются в самых ранних источниках по истории Средиземноморья.
В донесении египетскому фараону Рамзесу III, относящемся к концу 2‑го тысячелетия до н. э., сообщалось о существовании морских разбойников, которые на протяжении более чем 100 лет наносили значительный вред мореплаванию египтян. В этом документе говорилось: “Обрати внимание на народы Севера, живущие на островах. Они неспокойны, они ищут подходы к портам”[441].
Характерная черта пиратства – децентрализация насилия. То, что не сумел отнять один, отнимет следующий. Устойчивое сельское хозяйство при непрерывных пиратских набегах невозможно. Иллюстрация тому – Египет во времена нашествий “народов моря”. Подвергавшиеся пиратским набегам оседлые народы платили морским кочевникам дань, чтобы предотвратить их нападения. Дань была платой за мир и порядок на море, собственную безопасность.
Независимо от того, удавалось или нет пиратам обирать прибрежные аграрные государства, они все больше и больше склонялись к морской торговле, к увеличению ее доли в балансе с морским разбоем. Торговля и выгоднее, и безопаснее. Даже регулярно получая дань, разбойники охотно дополняли ее коммерческими доходами. Они начинали понимать, что торговля с соседними аграрными государствами не подрывает их ресурсы и, следовательно, они сохраняют “курицу, которая несет золотые яйца”, базу для потенциальных грабежей[442].
При децентрализованной угрозе извне аграрные государства испытывали трудности в организации обороны по всему побережью[443]. А прибрежные народы, активно занимавшиеся торговлей и пиратством, обладали теми же преимуществами, что и кочевники-скотоводы, – мобильностью и малой уязвимостью собственных поселений, обусловленной гористой местностью[444].
Этим и объясняется характерное для централизованных империй отношение к приморским территориям как к ничьей земле, к местам, куда переселяют побежденного врага.
Централизованная аграрная империя слабо контролирует свои приморские территории. Когда государь и его армия не способны защитить жителей побережья, обеспечить им хотя бы минимальный уровень безопасности, последние вынуждены обеспечивать оборону своими силами. Характерная для аграрного общества специализация на насилии, отделение его от мирного крестьянского труда невозможны – самооборона требует участия всего сообщества. А ее организации способствует гористый рельеф многих районов Средиземноморья[445]. Как пишет Фукидид, “города, основанные в последнее время, когда мореплавание сделалось более безопасным, а денежные средства возросли, строились на самом побережье, укреплялись стенами и занимали предпочтительно перешейки (ради торговых удобств и для защиты от враждебных соседей). Древние же города, как на островах, так и на материке, напротив, строились в некотором отдалении от моря для защиты от постоянных грабежей (ведь грабили не только друг друга, но и все прочее побережное население), поэтому они еще до сих пор находятся в глубине страны”[446].
Сильно пересеченная местность плюс сложность создания и функционирования централизованных государств – это известные из опыта многих горских народов факторы, способствовавшие формированию общества, где роли крестьянина и воина не разделены, а слиты воедино[447]. Торговля и пиратство требовали того же – скоординированных действий общины, навыков взаимодействия и взаимозаменяемости, в том числе и в применении насилия[448]. Оставившие след в истории своими нападениями на Египет в конце 2‑го тысячелетия до н. э. “народы моря”, подобно горским полукочевникам, дополняют доходы от сельского хозяйства разбоем и, как степные кочевники, торговлей[449]. У героев Гомера пиратство – почтенное, благородное дело, само подозрение в неспособности заниматься которым оскорбительно.
Впрочем, совмещение в этих краях торговли с пиратством вовсе не греческое изобретение. До греков этими промыслами активно занимались финикийцы, о чем неоднократно упоминает Гомер. Заимствование греками финикийского алфавитного письма[450] служит ярким примером культурного взаимодействия народов, которые в полном объеме использовали возможности средиземноморской триады[451].
В Финикии, как и в Греции, роль главы сообщества, именуемого термином “царь” или “князь”, передавалась от отца к сыну. Но в политическом устройстве сохранялись черты, характерные для древней демократии. Князь должен был согласовывать свои действия с советом, в котором участвовали взрослые свободные мужчины. Войско являлось ополчением свободных мужчин. Слова “свободный” и “воин” отождествлялись[452]. Однако центры финикийской цивилизации располагались слишком близко от крупных аграрных империй Ближнего Востока. Поэтому ее эволюция, трансформация в цивилизацию античного типа – без административной стратификации и государства – была здесь заблокирована и не состоялась.
В Греции почвы бедные и потому возможности для мобилизации прибавочного продукта ограниченны. Здесь, как и в других гористых местностях, сам рельеф помогает отражать нападение неприятеля. Те же горы затрудняют образование крупных политических объединений. Зато во множестве складываются политически независимые общины, сходные с горскими объединениями. Но у греков есть то, чего нет у классических горцев: море теплое, удобное для судоходства. Оно порождает стимулы дополнить малопродуктивное сельское хозяйство морской торговлей и морским разбоем.
§ 2. Организация хозяйственной и социальной жизни греческих поселений
Опыт соседних централизованных империй с их стратифицированным обществом, налоговым аппаратом, письменностью, с их специализирующимся на военном деле меньшинством не может не оказывать влияние на Средиземноморье. Первая крупная средиземноморская держава – Крит с центром в Кноссе, типичное аграрное государство со всеми его характерными чертами, но больше обычного вовлеченное в международную торговлю, концентрирующее оборонные усилия на борьбе с пиратством и развитии морского дела. Во времена его расцвета активность морских разбойников снижается – Критский мир обеспечивает расцвет торговли во всем Средиземноморском регионе[453]. Но если для аграрных государств специализация незначительного меньшинства на насилии, отделение крестьянской работы от воинского дела – закономерный порядок, к которому подталкивает сама логика организации производственного процесса, то для своеобразного мира Средиземноморья с его мобильностью, децентрализацией насилия, необычно широким распространением торговли такая организация общества оказывается тупиковой. Примерно за 14 столетий до н. э. господству критского флота в восточном Средиземноморье приходит конец.
Сами механизмы крушения Критского и построенного по его образцу Микенского царств из-за ограниченности достоверных источников изучены слабо. Но из классической греческой литературы известно, что после их краха и волны миграции, вызванной этим, на берегах Эгейского моря укореняется своеобразный тип общественной организации, для которой характерны ограниченная стратификация; объединение функций земледельца, воина, торговца и морского разбойника; отсутствие упорядоченной налоговой системы; организация общинной самообороны[454].
Уже в том виде, в котором греческие поселения возникают после “темных” веков, в ранний архаический период они являются полисами – городами‑государствами. Характерными чертами полиса были контроль над прилегающей территорией и наличие укрепленной крепости (само слово “полис” первоначально означало “крепость”)[455]. Греческие полисы объединили людей, которые а) занимают территорию, имеющую своим цент ром город, в котором находятся органы власти, обычно концентрирующиеся вокруг укрепленной крепости (акрополя), б) свободны в решении принципиальных вопросов организации собственной жизни[456].
Поселения, как правило, небольшие. Полис, насчитывающий 5 тыс. жителей, считается в это время крупной общиной. В греческих поселениях существует стратификация, в том числе и определяемая организацией военного дела. Гомеровская Греция – период боевых колесниц. Лучшие воины, владеющие этой военной техникой, составляют элиту полисов. Однако все доступные нам источники свидетельствуют: социальная дистанция, которая отделяет их от остальных членов общины, от пеших воинов, невелика – куда меньше той, что лежит между привилегированным меньшинством и крестьянской массой в традиционных аграрных государствах.
Гомер знает только одну форму человеческого общежития, которую он сам называет полисом[457]. Для Гомера “поле” вместе с его обитателями – это синоним первобытной дикости, крайней социальной разобщенности. Правильная, цивилизованная жизнь, в его понимании, возможна только в полисе[458]. В полисе суверенитет принадлежит народному собранию, т. е. общине полноправных граждан. Полис – прежде всего коллектив граждан. В олигархических государствах важна роль совета, но и там народному собранию принадлежало окончательное решение при обсуждении самых основных проблем (таких, например, как война и мир)[459].
При анализе специфики социальной эволюции Греции с начала гомеровского периода, создания предпосылок полисной демократии имеет смысл обратить внимание на социальные установления других народов со сходными специфическими чертами организации хозяйственного быта и социальной структуры. И сегодня хорошо известны морские полукочевники, в хозяйственной деятельности которых значительную роль играет рыболовство, иногда сочетающееся с торговлей и морским разбоем[460]. Но очевидная параллель здесь – Скандинавия в VII–XI вв. И в Греции гомеровского периода, и здесь население хорошо знакомо с производящим хозяйством, значительна роль скотоводства в производстве сельскохозяйственной продукции, ограничена роль земледелия, широко распространено рыболовство, морское дело[461]. Одинаков ландшафт: невысокие горы и изрезанное морское побережье, которые обеспечивают многочисленные места, удобные для пристани и защиты. Распространены морская торговля и морской разбой[462]. Отсюда и сходство социальной структуры: лишь формирующееся государство, отсутствие упорядоченного налогообложения и государственного аппарата, дары как способ обеспечения протогосударственных функций[463], значительная роль народного собрания способных носить оружие воинов в решении вопросов организации жизни общества, войны и мира, выбора предводителей[464]. В мире викингов, как и в античной Греции, преобладающим сословием было сообщество свободных крестьян – воинов[465].
Такие параллели принять непросто. Слишком велика дистанция между IX–VII вв. до н. э. и VII–XI вв. н. э. Но если смотреть на происходящее не с точки зрения физического времени, а учитывать уровень развития, т. е. применять к аграрным обществам те же методы социально-экономического анализа, которые мы используем для исследования современного экономического роста, ориентироваться на такие признаки уровня развития, как сочетание производящего хозяйства и отсутствия цивилизации, в частности письменности, использование таких аналогов отнюдь не антиисторично. При сходстве многих элементов организации хозяйственной жизни, социальной структуры греков гомеровского и архаического периодов и норманнских народов Северной Европы VII–X вв. отличие мира того времени, когда последние появляются на исторической авансцене, оказывает определяющее влияние на траектории их последующей социальной эволюции. В мире IX–VII вв. до н. э. в районах, близких к местам расселения греков, доминировали крупные аграрные централизованные государства. Специфика формы расселения, хозяйственной деятельности затрудняла копирование моделей организации общества, подталкивая греков к социальным инновациям. Греческий полис возникал как отрицание того, что сами греки называли восточным деспотизмом. Норманны вступают в процесс активного взаимодействия с другими регионами Европы в то время, когда здесь укореняются традиции децентрализованной феодальной организации.
Сами набеги норманнов, требовавшие децентрализованной организации защиты, – важный фактор такой эволюции. Одним из факторов, обусловившим более быструю по сравнению с Грецией эрозию традиционной военной демократии, характерной для сообществ морских полукочевников Скандинавии, стало радикальное отличие доминирующей военной техники этого периода по сравнению с греческой фалангой. В XI – XII вв. в Скандинавских государствах происходит переход от народного ополчения свободных крестьян-воинов к использованию тяжеловооруженной рыцарской конницы[466]. Отсюда эволюция социально-политической организации норманнов по характерному для Западной Европы пути феодализации, замены народного ополчения рыцарской конницей, превращение существовавшей ранее вайциллы – поставок припасов для пиров с участием короля – в регулярное налогообложение[467]. Традиции более раннего периода оказывают влияние на специфику формирующихся феодальных институтов. В Скандинавии нигде не было распространено крепостничество, большинство населения по-прежнему составляли крестьяне-землевладельцы, не существовало характерного для большей части континентальной Европы запрета крестьянам хранить и носить оружие.
§ 3. Античный путь эволюции социальных институтов
Эволюция античных институтов показывает: существовал отнюдь не единственный путь от примитивных социальных структур раннего неолита к трансформации даров в налоги, к разделению на сельское хозяйство как занятие основной массы населения и на специализацию в государственном управлении, в насилии. В особых условиях оказывается возможным альтернативный путь – отказ от системы даров, восприятие налогов как признака рабства, формирование общества крестьян-воинов, стабилизация полисной демократии.
Античный путь эволюции позволяет сочетать преимущества кочевых народов, где каждый мужчина – воин, с благами цивилизованного оседлого государства: большими экономическими ресурсами, развитой культурой, высоким уровнем организации, в том числе и военного дела. Греческая фаланга и римские легионы – лучшие для своего времени, по крайней мере в Средиземноморье, военные структуры.
Жители полиса в своем большинстве занимаются сельским хозяйством. Это характерно даже для Афин, одного из самых урбанизированных центров античности. И здесь город лишь центр полиса, в котором можно организовать защиту от врага.
В античном мире торговые отношения, порожденные разделением труда внутри средиземноморской триады, необычайно глубоко для аграрного мира проникают в жизнь массы крестьянского населения. Отсюда роль городов как торговых центров и одновременно центров политической самоорганизации. В аграрных цивилизациях города рассматриваются как аномалия, отклонение в организации общественной жизни, место дислокации правящей элиты, центр опутывающей государство налоговой паутины. Для крестьян город – нечто враждебное. В спаянном торговлей античном мире город, напротив, органичная и неотъемлемая часть крестьянского общества.
Необычно высокий, непревзойденный вплоть до XVII–XVIII вв. н. э. уровень урбанизации античного мира – общеизвестный факт, равно как и существенно меньшая, чем в классических аграрных обществах, хотя и доминирующая в экономической жизни роль сельского хозяйства[468]. В античном мире выше значение торговли. Алфавитный способ письма стал предпосылкой широкого распространения грамотности. Если иероглифическая письменность в аграрных государствах доступна лишь немногим посвященным, то в греческом полисе алфавит – достояние большинства граждан. Новая система письменности становится универсальным средством передачи информации, которое можно с успехом применять и в деловой переписке, и для стихосложения, и для сохранения философских конструкций[469].
Фактор, обеспечивший возможность подобной эволюции общественных институтов, – удаленность Греции, где формировалась эта античная аномалия, от крупных и агрессивных централизованных государств[470].
Важнейшее социальное разграничение в аграрном обществе – деление на полноправных граждан, в чью обязанность входит лишь служба, в первую очередь военная, и неполноправных, платящих прямые налоги государству или подати господину. В греческих общинах архаического периода твердо закрепляется иной принцип. Члены общины, они же воины, совместно участвуют в боевых действиях и не платят прямых налогов[471]. Для греческого мира характерно отождествление прямых налогов с рабством[472]. Ввести их стремились тираны, которым нужны были средства на наемную стражу, на раздачу денег плебсу для поддержания собственной популярности. Размышления о связи налогов и тирании мы находим и у Аристотеля[473].
Индоарии, в том числе и греки, прежде чем осесть на землю, по-видимому, как мы уже отмечали в предыдущей главе, обладали многовековым опытом жизни кочевников-скотоводов. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что во многих европейских языках слова для обозначения лошади значительно более схожи, чем лексика, связанная с оседлым земледелием. Трудно сказать, насколько характерные для кочевников представления о том, что свободные люди не платят прямых налогов, повлияли на формирование греческих традиций, однако не только греки, но и многие другие индоевропейские народы тесно связывали налоговое бремя с рабством. Когда на закате Рима готов расселяли на территории империи, римляне вынуждены были освобождать варваров от налогов, поскольку те не допускали отношения к себе как к рабам.
Греки сумели так организовать военное дело, что крестьяне могли эффективно противостоять воинам-профессионалам аграрных империй[474]. Геродот, как известно, в несколько раз преувеличил численность персидского войска, с которым греки столкнулись во время похода Ксеркса. Но это типичный для военной истории случай, когда при сравнительной оценке крестьянского ополчения и профессиональной армии качество переведено в количество[475]. Каким бы ни было численное соотношение греков-ополченцев и профессионалов-персов, результат известен: организованные крестьяне отбросили полчища Ксеркса. Организация военного дела у оседлых греков оказалась не менее эффективной, чем у горцев или степных кочевников.
Развитие военного дела оказывало непосредственное влияние на формы полисной демократии. Массовое применение оружия из железа, закат эпохи колесниц, появление тяжеловооруженной фаланги гоплитов[476] – все это расширяло участие воинов в делах полиса, вело к ослаблению аристократии[477]. Программа строительства флота, требующая привлечения к морской службе малообеспеченных граждан, создавала предпосылки для всеобщего избирательного права, которое распространялось, разумеется, лишь на свободных граждан – мужчин.
Финансовое благополучие классического античного города Афин зиждется на сборах за экспорт и импорт через порт Пирей и доходах от рудников. Во время войн как временная и чрезвычайная мера вводятся прямые сборы с граждан[478]. Часть государственных функций выполняется не за деньги и не в виде обязательной трудовой повинности, а в качестве почетной обязанности – литургии.
Отсутствие прямых подушевых и поземельных налогов не только отличает античный мир от аграрных государств, но и создает предпосылку для принципиально иной эволюции отношений собственности, в первую очередь важнейшего в аграрную эпоху вида собственности – земельной. Собственность крестьянина в аграрных государствах обременена обязательствами. В ней переплетаются права обрабатывать землю и кормиться с нее и обязанности содержать господствующую элиту. Если нет прямых налогов и других изъятий у крестьян, более того, они несовместимы с традициями, то формируются простые и понятные земельные отношения. Земля принадлежит тому, кто пользуется ее плодами; он может распоряжаться ею по своему усмотрению: закладывать, продавать, обменивать. Это послужило базой для специфической модели нераздельной, не обремененной обязательствами, свободно обращающейся на рынке частной собственности, а в античном мире породило острейшие проблемы, связанные с распределением земли[479].
В аграрных государствах нередки были случаи, когда крестьян насильственно прикрепляли к земле, чтобы они гарантированно выполняли свои обязанности перед государством или правящей элитой. Если земля не обременена обязательствами, втянута в рыночный оборот, от обеспеченности ею зависит благосостояние крестьянской семьи, возможность для землевладельца выполнять обязанности полноправного гражданина, в первую очередь воинские обязанности. Естественно, борьба за распределение земли не могла не обостриться. Она становилась важнейшей частью античной истории. Античная традиция устойчиво связывает все попытки земельного передела с угрозой тирании[480].
Концентрация земельной собственности при характерных для того времени представлениях об унизительности наемного труда, его несовместимости со статусом полноправного члена общины, крестьянина-воина подталкивала к различным социальным выплатам и раздачам. Это становилось немалым бременем для античных городов. В Афинах на деньги от взносов и пошлин содержалось свыше 20 тыс. человек[481]. Ш. Монтескье[482] писал о пауперизации римского населения из-за широкого распространения социальных раздач[483].
В традиционных аграрных обществах возникновение административной лестницы – иерархии ролей в исполнении государственных функций, перераспределение ресурсов, формирование налоговой системы, разделение общества на тех, кто платит налоги, и тех, кто их не платит, – важнейшие элементы социальной дифференциации. Параллельно идет процесс имущественной дифференциации, который переплетается с распределением статусов в системе государственной власти, но значение его второстепенно. В условиях античного общества, где велика роль торговли, важнейшей линией общественного расслоения становится имущественная дифференциация[484].
Развитие рынка, широкое вовлечение античного общества в торговлю позволяют гражданам дополнять свои скромные доходы от сельского хозяйства тем, что приносит разделение труда. Но чем больше развивается торговля, тем неравномернее распределяются полученные от торговли богатства. Чем больше концентрируется земельная собственность, чем меньше крестьян-воинов остается в общине, тем она слабее. Это одна из стержневых проблем в политической истории и античной Греции, и республиканского Рима.
Со становлением полиса связано укоренение представлений о правах человека (разумеется, как о правах равноправных членов общины), о свободе[485], демократии, частной собственности. В полисе граждане и государство не противостоят друг другу. По существу, граждане и есть государство[486]. Античный период – период необычайного расцвета культуры и экономики в истории аграрных обществ. Лишь к XII–XIII вв. н. э. Западная Европа по душевому валовому внутреннему продукту достигает уровня античности[487].
Сами военные успехи греков в противостоянии с расположенной вблизи их территории могучей империей укоренили в средиземноморском мире убеждение в превосходстве демократических режимов, где властвует закон, должностные лица избираются, а народные собрания созываются регулярно[488]. Пример полисной демократии оказывает серьезное влияние на социальную организацию в сообществах с другой социально-экономической историей, не связанных ни с морской торговлей, ни с пиратством, служит образцом для подражания. Например, Спарта своей общественной организацией схожа с традиционными аграрными обществами, где есть специализирующаяся на насилии элита и крестьянское большинство – илоты. Соотношение спартанцев и илотов составляет примерно 1:7. Но и здесь под влиянием социального опыта других греческих полисов формируется необычная для аграрных сообществ структура – в правящей элите надолго сохраняются устойчивые демократические институты.
Римское общество по сравнению с классическим греческим полисом возникает в иных условиях. В истории раннего Рима нет широкого развития торговли и пиратства, которые дополняют сельскохозяйственную деятельность; римляне считают своих предков крестьянами. Это типичное крестьянское сообщество, находящееся на ранней стадии стратификации: в римских источниках мы находим упоминания о сенаторах, которые сами обрабатывают свои поля. Когда зарождалась римская государственность, этруски, латины, лигуры составляли тесно связанный мир центральной Италии VI–VII вв. до н. э. Все они находились под сильным влиянием контактов с греческим миром[489]. Пути институциональной эволюции городов‑государств здесь были сходными, и Рим отнюдь не был исключением[490]. В конце VII и VI вв. до н. э. сообщество латинян проходит через два взаимосвязанных процесса – урбанизацию и создание государства. Результатом этих процессов было возникновение города‑государства[491].
В период подъема, когда Рим доминировал на Средиземноморье, он представлял собой не традиционную аграрную деспотию, а самоуправляющийся полис. Это оказало определяющее влияние на дальнейшую эволюцию всех римских институтов. Здесь закрепляются важнейшие принципы организации античного мира – полис как сообщество крестьян-воинов, которые не платят прямых налогов, несут военную службу, участвуют в решении общественных проблем и судопроизводстве[492].
Своеобразная, порожденная особыми условиями Средиземноморья античная модель эволюции несла в себе элементы неустойчивости, предпосылки внутреннего кризиса. При низком технологическом уровне трудно веками сохранять ролевую функцию гражданина – крестьянина, воина и равноправного члена сообщества в одном лице. Это приводит к необычайно широкому для аграрных обществ распространению рабского труда. Соотношение рабов и свободных в античном мире многократно меньше соотношения зависимого крестьянского населения и административно-военной правящей элиты в традиционных аграрных государствах. Даже в Афинах – одном из ключевых центров античного мира – численность рабов современные исследователи оценивают примерно в треть населения[493], в то время как крестьяне аграрных империй численно превосходили привилегированную элиту примерно в 10 раз. Но распространение рабства, особенно использование рабского труда в сельском хозяйстве, формирует своеобразную античную идеологию: работа на другого человека, на хозяина, – это утрата свободы. Вот почему миру античности присуща черта, тесно связанная с самой природой его институтов, – жесткое различие между рабом и свободным человеком. В традиционных аграрных монархиях эти социальные статусы зачастую сближаются. Зависимый, обязанный платить подати крестьянин, как правило, принадлежит к той же этнической группе, что и его господин, даже сам владыка. Элита тоже не свободна, а обязана служить своему монарху. Высших чиновников часто называют рабами царя. В полисной демократии, в обществе свободных крестьян-воинов раб обычно принадлежит к иной этнической группе, и это отделяет его от граждан. На раба не распространяются права и свободы. Это привилегия членов общины, или, в более широком смысле, соплеменников, не варваров. Аристотель пишет: “Варвар и раб по природе своей понятия тождественные”[494]. В системе отношений традиционного аграрного общества продажа крестьянина допустима, но, как правило, вместе с землей, с которой связаны его обязанности по отношению к господину или к государству. Специфика античного рабства – массовая продажа рабов без земли.
До сих пор спорят, насколько распространение рабства задержало экономическое развитие и внедрение новых технологий. А. Смит считает очевидным сдерживающее влияние этого фактора на развитие античной экономики[495]. Впрочем, рабство было не единственным фактором, который расшатывал античную модель развития. Не меньшие проблемы связаны, как мы уже отмечали, с поддержанием слитности ролей “свободный крестьянин – воин – член общины”. Соседство сильного противника всегда представляло угрозу для античных институтов. Типичный пример – история Сиракуз, где постоянное давление Коринфа приводит к формированию тирании в древнегреческом понимании этого термина, т. е. общества, разделенного на правящую элиту и крестьянское население.
Пока войны были короткими и солдаты могли возвращаться домой к началу сельскохозяйственного сезона, возможность эффективно выполнять роли крестьянина и воина сохранялась. Обычно гоплит[496] нес с собой припасы, необходимые для пропитания в течение трех дней. Система хорошо организованного крестьянского ополчения была приспособлена для коротких битв, но не для длительной войны[497]. Но чем богаче становилась Греция, чем больше укреплялась ее военная мощь, тем длительнее и напряженнее были войны, которые она вела. Уже войны V–IV вв. до н. э. выявили внутренние противоречия между ограниченностью размеров поселения, совместимых с демократическим устройством, и численностью армии, необходимой для эффективных военных действий. Они ведутся уже не отдельными городами‑государствами, а их коалициями. Это очевидное противоречие с базовыми принципами функционирования независимого города‑государства[498]. Со времен Пелопоннесской войны возникает потребность в профессиональной армии[499].
Солдатам-профессионалам надо платить. Как совместить содержание профессионального войска с античным принципом обходиться без прямых налогов – труднейшая проблема в греческой истории. Афины пытаются решить ее, перекладывая все больше платежей на своих союзников[500]. Те рассматривают это как дань, как попытку лишить их свободы[501]. Дельфийская лига, сформировавшаяся первоначально как союз городов‑государств, добровольно объединившихся для совместных оборонительных и наступательных действий, в котором независимость его членов рассматривалась как очевидный, общепризнанный факт, со временем превращается в протоимперию[502].
Среди союзников вспыхивают восстания, что, в конце концов, и привело к поражению Афин в Пелопоннесской войне. В попытках Афин установить свою гегемонию в Греции явно видны те же тенденции, которые впоследствии были успешно реализованы Римом в его борьбе за доминирование в Италии. Различие состоит лишь в том, что Афинам попытка создать империю не удалась[503].
Численность армии, которую можно мобилизовать в городе‑государстве, ограничена его размерами. Сама природа полиса предполагает прямую демократию, совместное участие граждан в принятии решений. Платон в “Законах” утверждает, что идеальный полис должен включать 5040 полноправных граждан[504]. Аристотель указывает, что полис с населением больше 100 тыс. человек – это уже не полис. В “Политике” он пишет о том, что население и территория полиса должны быть легкообозримы[505].
Спарта была крупнейшим по территории греческим полисом площадью 8300 км2. Площадь Афин составляла 2800 км2. Большинство других полисов занимало площадь от 80 до 1300 км2. Афины были необычно большим полисом[506]. В большинстве городов‑государств численность свободных граждан мужчин находилась в диапазоне 2–10 тыс. человек[507].
Долгое время превосходство в организации военного дела, которое давала грекам фаланга гоплитов, и отсутствие сильных соседей компенсировали численную слабость полисной армии. Но это не могло длиться бесконечно. Во времена больших флотов и армий, которые содержались за счет дани или грабежа, суверенитет малых городов‑государств становится невозможным. А традиции партикуляризма в Греции были слишком сильны и препятствовали созданию устойчивых союзов между полисами.
§ 4. Источники внутренней нестабильности античного общественного устройства
Здесь начинает действовать еще одно объективное противоречие, влияющее на развитие аграрного мира. Богатство привлекает воинственных соседей, дает им стимулы к захватническим войнам. Они могут заимствовать военные технологии у цивилизованных народов. Не станем подробно излагать, как это противоречие проявлялось в истории античности. Результат общеизвестен: формирование сначала Македонией[508], затем Римом крупных цент рализованных государств, унаследовавших античные традиции организации общества, в том числе представление о правах и свободах граждан.
Общины в греческих, римских, италийских городах сохраняются в качестве элемента местного самоуправления[509]. И во времена эллинизма подавляющее большинство греческих городов расположено на побережье, тесно связано с торговлей. В самосознании римлян одним из преимуществ их государства является широкое распространение городов, городского стиля жизни[510]. Но над городами уже стоит мощное государство, которое относится к своим подданным, к населению завоеванных иноэтнических территорий так же, как традиционное аграрное государство к крестьянскому большинству. И македонцы в эллинских государствах Ближнего Востока, и пришедшие им на смену римляне сохраняют неизменной ту систему налоговой администрации, которая существовала на протяжении веков в аграрных цивилизациях до их завоевания. Греческие и римские колонии получают права самоуправления и налоговые иммунитеты, а основная масса крестьянского населения – лишь новую, специализирующуюся на насилии, правящую элиту.
Если сравнивать все это с другими завоеваниями аграрной эпохи, кажется, не произошло ничего нового. Сменилась присваивающая прибавочный продукт элита. Жизнь подавляющей части населения не изменилась. Но отличие есть, и оно в ином культурном уровне новой элиты. Всем кочевым династиям, которые завоевывали Китай, волей-неволей приходилось осваивать китайский язык и китайский институциональный опыт. Греки и римляне могли сохранять свой язык и обычаи, используя местный административный налоговый аппарат. Поэтому влияние античности на последующее развитие завоеванных ближневосточных народов и их культуру оказалось ограниченным. Тому способствовали глубокие различия между античными установлениями с их свободами и правами, с одной стороны, и всем предшествующим опытом ближневосточных государств – с другой. В те времена мир на Ближнем Востоке был четко разделен на две части, рядом существовали римские и эллинские города – с широкими правами самоуправления, свободами, античным стилем жизни – и деревня, все установления в которой, в том числе и налоговые, унаследованы от Персидской империи.
При всем блеске цивилизации греческих самоуправляющихся общин-полисов источники ее внутренней нестабильности очевидны. В условиях аграрного общества торговля может приносить значительные доходы, достаточные для потребностей свободного города, обеспечивающего экономические связи между крупными массами оседлых, живущих под властью аграрных деспотий крестьян. И все же в мире, где 9/10 населения заняты в сельском хозяйстве, роль торговли ограниченна. Она остается крупным источником доходов для Афин, но уже куда более скромным – для государств эпохи эллинизма, где база государственных финансов – те же традиционные подати, собираемые с селян.
Образование империй с мощными армиями не снимает фундаментального противоречия античности: трудности, а порой и невозможности совмещать функции крестьянина и воина в течение длительного времени. Хорошо организованное ополчение крестьян-воинов, освоив лучшие технологические достижения своего времени, могло вести успешные завоевательные войны и даже создать империю. Но чтобы ее сохранить, требуются постоянная армия, необходимые для ее содержания финансовые ресурсы, а значит, и налогообложение всего крестьянского населения.
Уже при Гае Марии[511], когда формальный призыв на воинскую службу еще сохранялся, римская армия становится все в большей степени профессиональной[512]. К эпохе Августа[513] средний срок службы достигает 20 лет[514]. Сами военные успехи Рима, быстрый рост контролируемых территорий, числа граждан делали невозможным сохранение традиционных демократических институтов города‑государства, базой которых было народное собрание.
Давно отмечено, что народное собрание может работать эффективно, если те, кто имеет право голоса, могут принимать в нем участие, проводя не более двух ночей вне дома. В Афинах это еще было возможно, в Риме, очевидно, нет. Тем не менее длительная традиция позволила поддерживать демократические институты до середины I в. до н. э. – времени, когда Рим превратился в огромную многонаселенную империю[515].
Крестьянская армия эффективна в условиях коротких походов и непригодна для поддержания безопасности огромной империи. Коммуникационные возможности времени, уровень технологии не позволяют быстро перемещать вооруженных крестьян для охраны ее протяженных границ. Подрывается важнейший принцип античного общества, порождение ранней военной демократии, унаследованной от охотников и кочевников-скотоводов: свобода предполагает исполнение воинской обязанности. Формирование принципата, при котором власть оказывается у того, кого поддерживают или хотя бы терпят легионы, закат прежних демократических институтов, уже не отвечающих новым реалиям, – таковы неизбежные последствия перехода к профессиональной армии. Выясняется, что античные установления нельзя сохранить, не создав централизованного государства с постоянной армией. Впрочем, когда рядом с самоуправляющейся общиной появляется государство с его военным аппаратом, эти установления все равно трансформируются.
В республиканском Риме, как и в греческих полисах, важнейший источник поступающих в казну доходов – взимаемые в портах импортные и экспортные пошлины. С распространением римских завоеваний его дополняет дань от покоренного населения. При Августе Рим формирует упорядоченную систему налогообложения своих подданных, но римские граждане от прямых налогов по-прежнему освобождены[516].
С переходом к наемной армии военные расходы растут. Как и в других аграрных государствах, в позднереспубликанском и имперском Риме военные расходы всегда превышают половину бюджета[517]. Череда успешных завоевательных войн, расширение контролируемых, платящих налоги территорий с иноэтническим населением, присвоение накопленных завоеванными аграрными государствами богатств на долгое время снимают для римлян фундаментальную проблему, порожденную переходом к постоянной наемной армии, – необходимость средств для ее финансирования.
В аграрную эпоху войны нетрудно разделить на рентабельные и нерентабельные. К последним относятся те, где затраты на ведение боевых действий больше военных трофеев и других выгод, которые приносит победа над неприятелем. Успешные войны с богатыми земледельческими государствами потенциально рентабельны, а с варварами, кочевниками и горцами нерентабельны. Отнять у них можно немного, но из-за их мобильности даже охрана собственных территорий от их набегов требует больших затрат. К I в. н. э. Рим практически исчерпал потенциал рентабельных войн. За его границами начинаются пустыни, территории воинственных соседей – Парфянского царства и германцев[518]. Оборона империи становится дорогостоящим занятием, а войны приносят все меньше трофеев, на которые можно содержать армию.
Численность римской армии, составлявшая в конце правления Августа примерно 300 тыс. человек, во время правления Севера[519] достигает 400 тыс. человек[520]. В IV в. она составляет 500–600 тыс. человек[521]. В последние века Римской империи на военную службу смотрели как на рабство, которого стремятся избежать. Уже нельзя было навязать силой всеобщую обязанность служить в армии. Как пишет М. Грант: “Молодые мужчины поздней Римской империи делали все, чтобы избежать воинской службы… Это становится видным из текста законов того времени, в которых раскрываются отчаянные шаги, предпринимаемые во избежание воинского призыва. Как там указано, многие юноши прибегали к членовредительству, чтобы стать непригодными к службе. За это по закону полагалось сожжение живьем… В 440 году укрывание рекрутов наказывалось смертной казнью. Такая же судьба ожидала тех, кто укрывал дезертиров… Показателем озабоченности государства проблемой дезертирства было введение законов о клеймении новых солдат: на их кожу наносили клеймо, как на кожу рабов в бараках-тюрьмах”[522].
Здесь еще раз сказывается противоречие аграрного общества. Богатство аграрной империи притягивает воинственных варваров. Соседство с ней позволяет им перенимать лучшие образцы боевой техники и военной организации. У варваров сельское хозяйство и организация насилия еще не разделены. Они бедны, но воинственны. Империя может оказывать им сопротивление, но расплачивается за это дорогой ценой – усилением налогового бремени. Для значительной части населения это означает невозможность дальнейшей сельскохозяйственной деятельности. С II–III вв. н. э. население западных регионов Римской империи начинает сокращаться[523]. Из-за падения государственных доходов уменьшаются средства на содержание армии, воинская служба становится все менее привлекательной, принудительной обязанностью. Падение мощи имперской армии не случайность, а проявление характерных для периода аграрной цивилизации противоречий между экономическим могуществом одних и способностью организовывать насилие других.
Возникают объективные предпосылки для краха еще одного фундаментального принципа, на котором зиждется античный мир: в свое время переход к постоянной армии лишил свободных граждан их демократического права участвовать в решении принципиальных вопросов общественной жизни. Теперь рушится и другой столп античности – освобождение гражданина от прямых налогов. А это уже признак рабства[524].
Со времени войн Марка Аврелия, предпринятых для отражения нападений варваров на Дунае, финансовое напряжение империи постоянно возрастает[525]. Его стараются уменьшить, прибегая к распродаже государственного имущества, порче монеты, повышению налогов. Еще один способ, с помощью которого императоры пытаются финансировать возросшие военные расходы, – это массовые конфискации[526]. И все равно средств для армии, способной надежно защитить империю, на богатства которой претендуют менее развитые народы, катастрофически не хватает. Выход один – отменить традиционные налоговые привилегии для населения, имеющего статус римских граждан[527], что и происходит в III в. н. э.: с 212 года все свободное население империи этот статус получило, потеряв заодно привилегии по уплате подушевого налога[528]. При Диоклетиане[529] налоги выходят за предел, выше которого устойчивое функционирование аграрного государства невозможно. Начинается классический финансовый кризис, связанный с избыточным обложением и эрозией доходной базы бюджета.
К IV в. в Риме уже мало что остается от традиционных античных институтов, а жалобы на тяготы налогового бремени приобретают всеобщий характер[530]. Повсеместно вводятся характерные для традиционных восточных деспотий подушная и поземельная подати, механизм круговой поруки. Все это распространяется и на города, прежде пользовавшиеся правом самоуправления и налоговым иммунитетом[531]. С этого времени очевиден закат городов, деурбанизация империи. В отличие от сложной административной системы ранней империи, где бюрократия выполняла лишь подсобные функции, сформировавшиеся при Диоклетиане бюрократические порядки и ритуалы ближе к традициям аграрных деспотий[532].
К этому времени в Римской империи закрепляется новая форма отношений между собственниками земли и земледельцами – колонат. Изначально колон – это любой человек, занимающийся сельским хозяйством. Затем под этим словом подразу мевают земельного арендатора. К началу IV в. колон уже закреп ленный на земле раб. Законы Константина[533] впервые в римской истории фиксируют эти отношения: закон 332 года прикрепляет крестьян к земле, а закон 364[534] года устанавливает наследственный характер закрепощения. Главный мотив нового законодательства – обеспечить сбор налогов. Со времен императора Севера[535] ответственность за это начинают нести муниципальные магистраты[536]. Прежде почетные должности в местном самоуправлении становятся обременительными и опасными, поскольку связаны с ответственностью за сбор налогов и обеспечением круговой поруки.
К концу IV в. события в Римской империи развиваются по уже известному сценарию: массовое бегство крестьян с земли, бандитизм, ослабление налоговой базы, дезертирство из армии, уход земледельцев под покровительство тех, кто способен оградить их от произвола налогового сборщика. Попытки правительства остановить все это оказываются малоэффективными.
Более того, легионы все чаще комплектуются из варваров. Как отмечает один из источников V в., тяжесть налогообложения в позднем Риме достигла такого предела, что местное население с радостью встречало варваров и боялось вновь оказаться под римской властью[537].
Рухнувший на территории Западной Римской империи в V в. н. э. общественный организм по своей природе утратил важнейшие черты античности, трансформировался в III–IV вв. в аграрное государство с высокими налогами, взимаемыми с крестьянского населения правящей элитой, занятой государственным управлением и организацией военного дела.
Уцелевшая Восточная Римская империя на протяжении всей своей истории сохраняет те же черты аграрного государства и имеет мало общего в организации социальной жизни с той своеобразной средой свободных крестьян, солдат и воинов, вместе решающих общественные дела, которая проложила дорогу античному феномену.
* * *
Античная альтернатива традиционной аграрной цивилизации резко расширила свободу и разнообразие исторического выбора, простор для общественной инициативы. Но всему этому не было места в основных структурах аграрного мира. Главный кормилец Римской империи – египетский крестьянин был обременен схожими податями и при персидском царе, и при эллинских правителях, и под властью Рима. То же относится к большей части сельского населения империи. Порожденные античностью разнообразие и свобода позволили бы создать новую, устойчивую базу развития, если бы обеспечили рост продуктивности сельского хозяйства, занятости в сферах, не связанных с производством продовольствия. Но для этого еще не было необходимых предпосылок, не было накоплено достаточно знаний и технологий. Для стабильного функционирования аграрного общества тот уровень свободы и многообразия, который несла в себе античность, был лишним. Чтобы появились предпосылки современного экономического роста, потребовались еще полтора тысячелетия постепенного развития. Главным в античном наследии, которое досталось завоевавшим Западную Римскую империю германским племенам, были культурная традиция классической античности, социально-экономический генотип греческих и римских представлений о возможности альтернативного государственного устройства, иных правовых отношений. Именно это сказалось на дальнейшей эволюции западноевропейских государств, отклонило ее от траектории, характерной для устойчивых, но застойных аграрных государств, позволило человечеству выбраться из институциональной ловушки аграрной цивилизации.
Глава 7 Капитализм и подъем Европы
– Чего мы ждем, собравшись здесь на площади?
– Сегодня в город прибывают варвары.
– Почто бездействует Сенат? Почто сенаторы сидят,
не заняты законодательством?
– Сегодня в город прибывают варвары.
К чему теперь Сенат с его
законами?
Вот варвары придут и издадут
законы.
К. П. Кавафис[538] В ожидании варваровГорода Европы стали как бы военными лагерями культуры, горнилом трудолюбия, началом нового, лучшего хозяйственного строя, без которого земля эта до сих пор оставалась бы невозделанной пустыней… В городских стенах, на малом пространстве теснилось все, что только могло пробудить, создать прилежание, находчивость, гражданская свобода, хозяйство, порядок, нравственность; законы некоторых городов – это подлинные образцы бюргерской мудрости. И патриции, и подлый люд пользовались благодаря этим законам гражданскими правами – первое имя, которое дано было общей свободе… Города совершили то, чего не хотели и не могли совершить государи, священники, дворяне, – они создали солидарно трудящуюся Европу.
И. Г. Гердер[539].Идеи к философии истории человечества§ 1. Закат античного мира и становление феодальных институтов в Западной Европе
Германцы, ближайшие соседи Рима и главная для него угроза в последние века существования империи, не имели письменности и развитой государственности, но использовали выгоды от близости к развитой аграрной цивилизации. Первый надежный источник, повествующий о жизни германских племен, – записки Юлия Цезаря. Из них, впрочем, не ясно, перешли эти племена к оседлой жизни или нет[540]. Однако уже полтора века спустя они, по свидетельству Тацита, ведут оседлое сельское хозяйство[541]. Сами римские рубежи и стоящие на них легионы побуждают кочевые народы переходить к оседлому земледелию. Оседлая жизнь и сельское хозяйство в качестве основного рода занятий ускоряют рост населения. При этом германцы сохраняют унаследованные от кочевников нормы поведения, прежде всего воинственность[542]. Сохранению воинских навыков способствует близость к богатым цивилизованным территориям, населенным мирными крестьянами. Набеги на римские окраины дополняют доходы германских племен от сельского хозяйства, как это не раз наблюдалось в истории горцев и степных кочевников. В этом причина своеобразия властных структур у германцев. Помимо регулирующих мирную жизнь советов старейшин и народных собраний в систему власти входят военные предводители, собирающие дружины для набегов на римские земли. К III–IV вв. н. э. германцы уже включились в интенсивный культурный обмен с римлянами. Со времен Диоклетиана они составляют значительную часть римского войска. Римское вооружение, организация военных действий им знакомы. Можно сказать, что крах Западной Римской империи – это, по существу, не более чем дворцовый переворот, совершенный преимущественно германским по своему составу войском[543]. На закате Западного Рима ориентализация[544] его социальных структур зашла так далеко, что от античного наследия осталось немного. Как это бывает в аграрных обществах, подавляющую часть населения составляют зависимые, платящие налоги государству или подати господину крестьяне. Государство слабо справляется со своей обязанностью обеспечивать безопасность. С III в. н. э. большая часть элиты живет в укрепленных замках – децентрализованная защита компенсирует слабость имперской власти. Происходит деурбанизация, сокращается торговля. Завоевание германцами не разрыв с прошлым, а продолжение и развитие характерных для поздней Римской империи тенденций.
В одних местах завоеватели жестко притесняют покоренное население, в других относятся к нему мягче[545], но везде важнейший результат завоевания – крах римской централизованной системы налогообложения. В некоторых регионах империи, в частности в Италии, германцы пытаются ее сохранить, активно привлекают римлян к участию в управлении. Недаром король остготов Теодорих[546] приближал к себе римскую знать, без участия которой собрать средства для финансирования остготской армии было невозможно. Однако попытки сохранить римскую налоговую систему заканчиваются неудачей. После лангобардского[547] завоевания она окончательно распадается.
Государству больше не приходится решать амбициозные задачи по защите огромной империи. Упрощается военная структура, становится возможным переход от постоянной армии к ополчению. Это позволяет уменьшить государственные расходы и налоговое бремя. К тому же цивилизационный уровень германцев не оставляет возможности сохранять сложную, основанную на регулярных переписях систему налогообложения[548]. Результатом развала римской системы налогообложения стала долгосрочная финансовая и военная слабость европейских государств, сформировавшихся на развалинах Рима.
Следствие слабости государственных финансов – тенденция к феодализации[549]. Сюзерены раздают земли своим соратникам. Королевский домен как территория, которой монарх управляет непосредственно, сохраняется, но за его пределами он уже не может облагать подданных земельным налогом. Закрепляется обычай, согласно которому “король живет за свой счет”; если ему понадобятся дополнительные средства, приходится договариваться с подданными, где их брать. При Каролингах[550] базу государственных финансов составляли доходы от королевских поместий, таможенных пошлин, продажи соли, чеканки монеты, конфискации имений и военная добыча.
Еще одна причина ослабления западноевропейских государств во второй половине 1‑го тысячелетия н. э. – сам характер доминирующей угрозы, от которой необходимо защищаться. Расположенная далеко от евразийских степей Западная Европа не подвергалась крупномасштабным завоеваниям кочевников[551] – Паннонская равнина слишком мала для кочевой жизни крупных скотоводческих племен. Поселившиеся на ней авары, затем венгры быстро переходят к оседлости[552]. Тем не менее именно необходимость выплатить дань венграм заставила королевство лангобардов единственный раз в истории взимать прямой подушевой налог в Италии[553].
Доминирующая угроза для Европы VIII–XI вв. – набеги населявших берега Скандинавского полуострова и территории современной Дании норманнов. Это типичные “народы моря”[554]. Набеги викингов, как правило, децентрализованны. Адекватный ответ на такую угрозу: децентрализация защиты, формирование феодальной структуры с рыцарским замком – убежищем для живущих поблизости крестьян[555].
Тяжеловооруженная рыцарская конница, получившая с VIII в. н. э. широкое распространение в Европе, становится основой в организации военного дела. Для приобретения доспехов, оружия, крупных и выносливых лошадей, для содержания рыцарей и их оруженосцев требуются большие средства. Это также подталкивает к формированию децентрализованной феодальной структуры, где воин-рыцарь и крестьяне связаны квазиконтрактными отношениями: происходит обмен продуктов земледелия на услуги защитников. В этих условиях ценность приобретает не земля вообще, а земля, близкая к замку. В IX в. больше половины земель во Франции, 4/5 в Италии и Англии не обрабатывалось, пустовало. К моменту германского завоевания крестьяне Западной Римской империи утратили навыки самообороны и стали для новых господ-завоевателей естественным объектом эксплуатации. В период после расселения варварских племен на завоеванной территории свободный крестьянин, возделывающий участок земли или пасущий стадо, как правило, не расставался с оружием. Оно по-прежнему было главнейшим признаком свободного происхождения и полноправия[556]. Расселившиеся на территории завоеванных римских провинций германцы первоначально получают статус свободных от налогов крестьян-воинов, в обязанность которых входит лишь военная служба. В письме, которое король остготов Теодорих направил крестьянам Сицилии, он говорит о том, что смена меча на плуг бесчестит человека[557]. В некоторых европейских регионах (как правило, это прибрежные или горные территории – Норвегия, Тироль, Швейцария) свободное крестьянство сохраняется надолго. Но для аграрного мира это исключение. Двух веков было достаточно, чтобы в полной мере проявилась неустойчивость сочетания двух функций – крестьянина и воина.
Германцы, осев на земле, быстро проходят характерную для оседлых крестьян эволюцию. Они разделяются на зависимое крестьянское большинство, не специализирующееся на военном деле, и господствующую элиту. Норманнские набеги, увеличивающие потребность в защите, лишь ускоряют эту тенденцию.
В Западной Европе крестьяне повсеместно переходят под покровительство феодалов, меняя свободу и землю на относительную безопасность. Те же англосаксы – осевшие на землю в VIII в. свободные крестьяне – под угрозой датских набегов в начале XI в. в подавляющем большинстве превращаются в крестьян зависимых, включенных в систему отношений “лорд – слуга”[558]. К началу 2‑го тысячелетия н. э. такая трансформация земледельческого статуса находит отражение в идеологической формуле эпохи: “нет земли без господина”.
Наступает период стабилизации. Численность населения Западной Европы после краха Римской империи достигла минимума примерно в 600 году н. э.[559] В XI–XIII вв., после прекращения набегов венгров и викингов в Западной Европе, она растет, увеличивается душевой ВВП – примерно на 0,1 % в год. Внедряются важные технологические инновации – тяжелый плуг, троеполье, ветряная и водяная мельницы. К XII–XIII вв. Западная Европа достигает уровня душевого ВВП античности периода расцвета. Но по организации жизни западноевропейское сельское население ближе к традиционным аграрным обществам. Серьезное влияние на развитие Европы того времени оказывают лидеры аграрного мира – Арабский халифат и Китай. По отношению к ним европейские государства – страны догоняющего развития, реципиенты инноваций.
К началу 2‑го тысячелетия н. э. Западная Европа отставала по душевому ВВП от Китая примерно в 2 раза, по уровню урбанизации – более чем втрое, по распространению грамотности – в 5–7 раз. Это отставание отражалось на структуре внешней торговли. В это время Европа экспортирует рабов, серебро, меха, древесину, экспорт Востока – готовые изделия[560]. В целом же европейское развитие еще вполне вписывается в картину циклических изменений в устойчивом аграрном обществе, где дезорганизация и упадок сменяются периодами относительного покоя и роста благосостояния. Европа этого времени – традиционный аграрный регион с уровнями грамотности, урбанизации, развития торговли, характерными на протяжении тысячелетий для всего Евразийского материка. Но в ее развитии наблюдаются специфические черты, связанные с античным наследием, с многовековой эпохой, когда в Средиземноморье существовали институты, радикально отличающиеся от аграрных.
§ 2. Специфические институты аграрной Европы. Города и зарождение капитализма
Первый из этих институтов – это церковь, самостоятельный, стоящий рядом с государством инструмент влияния на общество. Германцы не сумели сохранить необходимые для мобилизации налогов развитые римские институты, но Католическая церковь, будучи отделена от возникших на обломках Римской империи варварских государств, сохранила традиции развитой цивилизации: письменность, иерархическую структуру, систему получения доходов (десятина) – и потому уцелела. Борьба между светскими западноевропейскими монархами и церковью за права и привилегии, в том числе за право назначать епископов, право собственности, – важнейшая часть европейской истории на грани 1‑го и 2‑го тысячелетий.
У каждой из сторон были победы и поражения. Но если отбросить детали, то церкви, в распоряжении которой была высокоорганизованная бюрократия, обладавшей постоянными и значительными доходами, удавалось отстоять свои позиции. И это серьезно сказалось на организации западноевропейского аграрного общества.
Количество прибавочного продукта в аграрных обществах ограниченно. Выжать из крестьянского населения дополнительные ресурсы трудно. Когда часть прибавочного продукта присваивает обеспечивающий крестьянину защиту рыцарь-феодал, а другую часть – церковь, государству остается мало. Отделенность церкви от государства, наличие у нее собственных доходов (десятины) – одна из главных причин долгосрочной слабости европейских государств[561]. Десятину в Европе начинали собирать с V в. Первоначально выплаты были добровольными, но церковный Собор 585 года сделал их обязательными.
В отличие от государства с его аппаратом насилия у церкви нет подобных механизмов для изъятия ресурсов у крестьян. Ее права подкреплены традициями, возможностью применять к прихожанам санкции при отправлении религиозных обрядов. Еще один помимо десятины важный источник доходов церкви – принесенное ей в дар или завещанное верующими имущество[562]. Отсюда заинтересованность Католической церкви в сохранении и упрочении римских традиций полноценной, четко определенной частной собственности, которая не обременена налоговыми обязательствами перед государством. Церковь становится важнейшим инструментом, позволившим утвердить в Западной Европе античные правовые нормы[563].
Покорившие римские провинции германцы не сразу оказались под влиянием римского права. В Италии, например, после лангобардского завоевания оно распространялось только на римское население. Сами лангобарды продолжали жить по своим обычаям. Но в целом, чем ближе к Риму находилась провинция, тем сильнее сказывалось влияние римских правовых норм[564]. В Италии земельные владения феодальных сеньоров быстро становятся их частной собственностью, не связанной с феодальными обязанностями[565]. Во Франции этот же процесс растягивается надолго. Существенную роль в сохранении традиций римского права в итальянских городах‑государствах сыграли носители античных правовых норм – нотариусы[566].
Еще один элемент античного наследия, оказавший влияние на социально-экономическую эволюцию Западной Европы, – свободные города. Крах имперских институтов, хаос и насилие в Италии подталкивают население к воспроизводству полисных традиций самоорганизации и самообороны. Именно это обстоятельство привело к образованию Венеции – первого из известных крупных городов‑государств постантичного времени[567]. Беспорядки, связанные с нашествием лангобардов, побуждают рыбаков, ремесленников, добытчиков соли, торговцев создать сообщество, близкое к классической полисной демократии. Этому способствует их расселение на островах в Адриатическом море.
Венецианская элита всегда рассматривала себя как естественную наследницу Рима. Провозглашая принадлежащие городам права и свободы, венецианцы апеллировали к римскому праву, прежде всего к праву каждого сообщества на самоуправление[568]. По схожей модели формируются общественные институты в Амальфи, Неаполе, Генуе, Флоренции, множестве других итальянских городов[569]. Предпосылками для такой институциональной эволюции послужили и античное наследие, и высокий уровень урбанизации Италии периода поздней республики и империи. Большая часть существовавших в начале 2‑го тысячелетия итальянских городов отсчитывали свою историю от императорского Рима[570]. В итальянских городах‑государствах оживают почти забытые в период позднего Рима традиции полисной самоорганизации и совместной обороны от внешней угрозы, обычаи и нравы свободных горожан[571]. В Италии лангобардская знать, как впоследствии и франкская, чаще селится в городе, чем в укрепленных замках[572].
В Западной Европе было широко распространено традиционное правило: каждый, проживший в городе год и один день, становится свободным гражданином. Недаром в то время говорили: “Городской воздух делает человека свободным”[573]. Возможность бегства в город была одним из факторов, подрывающих европейское крепостничество. “Гражданская свобода, – отмечает историк А. Дживелегов, – распространялась радиусами из больших промышленных и торговых центров; в частности, Средняя и Северная Италия, где всего раньше и всего сильней забила ключом промышленная и торговая жизнь, сделалась в то же время первым очагом крестьянской эмансипации”[574]. В традициях Западной Европы связывать городской стиль жизни с особыми правами и свободами, которые предоставляются горожанам.
Сокращение населения Европы, связанное с чередой эпидемий XIV в., изменило соотношение между двумя важнейшими ресурсами аграрного общества – землей и рабочей силой. Труд стал дефицитным ресурсом. На этот вызов было два альтернативных ответа: первый – конкуренция привилегированного сословия за крестьянские рабочие руки, переход к более привлекательным условиям аренды, отказ от личной зависимости. По этому пути при всех колебаниях, попытках знати повернуть развитие событий вспять движется Европа к западу от Эльбы. К востоку от Эльбы развитие событий носит иной характер. Здесь консолидированное привилегированное сословие, отвечая на сокращение численности зависимого крестьянского населения, избирает второй путь: прикрепление крестьянства к земле, все более жесткое его закрепощение, перевод крепостных крестьян в статус, мало отличающийся от положения рабов античности. Эти расходящиеся траектории впоследствии окажут фундаментальное влияние на социально-экономическое развитие стран, оказавшихся по разные стороны разделительной линии. Причины столь диаметрального развития событий к западу и востоку от Эльбы невозможно объяснить этническими различиями[575].
Дискуссия о причинах различия положения крестьян к западу и востоку от Эльбы начиная с XIV–XV вв. будет продолжаться бесконечно. Но многие исследователи, занимавшиеся этим вопросом, обращали внимание на наличие развитых, пользующихся широкой автономией или независимостью, самоуправляющихся городов, куда можно было бежать от неугодного сеньора, как на важнейшую причину распада крепостнических институтов в Западной Европе, и на их отсутствие как на фактор усиления крепостнического режима в Восточной Европе[576].
Города‑государства начала 2‑го тысячелетия н. э. восприняли переданный в наследство новой западноевропейской цивилизации социально-экономический генотип античности. Здесь все иначе, чем в еще доминирующем аграрном мире Западной Европы. Сам городской стиль жизни открывает немыслимые в деревне возможности самоорганизации и взаимодействия горожан[577]. Го родские стены, своего рода символ той эпохи, позволяют организовать коллективную защиту от разбойников, местного сеньора или агрессивного государя[578]. Ф. Бродель пишет: “Но всякий раз… существовали два «бегуна»: государство и город. Государство обычно выигрывало, и тогда город оставался подчиненным его тяжелой руке”[579]. Но вот что удивительно: в первые столетия европейской урбанизации полнейшую победу одержал именно город, во всяком случае, так было в Италии, Фландрии, Германии. И то, что он приобрел достаточно долгий опыт самостоятельной, независимой от государства жизни, стало поистине историческим событием. При этом доля сельскохозяйственного труда в занятости населения свободных горожан по стандартам аграрной цивилизации необычно низка[580]. Причина этого очевидна. Со времен античности отношение европейцев к труду, прежде всего к наемному ручному труду, кардинально изменилось. В античном обществе трудовая деятельность ассоциировалась с рабством[581]. Христианство – религия низкостатусных групп населения – создавало основу для разрыва с античной традицией пренебрежения к физическому труду. Как сказано во Втором послании апостола Павла фессалоникийцам, “…если кто не хочет трудиться, тот и не ешь”[582]. Этим объясняется широкое распространение занятости в ремесле и мануфактуре свободных граждан.
Еще одна особенность западноевропейского города по отношению к античному относится к военной сфере. Греческая фаланга, римский легион – оптимальные для своего времени боевые структуры, по крайней мере, для удаленного от евразийской степи Средиземноморья. У полиса всегда был соблазн использовать свою военную организацию против соседей. В условиях западноевропейского Средневековья наилучшая боевая структура – тяжеловооруженная рыцарская конница. Для городов‑государств выставить ее сложно. Сами отношения между благородными всадниками и простолюдинами-пехотинцами ставят перед городским самоуправлением бесчисленные проблемы. Нередко выступления простолюдинов приводят к бегству рыцарей из города. Появляется потребность в дополнительных расходах на содержание наемников. Этим и объясняется, говоря современным языком, оборонительный характер военных доктрин, которых придерживаются города‑государства постантичного периода. Они редко ведут наступательные действия. К мирным занятиям, в том числе к ремеслу и торговле, здесь относятся с особым уважением. Поэтому они и развиваются, ведь основная часть городского населения – ремесленники и торговцы.
Экономика европейских городов ориентирована на рынок. Если западноевропейская деревня начала 2‑го тысячелетия – мир натурального хозяйства, где большая часть выращенных продуктов потребляется в семье, то городской мир уже шагнул в рыночное пространство. Распространение городов‑государств с их торговой специализацией и всеми реалиями Средиземноморья способствовало необычно широкому, по стандартам традиционных аграрных обществ, распространению в Европе торговли массовыми товарами: зерном, рыбой, шерстью, металлами, древесиной. Это меняет баланс стимулов к созданию и применению технологических инноваций. В традиционной деревне нововведения, которые позволяют повысить эффективность производства, – лишний повод к повышению податей, поэтому появляются и распространяются они медленно. В городе начала второго тысячелетия новые технологии, повышение качества продукции, снижение издержек, более эффективные формы торговли, применение новых торговых и финансовых инструментов дают дополнительную прибыль. Отказ от инноваций приводит к потере позиций на рынке и возможности продолжать свое дело, а порой и к разорению. Торговый город в застойном аграрном мире становится очагом распространения новшеств[583].
Города‑государства с характерной для них высокой ролью торговцев в управлении были центрами создания современного коммерческого права, правосудия, адекватного условиям развитой торговли.
Прогрессу торговых городов способствует новая структура налогов. Именно здесь зарождаются налоговые системы, с определенными изменениями пришедшие в мир современного экономического роста. Их формируют не специализирующиеся на насилии элиты аграрных обществ, а горожане, объединенные в более или менее демократичные сообщества налогоплательщиков. Как правило, торговые города‑государства получают подавляющую часть доходов от косвенных налогов и таможенных сборов. Прямые налоги распространены мало и по античной традиции обычно вводятся лишь в чрезвычайных обстоятельствах[584]. В городах‑государствах применительно к прямым налогам была широко распространена практика оценки налоговых обязательств самим налогоплательщиком. Иногда налоговое бремя становилось тяжелым для горожан, известны случаи массового уклонения от уплаты налогов. Однако в городах, как правило, не было ни сборщиков прямых налогов, ни круговой поруки – того, что в аграрных обществах всегда ограничивало стимулы к эффективным инновациям.
Еще одна характерная черта западноевропейского города‑государства – необычно высокий по стандартам аграрных обществ уровень образования. Идущая от античности традиция аномально высокой для аграрного мира грамотности в Северной Италии никогда не была полностью утрачена[585]. Во Флоренции примерно половина взрослого мужского населения в XIV в. была грамотной. В итальянских городах учителей и учащихся нередко освобождали от военной службы. В Модене каждый, кто учился в этом городе, получал его гражданство. К XIII в. многие города создали муниципальные школы с преподаванием на латыни, заработную плату учителям платил муниципалитет[586]. С. Д. Сказкин отмечал, что “Возрождение есть продукт городского развития Средних веков”[587].
Социальный опыт городов‑государств Италии получает широкое распространение в Европе, причем не только в Западной. Организация военного дела, основанная на рыцарской коннице, на укрепленном замке, побуждает викингов переходить от морского разбоя к торговле. Еще в VIII–IX вв. они были пиратами, а в Х– XI вв. быстро превращаются в мореходов-торговцев и легко перенимают адекватный их реалиям опыт торговых городов‑государств, их организацию, уклад жизни. Благодаря норманнам-викингам заимствованные в Северной Италии общественные модели достигают России, материализуются в социальной организации Новгорода и Пскова[588].
Сформированные с учетом опыта ганзейских городов[589] характерные черты организации общественной жизни Новгорода и Пскова – высокая урбанизация, распространение торговли в качестве важнейшего вида хозяйственной деятельности, известный нам по знаменитым берестяным грамотам необычно высокий для аграрных обществ уровень грамотности – свидетельствуют о влиянии возрожденных в итальянских городах‑государствах античных традиций на социальное развитие Восточной Европы. Город‑государство начала 2‑го тысячелетия близок к европейским стандартам начала XIX в.[590]. Производство ориентировано на рынок, четко регламентированы права собственности. Главная роль в управлении городами‑государствами, как правило, принадлежала торговому сословию. Установления и правовые нормы были ориентированы на поддержку торговли, защиту собственности и выполнение контрактов[591]. Широко распространен наемный труд; определены налоговые обязательства, действует демократия налогоплательщиков[592]. Все это очень напоминает раннекапиталистическое общество, существовавшее в конце XVII – начале XIX в. в наиболее развитых странах Западной Европы – Англии и Голландии. Неудивительно, что К. Маркс колебался, решая, к какому социальному строю относить западноевропейские города‑государства. У него можно встретить пассажи, где они причисляются к капиталистическим обществам[593], что явно противоречит самой логике его основополагающей концепции о жесткой связи производительных сил и производственных отношений. Впоследствии Маркс отказывается от такого определения городов‑государств[594]. Дискуссия об их социально-экономической структуре продолжается на протяжении последних полутора веков. Но если допустить возможность сосуществования принципиально разных институциональных структур на сходных уровнях технологического развития, которую подтверждают все реалии XX в., то в западноевропейских городах‑государствах очевидны ростки нового способа общественной организации, получившего широкое распространение на рубеже XVII–XVIII вв.
Опыт городов‑государств – в то время очевидных лидеров западноевропейского экономического развития, центров масштабной международной торговли – оказывает влияние на политику и институциональную эволюцию аграрных государств. Это влияние легко проследить на примере Португалии с характерными для нее традициями дополняющего сельское хозяйство рыболовства в открытом море[595]. Географические и технологические причины способствуют здесь развитию дальней торговли. В сельском хозяйстве Португалии наблюдается необычно глубокая для аграрного мира специализация: сокращаются посевы зерновых, расширяются площади, выделяемые под виноградники и оливковые рощи, сахарный тростник и посадки пробкового дуба. Политические перемены 1385 года, по решению кортесов приводят к власти Ависскую династию, опирающуюся на города и ориентирующуюся в своей экономической политике на развитие торговли.
Однако сами города‑государства живут, окруженные миром традиционной аграрной Европы. На их развитие влияет европейское общество. Один из каналов влияния – идеи о разумных формах государственного устройства. В начале 2‑го тысячелетия доминируют представления об идеальном обществе как обществе стратифицированном, где знать и простонародье отделены друг от друга, а социальное неравноправие передается по наследству. В этом радикальное отличие от периода классической античности. С одной стороны, средневековая традиция предполагает четкую дистанцию между знатью (рыцарями) и простолюдинами, с другой – сама организация города‑государства, аналога античного полиса, требует солидарности граждан, того, чтобы они осознавали себя членами сообщества, у которого общие интересы и которое решает вопросы собственной организации “всем миром”. Такое противоречие порождает в городах‑государствах череду внутренних смут и беспорядков, конфликт элиты и простонародья, который нередко представляют как противостояние рыцарей-всадников и пеших воинов. Однако, как и в истории античного полиса, ключевую роль в кризисе средневековых городов‑государств играют не внутренние конфликты, а ограниченность военных ресурсов, которые способно мобилизовать сообщество горожан. В самом деле, численность населения даже самого крупного западноевропейского города‑государства – Венеции, этой маленькой империи, не превышает полутора миллионов человек. В других городах жителей намного меньше.
Пока города‑государства соседствовали со слабыми западноевропейскими государствами раннего Средневековья, их независимость можно было сохранить. Но с усилением соседей, с ростом численности их армий это становится невозможным. Тем не менее городская самоорганизация продолжает оказывать серьезное влияние на эволюцию западноевропейских аграрных стран.
§ 3. Великие географические открытия: их база и влияние на создание предпосылок современного экономического роста
Долгое сосуществование многочисленных независимых, но объединяемых католической религией государств подталкивает к институциональной конкуренции, заимствованию друг у друга институтов, которые способствуют сохранению обороноспособности или, что то же самое, росту масштабов мобилизуемых для содержания армии финансовых ресурсов[596]. Несмотря на пестроту политической карты, Европа остается единым культурным полем, на котором социально-экономические инновации, имеющие военный эффект, получают широкое распространение за время жизни одного-двух поколений. Само по себе это не объясняет специфику эволюции европейских институтов. Индия тоже была конгломератом государств, объединенных общей религией и культурой. Но этого мало. Подъем Европы можно объяснить уникальным сочетанием своеобразного античного наследия и длительного аномального развития, нарушившего логику организации аграрных цивилизаций.
Обмен техническими знаниями, миграция квалифицированных профессионалов, конкуренция за них – характерные черты европейского мира этого времени, обусловленные сочетанием двух его характерных свойств: культурным единством и отсутствием единой доминирующей империи, соревнованием нацио нальных государств за финансовую и военную мощь. Х. Колумб, родившийся в Генуе, проведший долгие годы в Португалии и открывший Америку для испанской короны, в этой связи не исключение, а лишь проявление духа времени. Ф. Магеллан был португальским моряком, плававшим под испанским флагом. Флорентиец А. Веспуччи совершал путешествия под испанскими и португальскими флагами. Англичанин Х. Хадсон был штурманом на службе у голландской Ист-Индской компании. Таких примеров множество[597].
Что послужило базой Великих географических открытий конца XV–XVI в.? Почему именно в это время Европа объединяет ойкумену, формирует контролируемые ею регулярные торговые связи между крупными цивилизациями мира? В какой степени это связано с динамикой быстрорастущего европейского населения, спецификой экстенсивного (если сравнить его с китайским или индийским) сельского хозяйства? Какую роль в этом сыграло падение Константинополя, усиление Турции, обретение ею контроля над восточным Средиземноморьем, восточной торговлей? Это те вопросы, которые будут обсуждаться бесконечно. Вряд ли на них можно дать однозначный ответ, но некоторые вещи очевидны. Великие географические открытия продемонстрировали ускорение технического прогресса в Европе, обретение ею лидерства в мире[598]. Еще в начале XV в. китайские пушки не уступали европейским. К началу следующего века вооруженный усовершенствованными артиллерийскими орудиями европейский корабль – бесспорный хозяин морей. Небольшие португальские эскадры доминируют в Индийском океане.
Еще одна характерная черта европейской цивилизации, проявившаяся в это время, – конкурентный характер политики европейских государств, их соревнование в использовании инноваций и новых идей. Здесь контраст с Китаем очевиден. Чтобы остановить череду масштабных морских экспедиций, предпринятых Китайской империей в первой половине XV в., было достаточно решения императора. В Европе это невозможно. План Колумба был отклонен португальской короной после внимательного обсуждения экспертами. Португалия к этому времени вложила слишком много усилий в морские путешествия вдоль западного побережья Африки, близко подошла к возможности выхода в Индийский океан[599]. Связываться в этой ситуации с сомнительными предприятиями было неразумно. Если бы европейская цивилизация напоминала китайскую, этого было бы достаточно, чтобы закрыть тему. В Европе все не так. План Колумба, предложенный нескольким королевским дворам, многократно обсуждался и в конце концов был поддержан испанской короной[600]. В свою очередь, дальние трансатлантические экспедиции Испании и Португалии на протяжении исторически короткого времени – двух-трех поколений – сделали неизбежным вовлечение Голландии, Англии, Франции в дальнюю торговлю.
Если важнейшая черта аграрного мира – традиционность, верность укорененным на протяжении столетий установлениям, то Великие географические открытия демонстрируют ее радикальное отрицание, готовность порвать с традицией, экспериментировать с новыми способами решения проблем[601]. Португальский принц Генрих-мореплаватель, организатор дальних морских экспедиций в Атлантический океан в XV в., любознательный, готовый поддерживать новые решения, организовывать систематическое накопление полезных для морского дела знаний – яркое воплощение духа Европы этого времени.
Дальнее рыболовство в Атлантическом океане на протяжении веков было важной отраслью португальской экономики, приведшей к широкому использованию навыков организации морского дела, необходимых для этого знаний и технологий, вовлеченности в систему европейской торговли, в первую очередь с Флоренцией. Как отправная точка трансатлантических экспедиций Иберийский полуостров был удобно расположен. Именно на его широтах возможны дальние путешествия в Атлантический океан, при которых на пути в обе стороны можно использовать попутный ветер. Технологии для подобных путешествий в более северных широтах появятся лишь десятилетия спустя. Но роль этих географических различий в создании предпосылок современного экономического роста – частности. Развитие событий в Европе в XV – начале XVI в. – растущий объем знаний и навыков, которые могли быть использованы в морском деле, массовое распространение книгопечатания, конкуренция за рынки, политическое соревнование европейских государств – делало географическую экспансию Европы неизбежной в той степени, в которой можно говорить о неизбежности в историческом процессе.
Китайские экспедиции XV в. никогда не были коммерчески мотивированы. Их организовывала власть, и задачи, которые ставились ею, были в первую очередь политическими – демонстрация мощи, престижа, в меньшей степени – любопытство[602]. В обосновании европейских дальних экспедиций присутствовали политические моменты, в первую очередь связанные с распространением христианской веры, однако то, что их важнейшим мотивом был интерес к созданию альтернативных торговых путей, получению конкурентных преимуществ, делало их приостановку невозможной[603]. Место, покинутое торговцами одного государства, занимали представители другого.
Как справедливо пишет К. Киполла, европейская морская экспансия была одним из событий, проложивших дорогу промышленной революции. Отрицать это на том основании, что торговцы Западной Индии или искатели приключений в Восточной Индии не были в числе предпринимателей, которые создали фабрики в Европе, так же бессмысленно, как отрицать связь между научной революцией и промышленной революцией на основании того, что ни Галилей, ни Ньютон не строили текстильных фабрик в Манчестере[604].
То, в какой степени колониальная экспансия, мобилизация ресурсов заморских территорий способствовали ускорению развития Западной Европы, подготовке современного экономического роста, – один из экономико-исторических сюжетов, по которому идеологически мотивированная дискуссия будет бесконечной. По меньшей мере опыт Испании и Португалии, с одной стороны, и Великобритании – с другой, показывает, что влияние ресурсов колоний на экономическое развитие отнюдь не всегда было одинаковым. Однако тот факт, что Великие европейские географические открытия, сами подготовленные спецификой социально-политической и экономической эволюции Европы первой половины 2‑го тысячелетия, стали фактором роста объема международной торговли, коммерциализации европейской экономики, укрепления капиталистических институтов, дальнейшего отрыва Европы по уровню экономического развития от остального мира, подготовки современного экономического роста, не вызывает сомнений.
§ 4. Эволюция финансовых систем западноевропейских стран
Слабость финансов западноевропейских государств, связанная и с не зависимыми от них доходами Католической церкви (десятина, церковная собственность), и с прочно укоренившимся представлением, что свободные люди не платят налогов, а король должен жить “за свой счет”, – характерная черта раннего европейского Средневековья. Как правило, король – лишь первый среди равных. Рыцари по традиции обязаны ему 40 днями воинской службы в год, но не связаны финансовыми обязательствами. Средства королю приносит его собственный домен. А тот постоянно сокращается: обычай предписывает монарху раздавать земли за службу своим сподвижникам. Уменьшаются и поступающие с домена доходы. Такая система социальной организации могла удовлетворительно функционировать, пока главной угрозой оставались набеги викингов.
Как известно, новшества в организации военного дела и военной технологии часто становятся важнейшим стимулом к социальным инновациям. Создание тяжелого лука и арбалета, позднее появление в Европе пороха, создание мушкета и артиллерии радикально изменяют, как не раз бывало в истории (вспомним колесницу и массовое применение в военном деле железа), требования к военной организации. Поражения рыцарской конницы Франции в Столетней войне демонстрируют европейским государствам необходимость перемен в военном деле. Переход к профессиональным контрактным армиям, которые укомплектованы наемниками и финансируются из бюджета центрального правительства, становится требованием времени. Но слабому, плохо обеспеченному финансами государству выполнить это требование сложно. К XI–XIV вв., когда необходимость создавать и содержать постоянные армии стала очевидной, традиция регулярных централизованных налогов римских времен в Западной Европе была уже полностью утрачена, а античное “свободный человек не платит налоги” не подвергалось сомнениям. Только те западноевропейские государства, которые сумели адаптировать свои институты к изменившимся условиям и использовать новые инструменты в организации насилия, сохранили возможность выжить как самостоятельные державы.
Западноевропейская налоговая история XI – XV вв. – это восхождение от просто устроенного, имеющего скромные финансовые ресурсы феодального государства, где нет регулярных налогов, кроме обязательств перед феодальными сеньорами или королем, к государству с развитой налоговой системой, регулярными налогами, постоянной армией. Этот путь удалось пройти благодаря долгим переговорам с городами об объеме их финансовых обязательств. Формирование государством налоговой системы невозможно без участия подданных, без их согласия принять налоговые обязательства и нести государственные расходы. Национальные элиты решали эту проблему разными способами. Например, испанская корона заключает соглашение с гильдией овцеводов, которая регулирует кочевье скота по пастбищам Испании, и предоставляет ей право беспрепятственного перемещения стад в обмен на значительные денежные выплаты. Такое соглашение, сдерживающее повышение продуктивности сельского хозяйства, становится впоследствии одной из причин отставания Испании от других европейских стран[605].
Ко времени норманнского завоевания в Англии постоянной армии не было, с норманнами воевало феодальное ополчение. В XII – XIII вв. возрастает потребность в средствах на финансирование армии. Их черпают из разных источников. С XIII в. рыцарскую службу можно заменить денежными платежами, иначе говоря, откупиться. Распространение получают конфискации имущества. Но это не решает военно-финансовых проблем. Необходимо вводить прямые общегосударственные налоги, взимаемые по традиционной для аграрных обществ модели: подушная и поземельная подати. Для этого приходится собирать представительные собрания налогоплательщиков и апеллировать к чрезвычайным обстоятельствам.
Островное положение Великобритании, тот факт, что крупные войны были здесь набором эпизодов, а не ежедневной реальностью, позволяют укорениться демократии налогоплательщиков, представлению о нормальном устройстве общества как системе, при которой граждане не платят налогов, в установлении которых они или их представители не принимали участия. Но во Франции, Испании масштабные военные расходы, растягивающиеся на десятилетия войны – важнейший фактор расширения прав короны в установлении налогов[606].
Прямые налоги входят в обычай, установления западноевропейских государств в налоговой сфере все больше сближаются с традиционными для аграрных империй. В Испании кортесы передают право сбора налогов короне. Французские короли, начиная с Карла VII, воспользовавшись вызванным Столетней войной хаосом и полученным в 1315 году от Генеральных штатов временным разрешением, вводят прямые налоги по собственному усмотрению, без разрешения парламента. С 1453 года талья во Франции, бывшая до этого формой самообложения налогоплательщиков в чрезвычайных условиях, становится регулярным налогом, взимаемым королевской властью без согласия органов, представляющих налогоплательщиков[607]. К концу XV в. прямой налог с крестьянского населения составлял 85 % доходов французской казны. Описанная А. Смитом французская система налогообложения XVIII в., по сути, уже не отличалась от существовавших в аграрных государствах на протяжении тысячелетий налоговых порядков.
Однако эволюция финансовых систем в западноевропейских странах шла и по иному пути – основанному на опыте городов‑государств. В XV в. государственные доходы Венеции с ее специализацией на торговле, ремесле и мануфактурном производстве, с ее демократией налогоплательщиков равны доходам любого из западноевропейских аграрных государств либо превышают их[608]. Торговлю, ремесло, мануфактуру обложить налогами на основе стандартных процедур аграрного государства труднее, чем земледелие. Здесь важно сотрудничество потенциальных налогоплательщиков с государством. Города‑государства становятся образцами и для городов, входящих в состав аграрных империй, и для элит этих империй. Если городская община в состоянии организовать местное самоуправление и самооборону, выставить войско по приказу короля и к тому же бесперебойно выплачивать налоги в государственную казну, то это побуждает короля заключить контракт, по которому корона гарантирует горожанам широкие права местного самоуправления в обмен на обязательные выплаты и при необходимости военную помощь[609].
Города настаивают, чтобы их вольности увеличивались, отбирают у сеньоров одно право за другим. Любек в течение первых 50 лет своего существования находился под властью 6 разных сеньоров. При переходе к каждому новому сеньору он добивался права сохранения старых вольностей, а при благоприятном развитии событий получал новые права[610].
Период бурного создания в Англии городов, пользующихся иммунитетом и привилегиями, приходится на XI – XIII вв. и связан с нарастающими финансовыми проблемами английской короны. В Англии и Франции все больше самоуправляющихся городов, которые выкупили себе свободу ценой договора с государством. У этих городов нет политической независимости, они входят в состав аграрного государства, но играют в нем особую роль[611]. Права английских городов неразрывно связаны с налоговыми откупами. Временные привилегии постепенно становятся постоянными. В 1265 году представителей городов впервые приглашают для участия в заседаниях парламента. После 1297 года они становятся его постоянными участниками[612]. Городские жители выводятся из-под юрисдикции судов графств, тяжбы, кроме исков короны, рассматриваются их собственными судами. По внутренней организации английские города схожи с независимыми городами‑государствами североитальянского образца.
Основанная на самообложении эволюция налоговой системы, с одной стороны, позволяет строить базу государственных доходов, в том числе доходов от ремесел, мануфактур и торговли, а с другой – не уничтожает стимулы к повышению эффективности производства. Широкая вовлеченность горожан в торговлю и производство на рынок подталкивают к использованию инноваций. Самоорганизация налогоплательщиков дает возможность отчислять часть растущих доходов от разделения труда и развития торговли на нужды государства. В Голландии и Англии самообложение налогоплательщиков быстро становится важным источником роста государственных доходов.
Становление налоговых привилегий, закрепление нормы, согласно которой у короля нет права вводить новые налоги без согласия представительного органа налогоплательщиков, в Англии происходят постепенно. Сначала власть осуждает практику произвольных налогов, и короли обещают отказаться от нее[613]. “Магна карта” (Великая хартия вольностей) 1215 года, “Оксфордские статуты” 1258‑го, статуты Мальборо 1266‑го – все это этапы необычного для аграрного мира процесса. “Магна карту” осудил как акт, противоречащий нормам и традициям, Папа Римский[614]. “Магна карта” сама по себе еще феодальный документ, отражающий баланс сил между английскими королями и баронами, закрепляющими набор прав и привилегий последних. Но долгосрочные последствия ее подписания выходят за рамки отношений, характерных для традиционного аграрного общества. Закрепление принципа, в соответствии с которым налоги не могут взиматься без согласия представительного органа (хотя его структура плохо прописана в Великой хартии вольностей), стало важнейшим шагом на пути формирования демократии налогоплательщиков. Процесс перехода от декларации принципа к его фактическому воплощению в социально-экономическую и политическую практику растянулся на века. Тем не менее он оказал фундаментальное влияние на эволюцию социально-экономической жизни в Англии, а затем и в мире. Закрепление налоговых прав парламента, позволяющее королям опираться на сотрудничество с сообществом налогоплательщиков, пробивает себе дорогу[615].
Как мы помним, основополагающий принцип традиционного аграрного общества заключается в том, что правящая элита пытается изъять у крестьянского населения максимум возможного. Принцип античного полиса: свободные граждане не платят прямых налогов. В наиболее развитых государствах Западной Европы укореняется переданный им итальянскими городами‑государствами новый принцип: свободный человек не платит налогов, в установлении которых не принимал участия он сам или его представители.
Связанная с порохом и огнестрельным оружием революция в военном деле изменила традиционную для аграрных обществ асимметрию экономической мощи и способности организовать насилие. На протяжении двух с половиной тысяч лет, которые отделяют 1000 год до н. э. и 1500 год н. э., финансовые ресурсы оседлых аграрных государств были недостаточны, чтобы надежно защитить их от угрозы со стороны кочевников. С середины 2‑го тысячелетия технологические преимущества оседлых государств, располагающих экономическими и финансовыми ресурсами, меняют баланс сил. Мощь экономики и финансов, способность содержать постоянную армию, оплачивать расходы на ее вооружение – важнейшие факторы успеха в вооруженном конфликте. С этого времени, ответив на вопрос, сколько государство способно мобилизовать финансовых ресурсов, нетрудно прогнозировать, способно оно выиграть войну и отстоять свою независимость или нет.
Испанская пехота XVI в. была, по общему признанию, лучшей в Европе. Тем не менее хроническое переобложение испанских крестьян, приводящее к эрозии налоговой базы и финансовому кризису, сделало неизбежным поражение Испании в борьбе за гегемонию в Европе. В это время становится ясно, что именно финансовые возможности – ключевая предпосылка военных побед.
По своей природе и истории Голландия – страна городов‑государств[616]. По сути, это их союз, подобный Ганзейскому, но, в отличие от последнего, территориально интегрированный. В 1477 году, после гибели Карла Смелого Бургундского в битве при Нанси, нидерландские города добились согласия бургундских правителей на предоставление им Великих привилегий – права Генеральным штатам Бургундских Нидерландов собираться по своей инициативе и самостоятельно решать вопросы, связанные с налогообложением[617]. Победа конфедерации городов‑государств (со всеми характерными для них институтами) над крупнейшей европейской державой – Испанией стала свидетельством преимуществ налогообложения, основанного на принципах демократии налогоплательщиков и косвенных налогах, перед традиционными способами взимания налогов в аграрных государствах[618].
На отвоеванных у моря голландских землях была крайне мало по европейским стандартам распространена земельная собственность аристократии. Подавляющая часть земли находилась в четко определенной, зафиксированной кадастрами крестьянской собственности. Тот факт, что Голландия контролировала морское побережье и устья крупных рек, объективно подталкивал ее к широкому участию в торговле. Голландское общество XVII в. производило глубокое впечатление на посещавших Нидерланды европейцев. Наблюдатели были поражены количеством нововведений, которые они видели в Голландии практически в каждом виде деятельности, восхищались развитием голландского мореплавания и торговли, техническим уровнем промышленности, развитием финансов, красотой, упорядоченностью и чистотой городов, степенью религиозной и интеллектуальной терпимости, качеством больниц и приютов[619].
Завоевавшие независимость от испанской короны голландские города категорически отвергли идею о том, что на смену испанскому владыке может прийти отечественный правитель. Пьер де ля Курт и Джон де Витт писали: “У нас есть причина постоянно молиться за то, чтобы Господь избавил Голландию от ужаса монархии”[620]. Декларация Генеральных штатов от 26 июля 1581 года – один из самых ярких манифестов, закрепляющих права и свободы населения союза городов от произвола королей.
Опыт голландских институтов, обеспечивающих гарантии прав собственности и личности, оказал серьезное влияние на политическое развитие Англии, не бывшей союзом городов‑государств, но представлявшей собой первое в Европе крупное государство с доминирующей ролью парламента. Т. Гоббс, анализируя причины гражданской войны в Англии, писал: “Лондон и другие торговые города восхищались процветанием Нидерландов, которого они достигли после свержения своего монарха, короля Испании, они были убеждены, что похожие изменения в системе правления позволят и им добиться такого же процветания”[621].
Представительный орган в той или другой форме должен обсуждать не только необходимость чрезвычайного налогообложения, но и целесообразность расходов, в первую очередь военных, на которые эти налоги будут направлены[622]. В Англии функции представляющего интересы налогоплательщиков парламента, его участие в обсуждении и решении вопросов по всей структуре доходов и расходов государственного бюджета постепенно расширялись. Но за королями остается монополия на применение насилия. Регулярные налоги дополняются конфискациями имущества, принудительными безвозвратными займами, связанными с лишением свободы заимодавцев. “При Карле берут штраф с богатых людей, которые уклоняются от покупки рыцарского звания; в 1630–1631 годах таких штрафов набрали 115 тысяч ф… В 1635 году у каждого судьи требуют письменного мнения о правомерности корабельного сбора. Взимание последнего встретилось с сопротивлением. В 1637 году король снова спрашивает судей и велит распространить по всей стране их благоприятный правительству ответ как орудие политической борьбы… Правительство преследовало в данном случае невыполнимую задачу. Оно хотело опереться на авторитет суда; оно подрывало этот авторитет тем самым, что хотело обратить судей в своих послушных слуг. Население теряло веру в беспристрастие судей, которым грозила отставка за всякое решительное проявление политической самостоятельности, которых ждало служебное повышение за приспособление к поворотам правительственной политики. И когда правительство достигло своей цели, когда оно добилось от судей энергичного содействия своим видам, то оказалось, что судейская помощь утратила большую часть своей цены именно потому, что суд стал слишком близким к правительству”[623].
Борьба против королевского насилия лежит в основе конфликта между английской короной и парламентом, который привел к Английской революции XVII в. После сопутствующих ей бурных событий в стране, как прежде и в Голландии, окончательно укореняются нормы неприкосновенности личности и частной собственности, невозможность произвольных конфискаций, порядок определения представителями налогоплательщиков доходов и расходов бюджета, наконец, вся налоговая система.
Приглашение Вильгельма Оранского, протектора Голландии, на английский престол лишь характерный штрих влияния голландских институтов на политическое развитие Англии. Трудно представить себе другого европейского правителя, для которого подписание Билля о правах (1689 год), передающего контроль над налогообложением, судебной системой и вооруженными силами парламенту, было бы столь естественно, органично его представлениям о разумном устройстве государства[624].
После “славной революции” 1688 года развитие Англии находится под очевидным влиянием голландских установлений. Виднейший экономист того времени У. Петти в своей “Политической арифметике”, опубликованной в 1690 году, обращает внимание на голландский опыт как образец для подражания: маленькая страна может сравняться богатством и мощью с государствами, которые располагают гораздо большим населением и более обширной территорией. Г. Кинг в своей работе 1696 года отмечает, что налоговые поступления на душу населения в Голландии в 2,5 раза превышают душевые налоговые доходы Англии и Франции[625].
Войны XVIII в. продемонстрировали потенциал английских финансов, который позволил стране с населением вдвое меньше Франции мобилизовать доходы в не меньшем объеме, чем французские, и занимать деньги под более низкий процент. Преимущества английской системы налогообложения перед французской, традиционной для аграрного общества, основанной на прямых налогах – поземельном и подушевом, стали очевидны.
Связь событий 1688–1689 годов – стабилизация политического режима, укоренение демократии налогоплательщиков, упорядочение прав собственности, гарантии прав личности – с экономическим ростом, подъемом финансового и военного могущества Англии была для западноевропейских современников очевидным фактом[626]. Разумеется, это не означает, что изъятие собственности стало невозможным. Становление институтов английского общества XVIII в. неотделимо от огораживания – перераспределения земельной собственности, которая не была юридически оформлена, – в пользу правящей землевладельческой элиты. Но все это происходит в рамках парламентской процедуры.
В истории ранних европейских демократий всегда сохранялся риск, что регулярная наемная армия, опираясь на собственный потенциал насилия, навяжет налогоплательщикам свои правила игры[627]. Рецидивы возврата к практике аграрных государств, где специализирующееся на насилии меньшинство доминирует, встречаются и в эпоху современного экономического роста, причем даже в индустриальных, урбанизированных обществах. Но это исключения. Правилом становится демократия налогоплательщиков.
§ 5. Трансформация прав земельной собственности
На закате старого порядка возникают две взаимосвязанные проблемы, решение которых во многом определяет траекторию западноевропейского развития в XVIII и XIX вв.: это судьба элиты уходящего в прошлое аграрного общества и вопрос о земельной собственности.
Важнейшая роль правящей в аграрном государстве элиты – организация насилия и государственное управление. С началом эпохи наемных армий потребность в дорогостоящих военных услугах привилегированной элиты уменьшается. Однако именно военная служба определяла ее налоговые привилегии: благородное сословие прямыми налогами не облагалось. Неспособность французского государства разрешить это противоречие, распространить налогообложение на привилегированное сословие – причина глубокого кризиса французских финансов, который спровоцировал Великую французскую революцию[628].
В аграрном государстве, как уже отмечалось, права земельной собственности неизбежно носят перемежающийся, смешанный характер: в них заключено и право крестьянина кормиться со своей земли, и право господина получать от крестьянина денежные и натуральные выплаты, привлекать его на принудительные работы, а иногда право государя на прямые налоги с земель.
Глубокое проникновение рыночных отношений в аграрную экономику, ориентация сельского хозяйства на рынок, расширение масштабов земельного оборота – все это требует ясного и недвусмысленного ответа на вопрос, кому принадлежит земля, предполагает возврат к нормам античного права с характерными для него представлениями о четко определенной частной собственности. Итак, кому же принадлежит земля – господам или крестьянам? Это ключевой вопрос в период заката европейской аграрной экономики[629]. Иногда он решается в пользу правящей элиты, которая постепенно превращается из специализирующегося на насилии сословия в слой землевладельцев-предпринимателей, либо самостоятельно организующих ориентированное на рынок сельское хозяйство, либо сдающих землю в аренду. Так развивались события в Англии[630]. В других случаях права привилегированного сословия ликвидируются, а земля становится полноценной крестьянской собственностью. Не подтвержденные документами права в Англии периода огораживания трактовались в пользу привилегированного сословия, а в революционной Франции – в пользу крестьян. Но в обоих случаях социальный конфликт получил разрешение в документированных правах на землю[631]. Тезис К. Маркса о том, что огораживание было шагом к отделению крестьянина от средств производства, формированию сельского пролетариата, с одной стороны, и совокупности земельных собственников и арендаторов – с другой, трудно оспорить[632]. Но вместе с тем это и переход от не определенных четко отношений, связанных с собственностью на землю, характерных для аграрных обществ, к полноценной, фиксированной, оформленной частной земельной собственности, процесс, заложивший основу массового внедрения в английском сельском хозяйстве эффективных инноваций, роста его продуктивности[633].
Западная Европа конца XVIII в. – еще аграрное общество[634]. Правда, здесь уже существенно выше, чем прежде, уровень урбанизации, больше распространена грамотность, значительная часть населения занята вне сельского хозяйства. А главное – здесь складывается новый, своеобразный набор институтов: все большая часть производства ориентирована не на натуральное потребление, а на рынок; права собственности четко определены; налоговые обязательства фиксированы и определяются в соответствии с нормами, которые устанавливают сами налогоплательщики; широко распространен наемный труд.
К концу XVIII в. наемный труд в Англии господствует и в городе, и в деревне. В отличие от традиционных аграрных обществ, где преобладает натуральное хозяйство, где у основной массы крестьянского населения изымаются созданные им ресурсы, где действует круговая порука, и все это, вместе взятое, препятствует распространению инноваций, зарождающаяся в Англии и Голландии новая институциональная среда подталкивает к созданию и внедрению самых эффективных технологий[635]. Если отказываешься от них, недолго обанкротиться, лишиться своего дела; если же их принять, они принесут плоды, которые не будут конфискованы по чьему-то произволу.
Уже к середине XVI в. в Англии распространение грамотности качественно отличается от уровня, существовавшего столетием раньше. Это свидетельство назревающих глубоких перемен во всей социально-экономической жизни[636]. Сходные процессы начинаются в следующем веке и в континентальной Западной Европе. В документах, отражающих положение в Лангедоке[637] в XVI–XVII вв., можно найти свидетельство того, что уровень полной неграмотности более обеспеченной части крестьянского населения снижается с 35–50 % в 1570–1625 годах до 10–20 % в 1660–1670 годах. В 1670–1770 годах эта доля падает практически до нуля[638].
Характерная черта периода, когда складывается новая система отношений, предполагающая надежную защиту частной собственности и широкое развитие торговли, в том числе торговли предметами массового потребления, для XVII–XVIII вв. – массовый спрос на инновации в доминирующей отрасли экономики – сельском хозяйстве.
Дух этого времени хорошо передает И. Кулишер: “Господствовавшие веками системы полеводства признаются неудовлетворительными; обнаруживается желание перейти от трехпольной системы к более интенсивной культуре, как и вообще заменить унаследованные от отцов и дедов принципы хозяйства рациональной организацией его. Прекращение векового застоя выразилось прежде всего в появлении богатой агрономической литературы… энциклопедий, журналов и монографий, – литературы, трактовавшей о вопросах полеводства и животноводства, об агрономии, агрономической химии и экономии сельского хозяйства; все эти области знания были в те времена тесно связаны и изучались одними и теми же лицами… Уже английские агрономы XVII в., – среди них на первом плане натурализовавшийся в Англии голландец Гартлиб, друг Мильтона, и Платтес, также голландец по происхождению, – старались объяснить англичанам, каким образом голландцы стали учителями других народов в области сельского хозяйства. Они пропагандировали новую, рациональную систему хозяйства, основанную на переменном севообороте… Писатели этого времени рассказывают, что аристократы беседовали об удобрении и дренаже, о выгодности того или иного севооборота, о разведении рогатого скота и свиней с не меньшим оживлением, чем их отцы об охоте, лошадях и собаках”[639].
В XVIII в. по уровню своего развития Европа еще недалеко ушла от других евразийских цивилизаций. Но сформировавшиеся к этому времени новые институты, связанные и с античным наследием, и с последующей западноевропейской эволюцией, открыли дорогу радикальному ускорению темпов экономического роста. Эта дорога была не прямой и не скорой. Даже в наиболее развитых странах Западной Европы, вплотную подошедших к порогу современного экономического роста, землевладельцы еще пытались присвоить преимущества от использования новой сельскохозяйственной техники. Это сдерживало повышение эффективности сельского хозяйства[640]. Но при четко определенных правах собственности и упорядоченных налогах такие попытки оказывали куда меньшее влияние на развитие общества и экономики, чем в традиционных аграрных государствах.
Возникает принципиально отличная от аграрных обществ структура, со временем получившая название “капитализм”. Капитализм постепенно созревает в городах‑государствах, в сообществах с местным самоуправлением, он пока сосуществует с натуральным сельским хозяйством, но шаг за шагом трансформирует институты аграрного общества, создает стартовую площадку для современного экономического роста. Само его начало в некоторых странах Западной Европы порождает возможность эволюции по сходному сценарию для других государств, которые еще не прошли путь институциональных перемен.
Выше отмечалось, что отсутствие четкого отделения капитализма как набора институтов, открывших дорогу современному экономическому росту, от самого процесса динамичных экономических, социальных и политических перемен, связанных с ним, стало одной из преград на пути изучения подъема Европы, особенно марксистами. Маркс и Энгельс, разумеется, видели, что от феодализма на северо-западе Европы в XVII–XVIII вв. мало что осталось. Сложилась принципиально новая система социально-экономических отношений. Но с точки зрения уровня развития производительных сил происходящие в это время перемены по скорости и масштабам, их влиянию на общественное развитие не сопоставимы с той глубокой трансформацией, которая начнется позже, на рубеже XVIII–XIX вв. В этом причина длительной дискуссии о том, как в рамках марксистской доктрины разрешить это противоречие[641].
Капитализм и современный экономический рост – не одно и то же. Весь набор связанных с капитализмом социально-экономических институтов возникает до того, как в организации западноевропейского общества и его жизни начинаются глубокие изменения. Он достаточно долго существует параллельно с традиционным аграрным укладом, постепенно модифицируя его, увеличивая роль торговли и денежного обращения, углубляя специализацию. Конкуренция европейских государств в военной области подталкивает их к заимствованию институциональных инноваций, которые дают возможность увеличить финансовые ресурсы государства. Из подобных инноваций самой эффективной оказывается демократия налогоплательщиков – их привлечение к сбору налогов и организации государственных финансов. Как правило, в европейском мире ни одному государству не удалось избежать такого пути, сохранив государственный суверенитет.
Все это и заложило предпосылки начала современного экономического роста в европейском мире.
Раздел III Траектория развития России
Глава 8 Особенности экономического развития России
Эти бедные селенья, Эта скудная природа – Край родной долготерпенья, Край ты русского народа!
Не поймет и не заметит Гордый взор иноплеменный, Что сквозит и тайно светит В наготе твоей смиренной.
Удрученный ношей крестной, Всю тебя, земля родная, В рабском виде Царь небесный Исходил, благословляя.
Ф. И. Тютчев. 13 августа 1855 годаРоссия велика, но неустроена, она не имеет уложения, управляется по случаю; и на злоупотребления слишком приметные довольно считается выдать указ. Зло остается в своем корени.
В. Ф. Малиновский[642].Размышление о преобразовании государственного устройства в России§ 1. Истоки. Европа и Русь
С начала XI в., в Европе началось медленное, с отступлениями, войнами, катастрофами, но существенное (по сравнению и с предшествующим тысячелетием, и с большей частью остального мира)[643] ускорение экономического роста. Все наиболее развитые тогда европейские регионы лежали вдоль линии, которую можно провести от Венеции и Милана к устью Рейна (см. карту 1).
И к западу, и к востоку от этой линии эффективные инновации (троеполье, водяные и ветряные мельницы и т. д.) распространялись медленнее, чем вдоль нее. В европейские страны, удаленные от этой географической оси подъема, технологические новшества приходили много (одним – тремя веками) позже.
Россия XI – начала XIII в., удаленная от центра европейских инноваций и потому относительно малоразвитая, была тем не менее со всей очевидностью европейской страной[644].
Славяне-индоарии – один из основных этнических элементов этой обширной территории. Многие славянские институты имели общие корни с установлениями, характерными для западноевропейских индоариев[645].
Правящие династии здесь, как и в Англии, и в странах Северной Европы, имели норманнское происхождение и были тесно включены в систему отношений между европейскими королевскими домами. Со времен, по которым сохранились письменные свидетельства, видно, что обычное право, писаное право, система налогообложения были основаны на переплетении славянских и норманнских традиций[646].
Н. П. Павлов-Сильванский пишет: “Арийское родство русского древнейшего права с германским в наше время достаточно ясно. В области уголовного права, судопроизводства и права гражданского древнейшие русские порядки отличаются разительным сходством с правом германским. По части уголовного права мы находим в “Русской Правде” не только кровную месть, свойственную всем первобытным народам, в том числе и неарийского корня, но и всю систему наказаний, известную германским варварским “Правдам”: и виру, и денежные пени за телесные повреждения. В судопроизводстве находим у нас, одинаково с Германией, и ордалии (испытание водой и железом), и судебный поединок (поле), и свод, и послухов-соприсяжников… В гражданском праве – и одинаковые брачные обряды, покупку и умыкание жен, и рабство неопытного должника, и родовое владение землею. Систематик арийского права Лейст, ознакомившись с “Русскою Правдою”, в своем исследовании о “Праарийском гражданском праве” выражает изумление пред особенною близостью древнерусского права к германскому. “…Мы выясним ниже, например, что наша средневековая община не только была одинакова по существу своего устройства с германской, но и называлась одинаково с нею миром – universitas, что выборный представитель ее назывался у нас и в Германии одинаково сотским – centenaries”[647].
Обычай полюдья, регулярных объездов контролируемой территории для кормления дружины на Руси X–XI вв.[648], сходен с аналогичными нормами, характерными для Скандинавских государств. Полюдье лишь немногим отличается от скандинавской вайциллы[649].
Специфика природных условий России – малопродуктивные почвы[650], краткость сезона, пригодного для земледельческой деятельности[651], наряду с обилием земли и малочисленностью населения. Это объясняет более поздний, чем в Западной Европе, переход от подсечно-огневого земледелия (с характерной для него непрочной оседлостью) к пашенному и замедленное формирование государства[652].
Однако российская община начала 2‑го тысячелетия н. э. похожа на современную ей европейскую марку, включает элементы частного землепользования, неравенства в земельных долях. В литературе нет свидетельств о регулярных переделах земли в это время.
Удаленность от удобных для мореплавания морей, сухопутность, – вот главное отличие России от мира Западной Европы, вся история которой была сначала связана со Средиземноморьем, а затем с Атлантическим океаном[653]. В VIII–XII вв. торговый путь “из варяг в греки”, интерес к которому возник после того, как арабские завоевания усложнили условия средиземноморской торговли, сыграл значительную роль в формировании первого русского государства.
Но с конца XII – начала XIII в. значение этого пути, связывавшего юг и север, запад и восток, падает, с одной стороны, под влиянием давления кочевников, с другой – благодаря походам крестоносцев, захвативших Константинополь и открывших прямые и удобные морские каналы европейской и евроазиатской средиземноморской торговли[654].
С этого времени на протяжении веков российские княжества оказываются отделенными от морских коммуникаций, отрезанными от больших торговых путей. Даже Новгород и Псков, активно вовлеченные в процесс балтийской торговли, интенсивно взаимодействовавшие с Ганзейской лигой, из-за географического положения, отсутствия собственных морских портов оказываются в положении младших партнеров в этой торговой деятельности. Они редко сами организуют морские торговые предприятия.
Западноевропейские инновации постепенно доходят до России, но с заметным, охватывающим несколько веков опозданием. Троеполье, широко распространенное в Северо-Западной Европе в X–XI вв., становится в России доминирующей формой организации земледелия лишь в XVI–XVII вв. Урожайность зерновых 1:3–1:3,5 (соотношение посеянного зерна и полученного урожая) остается обычной в России вплоть до второй половины XIX в. В Северо-Западной Европе такая урожайность была нормой в XII–XIII вв.[655]. Эволюция социальных институтов также следует за западноевропейской, но с заметным отставанием[656].
В России домонгольского периода, по меньшей мере на Северо-Западе, очевидно сильное влияние европейского опыта развития городов. Эволюция институтов Новгорода и Пскова, их становление как крупных центров торговли и ремесла, участвующих в европейской системе хозяйственных связей, сближает эти города с городской Европой XII–XIII вв.
В начале XII в. княжеская власть в Новгороде стала ослабевать: место посадника (ежегодно сменяемого главы исполнительной власти в городе) стало выборным. Если до того посадник был ставленником и правой рукой князя, то теперь он избирался городским вече из числа новгородских бояр. Тем самым он превратился из орудия княжеской воли в потенциальную помеху его власти. Вече добилось права назначать архиепископа, впоследствии стало назначать и тысяцкого, воеводу местного ополчения. Новгород избавился от зависимости от Киева, который уже не мог назначать новгородских правителей. Начиная с 1136 года, когда восстание граждан закончилось изгнанием сына прежнего киевского князя, Новгород пользовался правом самостоятельно выбирать себе князя из любого княжеского рода[657].
Хотя князь и являлся приглашенным главой новгородской администрации, его права были ограничены традиционными установлениями. В XII в. он не имел права суда без участия посадника, не мог содержать свой двор вне территории новгородских земель, не имел права назначать местных администраторов без согласия посадника, не мог сместить избранное должностное лицо без публичного разбирательства. Права князя в области налогообложения были жестко ограничены. Он получал доходы с определенных территорий, но имел право делать это лишь при посредничестве коренных новгородцев. Даже права князя на охоту, рыбную ловлю, занятие пчеловодством были детально регламентированы[658]. Ограничение прав князя в Новгороде вызывает естественные ассоциации с подобным же регулированием прав приглашенного главы администрации – подеста – в городах Северной Италии того же времени[659].
Характерная черта установлений Новгорода и Пскова – отсутствие постоянного войска. Здесь, как и в городах Западной Европы, каждый горожанин при необходимости воин[660]. Однако после подчинения Новгорода и Пскова Москве при Иване III и физического уничтожения большей части новгородского населения при Иване IV города в России лишены самоуправления и играют лишь ограниченную роль в торговле и ремесле[661].
Русь приняла христианство от Византии[662]. Учитывая тесные экономические связи с ней и ее культурное влияние, такое развитие событий логично. Тогда еще не произошло разделения церквей, хотя слабеющая Восточная Римская империя и разделенная на сотни осколков, но соединяемая универсальной латынью ушедшего Рима Западная Европа уже шли разными историческими путями. Византийский выбор оказался фундаментально важным для специфики эволюции российского общества и государства по сравнению с западноевропейской[663].
Россия оказалась культурно, религиозно, политически и идеологически отделенной от того центра инноваций, которым во все большей степени становится Западная Европа, воспринимает ее и сама воспринимается ею как нечто чуждое, инородное. Следствие – нарастающее ограничение культурного обмена, возможностей заимствования нововведений, подозрительность, изоляционизм.
Независимая церковь как центр влияния, отделенный от светской власти, нередко и успешно противостоящий ей, – важнейший институт, сдерживавший экспансию государственной власти на протяжении веков, в течение которых подготавливался подъем Европы. В России такой традиции не существовало. Для нее не стало характерным то сочетание культурной и религиозной общности европейского мира при отсутствии его политического единства, которое стимулировало конкуренцию городов и государств и делало неизбежным использование эффективных инноваций.
Еще одна точка расхождения траекторий развития России и Западной Европы – близость Большой степи, монгольские завоевания XIII в.
Постепенно в доходах князей Киевской эпохи возрастает роль дани, сокращается значение полюдья, усиливается специальный аппарат чиновников, ответственных за сбор дани. Механизмы налогообложения, основанные на сочетании регулярной переписи и круговой поруки, к началу 1‑го тысячелетия н. э. были широко распространены в аграрном мире. Они применялись и в Византии, оказавшей сильное влияние на формирование российской государственности[664]. Однако до монгольского нашествия в источниках нет сведений о подобной системе налогообложения на Руси[665]. Здесь ее развитие скорее следует европейским традициям.
Именно монголы, которые к тому времени хорошо освоили и приспособили к своим нуждам китайскую налоговую систему, существовавшую со времен Шан Яна и включавшую регулярные переписи населения, круговую поруку в деревне при сборе налогов, приносят в Россию податную общину, увеличивают объем изымаемых государством у крестьян ресурсов[666].
Ко времени свержения монгольского ига ключевым экономико-политическим вопросом на Руси стал вопрос о наследнике татарской дани[667]. С. Соловьев пишет: “Со времен Донского обычною статьею в договорах и завещаниях княжеских является то условие, что если Бог освободит от Орды, то удельные князья берут дань, собранную с их уделов, себе и ничего из нее не дают великому князю: так продолжают сохранять они родовое равенство в противоположность подданству, всего резче обозначаемому данью, которую князья Западной Руси уже платят великому князю Литовскому”[668].
После стояния на реке Угре московские князья решают присвоить ее себе, отказываясь от традиционных представлений о том, что в случае ликвидации зависимости от Орды дань, подлежащая уплате в Орду, достанется удельным князьям. В духовной грамоте Ивана III уже нет традиционной фразы о том, что если “переменит бог Орду” и плата “выхода” в Орду будет отменена, то удельные князья могут взять “выход” со своих уделов в свою казну[669].
Сохранение введенной монголами системы налогообложения в руках московских князей после сокращения выплат Золотой Орде стало важнейшим фактором финансового укрепления Москвы. Именно это позволило в первые десятилетия после краха монгольского ига в массовых масштабах привлечь итальянских архитекторов и инженеров, развернуть масштабное строительство крепостей и храмов. Как справедливо пишет Ч. Гальперин: “Монгольская система налогообложения была более обременительная, чем любая известная до этого в России. Приняв монгольскую модель, московские великие князья оказались способными извлекать больше доходов, чем когда бы то ни было раньше, и использовать завоеванные земли, максимизируя извлекаемые доходы и соответственно власть. Москва продолжала собирать полный объем монгольских налогов в России даже после того, как она перестала передавать их Золотой Орде”[670].
§ 2. Влияние монгольского ига на эволюцию социально-экономических институтов России
К концу XV в. траектории социально-экономического развития Европы и России успели далеко разойтись. В Европе, особенно Северо-Западной, укореняются элементы “демократии налогоплательщиков”. Для аграрного общества с характерными для него ограниченными административными возможностями подобные установления – непременное условие гарантий частной собственности.
В России ко времени монгольского завоевания представление о том, что свободные люди не платят прямых налогов, укоренилось практически только в Новгороде и Пскове. Здесь в X–XIII вв. эволюция налоговых и финансовых установлений происходит под сильным влиянием опыта Северной Европы, в первую очередь Ганзы[671]. После освобождения от монгольского налогового бремени российская фискальная система уже радикально отличается от европейской. Это характерный для восточных деспотий набор установлений, основанный на переписи и податной общине с круговой порукой. Он не предусматривает существования органов, которые представляют интересы налогоплательщиков[672]. Такая система позволяет максимизировать объем ресурсов, которые государство отбирает у крестьянского населения страны при помощи централизованной бюрократии и государственного принуждения.
Еще один результат ига – изменение роли общины. Из механизма крестьянской самоорганизации и взаимопомощи она превращается в инструмент государственного принуждения[673]. Как и везде, круговая порука в России препятствует повышению эффективности сельскохозяйственного производства: для крестьянских хозяйств рост урожая оборачивается увеличением налоговых изъятий[674]. Поскольку обязательства перед государством несет вся община, а земля остается главным ресурсом, позволяющим их выполнять, со временем обычным делом становятся регулярные переделы земли[675]. Укоренившись в России, этот порядок не стимулирует усилия крестьянских хозяйств повышать плодородие почвы. П. Милюков пишет: “Если правительство отказывается само определить долю участия каждого в государственных тягостях, очевидно, оно признает этим свое бессилие в самой важной для него области управления; если оно прибегает к круговой поруке как к средству закрепить за собой плательщиков, очевидно, оно не надеется удержать этих плательщиков на месте собственными силами или влиянием их личного интереса: очевидно, оно требует от них больше, чем они в силах дать. Итак, смысл тяглой организации русского населения сводится к тем же характерным чертам, какие мы отметили вообще относительно русской общественной организации: она есть соединенный результат экономической неразвитости России и непропорционального развития ее государственных потребностей, созданных внешней нуждой или внешней политикой… Одна черта оставалась незыблемой с XIV и по наш век: правительственные налоги постоянно раскладывались между собой самими плательщиками, членами тяглой общины… Как бы эти налоги ни назывались, какой бы предмет обложения ни имела в виду казна, – мы уже будем знать, что, раз взимание налога попадет в руки тяглой общины и ее представителей, все равно, всякий налог сольется в общую сумму и превратится в налог с тягла, с земельной доли, доставшейся (от общества или по наследству, покупке и т. п.) каждому домохозяину”[676].
Община не стала исключительно официальным, государственным институтом, механизмом принуждения к налоговой дисциплине. Она оставалась и инструментом крестьянской самоорганизации, взаимопомощи и сопротивления помещикам и государству[677]. Но роль общины как фискального инструмента была важнейшим фактором, побуждавшим государство поддерживать ее сохранение.
Долгое подчинение Орде, зависимость от нее и взаимодействие с ней во многом определили отрыв России от основных тенденций культурного и институционального развития Европы. Господствовавшие в XV–XVI вв. представления о всевластии российского государя и безграничности его прав, о подданных-холопах носят вполне восточный характер и обнаруживают мало следов европейского институционального наследия домонгольской эпохи.
Россия, до начала XIII в. шедшая в общем потоке европейского развития и находившаяся под культурным влиянием Западной Европы, к XV–XVI вв. превращается в традиционное централизованное аграрное государство[678] со всеми характерными для него чертами – всевластием правителя, бесправием подданных, отсутствием институтов народного представительства, слабостью гарантий частной собственности, отсутствием независимых городов и местного самоуправления[679].
Появление пороха, артиллерии, огнестрельного оружия трансформирует соотношение экономической и военной мощи. Начинается период “пороховых империй”. Государства, чей экономический и финансовый потенциал позволяет содержать регулярные армии, оказываются способными не только защищаться от набегов кочевников, но и наносить им сокрушительные поражения. Наступление России на юг и восток – проявление этой тенденции. Степь, долгое время бывшая главной угрозой для России, становится объектом ее территориальной экспансии[680].
Процесс движения оседлых земледельцев в сторону плодородных, ранее не освоенных степей, связанный с наступлением периода “пороховых империй” и закатом военного могущества кочевников, не чисто российский феномен. Те же процессы в это время происходят и в Восточной Азии, в степных районах, прилегающих к Китаю.
В России конца XVI в. крестьяне не ищут земли, подконтрольной властям, а бегут с нее. Перепись, проведенная в Коломне и Можайске, свидетельствует о том, что в конце XVI в. здесь пустовало примерно 90 % дворов[681]. К 1584 году, к моменту смерти Ивана Грозного, в Московском уезде под пашней было лишь 16 % земли, 84 % пустовало. На каждое жилое поселение в Подмосковье приходилось три пустых. Еще хуже обстояло дело в районе Новгорода и Пскова, здесь в обработке было только 7,5 % земли. Писцовые акты этого времени пестрят описаниями пустошей, которые раньше были деревнями. По мере убыли населения государственная и частновладельческая повинность становится тяжелее. По словам Л. Курбского, “взяв однажды налог, посылали взимать все новые и новые подати”[682]. В конце XVI в. писец, отправленный для новой переписи податного населения, пишет, что деревня “пуста, не пахана и не кошена, двор пуст, и хоромы развалились”. Он же объясняет и причины запустения: “от царевых податей”, оттого, что “землею худа, а письмом [т. е. податями] дорога”, “от мора и от голода и от царевых податей”, “от помещикового воровства”, “от помещикового насильства крестьяне разбрелись безвестно”, “запустела от помещиков”[683].
Открытие возможности миграции на юг и восток приводит к изменению важнейшего для аграрного общества параметра: соотношения земли и трудовых ресурсов. В условиях земельного дефицита для функционирования институтов аграрного общества не требуются жесткие формы личной зависимости крестьян – их закрепощение. При недостатке земли государство легко мобилизует часть результатов крестьянского труда, необходимую для содержания привилегированной элиты, – крестьянину просто некуда деться. Но если в результате географических открытий, краха степных государств, других исторических обстоятельств земля оказывается в изобилии, для аграрной цивилизации остаются лишь две альтернативные стратегии. Первая: эволюция в эгалитарное общество, почти не знающее сословных различий, с минимальным перераспределением доходов и, как правило, отсутствием прямых обязательных налогов и платежей (именно так развивались британские колонии в Северной Америке в XVII–XVIII вв.). И вторая: прямое и жесткое государственное принуждение, лишающее крестьянина свободы передвижения, возможности воспользоваться преимуществами, которые дает доступность плодородной земли.
В Европе XII–XIII вв. рост численности и плотности населения, нарастающий земельный дефицит стали факторами, которые привели к ликвидации личной зависимости крестьян от феодалов, широкому распространению выкупа традиционных повинностей. С середины XIV в. вспышки голода и эпидемий приводят к сокращению населения Европы. Земельные ресурсы, приходящиеся на душу населения, увеличиваются, возникает дефицит рабочей силы. Именно в это время землевладельческие элиты многих стран предпринимают попытки восстановить в деревне отношения личной зависимости, увеличить бремя крестьянских повинностей[684]. Крестьянство отвечает на это саботажем, беспорядками, а подчас и крупными восстаниями.
Развитие событий в разных странах определялось соотношением внутренних сил, степенью консолидации элит. В большей части Западной Европы крестьянам удалось отстоять вольности, сформировавшиеся на предшествующем этапе развития. Однако в Восточной Европе – в Польше, Венгрии, Румынии, Германии к востоку от Эльбы – идет процесс вторичного закрепощения крестьян, их прикрепления к земле, лишения личных свобод, превращения в собственность помещика[685].
В России, к началу XVI в. уже восстановившей культурное взаимодействие с Европой, совместились два процесса: открытие новых ресурсов незанятых плодородных земель и освоение восточноевропейского опыта вторичного закрепощения крестьян[686]. Именно на этом фоне формируется российская система крепостного права.
Сформировавшаяся при вторичном закрепощении крестьян в Восточной Европе система отношений была жестче, чем после краха Западной Римской империи и Великого переселения народов. Как уже говорилось, в западноевропейских крепостнических порядках VII–X вв. при всей неравноправности сторон всегда явно или неявно присутствовали контрактные элементы. Крестьянин нес перед феодалом натуральные, денежные или трудовые повинности, но и феодал с его замком был нужен крестьянину для защиты от разбойников и грабителей, от набегов викингов и кочевников. Уход земледельца под защиту сюзерена стал в то время важным механизмом феодализации.
Контрактный характер маноральных отношений предопределял и ключевую роль взаимных обязательств феодала и крестьянина. Это ограничивало произвол первого, обеспечивало стабильность положения второго. В отношениях, которые складываются при вторичном закрепощении, контрактные элементы либо были сведены к минимуму, либо отсутствовали вообще. С появлением регулярных армий помещик с его замком оказался не нужным крестьянину для защиты дома, хозяйства и семьи, но феодал по-прежнему нуждался в продуктах крестьянского труда и присваивал их. Неприкрытая роль насилия в отношениях “помещик – крестьянин” сближает их не столько с отношениями раннефеодальной эпохи, сколько с античным рабством или рабством в заморских колониях. Характерная черта этих отношений – то, что закрепощенные или порабощенные сословия уже не воспринимаются элитой как соплеменники, наделенные какими бы то ни было правами[687].
§ 3. Период догоняющего развития России до начала современного экономического роста
При всей близости российских традиций и установлений, сложившихся после освобождения от монгольского ига, к традиционно восточным на социально-экономическом развитии страны сказывалось влияние общего с Европой социально-культурного наследства: традиций и установлений индоариев, христианства, географической близости к западноевропейскому миру, невозможности на многие века изолироваться от его влияния.
Растущая экономическая и военная мощь ведущих западноевропейских государств, в том числе ближайших соседей – Польши, Швеции, со всей очевидностью угрожала суверенитету России. В то же время страны-лидеры служили источником технологических заимствований в области вооружений, военной организации, кораблестроения, производственных технологий. Реакция российского государства на эти вызовы и возможности вытекает из самой логики предшествующего развития. Российская политическая элита хотела заимствовать не европейские институты, на которых базируются достижения Западной Европы, а военные и производственные технологии[688], опираясь при этом на финансовые ресурсы государства, не ограниченные ни традициями, ни представительными органами[689].
Это придавало развитию России неустойчивый характер. Институты, которые должны обеспечивать создание и распространение эффективных инноваций, не действовали. Отечественное предпринимательство слабо и малоинициативно, за всплеском государственной активности следует период застоя. Городская культура Руси, бывшая в XI–XIII вв. органической, хотя и периферийной частью европейской городской культуры, не выдержала монгольского ига и в первую очередь порожденного им резкого усиления государства. Характерной чертой российского общества постмонгольского периода был низкий даже по стандартам традиционного аграрного общества уровень урбанизации. Историческая статистика, доступная нам, несовершенна. Поэтому оценки доли городского населения в России в XVII–XVIII вв. колеблются в пределах от 4 до 10 %. Но очевидно, что она ниже, чем в странах Северо-Западной Европы того же периода. К тому же с последней четверти XV в. в России уже не было свободных городов, пользующихся широкой автономией, – важнейшего института, создавшего предпосылки экономического и культурного подъема Западной Европы. Города в России, как и в подавляющем большинстве аграрных обществ, – это в первую очередь административные и военные центры[690].
Россия никогда полностью не уходит от общего европейского наследия, европейского влияния. Она слишком близка к Европе, не может полностью устраниться от тектонических процессов, связанных с начинающимся подъемом Европы, формированием специфических европейских институтов. Но в XV–XVII вв. дистанция между социальными институтами Западной Европы и России, по-видимому, достигает максимума. Разрыв настолько велик, что очевиден для современников и в России, и за ее пределами[691].
Отсталость России от Европы российской политической элитой осознавалась давно. При первом Романове – Михаиле Федоровиче – была начата реформа армии, направленная на использование европейского опыта. Появились полки “иноземного строя”. Но и к концу XVII в. решение задачи имитации европейских институтов далеко не продвинулось. Регулярной армии не было: плохо обученные солдатские полки с иноземными офицерами-наемниками, стрельцы и дворянская конница. Флота не было. Школ мало. Учат только грамоте. Университетов нет. Ученых нет. Врачей нет. Одна аптека (царская) на всю страну. Газет нет. Одна типография, печатающая в основном церковные книги[692].
Были исторические моменты, например в начале XVIII в., когда российское государство ценой огромных усилий с помощью технологических заимствований сокращало разрыв, но потом он вновь увеличивался. Догоняющий характер развития России по отношению к Западной Европе был хорошо понятен современникам. По мнению Кэтрин Вильмот (она была ирландской знакомой Е. Дашковой), российское общество конца XVIII в. напоминало западноевропейское общество XIV–XV вв.[693]. Есть и иные оценки уровней развития России и Западной Европы в конце XVIII в. Б. Миронов приводит немало свидетельств современников о близости уровней жизни в России и Западной Европе в этот период[694]. Но с началом современного экономического роста в XIX в. разрыв по уровню душевого ВВП между Западной Европой и Россией становится очевидным и бесспорным.
Действительно, на рубеже XVIII и XIX вв. в Западной Европе стали многократно увеличиваться среднегодовые темпы роста экономики, резко выросли финансовые ресурсы, находившиеся в распоряжении европейских государств. Порожденные современным экономическим ростом технологии открывали новые возможности в военном деле, производя в нем настоящую революцию.
Реакция царского режима на эти беспрецедентные перемены у границ империи определялась двумя факторами. Начало современного экономического роста в Европе совпало по времени с завершением наполеоновских войн, когда Россия убедительно продемонстрировала миру свое военное могущество. События конца XVIII – начала XIX в., от Великой французской революции до восстания декабристов, показали, насколько опасны для сложившегося режима потрясения, связанные с началом социально-экономической трансформации[695]. Отсюда вывод, задавший тон политике царствования Николая I: перемены не нужны, они таят угрозу режиму; главное – сохранить традиции и устои. Поражение в Крымской войне подвело очевидную для российской политической элиты черту под этой политической доктриной. Надежды продолжить ту же линию в условиях быстро изменяющегося мира по соседству с уходящей вперед Европой оказались напрасными[696].
В России – крестьянской стране современный экономический рост, связанный с драматическими изменениями в занятости, с масштабным перетоком рабочей силы из деревни в город, настоятельно требует решить вопрос об освобождении крестьян. Здесь, как и во многих других странах, решение земельного вопроса и освобождение крестьян без революционных потрясений предполагают компромисс между интересами государства, землевладельцев и крестьянства. Если говорить о создании предпосылок для устойчивого экономического роста, российский компромисс оказался не слишком удачным.
С самого начала работы над проектом земельной реформы ее авторы сочли необходимым исключить внесение крестьянами выкупа за свое освобождение. Объектом выкупа должны были стать лишь переходящие от помещика к крестьянам земельные наделы. Однако дворянство сумело навязать свой вариант реформы. По сути выкупалась не только земля, но и личная свобода земледельца: во многих губерниях, особенно в нечерноземной России, размеры крестьянских обязательств существенно превышали рыночную цену земли[697]. При этом крестьяне не имели права отказаться от выкупа земли. Государство гарантировало платежи помещикам, а на крестьянство взваливало многолетние выкупные обязательства перед казной. Земля переходила не к крестьянам, а к крестьянской общине, которая сохраняла прежний податной характер, несла обязательства перед государством по налоговым и выкупным платежам на основе круговой поруки. Сохранение коллективных обязательств, которые распространялись на членов общины, делало освобождение крестьян незавершенным. Крестьянин не имел права свободно, без согласования с общиной, уехать в город, поступить на фабрику – его всегда можно было оттуда отозвать[698]. Наконец, лишь в 1903 году правительство отказывается от круговой поруки как способа взимания налогов. После реформы 1861 года в России не сформировалось ни крупного современного товарного сельского хозяйства, которое работало бы на рынок, активно использовало наемную рабочую силу и стимулировало перераспределение трудовых ресурсов в промышленность, например, по английскому образцу, ни частного крестьянского хозяйства со свойственным ему социально-экономическим и политическим консерватизмом по французской модели. Крестьяне были обременены крупными финансовыми обязательствами, привязаны к податной общине и не удовлетворены тем, как решен земельный вопрос. Они по-прежнему не признавали помещичьих прав на землю. К 1896 году 89 млн гектаров земли, принадлежавшей дворянству, перешло в руки крестьян. К этому времени крестьянство владело более чем 80 % земли и арендовало часть остальных земель[699]. Но ненависть основной массы крестьянского населения к привилегированному сословию оставалась заряженной миной для грядущего социального взрыва.
Современные исследования, базирующиеся на богатом архивном материале, по меньшей мере ставят под вопрос тезис о существовании в России конца XIX – начала XX в. аграрного кризиса, стагнации доходов крестьян[700]. Работы, выполненные во второй половине XX в., также показали, что представления об упадке дворянского хозяйства после реформ, о неспособности дворян адаптировать его к рыночным условиям неточно отражали реальность. Однако это еще один случай в истории, когда важно не только то, что происходило на деле, но и то, как это воспринимается обществом. А для современников утверждения об аграрном кризисе и упадке дворянского хозяйства представлялись очевидными[701]. В конце XIX в. наблюдатели соглашались с тем, что экономическое состояние русского крестьянства стало хуже после освобождения. Для информированных исследователей, писавших в этот период, снижение уровня жизни крестьянства не требовало доказательств[702].
§ 4. Начало современного экономического роста в России
Россия вступает в процесс современного экономического роста на два поколения позже, чем Франция и Германия, на поколение позже, чем Италия, и примерно одновременно с Японией[703] (табл. 8.1).
Слабость отечественного предпринимательства, связанная с историческим прошлым страны, в том числе с неразвитостью городов и промышленности, – один из факторов, определивших траекторию развития России на ранних этапах современного экономического роста. Российские предприниматели 60‑х годов XIX в. стремились наращивать промышленное производство, однако низкие стандарты деловой этики и слабость банковской системы сдерживали темпы экономического роста и индустриализации страны.
Таблица 8.1. Среднегодовые темпы роста после начала современного экономического роста[704] в отдельных странах мира, %
Власть вполне отдавала себе отчет, что финансовая и военная мощь страны может подниматься только вместе с экономическим ростом. Видя, как динамично возрастает мощь соседей, в первую очередь Германии, она стремилась подстегнуть развитие страны активной экономической политикой. Под таковой понимались прежде всего протекционистские тарифы, которые защищают отечественную промышленность, но при этом возлагают бремя высоких цен на потребителя, в первую очередь на доминирующее в стране сельское население[705].
Активную экономическую политику российского государства характеризуют не только протекционизм, но и значительные государственные расходы на экономику, в первую очередь инвестиции в масштабное железнодорожное строительство. Эти расходы тоже увеличивают финансовое бремя, возлагаемое на застойное крестьянское хозяйство.
Тем не менее темпы индустриализации в России были высокими. Как показывают исчисления немецкого Конъюнктурного института, продукция русской промышленности увеличилась с 1860 по 1900 год в 7 раз, промышленное производство Германии – почти в 5, Франции – почти в 2,5 и Англии – в 2 раза[706].
Расчеты темпов роста “народного дохода” европейской России за 1900–1913 годы (разумеется, приблизительные), произведенные С. Прокоповичем, дают результаты, близкие к 5 % в год[707]. Есть и другие оценки (табл. 8.2).
В России социальная дестабилизация раннеиндустриального периода[708] и связанный с ней рост политических конфликтов накладываются не только на глубокие противоречия по вопросу о собственности на землю[709], но и на подъем дирижистской идеологической волны в мире.
Таблица 8.2. Оценка среднегодовых темпов роста экономики России на стыке XIX и XX вв., %
Источник: Maddison A. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OECD, 1995; Грегори П.
Экономический рост Российской империи: новые подсчеты и оценки. М.: РОССПЭН, 2003.
Ко времени, когда Россия вступила в период современного экономического роста, связанные с ним противоречия уже проявились в странах-лидерах. Убежденность либералов, что для стабильного социально-экономического развития достаточно лишь экономических свобод, была подорвана. Сформировался и получил широкое распространение марксистский подход к изучению закономерностей исторического процесса[710]. Анализ внутренних противоречий и социальных конфликтов капитализма породил представление о его неизбежном крахе в результате социальной революции.
Россия начала XX в., находясь на стадии ранней индустриализации, сталкивается с характерной для нее социальной проблемой – трудностью адаптации мигрантов из деревни к городским условиям жизни, к непривычной работе на фабрике. На эту проблему накладываются недовольство крестьян распределением земли после реформы 1861 года, их отказ признать собственность помещиков как легитимную. Беспорядки в деревне возникают при первых признаках ослабления государственной власти. Крестьянские волнения 1905–1906 годов – наглядный пример тому.
Соседняя Западная Европа демонстрирует образцы политической организации: гарантии прав личности и политических прав, демократия налогоплательщиков, расширение избирательных прав. Пример Европы и далекой Америки подрывает прежде незыблемый авторитет абсолютистской монархии в глазах образованной городской элиты. Сильно влияние социалистических идей на политически активную молодежь, возможность участия которой в легальной публичной политике ограниченна. Царский режим негибок, неспособен провести упорядоченные и глубокие реформы.
Все это факторы риска, повышающие вероятность крушения режима. Но они не делают его неизбежным. Идут и позитивные процессы, которые позволяют надеяться на стабилизацию положения[711]. Растет доля мигрантов во втором поколении, адаптированных к городской жизни. Повышается заработная плата рабочих[712]. После столыпинской реформы, открывшей дорогу формированию и развитию индивидуальных крестьянских хозяйств[713], не связанных общинными установлениями, рост продуктивности сельского хозяйства, аграрного экспорта становится очевидным (табл. 8.3).
Таблица 8.3. Среднегодовой урожай зерна в России в 1900–1913 годах, по периодам
Источник: Расчеты по: Лященко П. И. История русского народного хозяйства. М.: Госиздат, 1930. С. 370, 371.
Конечно, Государственная Дума, возникшая под аккомпанемент революции 1905 года, еще сравнительно малоэффективный политический институт. Но она открывает возможности для публичной политики, помогает формированию демократических институтов, создает базу трансформации политического режима. Для всего этого нужно время. Первая мировая война, в которую оказалась втянута Россия, радикально изменила ситуацию, перечеркнула надежду на трансформацию политической системы эволюционным путем.
Война была беспрецедентной в истории последних веков. В ней участвовала огромная армия, мобилизованная по призыву (см. гл. 14). Российская армия того времени – это армия сословной страны с непростыми отношениями между крестьянским большинством и привилегированной элитой. Массовая мобилизация, невиданные потери приводили к разрыву связей с традициями – основой стабильности общественных установлений. Оружие, оказавшееся в руках у миллионов крестьян, в условиях многолетней войны на уничтожение делало сохранение устойчивости режима проблематичным. Но и говорить о предопределенности революции в это время нельзя. Детерминистские построения удаются лишь будущим поколениям историков[714]. Современникам такие прогнозы делать труднее[715]. В развитии революционного процесса большое значение имеют тактика, принятые или не принятые властью или ее оппонентами решения[716].
События февраля – марта 1917 года привели к крушению царского режима, а затем к деградации всех государственных институтов, обеспечивавших правопорядок[717]. Полномасштабная революция, гибель старого режима открывают протяженный период политической нестабильности, слабости власти, финансового и денежного кризиса (см. гл. 15).
§ 5. Марксизм и подготовка идеологических основ социалистического эксперимента
С 1870‑х годов все написанное К. Марксом привлекает пристальное внимание российского общества. В стране, где озабоченная растущей угрозой радикализма власть пытается сохранить политический контроль[718] (и при этом не всегда адекватными методами), влияние радикальных идей, установок на свержение существующего строя необычайно велико. Ф. Энгельс пишет: “Если не считать Германии и Австрии, то страной, за которой нам надо наиболее внимательно следить, остается Россия. Там, как и у нас, правительство – главный союзник движения, но гораздо лучший союзник, чем наши Бисмарки – Штиберы – Тессендорфы. Русская придворная партия, которая теперь является, можно сказать, правящей, пытается взять назад все уступки, сделанные во время «новой эры» 1861 года и следующих за ним лет, и притом истинно русскими способами. Так, например, снова в университеты допускаются лишь «сыновья высших сословий» и, чтобы провести эту меру, всех остальных проваливают на выпускных экзаменах… После этого удивляются распространению «нигилизма» в России”[719].
Марксистский метод исторического анализа ставит перед его российскими адептами непростые проблемы. Теория К. Маркса формировалась для стран – лидеров современного экономического роста на базе их опыта. Россия, со всей очевидностью, к ним не относилась. Она лишь вступила в период индустриализации. Выходит, что предпосылок для социалистической революции в России нет и в ближайшие десятилетия не предвидится. Россия медленно шла вперед: распадались и разлагались традиционные институты, формировались институты капиталистические. Но тот же марксизм учит, что капитализм – это острые социальные конфликты, обнищание трудящихся. Что же делать в такой ситуации адептам марксизма в России? Мешать развитию капитализма бессмысленно, ибо это объективный процесс[720]. Помогать, учитывая связанные со становлением капитализма острейшие социальные последствия, означало для охваченной революционным порывом молодежи предательство идеалов, а следовательно, занятие постыдное и безнравственное. Они не хотели строить мосты и дороги. Они хотели идти в народ.
Да и сам К. Маркс, разуверившись в последние годы своей жизни в перспективах революционного рабочего движения в Англии, обращает все более пристальное внимание на развитие событий в России. В письмах конца 1870‑х – начала 1880‑х годов он, пересматривая собственные взгляды, пишет: “Анализ, представленный в «Капитале», не дает, следовательно, доводов ни за, ни против жизнеспособности русской общины. Но специальные изыскания, которые я произвел на основании материалов, почерпнутых мной из первоисточников, убедили меня, что эта община является точкой опоры социального возрождения России, однако, для того чтобы она могла функционировать как таковая, нужно было бы прежде всего устранить тлетворные влияния, которым она подвергается со всех сторон, а затем обеспечить ей нормальные условия свободного развития”[721]. В другом письме он отмечает: “Если Россия будет продолжать идти по тому пути, по которому она следовала с 1861 г., то она упустит наилучший случай, который история когда-либо предоставляла какому-либо народу, и испытает все роковые злоключения капиталистического строя”[722]. Общность сказанного со взглядами российских народников здесь бросается в глаза[723].
Публикация писем К. Маркса, в которых его идеи последних лет жизни выражены гораздо осторожнее, чем в черновиках, тем не менее поставила российских марксистов, ведущих полемику с представителями традиционного российского радикализма – народниками, в сложное положение[724]. Марксисты доказывали, что разложение общины, развитие индивидуального сельского хозяйства – неотъемлемый элемент российского развития на том его этапе. Но выясняется, что основатель их учения думает по-другому. Они апеллируют к его ближайшему другу и соратнику.
Ф. Энгельс, еще больше К. Маркса убежденный в существовании “железных законов истории”, приходит российским марксистам на помощь. В своей работе “Социальный вопрос в России” он пытается объяснить с марксистских позиций письма К. Маркса в редакцию “Отечественных записок” и В. Засулич.
Специфика российской общины, объясняет он, состоит лишь в том, что она дожила до того времени, когда развитие производительных сил сделало возможной социальную революцию на Западе, – только это дает ей шансы на спасение. “Исторически невозможно, чтобы обществу, стоявшему на более низкой ступени экономического развития, предстояло разрешить задачи и конфликты, которые возникли и могли возникнуть лишь в обществе, стоящем на гораздо более высокой ступени развития”[725]. Единственная возможность сохранения русской общины и дальнейшей ее эволюции связана с тем, что революционное движение в России послужит стимулом для пролетарской революции на Западе.
Из Послесловия Ф. Энгельса к “Социальному вопросу в России” логически вытекают идеи, получившие широкое распространение в российском обществе с начала революционных событий 1905–1907 годов. Это представления о грядущей русской революции, возможность которой определена сочетанием нескольких факторов: пережитки феодального режима, такие, как абсолютная монархия и отсутствие народного представительства; рост рабочего класса и рабочего движения; конфликт между крестьянами и помещиками вокруг земли; наличие развитой идеологической конструкции, демонстрирующей этапы исторического развития и задачи революционной борьбы. Сама по себе русская революция не будет социалистической, но она может стать детонатором для революционного подъема на Западе. И тогда, опираясь на успехи и помощь социалистической революции в Западной Европе, русская революция откроет дорогу построению социализма в России.
Наиболее ярко эта линия была выражена в работах Л. Троцкого[726]. Его логика такова: в силу специфики российской истории, в первую очередь слабости городов, российская буржуазия не накопила достаточных сил и влияния, чтобы возглавить революцию; рабочий класс, вооруженный марксистским учением, напротив, силен и активен; в условиях начинающейся революции обречены те политические силы, которые не ставят своей задачей захват власти и реализацию собственной программы или стеснительно допускают, что в крайнем случае готовы на короткое время поучаствовать во власти, чтобы затем как можно быстрее уйти в оппозицию. Если социал-демократы хотят участвовать в революции, они должны ставить перед собой задачу завоевать политическую власть и реализовать собственную программу.
В соответствии с азбукой марксизма Троцкий признает, что Россия не является развитой капиталистической страной и в ней нет базы для социализма. Однако революция – процесс не национальный, а интернациональный. Российская революция проложит дорогу западноевропейской, а социалистическая Западная Европа поможет построить социализм в самой России[727]. В. Ленин писал о том, что в России по сравнению с Западной Европой неизмеримо легче начать пролетарскую революцию, однако ее гораздо труднее продолжить, чем на Западе[728]. Эта цепочка рассуждений позволяла затолкать реальности социально-экономического кризиса в России, порожденного ее специфическим историческим наследием, наложенным на конфликты раннеиндустриального периода, в узкую логику действий радикальной партии с ее марксистским пониманием закономерностей исторического процесса. Иными словами, она давала возможность совместить светскую религию и политическую практику. Именно такая логическая схема диктовала большевистскому руководству его действия после крушения царского режима в феврале 1917 года.
§ 6. Исторические корни социалистического эксперимента в России
Для понимания того пути развития событий, которым пошла Россия с 1917 года, полезно проанализировать некоторые социально-экономические характеристики стран, прошедших через подобные эксперименты. Если исключить из них те, в которых социализм был привнесен на иностранных штыках, то это наряду с Россией (1917 год) Китай (1949 год), Югославия (1945 год), Вьетнам (конца 1940‑х годов), Куба (1959 год) (табл. 8.4).
Как показывают данные табл. 8.4, во всех названных странах, кроме Кубы, социалистический эксперимент начинается при уровне ВВП на душу населения, характерном для ранних этапов индустриализации. Куба с существенно более высоким уровнем развития – исключение[729].
Таблица 8.4. Некоторые показатели экономического развития стран к моменту начала социалистического эксперимента[730]
Источник: Maddison A. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OECD, 1995; Idem. The World Economy. A Millennial Perspective. P.: OECD, 2001; Mitchell B. R. International Historical Statistics: Europe 1750–1993. London: Macmillan Reference LTD, 1998; Idem. International Historical Statistics: The Americas 1750–1993. London: Macmillan Reference LTD, 1998; Idem. International Historical Statistics: Africa, Asia & Oceania 1750–1993. London: Macmillan Reference LTD, 1998; UN Statistics Division, .
В ряде случаев ориентирующиеся на построение социализма политические силы оказывались способными на короткое время захватить власть, но удержать ее не могли (Франция – 1871 год, Бавария – 1919 год, Венгрия – 1919 год). В Испании во время Гражданской войны (1936–1939 годы) их влияние в правительстве было сильным[731]. Данные об уровне социально-экономического развития этих стран см. в табл. 8.5.
В ряде случаев в этих странах уровень развития заметно выше, чем в России и Китае во время победы социалистических революций. И все же речь идет о странах, не вступивших в период индустриальной зрелости, проходящих период масштабного перераспределения трудовых ресурсов из сельского хозяйства в промышленность[732].
Таблица 8.5. Показатели уровней социально-экономического развития в странах, отмеченных неудавшимися попытками построения социализма[733]
Источник: Maddison A. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OECD, 1995; Idem. The World Economy a Millennial Perspective. P.: OECD, 2001; Mitchell B. R. International Historical Statistics. Europe 1750–1993. London: Macmillan Reference LTD, 1998; Idem. International Historical Statistics. The Americas 1750–1993. London: Macmillan Reference LTD, 1998; Idem. International Historical Statistics. Africa, Asia & Oceania 1750–1993. London: Macmillan Reference LTD, 1998.
Характерная черта, объединяющая состоявшиеся и несостоявшиеся попытки социалистических экспериментов, – их принадлежность к периоду 1870–1970 годов, т. е. ко времени, когда в мире господствуют представления о благотворности расширения участия государства в управлении экономикой. Сочетание характерных для раннего этапа индустриализации острых социальных проблем и конфликтов, веры значительной части политически активной элиты в то, что их можно решить, демонтировав сложившиеся капиталистические установления, национализировав собственность, заменив рыночные механизмы прямым государственным управлением экономикой, – все это необходимые предпосылки антикапиталистических революций.
Еще одна характерная черта удавшихся и неудавшихся попыток политических сил, ориентированных на построение социализма, прийти к власти – их связь с войнами. В большинстве случаев именно война, мобилизация и вооружение огромной массы населения прокладывают антикапиталистическим силам дорогу к власти[734]. Все это факторы риска, а не детерминанты.
В России сочетание войны, социальных проблем раннеиндустриального периода, доминирующей в элитах убежденности в благотворности активизации роли государства в управлении экономикой создавало риск того, что Россия станет первой страной, в которой социалистический эксперимент окажется не предметом теоретических дебатов, а основой проводимой политики. Могло сложиться и по-другому. Все зависело от соотношения сил, конкретики и даже случайностей политической борьбы.
Анализ развития событий в ходе революции и Гражданской войны выходит за пределы предмета данной книги. Мы ограничимся несколькими замечаниями, связывающими логику происходящего с ключевыми проблемами трансформации традиционного общества на ранних этапах современного экономического роста.
Как отмечалось выше (см. гл. 3), разрешение конфликта между привилегированным сословием и крестьянским большинством по вопросу о правах на землю, доставшемуся в наследство от аграрного общества, – важнейший фактор, влияющий на динамику экономического и политического развития. Революция конца XVIII в. во Франции, закрепившая права непривилегированного сословия на землю, сделала французское крестьянство опорой частной собственности, силой, заинтересованной в политической стабильности. Именно крестьянская армия стала важнейшей силой, определившей судьбу Парижской коммуны[735]. Лидеры большевиков это прекрасно знали[736]. Они понимали и то, что в России ситуация иная. Конфликт вокруг собственности на землю в ходе реформ 1861 года не был разрешен в пользу крестьян. По меньшей мере они были в этом убеждены. Отсюда осознание лидерами большевиков значения того, как поведут себя вооруженные крестьяне в ходе революции[737], готовность идти на любые шаги, необходимые для завоевания их поддержки[738]. Большевики в 1917 году полностью принимают крестьянскую программу, причем не только экономическую (вопрос о земле)[739], но и политическую (вопрос о мире – причем немедленно и любой ценой)[740].
В революционной ситуации при отсутствии общепринятых правил игры большевики используют свои преимущества: прагматизм, готовность поступиться принципами. Их не связывает то, что ограничивает свободу маневра других политических сил, – представление о допустимых формах применения насилия, патриотизме, интересах страны. Они готовы согласиться на мир любой ценой ради сохранения власти и применять насилие к собственному народу в масштабах и формах, беспрецедентных на протяжении предшествующих веков. Все это прикрывается мессианской глобалистской идеологией, оправдывающей любые злодеяния в России и отпускающей все грехи именем грядущей мировой революции[741].
§ 7. От “военного коммунизма” к нэпу
Ключевым для судьбы революции был вопрос снабжения армии и городов продовольствием; от его решения зависело, какие политические силы выйдут из революции победителями. Чтобы обеспечить поставки зерна хотя бы на минимальном уровне в условиях расстройства денежного обращения, нежелания крестьян продавать его за обесценивающиеся деньги, требовалось организовать массовое принудительное изъятие продовольствия у крестьян в вооруженной крестьянской стране.
Еще царское правительство, столкнувшееся с кризисом продовольственного снабжения, связанным с финансовой дестабилизацией, 8 сентября 1916 года приняло Закон об уголовной ответственности за повышение цен на продовольствие[742]. Однако сформированные предшествующими десятилетиями представления о нормах организации цивилизованного общества, необходимости в судебном порядке доказывать, что повышение цен непомерно, сделали его практически неработающим[743]. Та же судьба постигла и предпринятые правительством в ноябре 1916 года попытки ввести продразверстку[744]. После краха царского режима Временное правительство пыталось продолжить реализацию политики продразверстки. Как справедливо пишет один из советских историков, Е. Г. Гимпельсон, “еще Временное буржуазное правительство вынуждено было 25 марта 1917 года декретировать хлебную монополию и сдачу крестьянами излишков хлеба по твердым ценам. Однако Временное правительство, приняв этот декрет, ничего не сделало для его реализации”[745]. Это неудивительно. Чтобы реализовывать такие декреты, нужна готовность расстреливать или сажать в лагеря десятки и сотни тысяч людей. Отсутствие такой готовности у Временного правительства и наличие ее у большевиков определили судьбу русской революции начала XX в.
В начале 1918 года большевистское руководство приняло решение организовать экспедиционные отряды в южные районы страны для изъятия продовольствия у крестьян. Их руководители имели право вводить в районах обязательную трудовую повинность, производить реквизиции и конфискации продовольствия, использовать военную силу[746].
9 мая 1918 года ВЦИК издал декрет о предоставлении народному комиссару продовольствия чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы. Этот документ объявлял всех, кто имел излишек хлеба и не вывозил его на ссыпные пункты, врагами народа и обязывал предавать их революционному суду и приговаривать к тюремному заключению на срок не менее 10 лет. Наркомпроду были даны полномочия применять силу в случае противодействия изъятию хлеба и других продовольственных продуктов[747]. Рыночная цена хлеба в 1918 году примерно в 10 раз превышала установленные государством цены[748].
В начале 1919 года меняется принцип определения излишков у крестьян: раньше при установлении излишков исходили из потребностей крестьянской семьи (по нормам) и фактического наличия хлеба, а по новому декрету – из потребности государства в хлебе. “Излишком” считается то количество хлеба, которое село, волость, уезд, губерния должны были сдать государству. “Разверстка, данная на волость, уже является сама по себе определением излишков”, – разъясняло письмо ЦК ВКП (б) губкомам партии[749]. Здесь характерное для аграрных обществ стремление к изъятию максимума возможного у крестьянского населения выражено особенно откровенно[750].
Впрочем, не менее откровенным был и В. Ленин: “Мы научились применять разверстку, т. е. научились заставлять отдавать государству хлеб по твердым ценам, без эквивалента”[751]. Идеи нового закрепощения крестьянства получили законодательное выражение в постановлении VIII Всероссийского съезда Советов (декабрь, 1920 года) “О мерах укрепления и развития крестьянского сельского хозяйства”. Декрет объявлял “правильное ведение земледельческого хозяйства великой государственной обязанностью крестьянского населения”[752].
Как это неоднократно бывало в истории аграрных обществ, следствием вызванного продразверсткой переобложения крестьянства, к тому же проходящего на фоне войны и неупорядоченных реквизиций, проводимых воюющими сторонами и просто бандитами, стал голод, правда, беспрецедентный по своим масштабам на протяжении столетий российской истории.
В 1891 году в Поволжье голодало почти 965 тыс. человек. В 1921 году счет велся на миллионы. “Правильный расчет крестьянина этих местностей, подверженных столь ужасным засухам, – отмечал В. Бонч-Бруевич, – иметь хлеб на корм и засев не менее как на два, а то и на три года, нарушен беспощадным нашим временем”[753]. В результате реквизиций у крестьянина не осталось запасов на “черный” день. На IX Всероссийском съезде Советов 24 декабря 1921 года М. Калинин сказал, что голодающими “официально признано у нас в настоящий момент 22 миллиона человек. Несомненно, близкими к голодающим еще являются не менее 3 миллионов, а я лично думаю, около 5 миллионов человек. Значит, бедствие охватило не меньше как 27–28 миллионов человек”[754]. В апреле 1922 года руководство Башкирии было вынуждено принять специальное постановление “О людоедстве”, направленное “на борьбу с трупоедством и людоедством, а также на пресечение торговли человеческим мясом”[755].
Очевидный и глубокий аграрный кризис, невозможность снабжать города продовольствием, крестьянские восстания, признаки нелояльности вооруженных сил – все это заставило большевистское руководство изменить проводимую политику, перейти к упорядоченному налогообложению вместо произвольных конфискаций, снизить объемы изымаемого у крестьян зерна. В этом не было ничего нового в социально-экономической истории. Так неоднократно поступали завоевывавшие аграрную страну иноэтнические элиты, столкнувшись с кризисом, вызванным переобложением[756]. Отличием было то, что предшествующую политику проводили не завоеватели, а объединенная верой в мессианскую марксистскую идеологию партия[757].
Когда период бури и натиска Гражданской войны растворился в нэпе, удалось стабилизировать червонец, началось восстановление народного хозяйства, стало ясно, что формирующийся хозяйственный уклад приобретает знакомые черты рыночного хозяйства. К середине 20‑х годов XX в. и в российских, и в эмигрантских либерально-профессорских кругах укрепляется убеждение, что при всей социалистической риторике революция по своему социально-экономическому содержанию оказалась буржуазной.
Основа экономики – частнохозяйственный сектор: крестьянские хозяйства, частные промышленность и торговля. На смену традиционной монархии пришел революционный, модернизированный авторитарный режим. От российских традиций унаследованы протекционизм, активная роль государства в экономическом развитии. Наиболее существенная новация – монополия внешней торговли.
Крестьянство освободилось от тяжелого груза продразверстки и сохранило за собой помещичью землю. Ограничение финансового давления на крестьянство[758] привело к росту собственного крестьянского потребления[759] и сокращению доли экспорта в сельскохозяйственном производстве по сравнению с довоенным уровнем (табл. 8.6).
Таблица 8.6. Экспорт зерна из России
Источник: Nove A. An Economic History of the USSR, 1917–1991. London: Penguin Books, 1992. P. 108.
Недостаток валюты и соответственно ограниченные импортные возможности стали постоянными проблемами советской экономики. Монополия внешней торговли резко ограничила потребительский импорт. Но уже упомянутый рост потребления в деревне не позволял повысить экспорт продовольствия до довоенного уровня. Попытки его увеличить только дестабилизировали финансовую систему и рыночные механизмы.
Социалистическая революция способствовала восстановлению традиций российской крестьянской общины достолыпинского периода. Община в 1918 году стала инструментом перераспределения земли. В это время она имела значительно большие возможности регулировать землепользование, чем когда бы то ни было после 1906 года. В 1925 году 90 % крестьян входили в состав общин[760].
Все это породило серьезные проблемы экономического развития. Они проявились, как только были использованы лежащие на поверхности резервы восстановления народного хозяйства. На повестку дня встал вопрос: как преодолеть возросшее за годы войны и революции отставание от развитых государств Запада? Основные структурно-технологические приоритеты развития вытекали из опыта индустриально развитых экономик, ресурсов России. Эти приоритеты переходят из “Послевоенных перспектив русской промышленности” В. Гриневецкого в план ГОЭЛРО, а оттуда – в предложенные Госпланом ориентиры первой пятилетки: надо поднимать отечественную топливную промышленность и энергетику, реконструировать на современном уровне металлургию, создавать развитую машиностроительную базу, восстанавливать довоенный объем железнодорожного строительства. Вопрос: откуда взять на это средства?
Традиционный в России источник накопления капиталов для развития экономики – крестьянские хозяйства. Но ввиду крестьянского характера революции использовать его непросто.
Добровольные частные инвестиции крестьянских хозяйств остаются низкими[761]. Антикапиталистическая риторика исключает активные меры, направленные на развитие и укрепление наиболее эффективных богатых крестьянских хозяйств. Даже Н. Бухарин, лучше других большевистских лидеров понимавший значимость этой проблемы, был вынужден снять свой лозунг “Обогащайтесь!”[762]. В результате созданные земельной реформой ресурсы роста крестьянского накопления, развития современного товарного, капиталистического аграрного производства оказались заблокированными (табл. 8.7).
От разумных людей бессмысленно ждать, что они будут инвестировать в развитие производства, рискуя в результате попасть в состав политически подозрительных элементов, подвергнуться санкциям и репрессиям[763]. В середине 1920‑х годов крестьянское хозяйство в России остается стабильным, но малоприспособленным к развитию сектором национальной экономики[764].
Таблица 8.7. Доля крестьянских хозяйств, использующих наемный труд
Источник: Советское народное хозяйство в 1921–1925 гг. / Под ред. И. А. Гладкова. М., 1960. С. 271.
Те же проблемы препятствуют активному производственному накоплению в частном секторе вне сельского хозяйства. Само существование этого сектора большевики допускают с бесчисленными оговорками[765]. Поэтому заинтересованности в частных долгосрочных инвестициях ожидать не приходится. Постоянные идеологические и политические угрозы в адрес буржуазии делают невозможным убедить предпринимателей в необходимости финансировать индустриализацию страны. Частный сектор ощущает временность, неустойчивость своего существования, минимизирует риски, концентрирует усилия на коротких торгово-финансовых операциях[766].
Словом, в результате революции и Гражданской войны путь России к динамичному капиталистическому росту, предполагающему высокую активность частнопредпринимательского сектора, значительные частные сбережения и инвестиции, оказался закрытым.
Государственный сектор экономики тоже испытывал немалые финансовые трудности. Политические соображения (как-никак “диктатура пролетариата”) заставляли повышать уровень заработной платы[767]. К концу восстановительного периода при производительности труда ниже дореволюционной реальная заработная плата была выше. Протекционизм и слабость конкуренции, ограниченная эффективность производства – и при этом государственные предприятия получали прибыль. Монополия внешней торговли позволяла им устанавливать высокие цены на свою продукцию, что обостряло хронический конфликт между городом и деревней. Реакция деревни на дороговизну – ограничение спроса на промышленные товары и сокращение поставок сельхозпродукции.
В рамках сохранения рыночных институтов у государства оставался малоприятный выбор между низкими темпами экономического роста при сохранении финансовой стабильности и попытками форсировать государственные капиталовложения за счет эмиссионного финансирования. Последнее неизбежно приводит к инфляции. Борьба вокруг выбора одной из этих альтернатив вызывает в 1925–1928 годах колебания экономической политики от инфляционного финансирования к мерам, направленным на восстановление устойчивости денежной системы, острые дискуссии между Наркомфином и Госпланом о возможных темпах и масштабах государственного накопления, о нарастающей финансовой нестабильности, о связанных с ней сбоях в работе рыночного механизма[768].
Кризис хлебозаготовок конца 1927 года, послуживший поводом для отказа от нэпа, был вызван попыткой одновременно форсировать темпы роста накопления и удержать низкие цены на зерно. Как и предшествующие кризисы 1923 и 1925 годов, эти проблемы можно было регулировать теми же методами – уменьшением накоплений и зернового экспорта, повышением закупочных цен. Вместе с тем кризис хлебозаготовок еще раз высветил ключевую проблему нэповской экономики: сохранять рыночные механизмы и непосредственно управлять экономикой невозможно.
Нежелание крестьян сдавать хлеб по заниженным ценам, перебои в снабжении городов продовольствием[769], многочасовые очереди, волна забастовок, введение карточной системы местными властями, а затем и по всей стране – наглядные признаки кризиса модели развития в рамках институтов нэпа. Обозначилась необходимость выбора: готова ли власть ориентироваться на развитие, основанное на частных инвестициях, и тогда допустить трансформацию собственных политических институтов, или она свертывает систему рыночных установлений, формирует принципиально иную – административную – модель управления экономикой.
О необходимости снижения темпов роста капиталовложений в промышленность решались говорить лишь экономисты, не имеющие отношения к коммунистической политической элите. А. Вайнштейн, заместитель директора Конъюнктурного института, в 1927 году писал: “Крестьянское накопление, как оно запроектировано в пятилетке, нереально. А так как при снижении капитальных вложений должен неминуемо снизиться и намеченный темп роста валовой с.-х. продукции, то для достижения его, по-видимому, необходимо увеличить капитальные вложения в сельское хозяйство со стороны государства через бюджет и кредитную систему… Ввиду снижения общей суммы капитальных вложений и необходимости перераспределения последних в пользу сельского хозяйства должны быть уменьшены капитальные затраты в других отраслях народного хозяйства, в первую очередь на промышленность и электрификацию. Тем самым должен быть несколько снижен темп роста промышленного производства за пятилетие, причем в большей мере за счет производства средств производства, чем за счет производства средств потребления, дабы можно было сбалансировать спрос и предложение товаров широкого потребления”[770]. Вскоре после публикации этой статьи Конъюнктурный институт был закрыт. Автор провел в лагерях 17 лет. Для членов руководства правящей партии само подозрение в сходстве взглядов на перспективы развития страны с теми, которые отстаивал Конъюнктурный институт, было равносильно политическому приговору[771].
§ 8. Выбор стратегии развития и формирование модели административного управления экономикой
Определяющее воздействие на выбор стратегии экономического развития в это время оказывают марксистская идеология и борьба за власть. Суть альтернативы ясна: что ляжет в основу развития – частное или государственное накопление? Если частное, то в крестьянской стране надо стимулировать становление крупных, ориентированных на рынок частных хозяйств, в том числе использующих наемный труд. Для этого необходимо гарантировать их владельцам права собственности, включить собственников в политический процесс, поставить крест на политической дискриминации кулаков, дать убедительные гарантии прав собственности и защиты личных свобод городской буржуазии[772]. Но для марксистской партии с ее антикапиталистической риторикой все это политически неприемлемо[773]. Лидеры “правых” в ходе политической борьбы 1927–1929 годов, которая предопределила путь России в XX в., были постоянно вынуждены оправдываться – доказывать, что они не защищают кулака, не против того, чтобы прижать зажиточных крестьян, не выступают за уменьшение государственных капиталовложений[774].
В 1926–1929 годах были отменены “либеральные инструкции” 1925 года по выборам в Советы, расширены категории лиц, лишаемых избирательных прав, усилен контроль партийных организаций за деятельностью Советов, ужесточена цензура[775].
Исчерпавшая ресурсы восстановительного подъема, связанного с преодолением хозяйственной разрухи после революции и Гражданской войны, рыночная в своей основе российская экономика неминуемо должна была затормозиться. Лишь резко увеличив объем государственных капиталовложений, можно было подстегнуть темпы ее развития. А для этого необходимо радикально повысить государственные изъятия из экономики, уровень налогового бремени, демонтировать связанные с рыночными механизмами ограничители масштабов налогообложения.
Некоторые исследователи резонно считают, что последствия социально-экономической трансформации 1928–1930 годов по своему влиянию на развитие Советского Союза и мира превосходили то, что произошло в 1917–1921 годы. Впрочем, и они признают, что эти радикальные изменения были бы невозможны без предшествующей революции[776].
Выбор стратегии развития СССР приходится на период, когда страны-лидеры испытывают глубокий кризис, растет протекционизм, сужается международная торговля[777]. Все это делает малопривлекательной для советского руководства линию, ориентированную на рост экспорта и интеграцию в систему мирохозяйственных связей. Примечательно, что именно такую линию выбрал спустя пять десятилетий, в конце 1970‑х годов, социалистический Китай, находившийся в тот момент на экономическом уровне, близком к российскому конца 1920‑х годов (табл. 8.8). Для СССР же на рубеже 1920‑1930‑х годов, на фоне протекционизма и торговых войн, эффективная реализация подобной стратегии потребовала бы отказа от господствующих политических идей партии, победившей в революции и Гражданской войне. К тому же за плечами у китайского руководства уже был печальный опыт “великого скачка”. Советскому руководству такой опыт еще предстояло получить.
Выбор был сделан. Причем тот факт, что начавшаяся высокими темпами индустриализация в Советском Союзе и формирование современной для того времени индустриальной структуры проходили на фоне кризиса мирового капиталистического хозяйства, сыграл исторически важную идеологическую роль. В силу информационной закрытости советского общества истинная цена перемен была мало известна и в стране, и в мире. Это на десятилетия обеспечило социалистической модели развития интеллектуальную привлекательность.
Таблица 8.8. ВВП на душу населения, доля занятых в сельском хозяйстве и урбанизация в СССР и Китае в годы выбора стратегии их развития
Источник: 1 Maddison A. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OECD, 1995.
2 Расчеты на основе: Mitchell B. R. International Historical Statistics, Europe 1750–1993. London: Macmillan Reference LTD, 1998.
3 Bairoch P. Cities and Economic Development: from the Dawn of History to the Present. Chicago, 1988.
4 United Nations Statistics Division, .
Искусственно заниженные закупочные цены и налог с оборота на потребительские товары становятся важнейшим источником бюджетных поступлений[778]. Потребление продуктов питания в деревне сокращается, возрастает аграрный экспорт, призванный обеспечить валютные ресурсы для промышленного рывка. Складывается целостная, внутренне логичная структура социалистической индустриализации.
Временный демонтаж рыночных механизмов – отнюдь не социалистическое изобретение. К такой практике прибегают и демократические государства с рыночной экономикой, испытывающие внешний шок, чаще всего – войну. Для покрытия возрастающих военных расходов государство изымает сбережения у населения. Кроме того, требуется структурный сдвиг в производстве – перераспределение ресурсов с выпуска гражданской продукции на производство вооружений. Если это достигается только за счет действия рыночных механизмов – путем резкого повышения цен на все, что так или иначе связано с вооружениями, – неизбежны социальные конфликты: “капиталисты наживаются на войне”. Поэтому военная перестройка экономики нередко сопровождается государственным контролем за ценами, рационированием важнейших ресурсов и потребительских товаров, в первую очередь продовольствия. Таким образом, резко сокращается номенклатура производимой в стране продукции, что в свою очередь упрощает государственное управление экономикой.
Все это приводит к подавленной инфляции. Цены ниже равновесных, занятость полная. Превышающий предложение спрос выражается в очередях, опустевших полках магазинов, “черном” рынке, перебоях в снабжении производства. В условиях подавленной инфляции деньги остаются лишь одним из рычагов распределения наряду с карточками, приоритетной системой снабжения и т. д. Вынужденно образующиеся у населения сбережения государство мобилизует для покрытия бюджетного дефицита[779]. Реакция на дефицит производственных ресурсов – увеличение складских запасов, появление “узких мест” в производстве. Оценить дефицитность сырья, топлива, материалов бывает непросто, поэтому распределение их между отраслями и предприятиями далеко от оптимального. Неизбежен рост государственного аппарата. В условиях войны главные факторы, позволяющие регулировать эти проблемы, – простота определения национальных приоритетов, патриотический подъем и очевидный для общества временный характер подавленной инфляции[780].
Отношение в большевистской среде к опыту “военного коммунизма” в 1920‑е годы с его подавленной инфляцией и нерыночным регулированием всегда оставалось двойственным. С одной стороны, было признано, что это временная, вынужденная линия, обусловленная военными трудностями. С другой – речь шла о политике, которая больше соответствовала долгосрочным социалистическим ориентирам, чем недолгое, не от хорошей жизни допущенное заигрывание с капиталистическим рынком. Неудивительно, что в конце 1920‑х годов, когда под влиянием кризиса накопления рыночные механизмы начинали давать сбои, коммунистическая элита обратилась к системе административного руководства экономикой. Снова формируются распределительные органы, растет их роль, усиливается государственная регламентация торговли и товаропотоков. Появляется товарный дефицит, выстраиваются очереди, оживает “черный” рынок.
Когда в конце 1927 – начале 1928 года в результате инфляционного кризиса стали нарастать проблемы хлебозаготовок и снабжения городов продовольствием, государство ответило на это не снижением своих капиталовложений до уровня, совместимого с работой рыночных механизмов, а отключением самих этих механизмов: возвратом к принудительному изъятию зерна, формированием аппарата для мобилизации материальных и финансовых ресурсов деревни – коллективизацией. Впервые в современной экономической истории в мирное время формируется развитая система административного регулирования экономической жизни, заменяющая рынок[781]. Поставленную государством задачу победить в войне заменяет новая цель: форсированная индустриализация.
§ 9. Цена социалистической индустриализации
Готовность власти к неограниченному насилию, репрессиям, в первую очередь для изъятия максимума возможного у крестьянского населения, с тем чтобы направить мобилизованные ресурсы на развитие промышленности, – стержень новой организации социально-экономической системы. Это сочетается с созданным организационным потенциалом, беспрецедентным для аграрных обществ.
В январе 1928 года И. Сталин выехал в районы Западной Сибири. Накануне отъезда он подписал директиву ЦК ВКП (б) местным парторганизациям, в которой ориентировал их на немедленное применение жестких мер против тех, кто укрывает хлеб[782]. Вооруженные отряды реквизировали не только так называемые излишки хлеба, но и домашний скот, сельскохозяйственный инвентарь. В конце января 1928 года И. Сталин телеграфировал в Москву, что “меры репрессии” возымели действие и на запад страны пошли эшелоны с хлебом[783].
К кулакам и скупщикам применялась ст. 107 Уголовного кодекса РСФСР[784]. Как и предложил И. Сталин (см. сноску 137), 75 % конфискованного хлеба шло в распоряжение государства, 25 % распределялось среди бедноты по государственным ценам или в порядке долгосрочного кредита[785]. Авторы обзоров крестьянских заявлений и жалоб во ВЦИК со всей определенностью сформулировали вывод об источнике насилия в деревне: “При таком нажиме сверху низовой аппарат не церемонится ни с кем: ему некогда, он не хочет сесть на скамью подсудимых за халатное отношение. Больше того, это начинали понимать и крестьяне”[786].
10 августа 1929 года И. Сталин писал В. Молотову: “[…] Если мы в самом деле думаем кончить заготовки в январе – феврале и выйти из кампании победителями, то должны дать немедля директиву органам ГПУ открыть немедля репрессии в отношении городских (связанных с городом) спекулянтов хлебных продуктов (т. е. арестовывать и высылать их из хлебных районов), чтобы держатели хлеба почувствовали теперь же […], что хлеб можно сдавать без скандала (и без ущерба) лишь государственным и коопер [ативным] орган [изациям]”. “Всех уличенных в конкуренции хлебозаготовителей” и “в задержке хлебных излишков или продаже их на сторону руководителей колхозов” предлагалось “немедля отрешать от должности и предавать суду за обман государства и вредительство”[787].
Собственно, И. Сталин был откровенен, когда в 1928 году на июльском пленуме ЦК ВКП (б) сказал, что политика советской власти по отношению к крестьянству предполагает нечто вроде введения дани, изъятие которой необходимо для финансирования социалистической индустриализации[788]. Н. Бухарин обращал внимание на сходство терминологии И. Сталина об отношении к крестьянству с реалиями аграрного общества: “Если крестьянин платит дань, значит, он данник, эксплуатируемый и угнетенный, значит, он с точки зрения государства – не гражданин, а подданный”[789].
В период нового закрепощения крестьянства[790] производство сельскохозяйственной продукции сокращается. В СССР валовая продукция сельского хозяйства уменьшилась в 1929–1933 годах и лишь к 1937 году достигла уровня 1928 года[791]. То же происходило в ходе коллективизации крестьянства и “великого скачка” в Китае. Однако в те же периоды резко растет объем ресурсов, изымаемых у крестьян. Коммунистические власти пытаются нащупать баланс между стремлением мобилизовать максимум возможных ресурсов и не подорвать доходную базу. Как и в аграрных обществах, такой баланс власти находят, действуя методом проб и ошибок. Однако новые технологические возможности (современная связь, введение паспортной системы, ограничение права крестьян на передвижение, жесткое подавление попыток крестьянских выступлений) приводят к тому, что последствия “ошибок” в переобложении крестьян превосходят все, что знали аграрные общества.
Нормы сдачи зерна, установленные в СССР в апреле 1930 года, похожи на максимальные нормы изъятий, встречающиеся в истории аграрных обществ. В зерновых районах они составляли от 1/4 до 1/3 валового урожая, в прочих – примерно 1/8. Фактические нормы изъятия были выше. Так, в 1930 году на Украине было изъято 30,2 % валового сбора зерновых, в 1931 году – 41,3 %; на Северном Кавказе – 34,2 и 38,3 %; на Нижней Волге – 41,0 и 40,1 % соответственно. А. Микоян в записке И. Сталину предложил повысить в 1932 году процент изъятия хлеба для зерновых районов до 30–40, в том числе для колхозов, обслуживающихся МТС, – до 35–45 %[792].
В январе 1932 года И. Сталин и В. Молотов в телеграмме С. Косиору, членам Политбюро ЦК КП (б) Украины и членам Политбюро ЦК ВКП (б) писали: “Положение с хлебозаготовками на Украине считаем тревожным. На основании имеющихся в ЦК ВКП (б) данных работники Украины стихийно ориентируются на невыполнение плана на 70–80 млн пудов. Такую перспективу считаем неприемлемой и нетерпимой… Считаем необходимым Ваш немедленный приезд в Харьков и взятие Вами в собственные руки всего дела хлебозаготовок. План должен быть выполнен полностью и безусловно. Решение пленума ЦК ВКП (б) должно быть выполнено”[793].
После приезда в Ростов-на-Дону комиссии, возглавляемой Л. Кагановичем, Северо-Кавказский крайком партии принимает постановление, в котором говорится: “Ввиду особо позорного провала плана хлебозаготовок и озимого сева на Кубани поставить перед парторганизацией в районах Кубани боевую задачу – сломить саботаж хлебозаготовок села и сева, организованный кулацким контрреволюционным элементом, уничтожить сопротивление части сельских коммунистов, ставших фактическими проводниками саботажа, и ликвидировать несовместимую со званием члена партии пассивность и примиренчество к саботажникам”[794]. ОГПУ поручалось “изъятие контрреволюционных элементов”.
Те же меры принимали на Украине после приезда туда комиссии, возглавляемой В. Молотовым. 5 ноября В. Молотов и секретарь ЦК КП (б) Украины М. Хатаевич дали директиву обкомам, требуя от них решительных и немедленных мер по выполнению декрета от 7 августа 1932 года “с обязательным и быстрым проведением репрессий и беспощадной расправы с преступными элементами в правлениях колхозов”[795].
В постановлении ЦК ВКП (б) и СНК от 14 декабря 1932 года к числу “злейших врагов партии, рабочего класса и колхозного крестьянства” отнесены “саботажники хлебозаготовок с партбилетом в кармане, обманывающие государство и проваливающие задания партии и правительства… По отношению к этим перерожденцам, врагам Советской власти и колхозов, все еще имеющим партбилет, ЦК и СНК обязывают применять суровые репрессии, осуждение на 5–10 лет заключения в концлагерь, а при известных условиях – расстрел”[796].
В ходе кампании по вторичному закрепощению крестьянства в 1930 и 1931 годах были депортированы 1 млн 800 тыс. человек[797]. То, как именно И. Сталин воспринимал назначение колхозов, видно из его выступления на объединенном заседании Политбюро ЦК и Президиума ЦКК ВКП (б) 27 ноября 1932 года: “Наши сельские и районные коммунисты слишком идеализируют колхозы. Они думают нередко, что коль скоро колхоз является социалистической формой хозяйства, то этим все дано и в колхозах не может быть ничего антисоветского или саботажнического, а если имеются факты саботажа и антисоветских явлений, то надо пройти мимо этих фактов, ибо в отношении колхозов можно действовать лишь путем убеждения, а методы принуждения к отдельным колхозам и колхозникам неприменимы… Было бы глупо, если бы коммунисты, исходя из того что колхозы являются социалистической формой хозяйства, не ответили на удар этих отдельных колхозников и колхозов сокрушительным ударом”[798].
Закон 7 августа 1932 года вводил “в качестве меры судебной репрессии за хищение (воровство) колхозного и кооперативного имущества высшую меру социальной защиты – расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией всего имущества”[799].
Руководство большевистской партии понимало угрозу крестьянского восстания в крестьянской стране при проведении политики индустриализации на основе нового закрепощения крестьянства. И. Сталин в 1928 году говорил: “Тов. Рыков был совершенно прав, когда он говорил, что нынешний крестьянин уже не тот, каким он был лет шесть назад, когда он боялся потерять землю в пользу помещика. Помещика крестьянин уже забывает. Теперь он требует новых, более хороших условий жизни. Можем ли мы в случае нападения врагов вести войну и с поляками на фронте, и с мужиками в тылу ради экстренного получения хлеба для армии? Нет, не можем и не должны”[800].
Однако ситуация в конце 1920‑х годов, после нескольких лет постреволюционной стабилизации, радикально отличается от той, которая сложилась в 1921 году. Восстановлена норма традиционных аграрных цивилизаций: крестьянство разоружено, власть организованна и способна в неограниченных масштабах применять силу.
В Центральном Черноземье первые крупные акции крестьянского протеста, антиправительственные, антикоммунистические восстания зафиксированы в первой половине 1929 года. На их подавление направлялись войска ОГПУ. 27 февраля 1930 года первый секретарь Центрально-Черноземного обкома ВКП (б) И. Варейкис просит И. Сталина разрешить привлечь к борьбе с крестьянством формирования Красной Армии[801]. “Как видно по документам, руководители местных партийных и государственных органов при проведении коллективизации весной 1930 года постоянно прибегали к использованию силы. Например, на заседании бюро обкома ВКП (б) в марте 1930 года представитель администрации Елецкого округа [ныне частично Липецкая и частично Орловская области] Булатов признал, что «рассеивание недовольства не проходило методами общественного воздействия, а единственная надежда была на вооруженную силу»”[802].
Если в начале 1920‑х годов большевикам в их политике изъятия ресурсов у крестьянства пришлось отступить, столкнувшись с угрозой потери власти, то в конце 1920‑х – начале 1930‑х годов они получили возможность довести эксперимент по определению максимального объема изъятия ресурсов из деревни до конца.
Летом 1932 года Молотов, вернувшись с Украины, где он находился по заданию ЦК ВКП (б), заявил: “Мы стоим действительно перед призраком голода, и к тому же в богатых хлебных районах”. Но Политбюро решило “во что бы то ни стало выполнить утвержденный план хлебозаготовок”[803]. Невозможность снижения зернового экспорта (см. табл. 8.9), темпов индустриализации и импорта оборудования сделала вопрос об объеме хлебозаготовок ключевой темой обсуждения на высшем политическом уровне.
За 1932–1933 годы население Украины сократилось примерно на 3 млн человек[804]. И это на фоне незавершенного демографического перехода, предполагающего высокие темпы роста численности населения. Голодом 1932 года были охвачены Казахстан, Северный Кавказ, Дон, Кубань, бассейн Волги, некоторые регионы Западной Сибири. Оценки числа жертв голода колеблются в пределах от 6 до 16 млн человек[805]. Наиболее распространенные – от 7 до 8 млн человек[806].
Таблица 8.9. Объемы зернового экспорта СССР в 1928–1932 годах
Источник: Социалистическое строительство СССР: Статистический ежегодник. М., 1936. С. 390, 686;
Малафеев А. Н. История ценообразования в СССР (1917–1963 гг.). М.: Мысль, 1964. С. 136, 137.
Закон от 6 декабря 1932 года предусматривал составление списка деревень, которые признавались виновными в саботаже. 15 декабря 1932 года в него включили 88 районов Украины. Жителей этих районов выселяли на Север. Закон от 7 августа 1932 года запрещал людям, умирающим от голода, под страхом жестокого наказания брать зерно, гниющее на складах или сваленное у железнодорожных станций. Законы от 13 сентября 1932 года и от 17 марта 1933 года прикрепляли крестьян к земле и запрещали оставлять колхозы в поисках другой работы без разрешения колхозного руководства. Крестьян, стремившихся вырваться за пределы Украины, чтобы не умереть от голода, насильственно возвращали назад[807].
В исторической литературе идет дискуссия о том, был ли голод 1932–1933 годов результатом сознательной политики руководства страны, направленной на то, чтобы сломить сопротивление крестьянства коллективизации и хлебозаготовкам, или результатом ошибок в определении масштабов возможного изъятия ресурсов продовольствия[808]. Однако тот факт, что сопротивление насильственной коллективизации после голода, например, в Центральном Черноземье, по дошедшим до нас архивным источникам, практически полностью прекращается, сам по себе достоин внимания. Один из исследователей этой темы, П. Загоровский, пишет: “Массовый голод, повлекший за собой многие тысячи смертей, окончательно засвидетельствовал политическое поражение черноземного крестьянства. Сельские жители региона не имели больше сил противиться государственному террору”[809].
Масштабы жертв голода 1932–1933 годов мало волновали социалистическое руководство. Сформированная система политического контроля позволяла не только избежать массовых беспорядков, но и добиться того, что информация о голоде, его причинах на протяжении многих лет не стала достоянием гласности. С точки зрения целей практически проводимой политики для советских властей было важнее то, что государственные заготовки зерна в 1933 году увеличились до 22,6 млн т по сравнению с 18,5 млн т в 1932 году[810].
Сходным образом развивались события в Китае: в 1959 году государственные закупки (натуральный налог и обязательные поставки) достигли 67,4 млн т. Это составляло 39,7 % общего объема производства. Хотя часть зерна была реализована в деревне, чистые государственные закупки зерна составили 28 % производства (в 1957–17 %)[811]. Доля зерна, насильственно мобилизуемая у сельского населения, в это время находится на уровне, близком к тому, который был характерен для Советского Союза начала 1930‑х годов, и многократно выше уровня, характерного для традиционного китайского общества (см. гл. 4). Результатом стал массовый голод, превосходящий что бы то ни было в истории Китая. Общее число умерших от голода в 1959–1961 годах оценивается исследователями в 16–27 млн человек[812]. Как и в СССР в начале 1930‑х годов, этот голод продолжался на фоне экспорта зерна (табл. 8.10).
Таблица 8.10. Чистый экспорт зерна из Китая
Источник: The Cambridge History of China / Twitchett D., Fairbank J. K. (eds.). Vol. 14. The People’s Republic. Part 1: The Emergence of Revolutionary China 1949–1965. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. P. 381.
Оценки жертв репрессий, последовавших за китайской революцией, колеблются в пределах 6–10 млн человек. Кроме того, десятки миллионов людей провели годы в исправительно-трудовых лагерях, а 20 млн там погибли[813].
Принудительный труд заключенных играет немалую роль в социалистической индустриализации СССР, в первую очередь в обеспечении трудовыми ресурсами крупных инфраструктурных проектов[814].
В краткосрочной перспективе массовые репрессии могли снижать темпы экономического роста вследствие дезорганизации системы управления. Именно это произошло в 1937 году[815]. Однако они были инструментом, укрепляющим базу экономического и политического режима, демонстрировали способность власти неограниченно применять насилие[816]. Характерная черта насилия, применявшегося в ходе социалистической индустриализации, – распространение репрессий не только на подозреваемых в неблагонадежности или нелояльности к режиму, но и на членов их семей[817]. Отношение правящей коммунистической элиты к собственному народу напоминает характерные черты аграрных государств, завоеванных иными в этническом отношении группами, где жесткость режима по отношению к покоренному местному сельскому населению максимальна, не связана традиционными установлениями. В связи с этим распространенная в советском обществе конца 1920‑х – начала 1930‑х годов характеристика И. Сталина как “Чингисхана с телефоном” красноречива.
Угроза репрессий заставляет десятки миллионов людей, не находящихся в ГУЛАГе, в условиях мира XX в. вести себя как традиционное закрепощенное непривилегированное сословие аграрных государств: смириться с тем, что у них нет права выбора места работы и жительства, что все произведенное сверх минимума, необходимого для обеспечения жизни, у них может быть изъято, что они не могут и мечтать о каких-либо правах и свободах, и воспринимать все это как неизбежную реальность[818].
В ходе описанных событий сформировались следующие характерные черты социалистической модели экономического роста:
• господство государственной собственности, ликвидация независимой от власти легитимной частной собственности, доминирующая роль государства в мобилизации национальных сбережений, их распределении и использовании;
• охватывающая экономику страны управленческая иерархия, которая обеспечивает координацию хозяйственной деятельности прямыми распорядительными актами; утрата рынком своей прежней роли – основы микроэкономического регулирования, удаление его на периферию хозяйственной жизни;
• формально-демонстрационный эгалитаризм, снижение характерной для молодого капитализма экстремально высокой дифференциации доходов (действительная дифференциация, порожденная привилегиями верхушки, тщательно скрывалась);
• догоняющая импортозамещающая индустриализация на базе перераспределения ресурсов из аграрной сферы в промышленную как основа структурной политики;
• жесткий политический контроль и политика репрессий, исключающие любые несанкционированные формы массовой активности;
• мессианская идеология, сулящая воздаяние завтра за воздержание и самоотверженный труд сегодня;
• милитаризм, приоритет развития военной промышленности, выпуска вооружений, аномально высокая доля военных расходов в ВВП[819].
Хотя первая пятилетка была полностью провалена (см. табл. 8.11), в дальнейшем развитие событий показало, что этот набор институциональных инноваций позволяет на время снять некоторые ограничения, которые накладывают на экономический рост рыночные механизмы[820]. С чисто экономической точки зрения нельзя не признать: на ранних стадиях индустриализации (когда доля занятости вне сельского хозяйства не превышала 50 %) они позволяли обеспечивать сравнительно высокие темпы индустриализации, промышленного роста.
Здесь сочетаются три фактора: радикальное повышение административных возможностей, порожденных современным экономическим ростом, созданный странами – лидерами индустриализации и активно используемый технологический задел и политическая система, обеспечивающая способность поддерживать аномально высокий уровень изъятия прибавочного продукта у населения. Отсюда возможность увеличения государственных расходов на относительно низких уровнях экономического развития, не существовавшая ни в традиционных аграрных обществах, где объем изъятий государством и привилегированной элитой прибавочного продукта у крестьянского большинства ограничивался низкой продуктивностью сельского хозяйства, ни в странах – лидерах современного экономического роста, где именно упорядоченность налогообложения – важнейший фактор повышения эффективности производства.
Таблица 8.11. Промышленное производство в первой пятилетке
Источник: Лацис О. Проблемы темпов в социалистическом строительстве // Коммунист. 1987. № 18.
В странах, избравших социалистическую модель индустриализации, масштабы национального накопления перестают зависеть от трудно управляемых параметров – частных сбережений и инвестиций. Высокий уровень налогообложения здесь не подавляет хозяйственной активности. Она не зависит от автономных решений частных предприятий. Каналы бегства капиталов перекрыты всеобъемлющим административным контролем. Тоталитарный политический контроль снимает ограничения на объем ресурсов, которые государство мобилизует на цели накопления. Формирующаяся высокая норма национальных сбережений позволяет совершить индустриальный рывок, форсировать темпы экономического роста. Эгалитаризм и динамично развивающаяся индустрия делают официальную идеологию доступной и убедительной.
Таблица 8.12. Доля государственных расходов в ВВП отдельных стран Европы в XX в. (на сопоставимых уровнях развития), %
Источник: Синельников С. Г. Бюджетный кризис в России. М.: Евразия, 1995 (данные по СССР);
Maddison А. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OECD, 1995 (данные по Германии и Франции).
Из сказанного видно, что социалистическая индустриализация дает возможность достичь более высоких темпов перераспределения ресурсов из традиционного сектора, большей доли накопления в ВВП, чем позволяет индустриализация рыночная. Главный инструмент, применение которого снижает уровень жизни населения и позволяет мобилизовать ресурсы на нужды индустриализации, – государственное принуждение. Доля государства – и доходов, и расходов – в ВВП социалистических стран, как правило, выше, чем в рыночных экономиках аналогичного уровня развития[821]. Данные табл. 8.12 демонстрируют радикальные различия нагрузки на экономику СССР и на экономику ведущих стран континентальной Европы на сопоставимых уровнях развития[822].
§ 10. Долгосрочные последствия выбора социалистической модели роста
Как показывает опыт, время, в течение которого социалистическая система общественно-экономического устройства, устраняющая рынок, на фоне демографического перехода, перераспределения рабочей силы из деревни в город, обеспечивает высокие темпы промышленного роста, ограничивается не более чем 40 годами[823]. С начала 1970‑х годов темпы экономического роста в социалистических странах, объединенных в советскую империю, устойчиво снижаются (табл. 8.13).
За все приходится платить. С течением времени выявляются долгосрочные последствия выбора такой модели: отсутствие стимулов к инновациям, ригидность экономических структур, нарастающий кризис сельского хозяйства, неконкурентоспособность продукции обрабатывающих отраслей на международных рынках.
Отключение рыночных механизмов, стимулов к эффективному использованию ресурсов обусловливает хронически высокую ресурсоемкость ВВП. Закрытый характер экономики, как и в странах капиталистической импортозамещающей индустриализации, предопределяет низкую долю экспорта в ВВП, особенно экспорта продукции обрабатывающих отраслей[824].
Таблица 8.13. Чистый материальный продукт (национальный доход), 1966–1989 годы (годовой темп прироста, %)[825]
Источник: SEV (1988. P. 26, 27, 29, 32–35); ECE (1990. P. 87; 1991. P. 41; 2000a. P. 225).
У стран – пионеров капиталистической индустриализации быстрому промышленному росту, как правило, предшествовала аграрная революция, повышение продуктивности сельского хозяйства. В Англии ее начало датируют 1690–1700 годами, во Франции и США – 1750–1770, в Германии – 1750–1800 годами. До середины XIX в. она проходила главным образом на традиционной основе, без применения машин и удобрений, но с улучшением севооборота, использованием селекционных семян и усовершенствованных орудий труда[826]. С началом индустриализации увеличение производства сельскохозяйственной продукции отставало от роста промышленного выпуска, но было с ним тесно связано[827].
В условиях социалистической индустриализации масштабное перераспределение ресурсов, изъятие их из села приводят к тому, что ускоренный рост промышленного производства, повышение душевого ВВП, увеличение спроса на продукты питания происходят при стагнации сельского хозяйства, деформированного первоначальным социалистическим накоплением[828]. Данные табл. 8.14 хорошо отражают разницу темпов сокращения занятости в сельском хозяйстве в рамках социалистической индустриализации и в странах – лидерах современного экономического роста.
Факторы, обусловившие аномально высокие темпы социалистической индустриализации – снижение уровня жизни сельского населения, небывалые масштабы перераспределения ресурсов из традиционной аграрной сферы в промышленность, – порождают и самую серьезную, затянувшуюся на десятилетия аномалию социалистического роста: расходящиеся траектории развития промышленности и сельского хозяйства[830]. Дефицит продуктов питания становится постоянной проблемой, а их импорт – жесткой необходимостью.
Таблица 8.14. Сроки, за которые доля занятых в сельском хозяйстве снизилась приблизительно в 2 раза в России с 1929 года и во Франции и Германии с учетом 50-летнего лага в ВВП на душу населения[829]
Источник: Расчеты по: Mitchell B. R. International Historical Statistics. Europe 1750–1993. London: Macmillan Reference LTD, 1998.
Производство зерна, составлявшее в 1928–1930 годах в среднем 76 млн т, в 1931–1934 годах снижается до 70 млн т и только в предвоенные годы выходит на уровень, достигнутый до коллективизации. За период с 1926 по 1939 год при стагнации сельского хозяйства производство продовольствия на душу населения уменьшилось примерно на 15 %.
Массированные капиталовложения, обеспечиваемые потоком ресурсов из аграрной сферы, позволили добиться высоких темпов роста промышленного производства. Официальные данные ЦСУ за 1928–1940 годы – 16,8 % в среднем в год – вызывают обоснованные сомнения. Однако и получаемые с учетом реалистичных дефляторов показатели высоки: около 10 % роста в год[832]. Приведенные в табл. 8.15 и 8.16 данные показывают, что высокие темпы роста советской экономики, особенно промышленного производства, не были исключительно результатом манипулирования статистикой.
Таблица 8.15. Среднегодовые темпы экономического роста СССР, исчисленные А. Беккером, Н. Капланом, С. Коном, %
Источник: Soviet Economic Statistics / Ed. V. Treml, J. Hardt. Duke University Press, 1972. P. 129.
Таблица 8.16. Среднегодовые темпы прироста промышленного производства СССР, %[831]
Источник: Кудров В. М. Советская экономика в ретроспективе: опыт переосмысления. М.: Наука, 2003. С. 113, 125, 144.
Таблица 8.17. Структура ВВП в СССР (1937 год), Италии (1901–1910 годы) и Японии (1938 год), %
Источник: Davies R. W., Harrison M., Wheatcroft S. G. The Economic Transformation of the Soviet Union, 1913–1945. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. P. 272 (данные по СССР); Kuznets S. Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread. New Haven; London: Yale University Press, 1966. P. 236 (для Италии); Minami R. The Economic Development of Japan: A Quantitative Study. New York: St. Martin’s Press, 1986. P. 174 (по Японии).
ВВП на душу населения СССР конца 1930‑х годов, когда социалистическая индустриализация уже в полной мере наложила отпечаток на структурные характеристики экономики, близок к уровню Японии в те же годы[833], Италии перед Первой мировой войной. Однако структура ВВП в Советском Союзе радикально отличается от японской и итальянской (табл. 8.17). Аномально низкая доля личного потребления позволяет обеспечивать одновременно высокий уровень накопления и государственного потребления, военных расходов.
В Японии перед Второй мировой войной и в Италии начала века доли оборота внешней торговли в ВВП близки: 29,5 и 28,1 %[834]. Для СССР из-за различий внутренних и внешних цен оценить этот показатель крайне сложно, но по любым оценкам он не превышает 5 %.
К началу 1950‑х годов возможности мобилизации финансовых ресурсов для индустриализации из традиционного сектора были исчерпаны. К 1953 году кризис сельского хозяйства делает необходимость повышения заготовительных цен на сельскохозяйственную продукцию очевидной для советского руководства. К 1954 году соотношение розничных цен на предметы массового потребления и цен на пшеницу приближается к уровню 1929 года. То же относится к соотношению государственных розничных цен на предметы потребления и заготовительных цен на продукцию животноводства.
В одну и ту же реку нельзя войти дважды – за масштабное и насильственное изъятие продовольствия в течение четверти века, между 1928 и 1953 годами, на протяжении последующих десятилетий придется дорого платить. К концу 1950‑х – началу 1960‑х годов становится ясно, что долгосрочный и глубокий кризис сельского хозяйства – характерная черта развитого социализма. Соотношение заготовительных цен на крупный рогатый скот и цен на говядину возросло в 1958 году по сравнению с 1952 годом в 13 раз и превысило соотношение 1929 года в 2 раза. Несмотря на это, заготовительные цены так и не позволили к 1958 году обеспечить безубыточность производства мяса[835]. На смену снижающемуся налогу с оборота на сельхозпродукцию приходят дотации аграрному сектору.
В сентябре 1953 года первый секретарь ЦК КПСС Н. Хрущев говорит: “Товарищи, посмотрите на карту, наша страна занимает 1/6 часть суши земного шара. И нам негде, оказывается, зерновых, картошки и кормовых культур посеять с таким расчетом, чтобы обеспечить потребности народа. На карте мира Голландию пальцем всю закроете, а мы у нее вынуждены покупать мясо и сливочное масло”[836].
В течение последних 5 лет перед Первой мировой войной в Германии доля российского зерна в общем объеме импорта зерна составляла 56 %, в Италии – 37 %[837]. В 1958 году импорт сельхозпродукции в СССР становится сравнимым с ее экспортом. В начале 1960‑х годов СССР начинает в крупных масштабах закупать зерно за границей. В 1981 году общие объемы импорта сельскохозяйственной продукции в СССР на фоне аномально высоких цен на нефть выросли до 21 в год. Объемы сельскохозяйственного экспорта СССР с начала 1970‑х годов колебались в пределах 2–3 в год и в большей части поставлялись в рамках бартерных контрактов социалистическим странам. Экспортные поставки зерна, как правило, осуществлялись за счет внешних закупок и направлялись зависимым государствам[838].
В конце 1950‑х – начале 1960‑х годов численность занятых в промышленности и в сельском хозяйстве, городских и сельских жителей сравнялась. Обескровленное социалистической индустриализацией сельское хозяйство становится для государства постоянной проблемой, сюда приходится направлять все новые ресурсы, которые используются с низкой эффективностью (нетрудно понять почему, если учесть предшествующую историю). Между 1970–1980‑ми годами число временно привлекаемых для участия в сезонных сельхозработах на административных началах горожан в СССР увеличилось вдвое и составило 15 млн человек[839]. Невозможность эффективно контролировать миграцию из села в город административными мерами заставляет власть постепенно увеличивать доходы сельского населения, распространять на колхозников социальные гарантии, ранее действовавшие исключительно в городе[840].
Теперь “зрелый социализм” отличают такие экономические реалии, как:
• постоянный рост бюджетной нагрузки, обусловленный дотированием сельскохозяйственной продукции, пришедшим на смену изъятию ресурсов из села;
• увеличение продовольственного импорта вместо его масштабного экспорта на этапе индустриализации;
• нарастающий дефицит продовольствия.
В социалистических странах, оказавшихся неспособными вновь включить рыночные механизмы, темпы экономического роста после прохождения экономикой барьера, при котором численность населения, занятого в сельском хозяйстве, выше 50 %, начинают падать. Возможности традиционной модели социалистического развития были исчерпаны. Коммунистическая элита оказалась перед новым выбором: либо вновь перестраивать экономическую систему – подключить рыночные регуляторы, позволяющие устранить внутренние ограничения экономического роста в рамках социалистической модели, создать предпосылки снижения энергоемкости, повышения конкурентоспособности продукции обрабатывающей промышленности, ее доли в экспорте ВВП, – либо принять как данность утрату экономического динамизма, сделать упор на стабильность и устойчивость сложившихся социально-политических и экономических структур.
Если воспользоваться марксистской терминологией, сформировавшиеся в ходе социалистической индустриализации производственные отношения стали препятствием на пути развития производительных сил. Но правящая элита не заинтересована в радикальных изменениях, а у общества нет сил сломать сложившиеся институты[841].
Именно на этом этапе в полной мере проявляется ригидность институциональной системы, сформировавшейся в Советском Союзе после революции 1917 года, Гражданской войны и коллективизации. Жесткий политический контроль, ликвидация рынков, аномально высокие государственные изъятия из экономики, масштабные финансируемые государством капитальные вложения – все это при огромных социальных издержках было действенным инструментом, который на раннеиндустриальной стадии в условиях глобального кризиса современного экономического роста 1920– 1940‑х годов позволял наращивать темпы промышленного развития.
К последней трети XX в. ситуация радикально изменилась. Мир вошел в новый этап экономического роста, связанный с постиндустриальной трансформацией стран-лидеров, с глобализацией, открывшей принципиально новые возможности развития. На этом фоне страна, исчерпавшая ресурсы, которые можно было изъять из традиционного сельского хозяйства, впадает во все большую зависимость от импорта продовольствия и технологий из наиболее развитых стран[842], от конъюнктуры топливно-сырьевого рынка[843].
Россия, в которой в начале XX в. преобладали малограмотные сельские жители, превратилась в урбанизированное государство с ограниченной занятостью в сельском хозяйстве и образованным населением. Такие радикальные перемены требовали преобразования основных политических и экономических институтов, регулирующих организацию общественной жизни. Однако сложившаяся в конце 1920‑х – начале 1930‑х годов система оказалась фатально не приспособленной к эволюционным, упорядоченным изменениям, позволяющим трансформировать институты, сохраняя политическую стабильность[844].
Вся история Советского Союза – наглядное свидетельство того, какую цену приходится платить за устранение оппозиции и инакомыслия. Речь идет не только о потере человеческих ресурсов, но и о том, что при отсутствии эффективных демократических механизмов с течением времени в социально-политической и экономической структуре возникают склеротические элементы, исчезает гибкость, способность к адаптации[845].
Успешный переход к социалистической рыночной экономике[846] предполагает сочетание восстановления рыночных механизмов и сохранения жесткого контроля авторитарного режима. Страны, оказавшиеся способными сформировать систему, получившую название “рыночный социализм” (Югославия с середины 1950‑х до середины 1960‑х годов, Венгрия с конца 1950‑х и до конца 1960‑х годов, Китай с 1979 года, Вьетнам с конца 1980‑х годов), сделали это на относительно ранней стадии социалистической индустриализации, при уровнях душевого ВВП, не превышающих 5000 долл.[847].
И Китай, и Вьетнам, и Югославия были относительно бедны ресурсами. Здесь не было возможности в течение десятилетий компенсировать кризис сельского хозяйства, низкую конкурентоспособность обрабатывающих отраслей, связанную с социалистической моделью индустриализации, масштабным экспортом топливно-сырьевых ресурсов. Отсюда и относительно ранний с точки зрения уровня развития выход из классического социализма в режим социалистической рыночной экономики[848] (табл. 8.18).
Таблица 8.18. Показатели уровней экономического развития в странах, начавших реформу, ориентированную на введение системы рыночного социализма
Источник: 1 Maddison A. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OECD, 1995.
2 Idem. The World Economy A Millennial Perspective. P.: OECD, 2001.
3 Mitchell B. R. International Historical Statistics. Europe 1750–1993. London: Macmillan Reference LTD, 1998.
4 UN Statistics Division, .
Характерный пример – развитие событий во Вьетнаме в 1989 году. В отличие от Китая Вьетнам был в большей степени экономически связан с Советским Союзом. Весной 1989 года вьетнамское руководство обратилось к советскому с просьбой о предоставлении кредита в размере 400 Получив отказ (СССР в это время находился в состоянии глубокого финансового и валютного кризиса), вьетнамское руководство без колебаний отменило карточную систему, либерализовало цены, свело к нулю субсидии на продукты питания, значительно сократило дефицит бюджета и на 450 % девальвировало национальную валюту. Колхозы были распущены. Эти меры не привели к сокращению объема ВВП во Вьетнаме. Важнейшим фактором этого было то, что 71 % рабочей силы к 1990 году по-прежнему был занят в сельском хозяйстве. Как аграрная экономика, Вьетнам получил те же преимущества, что и Китай, от притока крестьян в негосударственный, неаграрный сектор[849]. Волнений не последовало. Население было уверено в непоколебимой готовности руководства применять силу для предотвращения беспорядков.
Деколлективизация, восстановление рыночных элементов в сельском хозяйстве Китая начиная с 1979 года позволили изменить ситуацию в области внешней торговли сельскохозяйственной продукцией. Если в 1980 году Китай был крупным нетто-импортером сельскохозяйственной продукции (превышение импорта над экспортом – 2,4 ), то к 1985 году он становится нетто-экспортером (превышение экспорта над импортом – 2,1 )[850].
В СССР, где руководство отказалось выбрать стратегию экономических реформ, ориентированных на создание рыночного социализма, отрицательное сальдо баланса внешней торговли по сельскохозяйственной продукции, напротив, устойчиво нарастает: 1970 год – 1 , 1975 год – 6,8 млрд, 1980 год – 15,2 млрд, 1985 год – 15,9 [851] Богатство ресурсами, в первую очередь топливно-энергетическими, возможности масштабного наращивания экспорта нефти и газа при благоприятной ценовой конъюнктуре позволили на десятилетия дольше с точки зрения уровня развития сохранить неизменными контуры административно-командной системы, сформированные в конце 1920‑х – начале 1930‑х годов.
В 1953 году после смерти И. Сталина, СССР по уровню индустриального развития заметно превосходил Китай конца 1970‑х и Вьетнам конца 1980‑х годов, но был близок к стадии, на которой начались рыночные реформы в Югославии и Венгрии.
В это время в СССР принимаются решения о перераспределении ресурсов на развитие отраслей легкой промышленности и сельского хозяйства. Но по имеющимся документам нельзя найти следов серьезного обсуждения мер, похожих по радикальности на те, которые были приняты в Китае в конце 1970‑х годов (роспуск колхозов, открытие экономики)[852].
В середине 1960‑х годов, когда вновь началось обсуждение вопросов, связанных с экономическими реформами, позволяющими хотя бы постепенно перейти к системе, получившей название “рыночный социализм”, оно носило крайне осторожный характер[853]. После событий 1968 года в Чехословакии серьезная дискуссия по этим вопросам практически сошла на нет.
Еще один фактор, делавший проведение экономических реформ в СССР, ориентированных на восстановление рыночных отношений, более сложным, чем в Югославии или Венгрии 1950‑х, во Вьетнаме или Китае, – протяженность социалистического периода. Социалистические установления, не предполагавшие использования рынка, в СССР были реальностью на протяжении поколений. К ним привыкли и элита, и общество. В отличие от Китая, где первые признаки готовности властей либерализовать систему коммун породили массовое движение за восстановление индивидуального крестьянского хозяйства, далеко превосходящее все, что могло себе в 1979 году представить китайское руководство[854], в СССР ничего подобного не происходило.
Нефтяные деньги заменили исчерпанные ресурсы традиционного сектора – налога с оборота на сельскохозяйственную продукцию. Появляются новые источники, из которых можно финансировать развитие экономики, – растущие доходы от внешнеэкономической деятельности, дававшие валюту для приобретения технологического оборудования и продовольствия, расширения военных заказов[855]. Вместо того чтобы использовать эти дополнительные ресурсы для мягкого выхода из социализма, запуска рыночных регуляторов, обеспечения предпосылок устойчивого развития экономики, их бросают на военное соревнование с США и внешнеполитические авантюры.
§ 11. Крах социалистической экономики
С начала 1970‑х годов экономический рост в СССР становится все более аномальным. Доля сырьевых ресурсов в экспорте растет, доля продукции обрабатывающих отраслей падает. В структуре экспорта в развитые капиталистические страны доля машин, оборудования и транспортных средств снижается с 5,8 % в 1975 году до 3,5 % в 1985 году, а в общем объеме экспорта – с 21,5 в 1970 году до 13,9 % в 1985 году (табл. 8.19)[856].
В условиях хронического кризиса сельского хозяйства импорт продовольствия становится важнейшим фактором, определяющим рост потребления продуктов питания. Собственно, с этого времени и был запущен механизм краха социалистической системы, резкого падения производства и уровня жизни[857].
Таблица 8.19. Структура внешней торговли СССР (доли в объеме экспорта, %)
Источник: Социалистические страны и страны капитализма в 1986 году: Статистический сборник. М.: Госкомстат СССР, 1987.
Замедление темпов экономического роста в СССР, других индустриально развитых социалистических странах было очевидным фактом. Но оно не подталкивало к немедленным и решительным действиям. Записка заместителя председателя Совета Министров СССР Н. Кириллина в правительство СССР, подготовленная в 1979 году, содержала подробные и убедительные соображения о нарастающем кризисе советской экономики. В ней предлагались осторожные меры, направленные на изменение экономической системы. Госплан, Госснаб и Минфин СССР их не поддержали. Политических последствий представленный документ не имел[858]. Цены на нефть были комфортно высоки.
Политический режим, сформировавшийся в СССР и контролируемых им государствах Восточной Европы, практически всем наблюдателям в самой стране и за рубежом представлялся застойно стабильным. Очень немногие в 1985 году могли представить, что через 6 лет и режим, и страна, и империя прекратят существование[859].
Пришедшее к руководству страной в 1985 году новое поколение советских руководителей не имело программы глубоких экономических и тем более политических реформ[860]. В его сознании было укоренено представление, что социалистическая система устойчива и адекватна современным реальностям, но проводимая экономическая политика нуждается в корректировках[861].
Весной 1985 года Комиссия ЦК КПСС по совершенствованию управления народным хозяйством рассмотрела представленные ее научной секцией, в состав которой входили руководители основных экономических институтов АН СССР, предложения о совершенствовании управления социалистическими предприятиями. Речь шла о программе умеренных, постепенных экономических реформ, по существу направленных на восстановление рыночных механизмов в СССР. По политическим причинам ни слова “социалистическая рыночная экономика”, ни слово “реформа” в документе не упоминались. Тем не менее реакция руководящих органов была однозначной: предложенное, хотя это и не сказано прямо в тексте, прокладывает дорогу созданию социалистической рыночной экономики, поэтому неприемлемо.
В 1985 году в официальных документах слова “рынок”, “социалистическая рыночная экономика”, “реформы” оставались запретными. Влияние китайского опыта на экономическую политику в 1986–1988 годах становится очевидным[862]. Однако лишь в 1988 году, когда финансовый кризис и кризис потребительского рынка достигли большой остроты, советское руководство решается на создание правовых возможностей организации кооперативов. Собственно частные предприятия, использующие наемный труд, остаются под запретом. Первая официальная программа реформ, ориентированных на постепенное формирование системы, похожей на рыночный социализм (программа Л. Абалкина), была представлена лишь летом 1989 года. К моменту ее принятия правительством в декабре 1989 года она стала еще более осторожной и непоследовательной. К этому времени масштабы финансового кризиса, кризиса платежного баланса, развала потребительского рынка, политической дестабилизации делали шансы на реализацию подобной программы минимальными. Еще в июле 1990 года последний, XXVIII съезд КПСС голосует за то, чтобы исключить слово “рыночная” из названия собственной комиссии по проблемам экономической реформы.
Новое руководство СССР не сразу осознало масштабы финансового кризиса, с которым столкнулось. В основе этого кризиса были долгосрочные характеристики социалистической индустриализации, о которых речь шла выше: хронические проблемы, связанные с низкой эффективностью сельского хозяйства и необходимостью масштабного импорта сельскохозяйственной продукции; неконкурентность продукции советских отраслей обрабатывающей промышленности на мировом рынке, низкие объемы экспорта продукции российского машиностроения, реализуемой за конвертируемую валюту, все большая зависимость страны от экспорта топливно-энергических ресурсов и конъюнктуры рынка топливно-энергетических ресурсов (см. табл. 8.20–8.24).
Таблица 8.20. Импорт зерна в СССР, млн т[863]
Источник: Социалистические страны и страны капитализма в 1986 г. М.: Госкомстат СССР, 1987. С. 623; Народное хозяйство СССР за 70 лет. М.: Финансы и статистика, 1987. С. 641.
Таблица 8.21. Импорт мяса в СССР, тыс. т
Источник: Социалистические страны и страны капитализма в 1986 г. М.: Госкомстат СССР, 1987. С. 628; Народное хозяйство СССР за 70 лет. М.: Финансы и статистика, 1987. С. 641.
Таблица 8.22. Сальдо внешней торговли сельскохозяйственной продукцией СССР
Источник: Расчеты на основе данных из: Социалистические страны и страны капитализма в 1986 г. М.: Госкомстат СССР, 1987. С. 618–619.
Таблица 8.23. Доля экспорта машин, оборудования и транспортных средств в объеме экспорта из СССР в развитые капиталистические страны
Источник: Социалистические страны и страны капитализма в 1986 г. М.: Госкомстат СССР, 1987. С. 637.
Как это бывало и с другими нефтеэкспортирующими странами, советское руководство в конце 1970‑х – начале 1980‑х годов было уверено в том, что благоприятная конъюнктура цен на нефть – явление долгосрочное[864]. Исходя из этих представлений строится и стратегия внешних заимствований, предполагающая, что благоприятная конъюнктура нефтяного рынка продлится вечно, позволит финансировать и военное противостояние с США, и внешние войны (Афганистан), а также компенсировать хронический кризис сельского хозяйства.
Таблица 8.24. Экспорт нефти и газа из СССР в натуральном выражении
Источник: Социалистические страны и страны капитализма в 1986 г. М.: Госкомстат СССР, 1987. С. 636; Народное хозяйство СССР за 70 лет. М.: Финансы и статистика, 1987. С. 641.
Ко времени прихода к власти нового поколения советских руководителей конъюнктура нефтяного рынка радикально меняется (табл. 8.25 и 8.26).
Это ведет к обострению проблем с поддержанием внешнеторгового баланса СССР, особенно в том, что касается отношений с развитыми капиталистическими странами, чья продукция продается и покупается за реальные деньги (табл. 8.27).
Дефицит торгового баланса лишь часть проблемы. Структура заимствований СССР предполагала нарастающий объем поступлений от экспорта. На пике экстремально высоких цен на нефть советское правительство наращивало объем заимствований. Одновременно оно продолжало субсидировать вассальные режимы, предоставляя им кредиты, шанс возврата которых был невелик. О развитии событий в области капитальных операций Советского Союза накануне его краха см. табл. 8.28.
Таблица 8.25. Динамика реальных мировых цен на нефть с 1971 по 1992 год, долл.[865] за 1 баррель
Источник: Расчеты по: International Financial Statistics 2004, IMF (CD-ROM edition).
Таблица 8.26. Динамика реальных цен на природный газ, экспортируемый из СССР (России), с 1985 по 1992 год[866]
Источник: Расчеты по: International Financial Statistics 2004, IMF (CD-ROM edition).
Таблица 8.27. Платежный баланс в свободно конвертируемой валюте,
Примечания: 1. Пересчет в доллары США произведен по курсу Госбанка СССР на 25 июня 1991 года: 100 долл. = 60,66 руб. 2. 1991 год – прогноз Минэкономики СССР. источник: Из материалов Министерства финансов СССР, подготовленных к поездке Президента СССР М. С. Горбачева в Лондон в 1991 году.
Таблица 8.28. Счет капитала СССР,
Источник: Лацис О. Колокола громкого боя. Ч. 3 // Известия. 1996. 17 мая. № 90.
Таким образом, в середине 1980‑х годов Советский Союз оказался страной, в высокой степени зависимой от конъюнктуры рынка энергоносителей. При радикальном – почти 6-кратном (с ноября 1980 г. по июнь 1986 г.) – падении цен на основные экспортные товары страна столкнулась с острым финансовым кризисом и кризисом текущего платежного баланса (см. табл. 8.29–8.32).
Таблица 8.29. Основные показатели государственного бюджета СССР 1985–1988 годов,
Источник: Рассчитано на базе Госкомстата СССР (Правительственный вестник. 1989. № 18).
Таблица 8.30. Основные показатели государственного бюджета СССР 1980–1990 годов, % от ВВП[867]
Источник: Синельников С. Бюджетный кризис в России: 1985–1995 годы. М., 1995.
Таблица 8.31. Объем внешнего долга СССР в 1985–1991 годах, [868]
Источник: Синельников С. Бюджетный кризис в России: 1985–1995 годы. М., 1995.
В 1988 году по сравнению с 1985 годом доходы от внешнеэкономической деятельности сократились на 19,4 [869]. Расходы государственного бюджета между 1985 и 1988 годами возросли почти на 70
Таблица 8.32. Остатки на счетах Внешэкономбанка СССР в иностранных банках, (на начало года по официальному курсу Госбанка СССР на 25 июня 1991 года: 100 долл. = 60,66 руб.)
Источник: Из материалов Министерства финансов СССР, подготовленных к поездке Президента СССР М. С. Горбачева в Лондон в 1991 году.
Структура организации государственного бюджета в поздние годы существования социалистического режима зеркальна по отношению к той, которая была характерна для периода социалистической индустриализации. Если тогда важнейшим источником пополнения бюджета был налог с оборота на сельскохозяйственную продукцию, то теперь финансовый кризис усугубляется масштабными субсидиями, включенными в цену на продовольствие, составляющими к 1988 году по мясу и мясопродуктам 21,7 , по молоку и молочной продукции – 15,8 млрд, по зерну – 5,2 и т. д. Общий объем дотаций к 1988 году составляет 86,3 , почти 15 % ВВП[870].
Весной 1991 года последний глава Кабинета Министров СССР В. Павлов говорит: “По результатам торговли прошлого года мы стали должниками почти всех стран, даже Восточной Европы – Чехо-Словакии, Венгрии, Югославии. Сегодня им тоже надо платить свободно конвертируемой валютой. Жизнь взаймы, естественно, не бесконечна, наступило время расплачиваться. Если в 1981 году на погашение внешнего долга и процентов по нему мы направляли 3800 млн в свободно конвертируемой валюте, то в текущем году необходимо погасить уже 12 млрд. С учетом нашего уровня внутренних цен это равносильно потере почти 60 Результаты такого хищнического отношения к национальному достоянию стали сказываться сначала медленно, а теперь – лавинообразно.
За последние два года объем добычи угля (без учета забастовок) упал на 69 млн т, нефти – на 53 млн т, лесозаготовок – на 50 млн кубометров. Какая экономика выдержит такие удары?”[871]
Подобного рода финансовый кризис, сочетающийся с кризисом платежного баланса, – явление неприятное, но отнюдь не беспрецедентное в мировой экономической истории. Известно, что приходится делать правительствам государств, столкнувшихся с подобными проблемами: сокращать бюджетные расходы, увеличивать собираемость налогов, повышать цены на потребительские товары или либерализовать их, девальвировать национальную валюту, административно ограничивать масштабы импорта. Сильные демократические режимы в подобных ситуациях вносят пакеты чрезвычайных мер, направленных на финансовую стабилизацию в парламенты, и проводят их. Сильные авторитарные режимы проводят такие решения вне парламентских процедур. Слабые режимы пытаются провести подобные меры, но оказываются неспособными это сделать и рушатся[872].
История социалистических режимов показывает, что проведение непопулярных мер для них не новость. Такие меры и были основой социалистической индустриализации. Например, в 1939 году Пленум Центрального Комитета своим решением радикально сократил размеры приусадебных участков, с которых кормилась большая часть крестьянского населения СССР. У колхозников было изъято примерно 2,5 млн га земли. Трудно представить себе менее популярное решение. В этом же году был установлен минимум трудодней для трудоспособных крестьян. Еще одно решение того времени – резкое увеличение обязательных поставок продукции животноводства крестьянами. Была введена уголовная ответственность за отсутствие на работе, опоздание на работу, превышающее 20 минут; рабочим отказано в праве смены места занятости. В 1930‑е годы сталинское руководство, столкнувшись с финансовым кризисом, без колебаний резко повысило розничные цены на важнейшие продукты питания. Цены государственной и кооперативной торговли на мясопродукты в 1940‑м году превосходили уровень 1932 года в 5,7 раза, на животное масло – в 5 раз[873].
После конфискационной денежной реформы были созданы предпосылки снижения потребительских цен. В течение нескольких лет цены действительно снижались. Однако в середине – конце 1950‑х годов стало ясно, что назрела необходимость нового повышения розничных цен.
В 1962 году решение о повышении цен на продовольствие далось труднее, чем в 1930‑х. Оно привело к массовым протестам в Новочеркасске, временной утрате контроля властей над городом. Волнения начались в июне 1962 года после того, как было обнародовано решение о повышении цен на основные продукты питания[874]. Оно совпало по времени с резким (на 25–30 %) снижением расценок оплаты труда на крупнейшем предприятии города – Новочеркасском электровозостроительном заводе. Уже в это время страна серьезно изменилась по сравнению с 30‑ми годами. Вызванные для подавления беспорядков солдаты не хотели применять силу[875]. Однако после приказа из центра солдаты внутренних войск открыли огонь на поражение. Беспорядки были подавлены. Погибли 17 человек, в их числе трое несовершеннолетних[876]. Несколько участников протеста были расстреляны, около 100 человек оказались в лагерях[877]. К этому времени коммунистический режим находился у власти 46 лет – срок, схожий с существованием китайского коммунистического режима к моменту событий на площади Тяньаньмынь в 1989 году[878]. Эти события стали для китайского общества сигналом того, что, несмотря на рыночные новации, коммунистическая элита в аграрной стране по-прежнему способна в любой момент применить силу. По уровню развития СССР в 1962 году и Китай в 1989 году также были близки. И там, и там режимы возглавляли люди, начавшие политическую карьеру во время революции и Гражданской войны, участвовавшие в закабалении крестьянства.
В связи с этим ключевым для понимания того, что происходило в СССР после 1985 года, является вопрос: почему недемократический режим, столкнувшийся с серьезным финансовым кризисом, оказался столь беспомощным?[879] Ответ на него тесно связан с эволюцией социалистической системы на новой стадии развития, с тем периодом, который официальной советской идеологией назывался развитым социализмом.
Политическая система, сложившаяся в Советском Союзе, жесткий тоталитарный режим, в беспрецедентных масштабах применявший силу против населения своей страны и стран-сателлитов, сам порожденный социальной дестабилизацией раннеиндустриального периода, крахом традиционной монархии, сформировался в обществе с доминирующим крестьянским населением. Десятилетия индустриализации изменили общество. Оно стало городским и образованным. Управлять таким обществом теми же методами, что и крестьянским, некоторое время можно. Действует инерция, вбитый десятилетиями страх перед властями. Но, как справедливо писал С. Витте еще накануне первой русской революции XX в., “в конце XIX и начале XX в. нельзя вести политику средних веков… Политики и правители, которые этого не понимают, готовят революцию, которая взрывается при первом случае, когда правители эти теряют свой престиж и силу”[880].
Когда страна с таким режимом сталкивается с тяжелым кризисом, рассчитывать на понимание и поддержку общества, его готовность принять необходимые, но тяжелые, непопулярные меры для выхода из кризиса не приходится (табл. 8.33)[881].
Таблица 8.33. ВВП на душу населения и доля занятых в сельском хозяйстве в отдельных странах к моменту краха или трансформации авторитарных режимов[882]
Источник: Maddison A. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OECD, 1995; Mitchell B. R. International Historical Statistics. Europe 1750–1993. London: Macmillan Reference LTD, 1998; Idem. International Historical Statistics. The Americas 1750–1993. London: Macmillan Reference LTD, 1998; Idem. International Historical Statistics. Africa, Asia & Oceania 1750–1993. London: Macmillan Reference LTD, 1998.
Как справедливо говорил Талейран Наполеону, “штыки, государь, годятся для всего, но вот сидеть на них нельзя”. Способность политической элиты навязывать обществу свою волю зависит от того, в какой степени и она сама, и общество уверены в праве властей принимать и реализовывать решения, в том числе непопулярные. Когда советское руководство в середине 1980‑х годов в результате падения цен на нефть, наложившегося на глубокие структурные проблемы социалистической экономики, столкнулось с кризисом, то выяснилось, что ни оно само, ни общество не уверены в легитимности режима, в его праве разработать и провести программу стабилизационных мер[883].
Финансовый кризис[884], развал потребительского рынка[885], неспособность властей ни навязать обществу меры, позволяющие выйти из кризиса, ни убедить его в том, что такие меры необходимы, подрывают остатки легитимности политической элиты в ее собственных глазах и в глазах общества[886]. Руководство страны пытается применить методы устрашения для борьбы с экономико-политическим хаосом, копировать образцы предшествующей эпохи[887], но в радикально изменившемся обществе это уже никого не пугает.
Характерный пример готовности властей в это время принимать лишь популярные решения – либерализация режима внешнеторговых операций, предоставление иным министерствам кроме Министерства внешней торговли права заключать международные контракты. Это было принято в 1987 году, во время, когда все более острый кризис текущего платежного баланса становился очевидной реальностью.
Слабая власть способна принимать и реализовывать лишь популярные решения[888], усиливающие финансовый кризис и при ближающие банкротство государства[889].
Выясняется, что политическая структура, выросшая из революции, в беспрецедентных масштабах применявшая репрессии, утратила способность и готовность применять силу[890] в масштабах, необходимых, чтобы система тоталитарной власти и неразрывно связанная с ней административная система управления экономикой могли функционировать[891].
Первым вызовом коммунизму стали события июня 1953 года в Берлине. За ними последовало венгерское восстание октября 1956 года. Вторжение Вооруженных сил Варшавского Договора в Чехословакию в августе 1968 года поставило крест на надеждах, что можно построить социализм с человеческим лицом. Рабочие восстания в Польше в 1956, 1970, 1976, 1980 годах были наглядными свидетельствами нарастающего кризиса легитимности коммунистической власти[892].
“Солидарность” в Польше была одним из самых мощных революционных движений второй половины XX в. Но до тех пор пока в Восточной Европе господствовало представление о готовности СССР силой поддерживать вассальные коммунистические режимы, продемонстрированное в 1956 году в Венгрии и в 1968 году в Чехословакии, их свержение, формирование полноценных демократических институтов были вне политической повестки дня. Лидеры польского освободительного движения это хорошо понимали. Я. Куронь[893] в разгар беспорядков 1980 года говорил: “Мы должны помнить, что Советский Союз и его армии не перестали существовать. Но мы можем разумно предположить, что советские правители не начнут вооруженной интервенции в Польше до тех пор, пока поляки воздержатся от свержения покорного СССР правительства”[894].
Начатые в феврале 1989 года переговоры между правительством и оппозицией Польши, прошедшие здесь летом того же года полудемократические выборы, разрешение венгерских властей гражданам ГДР свободно выезжать через эту страну и Австрию в ФРГ, разрушение Берлинской стены – важные этапы крушения восточноевропейской социалистической империи. Но все это могло произойти лишь после того, как стало ясно: советское руководство не готово к масштабному применению силы для сохранения существующих вассальных режимов. Когда политический кризис охватил Советский Союз, восточноевропейская империя начала рушиться, а с ней и система бартерной торговли в рамках СЭВа, которая могла существовать лишь в объединенном общей политической волей образовании.
С 1989–1990 годов становится очевидной неспособность союзных властей обеспечивать функционирование традиционной системы административного распределения ресурсов, навязывать свою волю республикам, регионам и предприятиям, поддерживать порядок в стране, контролировать бюджетную и денежную политику[895]. Механизм краха и Советского Союза, и советской восточноевропейской империи уже действовал в полную силу.
История попытки переворота 19–21 августа 1991 года ставит точку в социалистическом эксперименте. Лидеры несостоявшегося переворота не были уверены в своей способности применять насилие. Силовой аппарат, на который они надеялись, был не готов исполнять их распоряжения. Общество, по крайней мере в столицах, не было согласно принять власть нелегитимных правителей.
С этого времени социалистическая экономика, основанная на административном принуждении, перестает функционировать. Закупки зерна в 1991 году (22,5 млн т) резко сократились по отношению к средним за 1986–1990 годы (34,3 млн т)[896]. Особенно быстрым это падение стало после провала августовского переворота[897]. Правительство пыталось решить проблему за счет закупок зерна внутри страны на свободно конвертируемую валюту. В 1990 году таким образом было мобилизовано 1,04 млн т зерна, в 1991 году – 1,15 млн т[898]. Однако истощение валютных резервов делало продолжение такой практики невозможным[899].
Социалистические предприятия производят и поставляют товары не потому, что это им выгодно, а по указанию вышестоящих органов. Колхоз или совхоз “выполняет первую заповедь”: сдает зерно на хлебозаготовительный пункт не ради безналичных денег, которые перейдут на его счет, а потому, что председателю или директору известно, что за срывом задания последует снятие с работы, исключение из партии, а может быть, и тюрьма. Крах тоталитарного режима – это крушение всей системы хозяйственных связей, основанной на страхе перед жесткими санкциями власти[900]. В 1990–1991 годах дезорганизация старой системы хозяйственных связей, основанной на жестком принуждении, нерыночной по своему характеру, приобрела катастрофические масштабы.
Вот как виделась в это время (сентябрь 1991 года) ситуация академику Л. Абалкину: “Мы же исходили из убеждения в том, что если в течение максимум двух месяцев не будут проведены чрезвычайные меры по стабилизации финансово-денежного положения в стране, то нас ожидает социальный взрыв, по сравнению с которым то, что происходило в августе, – это, извините, не более чем вечер бальных танцев… У меня есть записка, подготовленная сотрудником института О. Роговой; из нее вытекает, что нам дается срок два месяца, после чего наступит развал экономики, коллапс. Это же подтверждают и другие расчеты… Можно спорить, насколько правилен этот прогноз в деталях. Но пока мы будем сопоставлять проекты и концепции, их некому будет читать”[901].
Помощнику М. Горбачева А. Черняеву картина виделась следующим образом: “Гибнет урожай, рвутся связи, прекращаются поставки, ничего нет в магазинах, останавливаются заводы, бастуют транспортники. Что будет с Союзом? Думаю, что к Новому году мы страны иметь не будем. И это на фоне «последнего дефицита» (за которым в России может быть только бунт) – дефицита хлеба. Тысячные очереди у тех булочных, где он есть. Что-то невероятное случилось с Россией. Может, и впрямь мы на пороге кровавой катастрофы?”[902]
Вот несколько выдержек из затребованной правительством справки о положении в некоторых регионах на середину ноября 1991 года:
“Продажа мясопродуктов, масла животного, масла растительного, крупы, макаронных изделий, сахара, соли, спичек, табачных изделий, алкогольных напитков, мыла хозяйственного, туалетного и других производится в основном по талонам и по мере поступления этих товаров в торговую сеть. Отпуск хлеба и хлебобулочных изделий ограничен, реализация молокопродуктов – по мере их поступления – при наличии больших очередей и ограниченного времени торговли.
Архангельская область. Мясопродукты, которые не обеспечены ресурсами, реализуются из расчета 0,5 кг на человека в месяц. Срывают отгрузку мяса Белоруссия, Ростовская, Ульяновская области… Молоко имеется в продаже в течение не более часа. Масло животное продается по талонам из расчета 200 г на человека в месяц. Талоны не обеспечены ресурсами из-за недогруза Вологодской и Смоленской областями. Мукой в рознице не торгуют, она поступает только для хлебопечения. До конца года недостаток фондов на муку – 5 тыс. т. Хлебом торгуют с перебоями. Сахар отпускают по 1 кг в месяц на человека, талоны на него из-за недогруза заводов Украины с июня не отовариваются.
Нижегородская область. Мясопродуктами торгуют по талонам, на декабрь не хватает ресурсов. Молоком торгуют в течение 1 часа. Масло животное реализуется по талонам – 200 г на человека в месяц. Не хватает ресурсов. Растительное масло в продаже отсутствует, так как оно не отгружается поставщиками Краснодарского края, Украины, а также не поставляется по импорту. С перебоями торгуют хлебом, не хватает зерна на хлебопечение до конца года в количестве 20 тыс. т.
Пермская область. На декабрь выдано талонов на масло животное по 200 г на человека, но ресурсов под них нет. Отказывают в отгрузке Смоленская, Пензенская, Оренбургская, Тверская, Липецкая области, Республика Татарстан. Растительного масла в продаже нет, так как поставщики Волгоградской, Костромской, Саратовской областей и Краснодарского края не отгружают его. Сахар отсутствует в продаже. Срывают его отгрузки заводы Курской и Воронежской областей. Хлебом торгуют с перебоями при наличии больших очередей. Не хватает муки на хлебопечение в объеме 15 тыс. т”[903].
Положение дел с продовольственным обеспечением в это время хорошо иллюстрируют данные социологического опроса населения, проводившегося регулярно в 30 городах России. В каждом городе опрашивается в среднем около 30 человек. Им предлагается оценить по 5‑балльной шкале положение по 15 видам продуктов: “5” – продукт имеется в свободной продаже в госторговле, “4” – может быть куплен в заказе на предприятии, “3” – очередь менее часа, “2” – очередь более часа, “1” – продукт в торговле отсутствует (табл. 8.34).
Из доклада “Хлебопродукта” РСФСР правительству Российской Федерации: расчет ресурсов зерна на 1 января 1992 года. Наличие ресурсов на 1 декабря 1991 года: 10,1 млн т (справочно: в 1989 году на эту дату было 21,9 млн т, в 1990 году – 22,9 млн). За вычетом семян остаток мобильных ресурсов – 8,4 млн т, расход в декабре – 4,3 млн, поступления по импорту – 1,5 млн, расчетный остаток на 1 января – 5,6 млн (в 1989 году на эту дату – 17,1 млн т), расход в январе – 4,3 млн, запланированный импорт – 2,1 млн, расчетный остаток на 1 февраля – 3,4 млн (в 1989 году – 14,7 млн)…… Всего для России в 1-м полугодии 1992 года поступит 8,65 млн т зерна. Потребность: 1‑е полугодие – 26,0 млн т зерна. Дефицит – 17,35 млн т зерна[904].
Из записки заместителя председателя Внешэкономбанка Ю. Полетаева заместителю министра экономики и прогнозирования В. Дурасову о состоянии платежей и расчетов с иностранными государствами:
Таблица 8.34. Обеспечение пищевыми продуктами городов РСФСР
%%%
Источник: Газета “Деловой мир”. 1991. Дек.
“Состояние расчетов СССР в свободно конвертируемой валюте за 10 месяцев 1991 года складывается следующим образом. Поступление свободно конвертируемой валюты от текущего экспорта составило 26,3 млрд долл США. Из них в централизованные фонды поступило для погашения внешнего долга и оплаты централизованного импорта 15,9 млрд долл США, в валютные фонды экспортеров – 10,4 млрд долл США. В то же время платежи из централизованных валютных фондов составили 26 млрд долл США. (…) Таким образом, недостаток поступлений от текущего экспорта для осуществления платежей по централизованным фондам составил 10,6 млрд долл США. В связи с этим на основании принимавшихся в течение года решений руководства страны и прежде всего во избежание банкротства страны, а также для обеспечения минимально необходимого импорта наиболее жизненно важных товаров и их перевозки международным транспортом данный недостаток покрывался за счет проведения операций «своп» с золотом (т. е. займов под залог золота) и его реализации – 3,4 млрд долл США, привлечения новых финансовых кредитов – 1,7 млрд долл США и использования со счетов Внешэкономбанка СССР средств валютных фондов предприятий, организаций, республик и местных органов власти – 5,5 млрд долл США. В связи с крайним обострением платежной ситуации страна в течение года неоднократно оказывалась на грани неплатежеспособности ввиду недостатка ликвидных ресурсов в свободно конвертируемой валюте (…), о чем неоднократно докладывалось руководству страны. К концу октября 1991 года ликвидные валютные ресурсы были полностью исчерпаны, в связи с чем Внешэкономбанк СССР был вынужден приостановить все платежи за границу, за исключением платежей по обслуживанию внешнего долга (…). Недостаток поступлений от текущего экспорта для платежей за границу только по имеющимся на 1 ноября 1991 года обязательствам (даже без учета минимальной потребности в свободно конвертируемой валюте для оплаты импорта, включая перевозки) может составить более 3,5 млрд долл США, в том числе в ноябре – 1,3 млрд долл США. Уже к концу второй декады ноября ликвидных валютных ресурсов окажется недостаточно даже для выполнения безусловных обязательств государства и страна может быть объявлена неплатежеспособной”[905].
Ситуация со снабжением населения крупных городов в 1991 году напоминала ту, которая сложилась в 1917 году и стала поводом для революции[906]. Трагический круг российской истории, начатый Первой мировой войной и событиями 1917 года, замкнулся. Но последствия социалистического эксперимента в течение долгих лет будут оказывать серьезное влияние на траектории экономического развития России и других постсоциалистических стран. Именно они подготовили и кризис последнего десятилетия XX в. в России. Иными словами, не правы те, кто сегодня говорит, будто бы кризис возник из-за демократических реформ. Реформы пришлось проводить из-за кризиса, поставившего под угрозу само существование нашей страны.
Глава 9 Постсоциалистический кризис и восстановительный рост
На равнине, прикрыв левый фланг лесом, ничем не прикрывшись справа, корпус должен был перейти в наступление и прорвать оборону противника. Но авиации не было, рассчитывать на поддержку с воздуха корпус не мог. У него был открыт не только правый фланг, но и небо над головой.
Г. Бакланов[907]. Военные повестиПо понятным причинам эта глава – особая. Автор, принимавший участие в рассматриваемых событиях, не намерен отвечать на оценки сделанного им и его единомышленниками, на выпады по его адресу и его единомышленников, оправдывать или объяснять те или иные конкретные решения, перечислять ошибки (которых конечно же хватало), не будет пытаться снять с себя ответственность за сделанное и несделанное и тем более не намерен каяться в грехах. Задача, поставленная в данной главе, – по возможности объективно рассмотреть процессы переходного периода в России по сравнению с другими постсоциалистическими странами, выявить их закономерности, объяснить отклонения от этих закономерностей, если таковые случались. Это поможет опровергнуть некоторые распространенные мнения. Среди них такие.
1. Кризис российской экономики в конце XX в. возник в результате проводившихся пришедшими к власти демократами неудачных и ошибочных экономических реформ.
2. Причина этих неудач и ошибок – в избранных (“с подачи МВФ и других подобных структур”) методах “шоковой терапии”, финансовой стабилизации и приватизации[908].
3. Последствия этих неудач и ошибок – катастрофическое падение производства, приведшее к обнищанию народа.
4. Начавшийся в последние годы экономический рост – результат пришедшего на смену демократам нового курса власти, итог исправления допущенных ими ошибок.
§ 1. Постсоциалистический переход как исторический процесс
Важнейшие события конца XX в. – социально-экономические процессы, связанные с крахом социалистической системы и восстановлением функционирования рыночных механизмов, широко обсуждаются в экономической литературе[909]. Проведенное в июле 2004 года обследование ресурсов Интернета позволило выявить более 50 тыс. публикаций, посвященных этим вопросам, и число их продолжает быстро расти[910].
Ключевая проблема постсоциалистического перехода – противоречие между взрывным, революционным характером крушения развитого индустриального социализма и необходимостью времени для формирования в постсоциалистическом хозяйстве эффективного рыночного механизма.
Развитый индустриальный социализм – целостная система взаимосвязанных социально-экономических и политических институтов и одновременно крупнейшая аномалия в экономическом развитии XX в. Его стержень – жесткая тоталитарная власть, замещающая рынок в координации хозяйственной деятельности.
Всеобъемлющая бюрократическая система упразднила тонкие механизмы рыночных отношений и гражданского общества, устраняя преграды, препятствующие росту государственной нагрузки на экономику, национальных сбережений и инвестиций, освободила отечественные товары от конкуренции импортных товаров на внутреннем рынке. На ранних этапах индустриализации это дало возможность форсировать темпы промышленного роста за счет жесткой эксплуатации деревни. Но затем в социалистической экономике с неизбежностью накапливаются склеротические элементы, связанные с ее структурной негибкостью, неэффективностью использования ресурсов, низким качеством продукции, неконкурентоспособностью продукции обрабатывающих отраслей на мировом рынке. Нарастает зависимость от импорта продовольствия и техники. Если эти противоречия проявляются сравнительно рано, когда резервы индустриализации еще не исчерпаны и аграрный сектор сохраняет способность дать дополнительные трудовые ресурсы для формирования (наряду со старым, социалистическим) нового, ориентированного на рынок сектора хозяйства, то выход из социализма может оказаться относительно мягким[911].
Но при высоком уровне развития, когда возможности аграрного сектора исчерпаны, а противоречия социалистической индустриализации обозначились в полной мере, легкого выхода уже нет: любые серьезные попытки запустить рыночные механизмы вызывают обвальный кризис сформированных социалистической индустриализацией структур и институтов[912].
Все элементы социально-экономической и политической системы развитого социализма тесно подогнаны друг к другу. Высокий уровень государственной нагрузки на экономику, гипертрофированное военное производство, масштабный выпуск продукции с отрицательной добавленной стоимостью в мировых ценах, относительно эгалитарное распределение денежных доходов, приличное финансирование образования, дефицит качественных, а порой и любых потребительских товаров, партийный контроль за продвижением кадров, закрытые границы, отсутствие свободы печати – все это не изолированные, независимые друг от друга черты социалистической системы, а целостность. Возможность существования элементов этой системы вне единого целого не гарантирована.
Описанный в предыдущей главе кризис социалистической экономики (утрата ею динамизма, поражение в экономическом соревновании с Западом, растущая зависимость от экспорта энергоресурсов и конъюнктуры мирового рынка, от потока западных кредитов) сыграл серьезную роль в дестабилизации коммунистических режимов[913]. Однако крах социализма был результатом не только нарастающих экономических проблем, но и долгосрочных тенденций динамики социально-политического развития. Возрастающая доля образованного городского населения, неизбежная поколенческая либерализация властных элит (“размягчение режима”), усиливающаяся эрозия идеологического монолита, экспансия в восточноевропейские страны, население которых находилось под сильным влиянием западной культуры и установлений, – все это подвело к крушению режима.
М. Горбачев со своими гласностью и перестройкой лишь поднес спичку к готовому вспыхнуть сеновалу.
Проголосовавшие за “Солидарность” поляки, восточные немцы, которые снесли Берлинскую стену, литовцы, пришедшие на защиту своего парламента, москвичи и петербуржцы, поддержавшие Б. Ельцина, – все они пошли наперекор режиму не потому, что верили в четко очерченную экономическую программу построения рыночной экономики. Они не хотели больше позволять не ими избранным, не авторитетным для них лидерам и организациям решать за них их судьбу.
Наивно полагать, что коммунистические режимы просто потеряли контроль за ситуацией – не убедили граждан повременить, перетерпеть, подумать о том, что крах партии и госбезопасности автоматически влечет за собой кризис всех основанных на жесткой и эффективной власти общественных и экономических структур[914]. Трагедия революции – это всегда и приговор элитам старого режима, которые оказались неспособными направить бурно развивающиеся события в русло мирных реформ.
Революция – это радикальные изменения сложившихся установлений, социально-экономических и политических институтов, элит и их идеологии, которые происходят при слабой, нестабильной власти[915]. Теперь, по прошествии времени, видно, что экономико-политические преобразования, которые произошли на рубеже 1980‑1990‑х годов, по существу представляли собой полномасштабную социальную революцию[916]. Именно это характерное для революционной эпохи отсутствие собственно государства (политических институтов, включая систему правопорядка, обеспечение выполнения законов и т. п.) не позволяло “подождать” с осуществлением либерализационных мероприятий.
Системные преобразования, радикально изменявшие общественное устройство СССР и России, действительно протекали в условиях слабого государства. К началу реформ оказались практически разрушенными все институты государственной власти. Их восстановление на новой основе было по сути центральной политической задачей первого посткоммунистического десятилетия. Экономические реформы могли продвигаться вперед лишь по мере решения этой задачи.
В России по ряду причин (особенно в период так называемого двоевластия) этот процесс шел медленно. Это привело к более низким темпам преобразований, чем в посткоммунистических странах Восточной Европы.
Когда в некоторых странах рыночной экономики проводилась политика финансовой стабилизации, она могла опираться на пусть даже слабые, не всегда эффективные, но существующие институты. В России стабилизация и формирование институтов шли практически параллельно. Это тоже значительно осложняло реформы, затягивало их во времени.
Один из выдающихся экономистов конца XX в., лидер неоинституционального направления в экономике, Д. Норт, писал: “Хотя правила можно изменить за один день, неформальные нормы поведения изменяются постепенно… Следовательно, простой перенос формальных политических и экономических правил из благополучных западных стран с рыночной экономикой не является достаточным условием для достижения хороших экономических показателей”[917]. Сказанное верно. Но вот проблема, с которой автор процитированных строк, человек, всю жизнь проживший в условиях стабильной рыночной экономики, гарантированных прав собственности, удовлетворительно функционирующей демократии, никогда не сталкивался: что делать, когда старые правила организации общественной жизни перестают функционировать?
Г. O’Доннелл и Ф. Шмиттер на основе опыта перехода к демократии в некоторых государствах Южной Европы и Латинской Америки доказывали, что он возможен лишь в случае, если не сочетается с радикальными изменениями в отношениях собственности. А. Пржеворски также отмечал, что переход к демократии возможен, если экономические отношения не изменяются[918]. В Восточной Европе и на постсоветском пространстве две задачи – демократизация и радикальная перестройка экономической системы – были неразрывно связаны. Сохранить старую систему экономических институтов в условиях краха коммунистических тоталитарных режимов, демократизации было невозможно[919]. На постсоветском пространстве проблема осложнялась крахом многонационального государства – СССР, необходимостью параллельно с решением двух и без того масштабных и сложных задач формировать новое национально‑государственное устройство[920], определять границы, делить оставшиеся от СССР колоссальные арсеналы и иное наследство[921].
Когда в постсоциалистических странах обозначились вызванные падением производства проблемы, внимание исследователей привлекли факт дезорганизации хозяйственных связей, информационные трудности, порождаемые перестройкой применительно к рыночным условиям[922]. Но проблемы оказались серьезнее и глубже. Эффективно функционирующая рыночная экономика – это не только рыночные цены, частная собственность и формально созданные институты. Нужны сложившиеся на протяжении поколений традиции делового оборота, гражданского общества, выработанные в соответствии с ними умения и навыки.
Российских реформаторов нередко упрекали в увлечении финансовой (или стабилизационной) политикой в ущерб институциональным реформам[923]. Дело в том, что институты, которые необходимо было создать, воспринимались западными аналитиками как нечто данное, вечно существующее. Между тем лишь за 1990‑е годы в постсоциалистических странах были созданы фундаментальные институты, без которых не может существовать рыночная экономика: институт частной собственности[924], свободное ценообразование, конкурентная среда, финансовые рынки, банковский сектор, рынок труда и многое другое. Функционирование этих институтов, их эффективность и надежность могут вызывать и вызывают критику. Однако всех этих институтов ранее не было. Причем в ряде случаев их не было не только на практике, но и в исторической памяти народа. Последнее – характерная черта большей части постсоветского пространства (к этому мы еще вернемся).
Например, одна из предпосылок нормального функционирования рыночной экономики – эффективная система судопроизводства, четкая реализация судебных решений. Независимый, руководствующийся исключительно правовыми нормами суд при тоталитарном режиме невозможен, он противоречит его базовым установкам. Унаследованное от социализма судопроизводство – элемент репрессивной системы, выполнявшей указания партийных органов.
Принять правовые акты о судебной реформе и гарантиях независимости судов несложно. Это было сделано в подавляющем большинстве постсоциалистических стран. Но справедливый, руководствующийся правом суд – это не только формальное следование законам и отключенный телефон прямой связи с парткомом, но и сложившаяся профессиональная этика, принятые в судебном сообществе нормы поведения, гражданское общество, готовое подвергнуть судью, нарушившего принятые нормы, социальным санкциям. Такой суд нельзя импортировать, скопировать по чужим образцам. Приговоры под диктовку партийных органов можно заменить судебными решениями по звонку главы администрации или за взятку. Сделать суд подлинным инструментом права труднее. Необходимы время, постоянные усилия, адекватное финансирование судебной системы. При этом никто не может гарантировать, в какие сроки поставленную задачу удастся решить.
Функционирующая система права и судопроизводства – каркас рыночной экономики. Но последняя шире писаного права. Определяющую роль в ее повседневной работе играют традиции хозяйственного оборота, принятые нормы делового поведения. Лишь изредка возникающие в бизнес-сообществе разногласия доходят до суда. Как правило, они регулируются на основе устоявшихся правил и обычаев; деловые люди не хотят рисковать своей репутацией. Если любую из развитых рыночных экономик, со всеми ее правовой системой и правоохранительными институтами, лишить традиций экономического оборота, отделить от стоящего на их страже гражданского общества, то на следующий день можно будет увидеть экономические джунгли, войну всех против всех.
В социалистическом обществе тоже существовали свои нормы поведения: верховенство отчетности над результатом и связанные с этим приписки; обращение к личным связям, дающим доступ к дефицитным материальным и административным ресурсам; мелкое воровство на собственном предприятии и т. д. Увы, эти традиции бесполезны или вредны в эффективной рыночной экономике.
При развитых рыночных отношениях неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта чревато потерей не только репутации, но и доли рынка и порой приводит к жестким правовым санкциям. После краха коммунистического режима ни рыночные деловые репутации, ни общественные связи, их формирующие, ни эффективная правовая система не могли сложиться в одночасье даже при самом горячем желании новых властей. Отсюда низкий уровень выполнения принятых обязательств, так называемые неплатежи, на годы ставшие привычной нормой поведения; отсюда же появление неправовых, в том числе криминальных, методов, используемых для разрешения хозяйственных споров и конфликтов.
Проблемы формирующейся после социализма банковской системы лишь частное проявление дефицита рыночных традиций и норм поведения. Задача выстроить действенную систему банковского надзора по своей природе относится к числу наиболее сложных в постсоциалистическом институциональном строительстве. Здесь требуются подготовленные, понимающие, как функционирует банковская система, некоррумпированные кадры. Такой человеческий ресурс в достаточных количествах импортировать невозможно. Но это не все. В рыночной экономике надзор над банковской системой – лишь последний предохранитель. Ее устойчивость зависит от стандартов профессиональной этики, принятых в банковском сообществе, которые не возникают по мановению волшебной палочки на следующий день после сноса памятника коммунистическому диктатору и возврата старой национальной символики. В отсутствие необходимых кадров, без укоренившихся этических норм неудивительна широкая практика перекачки активов и кредитования аффилированных организаций и граждан, ненадежность банковской системы, не позволяющая банкам стать действенным инструментом перераспределения кредитных ресурсов.
Для развития в рыночных условиях предприятиям недостаточно адекватных производственных мощностей. Необходимы эффективный менеджмент, разбирающиеся в тонкостях маркетинга и управлении финансами специалисты, способные гибко адаптироваться к условиям рыночной конкуренции. И такие предпринимательские навыки нужны не на нескольких показательных предприятиях – маяках постсоциалистической рыночной экономики, а на десятках и сотнях тысяч предприятий. Сложившиеся за десятилетия социализма традиции и навыки управленческого персонала – концентрация внимания на производстве и снабжении, а не на реализации и финансах, поведенческие стереотипы “экономики дефицита”, неумение анализировать рынки и рыночные возможности, незаинтересованность в качестве продукции и т. д. – в изменившихся условиях оказываются непродуктивными, а порой и вредными. А идея заполучить откуда-то по заказу новую управленческую элиту явно утопична[925]. Когда же рыночная экономика начинает формировать новые руководящие кадры, то старые управленцы, не умеющие наладить результативный производственный процесс, но научившиеся выжимать последние соки из умирающих социалистических предприятий, не спешат подвинуться и уступить насиженное место новым людям.
Формирование в постсоциалистических условиях эффективного, динамичного, ориентированного на рынок сектора экономики требует времени и протекает в ожесточенной борьбе со старой хозяйственной номенклатурой. Не стоит переоценивать возможности постсоциалистического государства управлять этим процессом. Программы подготовки новых кадров полезны, но они, как правило, имеют долгосрочный характер. В первые годы после краха социализма старая управленческая элита, независимо от ориентации правительства, сохраняет прочные позиции в государственном аппарате. Надеяться на активную роль государства в масштабной смене управленческой элиты, как показал практический опыт, не приходится.
Сложность комплекса задач постсоциалистического перехода беспрецедентна, на первом этапе никто не был в состоянии точно прогнозировать, в какие сроки и в каком объеме они будут выполнены, предвидеть всевозможные преграды и подводные рифы на этом пути.
Например, к тому моменту, когда победа “Солидарности” на выборах открыла для польских реформаторов “окно возможностей”, невозможно было оценить масштабы проблем, которые предстояло решать, предвидеть трудности, с которыми придется столкнуться при адаптации общества и экономики к условиям рынка. Важнейшим фактором, повлиявшим на вырабатывавшиеся тогда решения, была сама обстановка “чрезвычайной политики”[926], уникальность момента, опасение упустить открывающиеся возможности. В начале польских реформ еще существовал Советский Союз, и никто не мог предсказать, как повернется в нем внутриполитическая борьба, как она отразится на польской демократии. Это породило стремление использовать все возможности для быстрого формирования полноценной рыночной экономики. А обстановка “чрезвычайной политики” давала свободу маневра, позволяла сконцентрировать силы на необходимых преобразованиях. И на первом же этапе страна столкнулась с крутым спадом производства. Дальнейшие события показали, что Польша в этом не одинока. В 1989–1992 гг. падение производства в Польше составило 16 %, в Венгрии – 18, в Чехословакии – 22, в Румынии – 25 %[927].
§ 2. Проблема трансформационной рецессии
При обсуждении вопроса о постсоциалистическом падении производства и последующем экономическом росте важно сначала разобраться с самими показателями, с помощью которых эти процессы анализируют. Крупнейшие экономисты XX в., создававшие концепцию национальных счетов, к понятию валового внутреннего продукта относились осторожно[928]. Они понимали социальную обусловленность гипотез, которые приходится использовать для его расчета. С. Кузнец, например, не без иронии отмечал: при своеобразных погребальных обрядах Древнего Египта, когда умершим оставляли съестные припасы, затруднительно оценивать душевой ВВП в египетской экономике того времени – надо решить, делить произведенный продукт на численность только живых или на численность живых и недавно умерших? Он же отказывался включать социалистические страны в сферу исследований современного экономического роста, поскольку не был уверен, в какой степени сама концепция ВВП применима для социалистических экономик[929]. Сегодня многие экономисты оперируют понятием ВВП, забывая о лежавших в его основе фундаментальных допущениях.
Между тем это понятие формировалось для функционирующих в условиях демократии рыночных экономик с относительно небольшим государственным сектором. Отсюда вытекает основополагающая для концепции ВВП гипотеза: если за товар или услугу платит либо потребитель, либо налогоплательщик, такая экономическая деятельность обеспечивает рост благосостояния. Понятно, что такая логика применима только к рыночным экономикам, существующим в условиях демократии[930].
В реалиях социалистической экономики гипотеза об осмысленности, ценности формально оплаченной экономической деятельности более чем спорна. В условиях социализма ничто реально не продается и не покупается, господствует рынок продавца, значительную часть экономической деятельности составляет создание товаров и услуг, за которые в условиях рынка и демократии не станет платить ни потребитель, ни налогоплательщик[931]. Объемы производства, его структура, способ распределения произведенного – все определяет авторитарная власть. Можно ли считать любую деятельность в рамках такого режима осмысленной, имеющей ценность?
Приведем несколько примеров.
Одной из навязчивых идей советского руководства на протяжении десятилетий было “освоение Севера”. Огромные средства были затрачены на массовое переселение миллионов людей на постоянное место жительства в районы с крайне неблагоприятными условиями жизни (низкая среднегодовая температура, полярная ночь и т. д.). В 1926 году средняя температура зимних месяцев, пересчитанная на распределение населения по территории в России, была близка к показателям Канады – также северной и малонаселенной страны (соответственно –11,6 градуса Цельсия в России в 1926 г. и – 9,9 градуса в Канаде в 1931 году). За годы социалистического эксперимента траектории этих показателей в России и Канаде радикально разошлись (см. рис. 9.1 и 9.2)[932].
После краха Советского Союза начался процесс массового переселения людей из регионов с неблагоприятными условиями проживания[933]. Формально и в советские, и в постсоветские времена эти процессы приводили к созданию ВВП.
Уровень воды в Каспии изменяется под влиянием слабоизученных и труднопрогнозируемых факторов. В 70‑е годы прошлого века в СССР, чтобы остановить обмеление моря, стали осушать залив Кара-Богаз-Гол. Затем, когда уровень воды в Каспии стал быстро повышаться, было начато строительство канала Волга – Чограй, которое обосновывали необходимостью отвести воду из Волги, чтобы этот процесс приостановить. И в первом, и во втором случае формально создавался ВВП.
Еще один пример: были потрачены значительные средства, чтобы осушить торфяники под Москвой. В 2002 году они горели. Началось обсуждение вопроса о необходимости их затопить. Вред, нанесенный предшествующей мелиоративной деятельностью, очевиден. Однако все эти работы – и осушение торфяников, и их затопление – увеличивают валовой внутренний продукт.
Наконец, главное. Советский Союз производил массу вооружений, некоторые из них – в беспрецедентных количествах: тысячи танков, миллионы бомб и снарядов, десятки тысяч тонн отравляющих веществ[934]. Многое из этого сейчас приходится уничтожать, пускать в переплавку, утилизировать. А ведь в свое время военную продукцию, как и продукцию десятков смежных отраслей, обслуживавших военно-промышленный комплекс, включали (как и включают сегодня) в расчет валового национального продукта. Придется учитывать в ВВП, к примеру, строительство в Саратовской области завода по уничтожению доставшегося в наследство от СССР иприта.
Рисунок 9.1. Изменение средней температуры проживания человека в XX в.: Россия
Рисунок 9.2. Изменение средней температуры проживания человека в XX в.: Канада
Источник: Hill F., Gaddy C. The Siberian Curse. How Communist Planners Left Russia out in Cold. Washington, D. C.: Brookings Institution Press, 2003.
Нередко утверждают, что падение производства в России в 90‑х годах XX в. было беспрецедентным. Это не так. После революции 1917 года выпуск продукции снизился больше. К 1920 году продукция цензовой промышленности[935] составляла лишь 1/7 довоенного производства[936] (табл. 9.1).
Таблица 9.1. Показатели падения выпуска в ходе революции и Гражданской войны в России
Источник: Громан В. Г. О некоторых закономерностях, эмпирически обнаруживаемых в нашем народном хозяйстве // Плановое хозяйство. 1925. № 1.
Общеизвестно, что в ходе Великой французской и мексиканской революций объемы производства тоже уменьшались, при чем достаточно резко[937]. Но это происходило в условиях аграрной экономики, где действие базовых структур не сильно зависит от эффективности власти и финансовой системы. В индустриальных социалистических странах падение тоталитарного режима автоматически приводит к кризису всей сложившейся структуры хозяйства[938].
Наглядный пример того, как это происходит, – крах торговли в рамках бывшего Совета Экономической Взаимопомощи. Экспорт сырья из СССР в обмен на продукцию обрабатывающей промышленности из Восточной Европы по бартерным соглашениям носил нерыночный характер и мог осуществляться лишь в рамках единой военно-политической империи. Освобождение Восточной Европы из социалистического лагеря привело к радикальному пересмотру сложившихся форм торговли, а следовательно, и к кризису, затем и к ликвидации зависящих от нее экономических структур[939].
§ 3. Зависимость от траектории предшествующего развития
Таким образом, крах тоталитарного политического режима автоматически запускает процесс саморазрушения социалистической экономики, для которой он служил необходимым несущим каркасом. Выявляется невозможность дальше сохранять старые экономические структуры и производства, по крайней мере, значительную их часть. А формирование институтов, необходимых для удовлетворительного функционирования и тем более для роста рыночной экономики, требует времени.
Отсюда протяженность периода падения производства после краха социализма, постсоциалистической рецессии, когда высвобождение ресурсов из традиционных социалистических секторов и производств не в полной мере компенсируется ростом ориентированного на рынок сектора[940]. Фундаментальные причины, обусловливающие трудности постсоциалистического перехода, порождены базовыми характеристиками социализма – длительностью социалистического периода, подавлением ростков гражданского общества и элементов рыночной экономики. Можно предположить, что длительность и глубина постсоциалистической рецессии тесно связаны с особенностями этого исторического прошлого.
Формирование адекватных рыночным условиям институтов и норм поведения, образование эффективного, рыночно ориентированного сектора постсоциалистической экономики, перераспределение в его пользу ресурсов из неконкурентных секторов и хозяйственных звеньев – вот в чем суть процессов, протекающих во время постсоциалистической рецессии. У них много общих черт со структурными сдвигами, которые наблюдаются при рыночном кризисе и рецессии, но из-за разных масштабов накопившихся диспропорций постсоциалистические процессы интенсивнее и масштабнее.
Постсоциалистические страны получили в наследство от социализма набор факторов, которые задерживают восстановление роста. Все они носят социально-исторический характер. Трудности в формировании эффективного, растущего рыночного сектора и перераспределении в его пользу ресурсов, в формировании адекватной рыночной экономики, систем институтов и норм поведения непосредственно зависят от того, в какой мере за годы социализма рыночный опыт и навыки были вытеснены из общественной жизни, насколько сильно были подавлены элементы гражданского общества. А это связано с длительностью социалистического периода в стране, с жесткостью правящего режима.
К началу реформ в странах Восточной и Центральной Европы, а также в государствах Балтии и в Молдавии жили миллионы людей, для которых рыночные реалии были знакомы с детства, считались частью нормальной человеческой жизни, на их глазах исковерканной социализмом. Их дети стали основой наиболее политически и экономически активных возрастных когорт. В Польше с 1982 года действовал Коммерческий кодекс, который по существу повторял содержание Коммерческого кодекса 1934 года, отмененного после Второй мировой войны. В Венгрии с 1985 года был сформирован блок современного рыночного гражданского законодательства[941]. В Польше коллективизация не проводилась. В Венгрии, ГДР всегда сохранялся значительный частный сектор экономики. Социалистические институты и установления почти во всех этих странах были привнесены на советских штыках и потому воспринимались значительной частью общества как чуждые, навязанные извне. Многие восточноевропейские государства сохранили элементы гражданского общества – относительно независимую церковь, хотя бы формальную многопартийность и т. д.
На территории Советского Союза ничего этого не было. Единственно доступным общественным опытом оставался социалистический; представления о рыночной экономике исчерпывались картинами из западных фильмов; людей, которые хоть раз в жизни выезжали в страны с развитой рыночной экономикой, было ничтожно мало. Социализм здесь не был привнесен извне, он возник в результате трагического развития событий собственной истории, стал ее неотъемлемой частью. Любое проявление общественной самоорганизации, ростки гражданского общества в течение семи десятилетий подавлялись жестче, чем в большинстве восточноевропейских стран. Сама структура советской экономики была больше деформирована социализмом и милитаризована, чем другие социалистические экономики Восточной Европы. Поэтому постсоциалистической рецессии в постсоветских государствах суждено было стать более интенсивной и продолжительной, чем в восточноевропейских[942].
Если социализм представляет собой крупнейшую аномалию в современном мировом социально-экономическом процессе, то можно предположить, что время, необходимое для полноценного возврата на основную траекторию социально-экономического развития, должно быть соизмеримо с продолжительностью аномалии социалистического периода.
Уже в работах, опубликованных в 1996–1997 годах, исследователи обращали внимание на очевидную негативную связь результатов постсоциалистического перехода с длительностью социалистического отрезка в истории страны. В работах последующих лет протяженность социалистического периода постоянно включается в число важнейших факторов, определяющих динамику постсоциалистического развития (табл. 9.2, 9.3 и рис. 9.3, 9.4)[943].
§ 4. “Шоковый” и “эволюционный” пути постсоциалистического перехода
Первопроходцы постсоциалистической трансформации – польские реформаторы сделали ставку на одномоментную либерализацию цен, открытие экономики, введение конвертируемой по текущим операциям национальной валюты, остановку инфляции мерами денежной и бюджетной политики, политики контроля за заработной платой, на структурные реформы, в первую очередь на приватизацию (все это и получило распространенное наименование “шоковая терапия”). Вряд ли можно упрекнуть их в том, что они недооценили необходимость формирования институциональных основ рыночной экономики[944]. С самого начала в этом направлении велась активная работа: разрабатывалось необходимое законодательство, создавались рыночные структуры. Все это, однако, требовало времени.
Таблица 9.2. Динамика ВВП на душу населения по ППС в странах Центральной и Восточной Европы и Балтии в 1990–2002 годах, % от базового года
Источник: International Financial Statistics 2004, IMF.
Таблица 9.3. Динамика ВВП на душу населения по ППС в странах СНГ в 1990–2002 годах, % от базового года
Источник: International Financial Statistics 2004, IMF.
Рисунок 9.3. Динамика ВВП на душу населения по ППС в странах Центральной и Восточной Европы и Балтии в 1990–2002 годах
Источник: Рассчитано по: International Financial Statistics, IMF 2004.
Рисунок 9.4. Динамика ВВП на душу населения по ППС в странах СНГ в 1990–2002 годах
Источник: Рассчитано по: International Financial Statistics, IMF 2004.
Если польские реформаторы и заслуживают упрека, то в другом. В Польше недооценили роль традиций и норм поведения при создании растущего рыночного сектора, продолжительность времени, уходящего на их становление. Слишком завышены были ожидания, связанные с приватизацией, занижены сроки появления в крупной промышленности эффективных частных собственников, излишне упрощены представления о связи финансовой и денежной стабилизации с началом экономического роста[945].
Сейчас, когда мы лучше, чем в начале 1990‑х годов, представляем себе масштабы задач, связанных с формированием механизма устойчивого роста после краха социализма, нелегко понять, почему экономико-политическая полемика была в столь высокой степени сосредоточена на вопросах финансово-денежной политики и торможения инфляции. Очевидно, что инфляция лишь один из многих источников неопределенности в условиях постсоциализма, и само по себе ее подавление не гарантирует, что вслед за рецессией начнется экономический рост.
Внимание реформаторов было сконцентрировано именно на этом элементе экономической политики по нескольким причинам.
Первая. Высокая инфляция, даже угроза гиперинфляции, была очевидной, она подрывала эффективность создаваемых рыночных механизмов. Ликвидация дефицита и остановка инфляции в глазах общества были критериями, по которым можно было оценить результативность избранного курса. Вторая. В отличие от более сложной, не имеющей простых рецептов решения проблемы постсоциалистического перехода высокая инфляция – хорошо изученная, даже тривиальная экономическая болезнь, поддающаяся стандартному лечению. Единственная и, как выяснилось впоследствии, правильная гипотеза, которую следовало принять, заключается в том, что и в постсоциалистических условиях инфляция – это прежде всего денежный феномен и с ней можно справиться денежными методами. Третья. Наиболее развитые рыночные демократии оказались не способны выработать нестандартные политико-экономические меры наподобие “Плана Маршалла” после Второй мировой войны, чтобы помочь выбирающимся из социализма странам; они переложили ответственность за этот процесс на Международный валютный фонд. Для МВФ задача финансовой и денежной стабилизации, в отличие от постсоциалистического перехода в целом, была стандартной и хорошо освоенной[946].
Эти причины побудили польских (а по их примеру и российских) реформаторов с самого начала сосредоточиться на задаче обуздания инфляции. Ее оперативное решение и определило траекторию эффективного постсоциалистического перехода, хотя действующие здесь микроэкономические механизмы оказались несколько иными, чем это представлялось в начале 1990‑х годов.
В условиях постсоциалистического перехода последовательная ориентация реформаторских правительств на подавление инфляции, ужесточение бюджетной и денежной политики повлекли за собой не только стабилизацию национальной валюты, но и, что не менее важно, жесткие бюджетные ограничения на уровне предприятий. А это важнейшая предпосылка формирования эффективного, рыночно ориентированного сектора национальной экономики.
Характерная черта поздних социалистических экономик – существование денежного навеса, превышение объема денежной массы над предъявляемым экономическими агентами спросом на деньги. Этот навес проявляется в форме товарного дефицита.
Когда цены фиксированы, у государства есть широкие возможности наращивать денежную массу, не соизмеряя денежное предложение со спросом на деньги. Избыточное денежное предложение, порождаемое финансированием бюджетного дефицита или кредитованием предприятий государственного сектора, не реализуясь в повышении цен, накапливается в виде вынужденных сбережений, в неудовлетворенном спросе на товары и услуги.
Экономика подавленной инфляции устойчиво функционирует, когда государство определяет объем и структуру производства и распределения на основе адресных заданий, за невыполнение которых руководители хозяйственных звеньев подвергаются жестким санкциям. Крах иерархической экономики, связанной с авторитарным политическим режимом, вызывает необходимость оперативно подключать рыночные механизмы координации, а либерализация цен и хозяйственных связей изменяет условия, в которых проводится денежная политика. Теперь избыточное денежное предложение вызывает не усиление дефицита, а ускорение роста цен. При социализме потребитель не мог выбирать между сбережением и покупкой, пусть и по высокой цене: товары отсутствовали, а сбережения были вынужденными. После либерализации цен такой выбор становится актуальным, поскольку выявляет реальный спрос на деньги. Его определяют предшествующая денежная история, уровень доверия к национальной валюте и стабилизационным усилиям правительства.
Два крупных макроэкономических процесса, с которыми сталкиваются постсоциалистические страны, – это падение производства (см. выше) и сокращение реальной денежной массы. Причем они более масштабны, чем ожидали начинавшие реформы правительства. С этим связано появление в экономико-политических дискуссиях, развернувшихся сразу после начала реформ, построений, объясняющих падение производства сжатием кредита и денежной массы. Отсюда практические выводы: для стабилизации производства необходимо увеличить масштабы денежного предложения[947].
Там, где правительства оказывались устойчивыми к подобным идеям, а денежная политика – жесткой, порожденная ликвидацией денежного навеса инфляционная волна быстро сходила на нет, темпы инфляции падали, спрос на национальные деньги и денежная масса начинали расти[948] (табл. 9.4).
Если происходит ослабление денежной политики, а правительство пытается поддержать производство, наращивая денежную массу, то процесс дезинфляции оказывается растянутым (табл. 9.5, 9.6).
Таблица 9.4. Денежная масса как процент ВВП в Польше, Чехии, Словакии и Венгрии с 1992 по 2002 год[949]
Примечание. Денежная масса М2 включает массу М1 (наличные деньги, трансакционные депозиты, дорожные чеки), а также сберегательные счета, депозитные счета денежного рынка, срочные депозиты мелких размеров, взаимные фонды денежного рынка. В М3 помимо М2 также включаются срочные депозиты крупных размеров, срочные займы в евродолларах и счета взаимных фондов, принадлежащие институтам.
Источник: Transition Report 2000. London: EBRD, 2000; Transition Report 2003. London: EBRD, 2003.
Таблица 9.5. Денежная масса как процент ВВП в России, Казахстане и на Украине с 1992 по 2002 год[950]
Источник: Transition Report 2000. London: EBRD; Transition Report. 2003, London: EBRD; Госкомстат России, ЦБР.
Таблица 9.6. Изменение индекса потребительских цен в России, Казахстане и на Украине в 1992–2003 годах, в среднем за год, %
Источник: International Financial Statistics, IMF 2004.
Ключевая роль структурных изменений, формирования комплекса производств, способных эффективно конкурировать на рынке, заставляет обратить внимание на их микроэкономические механизмы. Важнейшая причина экономической стагнации и нарастающего кризиса социализма, которая привела его к краху, – отсутствие в социалистической экономике институтов, заставляющих генерировать и внедрять эффективные инновации, перераспределять ресурсы в хозяйственные звенья, способные их эффективно использовать. Одной из стратегических задач постсоциалистического перехода является формирование среды, где подобные стимулы возникнут. В условиях развитой рыночной экономики механизм перераспределения ресурсов между предприятиями, стимулирующий инновации, основан на жестких бюджетных ограничениях[951]. Предприятия, которые не способны эффективно использовать ресурсы, не внедряют рациональные способы производства, оказываются неконкурентоспособными. У них возникают проблемы с ликвидностью, убыточностью, их менеджеры теряют работу, а хозяева – собственность. Именно эффективность и финансовая устойчивость в совокупности с контролем над ресурсными потоками принесли рыночной экономике успех в соревновании с социализмом.
При социализме мягкие бюджетные ограничения и слабая финансовая ответственность предприятий компенсируют ответственность управленцев за выполнение важных для вышестоящих уровней в иерархии власти плановых заданий. После краха социалистической системы мягкие бюджетные ограничения до поры до времени сохраняются. Предприятия попадают в уникальную ситуацию, связанную с ослаблением административной и финансовой ответственности. Они больше не обязаны выполнять задания по объему производства, могут демонстрировать хроническую убыточность и неплатежеспособность. Санкции за все это не налагаются. Мягкость бюджетных ограничений стимулирует то, что А. Крюгер называет как “поведение, ориентированное на максимизацию ренты”. В этой ситуации имеет смысл проводить больше времени в “коридорах власти”, чем на заводе или в офисе, где ведутся переговоры о продаже продукции[952].
Эволюция бывших государственных предприятий в сторону укоренения традиций мягких бюджетных ограничений органична, ее логика определяется сложившимися отношениями предприятия и государства, управленческими навыками, состоянием правовой инфраструктуры.
Исторически беспрецедентный крах социализма с его политическим и экономическим режимами, постсоциалистический переход и порожденные им уникальные в мировой хозяйственной истории проблемы исключали саму возможность априорно, исходя из доступной информации, оценить, сколько будет длиться падение производства и каких масштабов оно достигнет. Оказавшиеся в роли первопроходцев польские реформаторы отдавали себе отчет в том, что структурные изменения, политика, направленная на обеспечение денежной и финансовой стабилизации, могут привести к временному падению объемов выпуска и безработице.
Но масштабы и протяженность экономического спада оказались неожиданными и для них, как и для подавляющего большинства специалистов, занимающихся изучением переходных процессов. Я. Корнаи, один из лучших специалистов по социалистической экономике, впоследствии признал, что он не представлял себе глубину рецессии, которая последовала за крахом социализма и рыночными реформами, и был излишне оптимистичен в оценке перспектив восстановления экономического роста[953].
Отсутствие к тому времени опыта других постсоциалистических стран, представления о том, сколько продлится сокращение производства, породило в 1990–1991 годах первую волну профессиональной и публицистической литературы, в которой наблюдаемая экономическая динамика прямо увязывалась с избранной польскими реформаторами экономической политикой – “шоковой терапией”. Появляется большой спрос на градуалистские объяснения, связывающие масштабы и продолжительность падения производства в Польше с избыточной жесткостью денежной и финансовой политики, на рецепты, предписывающие более мягкие и медленные преобразования[954].
Начавшийся в 1992 году– на третий год после размораживания цен в Польше, начала систематических реформ – экономический рост, а также масштабы падения производства и длительность этого периода во всех восточноевропейских постсоциалистических странах, приступивших к систематическому реформированию своих экономик позже поляков, подорвали в 1992–1994 годах популярность градуалистских объяснений и соответствующих экономико-политических рецептов[955]. А динамичность польского экономического роста к концу 1990‑х годов и вовсе вывела из моды гипотезы, связывающие падение производства с польской “шоковой терапией”[956]. В Польше, первой из постсоциалистических стран, экономический рост возобновился в 1992 году, в Чешской Республике – в 1993 году. В 1995 году ВВП Польши, Чехии, Словакии рос темпами 6–7 % в год. В последнее время сторонники градуализма все больше апеллируют к постепенности самих преобразований в Польше, опираясь при этом на относительно невысокие темпы приватизации крупной промышленности[957]. Но в одном отношении польский опыт задал неявно выраженную, но существенную константу представлений о постсоциалистическом переходе: при адекватной экономической политике 3–4 года – необходимый и достаточный срок, чтобы выбраться из постсоциалистической рецессии и восстановить экономический рост[958]. Развитие событий в постсоциалистических странах Восточной Европы подтвердило справедливость этой константы[959].
Если в начале 1990‑х годов в анализ экономических преобразований закладывалась нулевая или близкая к ней продолжительность постсоциалистической рецессии, то к их середине восстановительный экономический рост после 3–4 годов спада стал важнейшим критерием успеха или неуспеха преобразований. Именно с таким сроком, заданным опытом восточноевропейских государств, сравнивали время, потребовавшееся для начала экономического подъема в разных странах. Отсутствие роста после 3–4 лет трансформационной рецессии в России, на Украине, в Казахстане легло в основу распространенного в 1998–1999 годах представления о радикальном отличии экономического развития в Восточной Европе и Балтии, с одной стороны, и большей части постсоветского пространства – с другой, о разных траекториях, по которым пошли экономики этих стран[960].
К влиянию ключевых экономико-политических поворотов на хозяйственные процессы в ходе постсоциалистической рецессии мы вернемся ниже, здесь же необходимо отметить отсутствие убедительных обоснований для распространенного тезиса о стандартной протяженности постсоциалистической рецессии.
§ 5. Финансовая стабилизация, денежная и бюджетная политика в процессе постсоциалистического перехода
Результаты динамики производства в постсоциалистических странах, характерной для стран “шоковой терапии” (их представляет Польша), и стран, осуществляющих градуалистскую политику (Румыния), хорошо показывает рис. 9.5.
В странах, проводивших политику форсированной дезинфляции, укоренению мягких бюджетных ограничений на уровне предприятий противодействовала жесткость финансовых ограничений для самого государства. Стабилизационная денежная политика ограничивает масштабы допустимого бюджетного дефицита, его эмиссионного финансирования. Выход за эти границы означает признание в том, что избранную стратегию перехода к рыночной экономике реализовать не удается.
Рисунок 9.5. Динамика ВВП на душу населения с учетом ППС в Польше и Румынии с 1990 по 2002 год, % от базового года
Источник: International Financial Statistics 2004, IMF.
Постсоциалистические правительства сталкиваются с переходным фискальным кризисом, бюджетными проблемами, которые порождены эрозией традиционных источников государственных доходов, необходимостью снижения унаследованных от социализма государственных обязательств[961]. В этой ситуации отказ от санкций по отношению к предприятиям-неплательщикам, позволяющий им накапливать налоговую недоимку, несовместим с сохранением адекватной доходной базы государственного бюджета. Реформаторское правительство оказывается перед выбором: либо сохранять линию на жесткие бюджетные ограничения государства, ужесточать бюджетные ограничения для предприятий, либо наращивать бюджетные диспропорции. Последнее ведет к краху стабилизационной политики. Именно под влиянием бюджетных потребностей государство навязывает предприятиям рыночные нормы поведения. Ужесточение финансовых ограничений для государственных предприятий не только меняет приоритеты в их хозяйственной деятельности, но и приводит к перераспределению высвобождаемых ресурсов в быстро формирующийся новый частный сектор. В нем при отсутствии традиционных связей с управленческой иерархией с самого начала укореняются жесткие бюджетные ограничения[962]. Развитие событий показало, что продолжительный высокоинфляционный период приводит к формированию ряда микро-и макроэкономических явлений, которые существенно влияют на дальнейшее развитие национальных экономик, сдерживают экономический рост и воспроизводят финансовую нестабильность. Здесь, как и в странах, проводивших жесткую стабилизационную политику, первыми видимыми результатами постсоциалистических реформ становятся падение объема производства и отношения денежной массы к валовому внутреннему продукту. Однако политическая поддержка стабилизационной политики долго остается слабой, и государственные предприятия отвечают на новые экономические вызовы наращиванием взаимных неплатежей.
Падение выпуска продукции наряду с сокращением реальной денежной массы и взрывным ростом взаимных неплатежей[963] порождает примерно такое представление о цепочке экономических последствий: проводимая из доктринерских, монетаристских соображений избыточно жесткая денежная политика – нехватка денег в экономике – неплатежи предприятий – падение производства[964]. Из подобного построения вытекает стандартный рецепт действий: наращивать денежное предложение – “насытить деньгами экономику” – решить проблему неплатежей за счет денежной эмиссии и взаимозачетов, обеспечив базу для возобновления экономического роста[965]. Обычно все это “упаковывается” в рассуждения о кейнсианской альтернативе и об опыте, накопленном при выходе США из Великой депрессии[966]. Такие экономико-политические шаги поддерживает социально-политическая коалиция, объединяющая руководство и коллективы государственных предприятий, заинтересованных в сохранении мягких бюджетных ограничений и отказе от радикальной реструктуризации, тех, кто работает в отраслях, получающих деньги из бюджета. В результате противоречие между жесткой бюджетной политикой на макроуровне и мягкими бюджетными ограничениями для государственных предприятий разрешается смягчением бюджетной и денежной политики[967].
Подобного рода эксперименты могут повторяться неоднократно. Они затягивают период высокой инфляции и падения производства. Рано или поздно в уставшем от быстрого роста цен обществе, где спрос на национальные деньги низок, а реальные доходы бюджета от эмиссии сокращаются, формируется другая политическая коалиция, которая способна поддержать стабилизацию денежного обращения, уменьшения объема финансирования бюджетного дефицита, темпов роста денежной массы до необходимого для торможения инфляции уровня. То, как массовое распространение процедуры банкротства радикально изменило динамику неплатежей и их долю в ВВП, иллюстрирует табл. 9.7 и рис. 9.6.
Однако и после обеспечения бюджетной и денежной стабилизации, ужесточения бюджетных ограничений на уровне предприятий в постсоциалистических странах, где финансовая стабилизация была отложенной, наблюдаются сходные проблемы, существенно отличающие их от социалистических стран, способных провести быструю дезинфляцию.
1. Длительная высокая инфляция подрывает доверие к национальной валюте, вызывает падение монетизации ВВП и долларизацию (евроизацию) экономики.
2. Формирующиеся в условиях мягкого финансового режима стереотипы экономического поведения – взаимозачеты, недоимки, неплатежи, бартер – приводят к падению доли бюджетных доходов в ВВП до уровня более низкого, чем в странах, прошедших “шоковую терапию”. Соответственно снижение доли государственных расходов в ВВП на стадии финансовой стабилизации оказывается более резким.
3. Высокая инфляция приводит к более глубокому расслоению общества по уровню доходов, усиливает социальное неравенство по сравнению со странами “шоковой терапии”. В сочетании со значительным сокращением бюджетных доходов это предопределяет рост доли бедных в составе населения.
Таблица 9.7. Динамика неплатежей и банкротств в России[968]
Источник: Госкомстат России, Высший Арбитражный Суд РФ.
4. В бывшем государственном секторе формируется своеобразная система стандартов и норм поведения, отличная от традиций классического и рыночного социализма, существенно отличающаяся от той, которая описана в рамках стандартной микроэкономики. Такая система воспроизводится даже при столь масштабных переменах, как приватизация и денежная стабилизация.
У отложенной финансовой стабилизации, которая наступает после нескольких лет высокой инфляции, есть характерные особенности. К моменту, когда государство начинает принимать стабилизационные меры, доверие к национальной валюте уже подорвано, доля денег в ВВП низка. Даже ограниченное эмиссионное финансирование бюджетного дефицита приводит к несовместимому с успешной стабилизацией росту денежной массы. Дорога к более мягкой дезинфляции, с постепенным уменьшением денежного финансирования дефицита, как это происходило в Польше в 1990–1993 годах, оказывается закрытой.
Жесткая денежная политика может совмещаться с мягкой бюджетной политикой лишь короткое время. Продолжительность такого сочетания зависит от способности государства на фоне снизившейся инфляции ликвидировать фискальные дисбалансы – мобилизовать дополнительные доходы, сократить расходные обязательства, запустить механизм экономического роста. Без этого финансирование бюджетного дефицита за счет увеличения государственного долга приводит к повышению расходов на его обслуживание, заставляет рано или поздно возвращаться к эмиссионному финансированию, приводить денежную политику в соответствие с мягкой бюджетной. Для постсоциалистических стран с отложенной стабилизацией риск такого развития событий увеличивается из-за низкой монетизации ВВП, ограничивающей возможность внутреннего финансирования бюджетного дефицита, а также из-за зависимости бюджета от внешних источников покрытия дефицита (иностранных портфельных инвестиций), которые подвержены резким конъюнктурным колебаниям.
Отличительная черта стран, которые сумели провести быструю дезинфляцию и создать основы восстановления экономического роста, – согласие национальной политической элиты в вопросе о выборе стратегического курса развития страны. Сменяющие друг друга правительства ориентировались на скорейшую интеграцию в структуры европейского общества, сближение с Европейским Союзом. По сути дела это было неявным вето на попытки экспериментировать с экономикой популизма. Во время избирательных кампаний звучали и предложения решать хозяйственные проблемы за счет денежной эмиссии и наращивания бюджетных расходов, но на реальную экономическую политику они почти не влияли.
Рисунок 9.6. Динамика неплатежей и банкротств в России[969]
Примечание. Суммарная просроченная задолженность предприятий и организаций включает просроченную кредиторскую задолженность и просроченную задолженность перед банковской системой. В свою очередь кредиторская задолженность складывается из задолженности перед поставщиками, бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами, задолженности по заработной плате и прочими кредиторами. До 1998 года Госкомстат России публиковал статистику неплатежей по 4 отраслям экономики (промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство). Начиная с 1998 года суммарная задолженность в экономике рассчитывается по всем ее отраслям.
Источник: Госкомстат России, расчеты ИЭПП.
В большинстве стран, сформировавшихся из республик бывшего СССР, а также в ряде стран Юго-Восточной Европы такого согласия не было. Здесь выбор курса оставался предметом острой политической борьбы, а финансовая и денежная политика резко колебалась. В части этих стран, например в Румынии и Украине, правительства с самого начала ориентировались на мягкие, постепенные реформы. В других – в России и Болгарии – начавшиеся радикальные преобразования не были обеспечены политически и скоро сменились попытками реализовать мягкую денежную и бюджетную политику[970]. Это привело к высоким темпам инфляции и отложенной стабилизации финансов.
§ 6. Восстановительный рост как этап постсоциалистического перехода
Демонтаж социалистической хозяйственной структуры высветил печальное обстоятельство: значительная часть экономической деятельности, осуществлявшейся при социализме, никогда не будет востребована в условиях рынка и демократии. Перераспределение сконцентрированных в этих видах деятельности ресурсов туда, где есть реальный рыночный спрос, не может произойти мгновенно. Процессы, протекающие на стадии постсоциалистической рецессии, напоминают то, что Й. Шумпетер описывал термином “креативная деструкция”[971], но они протекают в масштабах, беспрецедентных для рыночных экономик. Надо понять, что и постсоциалистическая рецессия (адаптационный спад производства), и последующее восстановление – это единый процесс, сущность которого заключается в структурной перестройке экономики[972].
Экономисты и политики активно обсуждают вопрос о природе экономического роста, который наблюдается в России с 1999 года. На этот счет есть две основные точки зрения. Первая комплиментарна по отношению к правительству: к власти пришел В. Путин, последовала политическая стабилизация, начались структурные реформы, они-то и вызвали рост[973]. Вторая позиция особых заслуг за правительством не признает и связывает рост с высокими ценами на нефть и обесценением рубля[974]. К сожалению, почти никто не высказывает третью – наиболее обоснованную – точку зрения: начавшийся рост является органическим следствием проведенных реформ, результатом действия новых, более эффективных макро и микроэкономических условий, в которых работают российские, и не только российские, компании. Но главное: участники дискуссии, как правило, игнорируют опыт почти трех десятков государств, которые, как и Россия, решают задачу адаптации к условиям развития после краха социализма[975]. Если анализировать развитие событий в нашей стране с учетом происходящего у соседей, нетрудно убедиться, что сегодня экономический рост наблюдается во всех постсоветских странах (табл. 9.8).
Как указывалось, падение производства наблюдалось между 1991 и 1994 годами во всех до единого постсоветских государствах. С 1995 года появляются первые признаки роста, прежде всего в тех странах, которые до этого были втянуты в войны или пребывали в экономической блокаде, там, где предшествующее падение производства было наиболее масштабным. В последующие 2–3 года неустойчивый рост распространяется и на другие части постсоветского пространства[976].
Наконец, в 1999 году он стабилизируется, а еще через год становится повсеместным[977].
Среди постсоветских государств есть нетто-экспортеры и нетто-импортеры нефти и нефтепродуктов, есть страны, где в 1995–2002 годах национальная валюта реально укреплялась, и страны, где она ослабевала (см. табл. 9.9). Ни в одной из них реформы, подобные тем, которые были осуществлены в России в 2000–2003 годах, не начинались. Тем не менее почти все экономики этих стран сегодня относятся к растущим.
Таблица 9.8. Темпы роста ВВП в постсоветских государствах в 1996–2003 годах, %
Источник: 1 , Межгосударственный статистический комитет СНГ, макропоказатели.
2 Расчеты на основе статистики IFS, IMF 2003.
Таблица 9.9. Индекс реального обменного курса национальной валюты[978] к доллару США в постсоветских государствах на конец года, 1995 год = 100 %
Источник: Рассчитано по: International Financial Statistics, IMF 2004.
Если практически во всех постсоветских странах в первой половине 1990‑х годов производство сокращалось, а к концу десятилетия стало расти, есть основание подтвердить высказанную выше мысль: и падение, и сменивший его подъем – составляющие единого процесса, который определяется общими историческими и экономическими закономерностями.
На первых стадиях постсоциалистической трансформации из нерыночного сектора высвобождается больше ресурсов, чем может переварить рынок, их объем превышает реальный платежеспособный спрос. Ко времени, когда ресурсы, которые могут быть задействованы в рыночном секторе, становятся больше высвобождающихся из нерыночного сектора, трансформационная рецессия останавливается, начинается восстановительный рост[979].
Совокупная факторная продуктивность[980] в процессе постсоциалистического перехода начинает расти раньше, чем общий объем производства. В России она повышается с 1995 года. Финансовый кризис 1997–1998 годов приводит лишь к незначительным колебаниям в динамике этого показателя[981]. Восстановительный рост иногда прерывается, в первую очередь под влиянием финансовых и банковских кризисов, но с середины 1990‑х годов в Восточной Европе и странах Балтии, с конца 1990‑х годов в странах СНГ таких случаев становится все меньше.
Понятие “восстановительный рост” ввел в научный обиход российский экономист В. Громан в работах 20‑х годов прошлого века[982]. По его концепции, в процессе восстановительного роста используются ранее созданные производственные мощности, обученная до его начала рабочая сила. Для запуска механизма восстановительного роста необходимо ликвидировать дезорганизацию экономики и восстановить хозяйственные связи. В. Громан подчеркивал: несмотря на разрушения и потери материальных ресурсов, к которым привела Гражданская война, большую роль в падении производства сыграли не эти обстоятельства, а именно дезорганизация хозяйственных связей[983]. Их восстановление дает возможность вновь задействовать производственные мощности, запустить процесс восстановительного роста.
Сравнивая восстановительный рост в 1920‑е годы и сегодняшний, необходимо обратить особое внимание на два обстоятельства: первое – это время, когда исчерпываются ресурсы экстенсивного (восстановительного) роста, и второе – роль финансов в восстанавливающейся экономике и их динамика.
Исчерпание ресурсов восстановительного роста нельзя отождествлять с достижением докризисного уровня производства. В середине 1920‑х годов именно эту ошибку допустили исследователи “восстановительных закономерностей”. У рыночной экономики, какой была российская в 1913 году, всегда есть резервные мощности. Вовлечение их в производство позволяло некоторое время после достижения докризисного уровня сохранять высокие темпы роста. Ошибка дорого стоила В. Базарову и В. Громану: они были обвинены в сознательной антисоветской деятельности, в стремлении остановить “социалистическую реконструкцию”[984].
Иная ситуация складывается в посткоммунистической России. Советский Союз был перегружен производственными мощностями, ориентированными на удовлетворение искусственного спроса, который формировался благодаря централизованному государственному планированию; из-за закрытости национальной экономики поддерживался спрос на продукцию низкого качества. К тому же ее забирали страны-сателлиты в счет предоставляемых СССР – фактически безвозмездных и безвозвратных – кредитов. Часть мощностей, сохранившихся после краха социалистической системы, в принципе не может быть использована в дальнейшем. В этой ситуации выход из режима восстановительного роста должен произойти задолго до достижения уровня ВВП 1989 года.
Важно избежать иллюзии, что докризисные уровни производства и монетизации экономики достигаются в одно и то же время. Практика показала, что логику “восстановительной пропорциональности” к анализу финансовых проблем применять неправомерно.
Во время экстремально высокой инфляции 1917–1923 годов в Советской России резко снизилась монетизация экономики. В. Громан и В. Базаров предполагали, что с началом восстановительных процессов быстро вырастет спрос на деньги и это позволит без угрозы инфляции высокими темпами увеличивать кредитование народного хозяйства. Именно такие соображения были заложены в основу расчетов при разработке контрольных цифр народного хозяйства на 1925–1926 годы[985]. Гипотеза не подтвердилась.
Причина ошибок в прогнозах – сам характер восстановительного роста. Используемые обычно для прогнозирования ВВП методы малопригодны для анализа всплеска экономической активности, обусловленного стабилизацией хозяйственных связей. В 20‑е годы прошлого столетия проявилась характерная черта восстановительного роста – его предельно высокие темпы на начальном этапе, неожиданные и для экспертов, и для политической элиты. Никто из специалистов Госплана не ожидал, что темпы роста в 1923–1924 хозяйственных годах, после денежной реформы и стабилизации денежного обращения, будут столь высокими[986]. Предполагалось, что к 1927 году экономический рост позволит довести национальный доход Советского Союза, причем без масштабных капиталовложений, почти до половины российского национального дохода последнего предвоенного года[987]. Действительность превзошла все ожидания: СССР за это время практически догнал по национальному доходу предвоенную Россию. Хотя статистика тех лет довольно спорна – этот показатель оценивается в пределах от 90 до 110 % ВВП 1913 года, но общая картина от этого не меняется[988].
Нечто подобное наблюдается и в наши дни. В 1999 году российское правительство предполагало, что в ближайшее время ВВП либо слегка вырастет – на 0,2 %, либо даже упадет – на 2,2 %. Международный валютный фонд прогнозировал рост на 1,5 %. Реально ВВП России в 2000 году вырос на 9 %, промышленное производство – на 11 %. В Украине, где в 2001 году реальный рост ВВП составил 9 %, прогноз МВФ составлял 3,5 %[989].
Восстановительный рост с его поначалу высокими темпами приходит неожиданно и воспринимается как подарок. Затем выявляется его менее приятная особенность: по своей природе он носит затухающий характер[990]. Восстановительный рост обеспечен имеющимися производственными мощностями[991] и подготовленной прежде рабочей силой. У любой страны эти ресурсы небесконечны. Поэтому после резкого начального рывка темпы подъема начинают снижаться. Так было в СССР в 20‑е годы прошлого столетия, то же происходило в России в 2001–2002 годах.
Сами высокие темпы восстановительного роста на его ранних стадиях задают ориентиры экономической политики. В 20‑е годы XX в. задача избежать порожденного логикой восстановительных процессов падения считалась важнейшей. Попытки увеличивать капиталовложения, чтобы форсировать экономический подъем, привели в 1925–1926 годах к дестабилизации денежного обращения, росту цен, появлению товарного дефицита. Тогда, несмотря на эти негативные явления, резервы хозяйственного восстановления еще сохранялись. И советское правительство искало выход из сложившейся ситуации в обеспечении баланса денежного обращения, в преодолении инфляционных тенденций[992].
В 1927–1928 годах новая попытка подстегнуть экономический подъем проходит на ином фоне: основные резервы восстановительных процессов исчерпаны, темпы роста падают[993]. Вновь давшие о себе знать финансовые диспропорции – рост цен, обострение товарного дефицита – попытались разрешить не восстановлением сбалансированности финансовой денежной системы, а за счет демонтажа нэпа, изъятия зерна у крестьян, насильственной коллективизации[994].
В 2002–2003 годах в России развернулась дискуссия, насколько правильно поступает российское правительство, ориентируясь на скромный – 4 %-й – рост ВВП и отказываясь от более амбициозных планов. Те, кто знаком с экономической историей России, вспомнят эпизод, когда председатель Совнаркома А. Рыков на заседании Политбюро ВКП (б) в марте 1928 года подал в отставку в ответ на требования других партийных вождей еще больше ускорить индустриализацию страны[995]. Это было непростое решение. Известный советский экономист академик С. Струмилин в то время говорил: “Я предпочитаю стоять за высокие темпы роста, чем сидеть за низкие”[996].
В 2002 году стало очевидным, что ресурсы восстановительного роста в России скоро будут исчерпаны. За 1998–2002 годы численность занятых в российской экономике выросла на 8,9 млн человек – с 58,4 до 67,3 млн. Дефицит квалифицированной рабочей силы привел к быстрому росту реальной заработной платы: за 2000–2002 годы она выросла в 1,7 раза. Подобная тенденция наблюдается и в других странах СНГ (табл. 9.10).
Приведенные данные со всей очевидностью подтверждают, что для восстановительных процессов характерен опережающий по сравнению с производительностью труда рост реальной заработной платы. Это отмечал и В. Громан в своих работах 1920‑х годов[997].
Таблица 9.10. Темпы роста реальной заработной платы в странах СНГ за 1996–2003 годы, %
Источник: Содружество независимых государств в 2003 году: Статистический ежегодник. М.: Межгосударственный статистический комитет СНГ, 2004.
Конъюнктурные опросы, проводимые ИЭПП, показали, что оценки достаточных для удовлетворения ожидаемого спроса производственных мощностей на период 1998–2001 годов изменились. Нехватка оборудования и квалифицированных кадров все чаще становилась серьезной преградой для подъема производства. Падение темпов роста, после того как они достигают пиковых значений и в хозяйственный оборот вовлекаются наиболее доступные ресурсы, порождает экономико-политические дебаты о причинах замедления роста и о путях повышения его темпов. Поскольку источники восстановительного роста исчерпаны, встает новая проблема: как обеспечить экономическое развитие за пределами восстановительного периода, ориентируясь уже не на вовлечение старых производственных мощностей, а на создание новых, на обновление основных фондов[998], привлечение новой квалифицированной рабочей силы. И все это возможно только при эффективном действии рыночных, экономических стимулов.
Решить эту проблему можно, лишь укрепляя гарантии прав собственности, углубляя структурные реформы. В 2000–2001 годах российское правительство стало проводить в жизнь комплекс таких реформ. По некоторым направлениям было сделано много полезного. Однако такие реформы не дают быстрой отдачи, реформы “всего лишь” закладывают основу для долгосрочного экономического роста.
За последние годы в России внесены позитивные изменения в уголовно-процессуальное законодательство. Благодаря этому десятки тысяч людей, которые не осуждены судом, не сидят, как бывало еще недавно, в тюрьмах. В то же время российская судебная система по-прежнему имеет немало изъянов и еще долгие годы будут сохраняться серьезные проблемы, связанные с ее функционированием.
Важны меры, направленные на упорядочение частной собственности на землю. Можно спорить, хорош или плох вступивший в силу Закон “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения”. Однако то, что в России частный земельный оборот упорядочен и закреплен, бесспорно, способствует долгосрочному росту российской экономики. И хотя по сути дела Закон легализовал существующую практику, это позволяет сократить масштабы теневого оборота земли и коррупции, повысить эффективность гарантий прав собственности. То же относится ко многим другим мерам: реформе трудовых отношений, пенсионной реформе. Изменения, которые приносят положительный результат в короткие сроки (например, реформа подоходного налога), – редкое исключение. Мы упоминали, что важный фактор, влияющий на экономическое положение России в начале 2000‑х годов, – высокие цены на нефть. В этих условиях российское правительство несколько лет проводило ответственную финансовую и денежную политику, что достойно уважения. Далеко не так обстояло дело в один из предшествующих периодов аномально высоких нефтяных цен в 70‑е годы: в 1979–1982 годы эти цены в реальном исчислении были заметно выше сегодняшних (см. рис. 9.7, а также табл. 8.24 в гл. 8).
Рисунок 9.7. Динамика мировых цен на нефть марки U. K. Brent
Источник: International Financial Statistics Yearbook, 2003.
Структурные реформы идут медленно и чудес не обещают, цены на нефть остаются высокими. В такой ситуации растет спрос на популярные решения, чувствуется острая потребность в том, что дает немедленную отдачу, сулит “прорыв”. Призывы подстегнуть темпы роста, поиски того, кого необходимо “догнать и перегнать”, сыграли немалую роль в экономической истории России XX в. Можно вспомнить старания Н. Хрущева догнать и перегнать Америку по производству мяса на душу населения. Или совсем недавнее: экономическая катастрофа в СССР на рубеже 1980‑1990‑х годов начиналась с попыток ускорить темпы экономического роста.
У России нет монополии на подобные экспериментальные экономические гонки. Например, экономическая политика правительства С. Альенде в Чили также была ориентирована на ускорение роста за счет отказа от ортодоксальных моделей, снятия финансовых ограничений, накачки экономики деньгами. Именно это привело страну к глубокому политическому и экономическому кризису, из которого потом пришлось выбираться в течение десятилетий. Но на первом этапе, в 1971 году, такая политика действительно позволила форсировать темпы экономического роста. Характерно, что и в Чили попытки макроэкономических манипуляций были предприняты не на фоне длительной стагнации экономики, а после периода экономической экспансии, вслед за которым последовало снижение темпов развития при падении мировых цен на медь – важнейший товар чилийского экспорта[999].
То, что нужно сегодня России, – это научиться устойчиво развиваться в условиях меняющегося постиндустриального мира, не ввязываясь в войны, избегая внутренних смут. Не паниковать из-за краткосрочных колебаний темпов роста, избавиться от стиля, давно характерного для нашей страны, когда за рывком следуют застой и кризис; научиться идти вперед, используя не столько инструменты государственного принуждения, сколько частные стимулы и инициативу. Сделать это труднее, чем на короткий срок подстегнуть темпы экономического роста. Для этого нужна тяжелая последовательная и не приносящая немедленных политических дивидендов работа. Но именно такая политика открывает путь устойчивому экономическому росту.
В 2001–2002 годах явно обозначилось исчерпание ресурсов восстановительного роста. В 2003 году наметился перелом, это проявилось сразу по нескольким параметрам. Рост ВВП в 2003 году составил 7,3 % против 4,2 % в 2002 году. Резко возросла инвестиционная активность – рост капиталовложений составил почти 12 %.
Итак, подведем некоторые итоги сказанному.
1. Кризис, с которым столкнулась советская, а затем российская экономика в 90‑х годах XX в., – результат долгосрочных проблем, порожденных социалистической моделью индустриализации, основы которой были заложены в конце 20‑х – начале 30‑х годов в сочетании с глубокой дезорганизацией государственных финансов, связанной с резким падением цен на топливно-энергетические ресурсы, бывшие основой советского экспорта.
2. Этот кризис охватил все страны, входившие в состав советской империи. Там, где бюджетная и денежная политики, направленные на быструю дезинфляцию, были наиболее последовательными, период высокой инфляции оказался относительно коротким, а спрос на национальные деньги, монетизация ВВП начали быстро восстанавливаться. Там, где обеспечить политическую поддержку такого курса не удалось, период высокой инфляции оказался растянутым. Это приводит к значительному росту социальной и имущественной дифференциации.
3. Падение объемов ВВП после краха социализма происходит во всех индустриально развитых постсоциалистических странах. Оно связано с тем, что на первых этапах трансформационной рецессии объемы ресурсов, высвобождающихся из секторов экономики, продукцию которых невозможно продать на рынке, превышают те объемы, которые способны использовать формирующиеся новые, ориентированные на рыночный спрос сектора и производства. Продолжительность трансформационной рецессии зависит от первоначальных условий (в первую очередь от протяженности социалистического периода) и от проводимой политики (последовательность мер, направленных на финансово-денежную стабилизацию, формирование рыночных институтов).
4. Начинающийся через 3–7 лет после краха социализма экономический рост на первом этапе носит восстановительный характер, обеспечивается сложившейся новой системой рыночных институтов, позволяющей на иных, чем при социализме, основаниях реорганизовывать систему хозяйственных связей, увеличивать объемы производства продукции и услуг, на которые есть платежеспособный спрос. Важнейшей задачей правительств социалистических стран на стадии восстановительного роста является создание предпосылок к переходу от восстановительного роста к инвестиционному, базирующемуся на росте капитальных вложений в экономику, создании новых производственных мощностей.
§ 7. Россия – страна рыночной экономики
Л. Валенса, кажется, первым сравнил постсоциалистический переход с задачей превратить рыбный суп в аквариум. По прошествии 10 лет нельзя не признать, что задача оказалась крайне сложной, но разрешимой. Об этом говорит тот факт, что в разной степени динамичный, но устойчивый экономический рост наблюдается в последние годы на всем постсоциалистическом пространстве.
Формирование рыночной системы хозяйственных связей, перераспределение ресурсов в рыночный сектор, адаптация менеджмента к работе в условиях рынка – важнейшие факторы перехода к стадии постсоциалистического роста. Этот процесс протекал в первой половине 1990‑х годов в Восточной Европе, в конце 1990‑х – в странах СНГ. На его ход накладываются специфика национальной макроэкономической ситуации, динамика цен на экспортную и импортную продукцию, курсовая политика. Эти параметры влияют на национальные траектории развития, но в рамках общего процесса постсоциалистического восстановительного роста.
Дезорганизация хозяйственных связей, крах старых административных каналов координации при отсутствии новых в наибольшей степени сказываются на отраслях, выпускающих технически сложную продукцию. Но после стабилизации рыночных механизмов именно в этих отраслях подъем оказывается наиболее динамичным[1000].
Все это доказывает, что сегодня Россия (как и большинство других постсоциалистических стран) является страной рыночной экономики. Этот факт нашел широкое признание в мире[1001].
Разумеется, по ряду важных параметров характеристики постсоциалистических стран, в том числе России, отличаются от тех, которые присущи тем рыночным экономикам, которые не про шли социалистического эксперимента. В первую очередь это касается демографии (см. ниже, гл. 10). И тем не менее по основным показателям выходящие из социализма страны достаточно близки к рыночным экономикам соответствующего им уровня развития (табл. 9.11).
Таблица 9.11. Отдельные показатели развития России и некоторых стран мира в конце XX в.[1002]
Источник: 1. Maddison A. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OECD, 1995.
2. World Development Indicators 2003, World Bank (cd-rom edition).
3. OECD Statistical Portal (расходы на здравоохранение для всех стран, кроме России).
4. UN Common Database, /.
5. Госкомстат России.
6. Министерство финансов РФ.
7. Mitchell B. R. International Historical Statistics. Europe 1750–1993. London: Macmillan Reference LTD, 1998.
Именно поэтому при обсуждении долгосрочных проблем российского развития мы можем, помня о специфике проблем, связанных с социалистическим экспериментом, опираться на анализ тех проблем, которые выявились на протяжении последнего полувека в странах – лидерах современного экономического роста. Исчерпание ресурсов восстановительного роста теперь, как и в конце 1920‑х годов, делает актуальным обсуждение долгосрочной стратегии социально-экономического развития России, структурных реформ, необходимых для того, чтобы придать экономическому росту долгосрочный устойчивый характер. Доминирующая социально-экономическая проблема современной России – кризис индустриальной системы и формирование социально-экономических основ постиндустриального общества. Этот процесс определяет сущность происходящей сегодня трансформации, основные вызовы, с которыми будет сталкиваться страна на протяжении ближайших десятилетий. Осмысление этой проблемы невозможно без анализа тех ключевых противоречий, которые выявились на протяжении последнего полувека в развитии стран – лидеров современного экономического роста, т. е. без оценки тех проблем, с которыми Россия столкнется на стадии постиндустриального развития. Это тема следующих глав.
Раздел IV Ключевые проблемы постиндустриального мира
Глава 10 Динамика численности населения и международная миграция
Все государства, легко принимающие в подданство иноземцев, способны стать мощными державами.
Френсис Бэкон[1003]Россия не только не имеет довольно жителей, но обладает еще чрезмерным пространством земель, которые не населены, ни же обработаны. Итак, не можно сыскать довольно ободрений к размножению народа в государстве.
Императрица Екатерина II.Наказ, данный комиссии о составлении проекта нового Уложения (1767 г.)Обычно демографы говорят о трех стационарных режимах воспроизводства населения, которые характерны соответственно для обществ кочевников-собирателей, оседлых аграрных, а также урбанизированных индустриальных и постиндустриальных, и о двух переходных демографических процессах[1004] – от кочевых обществ к аграрным и от последних к индустриальным. С этим можно согласиться, если допустить, что второй переходный процесс завершен и характеристики воспроизводства населения, которые присущи сегодня странам – лидерам современного экономического роста, долгосрочно стабильны и не претерпят серьезных изменений в будущем. Однако современный экономический рост продолжается, и потому радикальные изменения устойчивых тенденций весьма вероятны. Следовательно, правильнее говорить о двух стационарных режимах воспроизводства населения и двух демографических переходах, один из которых пока не завершен.
В дооседлых обществах кочевников-собирателей численность населения была ограничена возможностями присваивающего хозяйства. Максимальная плотность населения, которую это хозяйство могло обеспечивать, не превышала одного человека на 1 км2[1005]. Главным фактором, сдерживавшим рост населения, была высокая смертность; среди других – искусственное прерывание беременности, детоубийства, традиции пожизненного вдовства, различные табу в сексуальной сфере[1006]. К началу неолита общая численность населения Земли не превышала 5–10 млн человек[1007].
Неолитическая революция кардинально изменила условия общественной жизни. Теперь сельское хозяйство позволяло прокормить больше людей на той же площади. По существующим оценкам, численность населения Земли с переходом к оседлому земледелию в период неолитической революции возросла примерно в 100 раз по сравнению с периодом присваивающего хозяйства[1008].
Для кочевников – охотников и собирателей ребенок был тяжелой обузой. Оседлые земледельцы привлекают детей к сельскому труду в раннем возрасте, ребенок полезен в хозяйстве. Такие меры регулирования численности населения, как детоубийство, среди земледельцев встречаются реже, чем в обществах, ведущих присваивающее хозяйство. Рост населения ускоряется. Это приводит к масштабной миграции земледельческих народов и скотоводов-кочевников. Зародившись на Ближнем Востоке, оседлое сельское хозяйство распространяется в сторону Европы со скоростью 1 км в год[1009].
Для земледельческих народов верхние пределы численности населения, которое могло прокормиться на ограниченной территории, также задавались уровнем технологий. Дефицит земли – важнейшего производственного ресурса аграрного общества – сдерживал рост населения. Возможности прокормить семью при характерных для аграрных цивилизаций показателях воспроизводства населения определял размер крестьянского хозяйства. Но механизмы контроля численности и плотности населения меняются. Показатели рождаемости колеблются в диапазоне 35–50 рождений на 1000 человек в год. Смертность ниже рождаемости – население увеличивается на 0,5–1 % в год. Однако с повышением плотности населения, по мере введения в оборот менее плодородных земель все чаще наблюдаются вспышки голода[1010]. Времена мира и процветания, например X–XIII вв. в Европе, сопровождаются ростом населения. Ускоряется миграция в районы с менее плодородными землями, где риск неурожаев выше. В периоды голода и эпидемий смертность возрастает, порой превышает 150–300 человек на 1000 человек в год. С учетом периодов резкого повышения смертности темпы мирового демографического роста в эпоху аграрных цивилизаций составляют 0,1–0,2 % в год.
Среди демографов на протяжении десятилетий ведется дискуссия о средней продолжительности жизни в обществах, предшествовавших современному экономическому росту. Из-за ограниченности надежной статистической базы неудивительно, что оценки колеблются в диапазоне 20–35 лет. Но видимой тенденции к изменению средних показателей, которую можно было бы продемонстрировать на базе археологических материалов или свидетельств современников, не обнаружено[1011].
И в Древнем Египте, и в Китае эпохи Хань, и в Европе вплоть до XVII в. средняя продолжительность жизни колебалась в пределах 25–30 лет без явной тенденции к росту. На протяжении периода аграрного общества в Европе обычно средняя продолжительность жизни мужчин, ожидаемая при рождении, колебалась в пределах 30–35 лет, женщин – 25–30 лет. (Надо учесть, разумеется, очень высокую детскую смертность; выжившие фактически жили значительно больше указанных сроков.)
Т. Мальтус был прав, когда писал: “В пользу предположения об увеличении продолжительности человеческой жизни мы не находим ни одного постоянного, достоверного признака с момента сотворения человека до настоящего времени”[1012]. Он только не знал и не мог знать, какие сюрпризы может преподносить начинавшийся на его глазах процесс современного экономического роста, в том числе в отношении средней продолжительности предстоящей жизни.
В аграрных цивилизациях нормы семейного поведения, механизмы регулирования рождаемости никогда не были едиными (табл. 10.1). Имеющиеся данные позволяют однозначно доказать наличие своеобразных, необычных для аграрных цивилизаций характеристик семейной жизни в Северо-Западной Европе[1013]. (Под Северо-Западной Европой в данном случае мы понимаем Скандинавию (включая Исландию, но исключая Финляндию), Британские острова, Нидерланды, немецкоговорящий регион, Северную Францию.) По меньшей мере с XVII в. в этом регионе очевидно преобладание поздних браков[1014]. В это время медиана возраста вступления в брак здесь – 26 лет для мужчин и 23 года для женщин. Обычно после вступления в брак семья создает собственное домашнее хозяйство, не живет с родителями[1015].
Таблица 10.1. Средний возраст женщин, вступивших в первый брак, в отдельных городах прединдустриальной Европы
Источник: Cipolla C. M. Before the Industrial Revolution. Methuen, 1981. P. 154.
В регионах Южной и Восточной Европы среднее время вступления в брак для мужчин – меньше 26 лет, для женщин – меньше 21 года. Часто молодая семья живет в одном доме с родителями, ведя общее домашнее хозяйство[1016].
В отличие от большей части Евразии в Западной Европе рано проявляется тенденция к относительно малодетной семье[1017]. На первый план выходят новые факторы, ограничивающие рост населения: поздние браки, поощрение сохранения статуса вдовы после смерти мужа и безбрачия, занятость женщин вне домашнего хозяйства[1018]. Традиция контроля за рождаемостью возникает, кроме Европы, еще в одном регионе – Японии, где ограниченные контакты с внешним миром, островное расположение сдерживали распространение катастрофических эпидемий[1019]. В результате японское население быстро росло, что порождало стимулы к ограничению рождаемости[1020].
С начала 2‑го тысячелетия в Западной Европе темпы роста душевого ВВП ускоряются по сравнению и с предшествующим периодом, и с остальным миром. Одна из любопытных гипотез связывает это ускорение с контролем рождаемости и расширением возможностей для накопления[1021].
§ 1. Основные тенденции в демографическом поведении с конца XVIII в.
С повышением благосостояния (хотя, по современным стандартам, и медленным), с распространением культуры и новых технологий в Западной Европе уменьшается смертность. В XVII–XVIII вв. снижается риск эпидемий, реже случаются вспышки голода[1022]. Действие едва ли не основного фактора, который на протяжении тысячелетий ограничивал рост населения, начинает ослабевать. Успехи медицины приводят к снижению смертности, росту продолжительности жизни. В Западной Европе до 1850 года более высокий уровень жизни – улучшение питания, качества одежды и жилья – был ключевым фактором повышения ее продолжительности. В 1850‑1900‑е годы ведущую роль в этом процессе стало играть улучшение санитарии. С начала 1900‑х годов вступило в действие сочетание факторов: экономическое развитие, улучшение общественного здравоохранения, развитие медицинских технологий[1023]. Правда, происходит это медленно: Англии, Швеции, Дании потребовалось столетие, чтобы снизить годовую смертность на 10 случаев, приходящихся на 1000 человек.
Рост продолжительности жизни трансформирует весь процесс воспроизводства западноевропейского населения. При этом характерные для аграрного общества традиции репродуктивного поведения сохраняются. Снижение смертности в Европе при сохранении высокой по стандартам индустриальных обществ рождаемости привело к ускоренному росту населения. Его темпы, составлявшие в XVI–XVII вв. в среднем 0,18 % в год, повышаются до 0,4 % в 1700–1820 годах и до 0,7 % в 1820–1870 годах. Доля западноевропейского населения в мире возрастает с 12,8 % в 1820 году до 14,8 % в 1870 году. Высокие темпы увеличения валового внутреннего продукта стран – лидеров современного экономического роста создают и поддерживают экономическую базу такой демографической динамики.
Первой западноевропейской страной, где нормы рождаемости начинают приспосабливаться к изменившемуся уровню смертности, стала Франция: в конце XVIII в. француженки рожают уже значительно меньше, чем другие западноевропейские женщины[1024]. Сокращение рождаемости в других западноевропейских странах начинается лишь в середине – конце XIX в., зато идет быстрее[1025]. В XX в. рождаемость во всех странах – лидерах современного экономического роста, в первую очередь западноевропейских, продолжает снижаться. В стадию ускорения экономического развития вступают крупные неевропейские страны.
На развитие демографического перехода существенно влияют два фактора. В аграрное общество (за пределами Европы и Японии) традиция малой семьи и ограничения рождаемости проникает медленно. Количество детей у одной женщины уменьшалось с более высокого уровня, нежели в Европе. А достижения здравоохранения в XIX–XX вв. распространялись, в том числе и в бедных странах, быстро[1026]. Развитие транспортной инфраструктуры, государственная и благотворительная продовольственная помощь уже на ранних стадиях экономического развития снижают риск массового голода. Отсюда быстрый рост продолжительности жизни и снижение смертности в странах догоняющего развития (табл. 10.2, 10.3.).
Если для XIX в. характерен существенный рост доли населения Европы в мире, то для XX в. – ее сокращение (табл. 10.4). С высокой вероятностью можно прогнозировать, что и в первой половине XXI в. абсолютное сокращение численности коренного населения Западной Европы на фоне быстрого демографического роста в Азии, Африке, Латинской Америке продолжится.
В аграрном обществе женщина, в том числе женщина замужняя, имеющая детей, была вовлечена в производственный процесс в сельском хозяйстве, совмещая это с выполнением домашних обязанностей. Но вся ее производственная деятельность происходила вблизи от дома. Это позволяло сочетать функцию воспитания детей и занятость. В Западной Европе в XV–XIX вв. все более широкое распространение получает занятость женщины в сфере услуг, в первую очередь в роли домашней прислуги, но речь в подавляющем большинстве случаев идет о незамужних девушках или о вдовах[1027].
До середины XX в. занятость имеющих детей женщин вне домашнего хозяйства и тесно связанного с ним крестьянского хозяйства (на заводе, в промышленности, в сфере услуг, в крупном, отделенном от крестьянского хозяйства сельскохозяйственном производстве) – редкость, исключение из правил.
Таблица 10.2. Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении и ее среднегодовой прирост в Азии в XX в.
Источник: Caldwell J. C., Caldwell B. K. Asia’s Demographic Transition // Asian Development Review. 1997. Vol. 15 (1). P. 57.
Таблица 10.3. Смертность в Германии, Франции, Швеции, Китае, Индии, Египте на сопоставимых уровнях развития[1028]
Источник: Maddison A. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OECD, 1995.
Таблица 10.4. Доля Европы, Китая и Индии в мировом населении, %[1029]
Источник: Maddison A. The World Economy: a Millennial Perspective. P.: OECD, 2001. P. 243; World Population Prospects: The 2000 Revision and World Urbanization Prospects: The 2001 Revision. United Nations Population Division ().
Когда теория демографического перехода зарождалась, исследователи полагали, что после его завершения на смену традиционному для аграрных обществ демографическому равновесию – сочетанию высокой рождаемости и высокой смертности – придет новое равновесие: низкая смертность и низкая рождаемость. И это приведет к простому воспроизводству населения или близкому к нему демографическому режиму. Поскольку современный экономический рост еще не завершен, нельзя исключить, что со временем именно это и произойдет повсеместно. Однако реалии стран – лидеров современного экономического роста второй половины XX в. такую гипотезу не подтверждают. Изменения в формах организации семейной жизни в Европе с началом современного экономического роста идут нелинейно. Для XIX в. характерны тенденции к упрочению патриархальной семьи, в которой один мужчина – кормилец, а женщина занята домашним хозяйством и воспитанием детей. Но с течением времени тенденция вовлечения женщин в занятость вне домашнего хозяйства, семьи, где и муж, и жена работают, получает все большее распространение[1030].
На стадии постиндустриального развития происходят радикальные изменения общественной и производственной роли женщины. В начале XX в. большинство женщин в США проводили большую часть жизни дома. Было принято, что девушки работают после окончания школы до вступления в брак. Вдовы иногда были вынуждены работать. Но подавляющее большинство замужних женщин занималось домашними делами. В 1890 году женщины в Америке составляли лишь 16 % занятых, а доля замужних женщин в числе занятых женщин – лишь 14 %[1031]. Увеличение женской занятости во многом связано с массовым распространением открытых для женщин постиндустриальных профессий – в образовании, здравоохранении, науке, сфере услуг[1032]. Доля женщин-служащих (прежде всего в сфере здравоохранения, образования и культуры, а также в государственном и коммунальном управлении) в наиболее развитых странах с начала XX в. увеличилась более чем в 10 раз[1033].
Еще в середине XX в. доминирующую часть рабочей силы составляли семейные мужчины, у которых жены не работали, а детей было двое или больше; доля таких работников в странах-лидерах составляла 70 %. К концу XX в. она упала до 15 %. В середине 1950‑х годов семья, основанная на четком разделении ролей мужа-кормильца и жены-домохозяйки, воспитывающей детей, казалась естественной[1034]. К концу XX – началу XXI в. эти представления по отношению к странам – лидерам современного экономического роста очевидно архаичны. Семья, в которой и муж, и жена работают, стала нормой[1035].
На этой же стадии получают широкое распространение формы семейной жизни, подобные браку, но не оформленные юридически. Все больше людей предпочитают вообще не вступать в брак[1036]. Рост числа женщин, не вступающих в брак, а также числа разводов – важнейший фактор устойчивого снижения рождаемости до уровней более низких, чем уровень простого воспроизводства населения в странах современного экономического роста[1037].
С 1950 по 1998 год в США доля женщин, которые нико гда не вступали в брак, в возрасте 25–29 лет увеличилась втрое – с 13,3 до 38,6 %. В те же годы число мужчин, никогда не вступавших в брак, в этой возрастной категории увеличилось более чем вдвое (с 23,8 до 51 %). В 1950 году половина американок выходила замуж к 20 годам. К 1998 году медиана возраста выхода замуж в США увеличилась до 25 лет[1038].
Параллельно сокращению числа детей, рожденных в браке, на постиндустриальной стадии развития почти во всех странах – лидерах современного экономического роста растет число внебрачных детей[1039] (табл. 10.5). В странах, ныне входящих в Европейский Союз, в 1960 году лишь 5,1 % рождения детей происходило вне брака. К 1993 году эта доля возросла до 21,8 %, а в ряде Скандинавских стран превысила 50 %[1040].
Таблица 10.5. Доля детей, рожденных вне брака, в развитых странах в 1994–1998 годах
Источник: Marriage and the Economy. Theory and Evidence from Advanced Industrial Societies / Grossbard-Shechtman S. A. (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 2003. P. 43.
Данные табл. 10.6 демонстрируют, как эти же процессы развиваются в современной России.
Во второй половине XX в. становятся заметны и другие перемены. Возникает полноценная пенсионная система, которая ликвидирует необходимость в высокой рождаемости как форме страхования по старости. В структуре потребностей возрастает роль свободного времени. Все это приводит к снижению рождаемости в большинстве стран – лидеров современного экономического роста до уровней, не совместимых с простым воспроизводством коренного населения.
Таблица 10.6. Динамика числа внебрачных рождений в России (РСФСР) с 1985 по 2002 год
Источник: Российский статистический ежегодник-2003. М.: Госкомстат России, 2004.
Как видно из табл. 10.7, среди стран-лидеров в настоящее время исключение составляют лишь США с их значительной долей иммигрантского населения. Иммигранты из стран с традиционно высокой рождаемостью, в первую очередь из стран Латинской Америки, сохраняют эту традицию по меньшей мере в первом поколении. Но и в США рождаемость не обеспечивает простого воспроизводства населения. По оценкам специалистов ООН, приведенным в докладе “Перспективы развития мирового населения” (вариант 1998 года), сейчас 61 страна мира, где проживает 44 % мирового населения, имеет уровень рождаемости более низкий, чем тот, который необходим для сохранения нынешней численности населения[1041].
Демографическая политика, направленная на увеличение рождаемости в постиндустриальном обществе, если и дает результаты, то неустойчивые. Можно изменить средний возраст рожающих, но не число рождений на одну женщину. Преодолеть сложившиеся культурные установки и приоритеты административно-финансовыми мерами оказывается трудно. Отсюда прогнозируемое сокращение численности населения во многих странах – лидерах современного экономического роста, не относящихся к иммигрантским (табл. 10.8).
Таблица 10.7. Коэффициент фертильности[1042]
Источник: Replacement Migration: Is it a Solution to Declining and Ageing Population? United Nations, 2000. P. 23.
Таблица 10.8. Прогнозируемое изменение численности населения в некоторых странах – лидерах современного экономического роста в первой половине XXI в.
Источник: Replacement Migration: Is it a Solution to Declining and Ageing Population? United Nations, 2000. P. 6.
Еще одна проблема, порожденная изменением демографической ситуации, – кризис пенсионных систем и систем финансирования здравоохранения, которые сформировались на этапе, предшествующем постиндустриальному обществу, когда в странах – лидерах современного экономического роста доля старших возрастов в составе населения была незначительной. С тех пор ситуация радикально изменилась (см. табл. 10.9, 10.10). Тенденция старения населения, по прогнозам, является устойчивой (см. табл. 10.11).
Апокалипсическая версия динамики численности населения в наиболее развитых странах представлена П. Дракером. “Развитый мир совершает коллективное самоубийство. Его граждане не рождают достаточно детей, чтобы воспроизводить себя, и причина совершенно ясна: более молодые люди больше не способны нести возросшее бремя поддержки старших поколений, тех, кто уже не работает”[1043].
Таблица 10.9. Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни по макрорегионам мира, годы
Источник: Riley J. C. Rising Life Expectancy: A Global History. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. P. 38.
Таблица 10.10. Доля населения старше трудоспособного возраста в странах – лидерах экономического роста, %
Источник: Mitchell B. R. International Historical Statistics 1750–1993. London: Macmillan Reference LTD, 1998; United Nations Population Division ().
При этом в странах догоняющего развития более быстрый по отношению к странам-лидерам рост продолжительности жизни на фоне снижения рождаемости приводит к тому, что старение населения, рост доли тех, кто относится к старшим возрастам, здесь идет еще быстрее, чем в странах-лидерах. Общество, в котором тех, кто старше 60, больше, чем тех, кто младше 14, здесь формируется на уровнях душевого ВВП более низких, чем те, которые характерны для стран, начавших современный экономический рост[1044].
Таблица 10.11. Соотношение населения трудоспособного и пенсионного возрастов[1045] в развитых странах
Источник: Replacement Migration: Is it a Solution to Declining and Ageing Population? United Nations, 2000. P. 7.
Национальные правительства оказываются перед жестким и неприятным выбором: повышать пенсионный возраст, снижать соотношение средней пенсии к средней заработной плате или увеличивать налоги. Причем выбирать придется в условиях демократических государств с растущей долей пожилого населения среди избирателей.
§ 2. Специфика демографических процессов в России
В России, не испытавшей влияния ни католицизма, ни сформировавшегося на его базе и в полемике с ним протестантизма, не были распространены западноевропейские обычаи регулирования семьи. Данные табл. 10.12 о среднем числе мужчин и женщин в трудоспособном возрасте, проживающих в единой семье, полученные на основе реконструкции исторической статистики по отдельным поселениям в Великобритании, Франции, Японии и России, – хорошая иллюстрация специфики российских семейных установлений.
Таблица 10.12. Среднее число мужчин и женщин в трудоспособном возрасте, проживающих в семье, %
Источник: Wall R., Robin J., Laslett P. (eds.) Family Forms in Historic Europe. Cambridge; London; New York; New Rochelle; Melbourne; Sydney: Cambridge University Press, 1983. P. 42.
Здесь широкая семья, объединяющая различные поколения, живущие вместе в одном доме, распространена более широко по сравнению не только с Западной Европой, но и со странами аграрных цивилизаций[1046]. Распространение широкой семьи у других славянских народов, данные о быте которых в доиндустриальную эпоху документированы (в частности, о хорватах), дает основание полагать, что это связано с традицией общеславянских установлений, которые меняются лишь в XX в., с началом современного экономического роста (табл. 10.13).
Таблица 10.13. Среднее количество человек в семье в Венгрии и Хорватии в конце XVIII в. (по данным переписи 1787 года)
Источник: Wall R., Robin J., Laslett P. (eds.). Family Forms in Historic Europe. Cambridge; London: Cambridge University Press, 1983. P. 92.
Первая Всеобщая перепись населения России была проведена 28 января 1897 года. По данным этой переписи, 87 % населения России в качестве основного занятия называет сельское хозяйство. По предшествующим, менее надежным. материалам число тех россиян, кого можно отнести к крестьянам, составляет примерно 90 % вплоть до 10‑х годов XIX в., затем постепенно оно начинает снижаться[1047].
К началу современного экономического роста рождаемость в России существенно выше, чем в Европе. В 1896–1897 годах число рождений на 1 женщину (условное поколение) в России составляло 7,06, а в Швеции веком раньше, в 1796–1800 годах, – 4,41[1048]. В 70‑х годах XIX в. в России приходилось 50 родившихся на 1000 человек населения, а в Швеции конца XVIII в. – 33–35. Для традиционной России были характерны необычные для Европы и высокие даже по стандартам аграрных цивилизаций показатели рождаемости и числа рождений, приходящихся на одну женщину. Этому способствовали принятый ранний возраст вступления в брак, отсутствие традиций регулирования рождаемости, ограниченное распространение безбрачия[1049]. Вместе с тем высокой была и смертность: в те же 1870‑е годы – около 37 смертей на 1000 человек в России, в Швеции второй половины XVIII в. – 25–27 смертей. С конца XIX в. смертность в России начинает снижаться: 1890 год – 36,7, 1900 год – 31,1. К 1897 году средняя продолжительность предстоящей жизни новорожденных в России увеличилась с характерных для традиционной России 25–29 лет до 30,1 года для мужчин и 31,9 года для женщин[1050]. После революции и Гражданской войны снижение смертности продолжается: 1926 год – 19,9. При этом на протяжении десятилетий после начала современного экономического роста рождаемость остается высокой. Число родившихся на 1000 человек составляет в 1900 году 43,3, в 1926-м – 43,6. Для середины 20‑х годов XX в. этот показатель необычайно высок – даже в Индии и Китае в предшествовавший современному экономическому росту период он колеблется в пределах 35–38[1051].
Необычно высокий по европейским стандартам уровень рождаемости в сочетании с постепенным снижением смертности, связанным с улучшением санитарии и качества медицинской помощи, начиная с середины XVIII в. приводит к аномально высоким темпам роста населения России по отношению к остальной Европе. Между 1750 и 1850 годами население Российской империи выросло в 4 раза: с 17–18 млн до 68 млн человек. Это увеличение численности населения было во многом связано с территориальной экспансией. Однако даже при исключении этого фактора темпы роста населения существенно превышают те, которые тогда были характерны для западноевропейских стран. С 1850 года, когда большая часть территориальной экспансии империи была позади, быстрый рост населения продолжается (68 млн в 1850 году, 124 млн в 1897 году)[1052].
Темпы роста российского населения в конце XIX в. – 1,2 % в год – были высокими по любым стандартам. Лишь страны, в массовых масштабах привлекавшие эмигрантов, такие как США, в это время имели более динамичный рост населения.
Таблица 10.14. Доля женщин среди экономически активного населения, %[1053]
Источник: 1 Рассчитано по: Mitchell B. R. International Historical Statistics 1750–1993. London: Macmillan Reference LTD, 1998.
2 Рассчитано по: United Nations Common Database (/).
В середине 20‑х годов XX в. Россия следует по траектории демографического перехода, характерного для стран-лидеров, но с одним отличием: традиции и обычаи репродуктивного поведения создают предпосылки для аномально высоких темпов роста населения на первой стадии демографического перехода. С конца 1920‑х – начала 1930‑х годов ситуация радикально меняется. Из табл. 10.14 следует, что социалистическая индустриализация предполагала необычно раннее с точки зрения уровня экономического развития вовлечения женщин в занятость вне домашнего хозяйства[1054]. Уже в 1950 году доля женщин среди общего числа занятых в России была близка к показателям развитого постиндустриального общества Франции и Германии 2000 года. Вовлечение женщин в занятость влечет параллельный процесс – сокращение во второй половине прошлого века числа родившихся на 1 женщину.
Статистика рождаемости искажается под влиянием демографических волн, порожденных мировыми войнами. Данные С. Захарова о числе рождений в России на одну женщину в реальных и условных возрастных когортах приведены в табл. 10.15 и представлены на рис. 10.1. Они демонстрируют очевидную связь траектории демографического перехода с социалистической моделью индустриализации.
Двойное представление итоговой рождаемости в реальных и условных поколениях дает возможность проследить как общую траекторию снижения уровня рождаемости, так и отклонения от ведущей тенденции, вызванные привходящими, временно действующими факторами. Среди последних выделяются социальные потрясения (мировые и гражданские войны, голод), а также попытки государственного воздействия на демографическое поведение людей (меры семейной политики 1980‑х годов).
На демографических процессах во Франции конца XVIII – начала XIX в. серьезно сказалась революционная ломка традиционных устоев. Число рождений на одну женщину здесь резко сократилось несколькими поколениями раньше, чем в других странах Западной Европы. Революционные потрясения в России также оказали влияние на репродуктивное поведение.
Таблица 10.15. Рождаемость реальных и условных поколений в России[1056]
Таблица 10.15. Рождаемость реальных и условных поколений в России (окончание)
Источник: Андреев Е. М., Дарский Л. Е., Харькова Т. Л. Демографическая история России: 1927–1959. М., 1998. С. 166; а также неопубликованные расчеты авторов, любезно предоставленные Е. М. Андреевым.
В качестве примера революционных новаций, воздействующих на демографические процессы, можно назвать легализацию искусственного прерывания беременности[1055]. Совместным постановлением наркоматов здравоохранения и юстиции от 28 сентября 1920 года в СССР впервые в мире было разрешено искусственное прерывание беременности без медицинских показаний. Оно быстро стало обыденной практикой. В Ленинграде с 1924 по 1928 год число абортов на 1000 человек возросло с 5,5 до 31,5[1057]. Предпринимавшиеся впоследствии попытки запрета привели лишь к криминализации абортов. И сегодня по их числу на 1000 человек Россия радикально отличается от большинства развитых стран мира (табл. 10.16).
Рисунок 10.1. Динамика рождаемости в России
Источник: Захаров С. В. Рождаемость в России: первый и второй демографический переход // Демографическая модернизация, частная жизнь и идентичность в России: Тезисы докладов научной конференции. М.: ЦДЭЧ РАН, 2002. С. 19–26; материалы, предоставленные С. В. Захаровым.
Еще один фактор, который обусловил снижение доли России в общей численности мирового населения, также связан с социалистической моделью индустриализации. До середины 1960‑х – начала 1970‑х годов XX в. показатели продолжительности жизни в России и в странах – лидерах современного экономического роста постепенно сближались (табл. 10.17). Затем сближение прекращается[1058].
Таблица 10.16. Число легальных абортов на 1000 человек[1059]
Источник: United Nations Common Database (/).
Таблица 10.17. Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни на момент рождения, годы
Источник: United Nations Population Division, .
Стагнация продолжительности жизни в России на фоне нарастающего отставания по этому показателю от лидеров на протяжении десятилетий – необычный в мировой истории последнего века демографический факт[1060].
Здесь со всей очевидностью сыграли роль два фактора. Первый: демографы давно выявили связь питания матери во время беременности и ребенка в первые годы его жизни со средним ростом людей нового поколения и продолжительностью предстоящей им жизни. Применительно к возрастным когортам, родившимся между концом 1920‑х и началом 1950‑х годов, эти показатели хуже, чем у предшествующих и последующих поколений. Риск умереть в 30–40‑летнем возрасте у мужчины, родившегося в середине 1920‑х годов, когда подавляющая часть рождений приходилась на семьи свободных крестьян, был примерно вдвое ниже, чем у родившегося в конце 1940‑х – начале 1950‑х. Объяснение очевидно: коллективизация, голод, война. Лишь с середины 50‑х годов показатели среднего роста людей и продолжительность их жизни существенно улучшаются[1061].
Таблица 10.18. Потребление алкоголя (в переводе на чистый спирт) на 1 человека 1962–2002 годах, л
Источник: World Drink Trends 2004.
Второй фактор – специфика потребления алкоголя в России. Проблема эта не нова[1062]. Но данные табл. 10.18 свидетельствуют, что по его абсолютному потреблению на душу населения Россия отстает от Германии и Франции.
Специфика заключается не в потребляемом количестве, а в особенностях потребления. Для российской традиции потребления алкоголя характерны предпочтение крепких напитков, неумеренность, широкое распространение пьянства на рабочем месте. Впрочем, это вряд ли можно отнести к нашим национальным особенностям. Исследования по истории алкогольного поведения немцев свидетельствуют о сходстве проблем, с которыми сталкивались Германия во второй половине XIX в. и Россия в XX в.[1063].
В странах Северо-Западной Европы потребление алкоголя считалось совместимым с сельскими работами. Это был способ согреться, получить дополнительные калории, социально адаптироваться. В середине XIX в. немецкий крестьянин, попадая из деревни в город и устраиваясь на завод, продолжал придерживаться сельской традиции. Непременное подношение поступающим на работу учеником бутылки водки коллективу, неприятие и общественное осуждение работника, который не участвует в коллективных выпивках, – хорошо известные реалии немецкой жизни того времени. Право пить на рабочем месте было одним из важных требований немецкого рабочего движения.
Лишь к концу XIX в., когда Германия выходит на уровень развития, достигнутый в Советском Союзе в 30–50‑е годы XX в., ситуация меняется. И работодатели, и профсоюзы начинают бороться с пьянством на рабочем месте. Зарождается новая традиция: посиделки с друзьями и коллегами в пивной за пределами предприятия.
В Америке середины XIX в. тоже пили много. Причем доминировали крепкие напитки, их доля в потреблении, по некоторым оценкам, достигала 90 %. В конце XIX в. здесь, как и в Германии, нормы алкогольного потребления начинают изменяться: увеличивается доля слабых алкогольных напитков, неумеренность в питье постепенно уходит в прошлое[1064].
Вред, который наносит пьянство здоровью нации, определяется не среднегодовым потреблением, а традициями пития. Общеизвестны факторы, существенно снижающие отрицательное воздействие алкоголя: потребление напитков с низким его содержанием и одновременный прием пищи. Недаром в Италии или Грузии, где потребление вина, традиционное застолье – черты национальной культуры, продолжительность жизни выше, чем в России или на Украине.
В Армении и Грузии – государствах, оказавшихся втянутыми в межэтнические конфликты, где масштабы падения уровня жизни были высокими даже по стандартам постсоветских государств, но имеющих иные исторические традиции потребления алкоголя, в 1989–2001 годах средняя продолжительность жизни возросла соответственно на 2,1 года и 1,1 года. В России, Белоруссии и Украине за тот же период она снижается соответственно на 5 лет, 4,7 года и 3,9 года[1065].
По потреблению чистого спирта на душу населения Россия отнюдь не выделяется из круга других крупных государств мира. В 2002 году этот показатель в России был существенно ниже, чем в Германии, Франции, Испании, хотя и выше, чем в Голландии и Бельгии. Однако структура потребления алкоголя в России необычна. По потреблению крепких спиртных напитков на душу населения Россия устойчиво стоит на 1‑м месте в кругу государств, данные по которым имеются в международной статистике. По данному показателю в числе 10 государств-лидеров 6 – социалистические или постсоциалистические страны. По потреблению вина и пива Россия находится в нижней группе стран, по которым имеются данные (пиво – 39‑е место из 52 стран, вино – 35‑е место из 52 стран)[1066].
В Советском Союзе на фоне уравниловки и низкой социальной ответственности закрепляются нормы алкогольного поведения, характерные для раннеиндустриальной эпохи. Укоренившая ся традиция выпивать прямо на работе (и до, и после, на улице или в подворотне), связанная в том числе с крайней неразвитостью сферы услуг[1067], объективно вела к нездоровому потреблению алкоголя (предпочтение крепких напитков, выпивка без нормальной закуски). Это стало одной из важнейших причин, почему в России приостановился рост средней продолжительности жизни, а разрыв между средней продолжительностью жизни мужчин и женщин возрос (табл. 10.19).
Данные о продолжительности жизни российских мужчин во второй половине 1980‑х – первой половине 1990‑х годов (табл. 10.20) и динамика потребления алкоголя (рис. 10.2) демонстрируют очевидную связь с антиалкогольной кампанией и ее провалом[1068].
С 1999 года постепенно снижается потребление крепких спиртных напитков в России при росте потребления пива и вина[1069]. Разумеется, краткость периода не дает оснований для долгосрочных оптимистических прогнозов.
Таблица 10.19. Разница в ожидаемой продолжительности предстоящей жизни при рождении мужчин и женщин в 1950–2000 годах в России и мире в целом, годы[1070]
Источник: Population, Gender and Development. A Concise Report. New York: United Nations, 2001; Статистический ежегодник “Содружество независимых государств в 2002 году”. С. 125.
Таблица 10.20. Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни российских мужчин, родившихся в 1950–2000 годах
Источник: United Nations Population Division, World Population Prospects: The 2000 Revision and World Urbanization Prospects: The 2001 Revision ().
Сочетание двух факторов – раннего с точки зрения уровня экономического развития снижения рождаемости, обусловленного массовым вовлечением женщин в производственный процесс, и прекращения роста продолжительности жизни с середины 1960‑х – начала 1970‑х годов – определяет долгосрочную тенденцию снижения численности российского населения при нулевом сальдо миграции.
В этом смысле положение России не уникально. Коренное население подавляющего большинства стран Западной Европы в XXI в. будет сокращаться. В одной из богатейших европейских стран – Швейцарии, по прогнозам, оно сократится за полвека при нулевом сальдо миграции примерно на 1/5. Однако масштаб проблем, которые поставил перед Россией прошедший век, чрезвычайно велик.
Россия вошла в XX в. с высокими шансами увеличить или по меньшей мере сохранить свою долю в населении планеты. В результате социальных катаклизмов русской и мировой истории, страшного социалистического эксперимента эта доля сократилась примерно наполовину[1071].
Рисунок 10.2. Потребление алкоголя (в переводе на чистый спирт) на душу населения в России в 1950–2000 годах, л (по официальным данным ГКС)
Источник: Демоскоп. 2001. № 19–20 (); Большая Советская Энциклопедия. Т. 2. М., 1950. С. 118.
Демографические процессы инерционны. Уже сейчас можно с высокой степенью вероятности прогнозировать численность российской рабочей силы до 2020 года. Долгосрочные тенденции рождаемости и смертности, хотя и подвержены значительным колебаниям, меняются на протяжении десятилетий медленно. Бывают исключения, например быстрое снижение смертности в результате успехов в борьбе с эпидемическими заболеваниями, но рассчитывать на то, что в России за ближайшее десятилетие удастся радикально решить проблему алкоголизма, трудно.
Прогнозы остаются прогнозами. Их точность зависит от принятых гипотез и проверяется временем. Согласно взвешенным, основанным на опыте и здравом смысле, подготовленным авторитетными специалистами демографическим прогнозам, на протяжении предстоящего полувека ожидается существенное снижение численности российского населения. Это иллюстрируют данные табл. 10.21 и 10.22, обобщающие результаты этих исследований.
Приведенные выше данные табл. 10.16, свидетельствующие об устойчивости тенденции снижения числа абортов в России, позволяют надеяться на постепенное повышение рождаемости.
Таблица 10.21. Численность населения России в 2050 году, млн человек
Источник: Вишневский А. Г., Андреев Е. М., Трейвиш А. И. Перспективы развития России: роль демографического фактора: Научные труды ИЭПП № 53Р. М., 2003. С. 6; ().
Данные табл. 10.22 показывают, что даже при оптимистичном сценарии – увеличении рождений на 1 женщину до 2, повышении продолжительности жизни до уровня наиболее развитых стран – население России при нулевом сальдо миграции сократится в первой половине XXI в. более чем на 30 млн человек. При сохранении нынешних показателей воспроизводства российского населения даже с ростом продолжительности жизни до сегодняшнего уровня наиболее развитых стран нас ожидает еще большее снижение численности населения – на 40 млн человек. Диктующие демографическую динамику явления и процессы определяются не краткосрочными проблемами, порожденными социальной дезорганизацией 1990‑х годов, когда после краха социализма только начали формироваться новые экономические и политические институты, а длительными и устойчивыми тенденциями, истоки которых уходят к началу – середине XX в.
Таблица 10.22. Численность населения России в 1950–2000 годах и прогнозные сценарии до 2050 года, млн человек[1072]
Источник: Вишневский А. Г., Андреев Е. М., Трейвиш А. И. Перспективы развития России: роль демографического фактора: Научные труды ИЭПП № 53Р. С. 6, 9, 18; ().
Влияние базовых проблем постсоциалистического наследства на среднюю продолжительность жизни мужчин хорошо видно на примере Белоруссии, где экономические реформы были крайне ограниченны, а динамика этого показателя сходна с российской. Отсутствие существенного падения продолжительности предстоящей жизни при рождении во время постсоциалистического перехода в странах, столкнувшихся с беспрецедентными масштабами социальной дезорганизации и внешними конфликтами, но имеющими иные традиции употребления алкоголя (Армения, Грузия), – наглядное свидетельство того, что динамика этого показателя на протяжении последних десятилетий лишь в ограниченной степени связана с краткосрочными социально-экономическими изменениями (табл. 10.23).
Таблица 10.23. Средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в Грузии, Армении, России, Белоруссии и Украине с 1980 по 2001 год
Источник: Народное хозяйство СССР в 1987 г.: Статистический ежегодник. М.: Финансы и статистика, 1988; World Development Indicators 2003, World Bank; Содружество независимых государств в 2002 году: Статистический ежегодник. М., 2003.
Для России всегда была характерна более низкая плотность населения, чем у ее соседей и большинства других крупных стран.
Демографические потери от войн и прочих потрясений первой половины XX в.[1073], ранний переход к модели малодетной семьи увеличили разрыв по этому показателю между нашей страной и другими крупными государствами. В первой половине XXI в. он будет возрастать (табл. 10.24).
Трудно сказать, в какой мере сокращение численности населения представляет в наши дни угрозу национальной безопасности. Однако нет сомнений, что это резко изменяет возрастную структуру населения, увеличивает соотношение пожилой части общества и его трудоспособной части, коренным образом меняет условия функционирования пенсионной системы и системы здравоохранения.
Таблица 10.24. Средняя плотность населения в России, США, Японии, Великобритании, Франции и Китае, человек на 1 км2[1074]
Источник: World Population Prospects: The 2000 Revision and World Urbanization Prospects: The 2001 Revision, United Nations Population Division (); Maddison A. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OECD, 1995.
Число российских пенсионеров на одного работающего в 2050 году при сохранении контуров действующей пенсионной системы будет в 2–2,5 раза больше, чем сегодня в странах – лидерах современного экономического роста (табл. 10.25).
Таблица 10.25. Соотношение людей пенсионного возраста и работающих в США, Великобритании, Франции, Германии, Японии, России в 2000 году и прогноз для России на 2050 год
Источник: Расчеты на основе данных из OECD Employment Outlook 2002. OECD Labour Force Statistics; Вишневский А. Г., Андреев Е. М., Трейвиш А. И. Перспективы развития России: роль демографического фактора: Научные труды ИЭПП № 53Р ().
§ 3. Социальный и экономический контекст международной миграции
Опыт государств – лидеров современного экономического роста, которые из-за быстрого роста доли старших возрастных групп уже столкнулись с необходимостью перестраивать свои пенсионные системы, показывает, что социальная жесткость таких изменений – увеличение пенсионного возраста, снижение соотношения средней пенсии и средней заработной платы – во многом зависит от того, какое число иммигрантов на этапе постиндустриального развития удалось включить в трудовую деятельность и социально адаптировать[1075]. Данные табл. 10.26, основанные на инерционном прогнозе динамики возрастной структуры населения, показывают размеры иммигрантских потоков, необходимых для сохранения современного соотношения населения в пенсионном и трудовом возрастах.
Таблица 10.26. Численность нетто-иммигрантов, необходимая для поддержания постоянным соотношения численности населения в возрасте 15–65 лет и старше 65 лет, тыс. человек в год (прогноз ООН на период 2000–2050 годов)
Источник: Replacement Migration: Is it a Solution to Declining and Ageing Population? United Nations, 2000. Р. 24.
По прогнозам Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, с 1995 по 2050 год численность коренных жителей европейских стран сократится практически повсеместно. Если исходить из гипотезы сохранения нынешней численности населения, то в Германии, Италии и Голландии иммигранты и их потомки к 2050 году составят от 30 до 39 % населения. В крупных городах этот показатель может достичь 60 %[1076].
На ранних стадиях современного экономического роста эмиграция из стран, которые уже вступили в стадию индустриализации и демографического перехода, стала фактором социальной стабилизации, улучшения ситуации на рынке труда в странах-донорах и ускорения развития стран-реципиентов. Самые большие потоки иммигрантов в это время принимали США. В период пика иммиграции (1860–1920 годы) в страну въехали 30 млн человек. В первой половине XIX в. основная часть притока иммигрантов в США – выходцы из Англии. К середине XIX в. растет доля выходцев из Германии, в 60‑70‑х годах – из Скандинавии, в 80‑х – с юга Европы, в первую очередь из Италии, в 90‑х – из Испании, Польши (табл. 10.27).
Таблица 10.27. Эмиграция из Европы и иммиграция в США в XIX в., тыс. человек
Источник: Mitchell B. R. International Historical Statistics. Europe 1750–1993. London: Macmillan Reference LTD, 1998. P. 129; Idem. International Historical Statistics. The Americas 1750–1993. London: Macmillan Reference LTD, 1998. Р. 93.
Чистый отток за границу (превышение выезда над въездом) российских подданных в 1901–1915 годах составил 2564 тыс. человек. Около 80 % российских эмигрантов осели на Американском континенте[1077].
В 1910–1914 годах доля эмигрантов в США (годовая) в численности населения Европы составила 0,41 %, доля иммигрантов по отношению к численности населения США – 1,04 %[1078]. Массовая международная миграция протекала при минимальном государственном регулировании. До начала XX в. семьи, способные оплатить переезд, имели право свободно въехать в США, Канаду, Австралию. Американские предприниматели нередко финансировали транспортные расходы своих потенциальных работников.
С 80‑х годов XIX в. из-за этнических отличий иммигрантов новой волны и большинства населения принимающих стран ситуация стала меняться. Пока в Америку перебирались люди из Англии, стран Центральной и Северной Европы, иммигранты легко адаптировались к гибкой социальной структуре американского общества. Но уже у выходцев из Южной Европы (Италии) появились серьезные проблемы. С 1880 года правительство США начинает ограничивать иммиграцию по расовым и национальным признакам.
Дальнейшее ужесточение иммиграционного режима в США произошло в 1917 году и было связано со вступлением Америки в Первую мировую войну. Американские власти стали требовать от въезжающих в страну предъявления свидетельства о грамотности и документов из стран эмиграции. Была запрещена иммиграция из Азии. С этого времени ограничение на въезд в США по этническим признакам на десятилетия становится нормой. Подобные изменения происходят и в других принимающих иммигрантов странах.
В период снижения темпов роста мировой экономики (1914–1950 годы), вызванного двумя мировыми войнами, кризисом системы “золотого стандарта”, Великой депрессией, широким распространением протекционистской политики и ограничением мировой торговли, сокращается и международная миграция.
В принимающих странах этому способствовали соображения национальной безопасности, рост безработицы, сокращение спроса на рабочую силу. В некоторых государствах, где проходила ранняя индустриализация, в частности в СССР, сформировались тоталитарные режимы, жестко ограничившие эмиграцию.
В Европе XIX в. массовая миграция развертывается не на самых ранних этапах индустриализации, а с некоторым временным лагом после ее начала. Населению нужно время, чтобы осознать масштабы социальных перемен, которые несет современный экономический рост, принять решение о столь серьезном изменении в своей жизни, как переезд за океан. Должен накопиться опыт соседей и знакомых, которые такое решение приняли. Затем эмиграционная волна стремительно нарастает. В Англии среднегодовое число эмигрантов увеличивается с 22 тыс. человек в 1820–1825 годах до 150 тыс. в 1840–1850 годах и до 244 тыс. в 1850–1859 годах, в Германии – с 15 тыс. в 1830–1839 годах до 110 тыс. в 1850–1860 годах. Для многих эмигрантов важным мотивом для принятия решения о переезде в Америку было нежелание становиться в своей стране промышленным рабочим, стремление сохранить традиционную занятость в сельском хозяйстве. Пики эмиграции как раз приходятся на время, когда темпы роста населения высоки, численность рабочей силы быстро увеличивается, а в сельском хозяйстве еще занята примерно половина работающих (табл. 10.28, 10.29)[1079].
После прохождения пика число эмигрантов снижается. Трудно сказать, в какой степени это обусловлено внутренними причинами (сокращением темпов прироста населения, адаптацией его к условиям городского и индустриального общества), а в какой – внешними факторами и изменением глобальной мировой ситуации после начала Первой мировой войны. После 1914 года меняется и характер миграционных потоков. В период миграционного бума XIX – начала XX в. большинство иммигрантов – молодые мужчины, а миграция носит трудовой характер. В 1914–1950 годах возрастают миграционные потоки, обусловленные войнами и социальными потрясениями, – это миграция беженцев. По окончании Второй мировой войны мировая экономика вступает в длительный период динамичного экономического роста, вновь расширяются и масштабы международной миграции, но ее социальный и экономический контекст теперь качественно иной, чем в период миграционного бума XIX – начала XX в. Главным становится развитие событий на рынке рабочей силы.
Таблица 10.28. Средние масштабы эмиграции по десятилетиям, тыс. человек
Источник: Mitchell B. R. International Historical Statistics. Europe 1750–1993. London: Macmillan Reference LTD, 1998. Р. 130–137.
Таблица 10.29. Пики эмиграции в Европе до Первой мировой войны и показатели структуры занятости и воспроизводства населения в эти периоды[1080]
Источник: Mitchell B. R. International Historical Statistics. Europe 1750–1993. London: Macmillan Reference LTD, 1998.
С повышением уровня жизни и образования растут требования национальной рабочей силы к качеству рабочих мест. Укоренившиеся социальные нормы предполагают перечень профессий и работ, на которые гражданин постиндустриальной страны имеет право не согласиться, даже если получает пособие по безработице. В то же время везде необходим не только высококвалифицированный труд. Работающие родители нуждаются в трудоемких услугах по уходу за детьми[1081]. Экономика невозможна без тех, кто чистит улицы, строит дороги, обслуживает клиентов в отелях и ресторанах. Квалифицированный хирург не сможет работать, если кто-то не вымоет полы в палатах и операционных, не выстирает белье, не накормит больных. Армия, состоящая из одних штабных офицеров, не способна воевать. Чем квалифицированнее национальная рабочая сила, тем больше спрос на тех, кто готов заниматься неквалифицированным трудом. Даже при высоком уровне безработицы в странах – лидерах современного экономического роста в ряде отраслей – на транспорте, в легкой промышленности, металлургии, здравоохранении, гостиничном и ресторанном бизнесе – сохраняется острый дефицит рабочей силы[1082]. При этом в 2000–2010 годах многие высокоразвитые страны – Германия, Япония, Австрия, Испания, Италия, Швеция, Греция – в первый раз на протяжении современной истории сталкиваются с проблемой сокращения численности работающего населения[1083].
Современный экономический рост резко увеличивает разрыв в уровне душевого ВВП между лидерами и странами с более низким уровнем жизни. Для выходцев из последних возможность получить даже низкооплачиваемую и непрестижную по стандартам стран-лидеров работу – радикальное повышение благосостояния. Одним из факторов увеличения объемов иммиграции в конце XX в. стало распространение средств массовой информации в менее развитых странах. Они дают их жителям сведения о высоком уровне жизни в странах – лидерах современного экономического роста, о том, как можно поправить материальное положение, сменив место жительства[1084]. Вот почему растущий спрос на неквалифицированную рабочую силу в развитых государствах сочетается с ее массовым предложением, исходящим от жителей бедных стран. В такой ситуации попытки остановить миграционные процессы административными барьерами малоэффективны.
В период послевоенного экономического подъема Западная Европа остро нуждалась в иностранной рабочей силе, сама стимулировала иммиграцию. Достигнутые здесь в 1950‑1960‑х годах темпы экономического роста были бы невозможны без массового привлечения иностранных рабочих. Правительства западноевропейских стран в это время заключают специальные соглашения, позволяющие привлекать труд из-за рубежа. Германия заключила такие соглашения с Италией (1955–1965 годы), Грецией и Испанией (1964 год), Марокко (1963 год), Португалией и Турцией (1964 год), Тунисом (1965 год), Югославией (1968 год) и Южной Кореей (1962 год). К 1974 году число иностранных рабочих в Западной Европе достигло 11,5 млн человек[1085].
В отличие от традиционно иммигрантских стран (таких как США, Канада, Австралия, как правило, привлекающих переселенцев на постоянное место жительства), Западная Европа в этот период рассматривала иммиграцию как временную меру[1086]. Как показывают многочисленные исследования, к ней так же первоначально относились и сами иммигранты: они выезжали на работу в богатую страну, чтобы накопить денег и повысить собственный статус на родине; как правило, намеревались вернуться домой. Однако опыт второй половины XX в. показал, что это иллюзия. За трудовой миграцией кормильца обычно следует воссоединение семьи и постоянное проживание ее на новом месте[1087].
Когда в 1973 году под влиянием изменившейся экономической конъюнктуры правительство ФРГ прекратило рекрутировать иммигрантов, предполагалось, что приехавшие на работу в Германию турки и югославы вернутся в свои страны. Однако в большинстве своем они остались в Германии. Ее правительство не смогло воспрепятствовать воссоединению семей. То же характерно для других стран Западной Европы[1088]. Франция и Германия в конце 1970‑х – начале 1980‑х годов пытались стимулировать возвращение трудовых иммигрантов на родину, выплачивая им пособия из государственного бюджета. Эта мера тоже оказалась неэффективной[1089].
Осознав, что трудовая миграция носит необратимый характер, западноевропейские страны после ухудшения экономической конъюнктуры в 1973–1975 годах изменили иммиграционную политику. Активное привлечение рабочей силы из-за рубежа сменилось ограничением трудовой миграции. Здесь очевидно внутреннее противоречие. Эти страны по-прежнему не могут обойтись без массового привлечения и использования неквалифицированной рабочей силы – важные объекты транспорта, строительства, сферы услуг остановятся без низкооплачиваемых иностранных рабочих. Но в то же время в Западной Европе растет политическая оппозиция иммиграции. В странах – лидерах современного экономического роста возникают своеобразные политические коалиции, направленные против либеральной иммиграционной политики: союзы эксплуатирующих ксенофобию населения крайне правых и профсоюзных активистов, выступающих против привлечения иностранной рабочей силы, которая конкурирует с местной. Для борющихся за власть политиков одна лишь попытка заикнуться о легальном привлечении новых иммигрантов становится политическим самоубийством.
Безответственным политикам легко объяснить трудности и проблемы своей страны, возложив вину за них на чужаков, иноплеменников, особенно если они легкоузнаваемы[1090]. В традиционно мононациональных странах населению трудно приспособиться к тому, что рядом живут сотни тысяч, миллионы людей с иными языком, культурой, укладом, нормами поведения. Они необходимы на непрестижных рабочих местах, но не нужны как соседи.
Масштабный спрос на иностранную рабочую силу, ее предложение на фоне жестких политических ограничений на легальную трудовую иммиграцию приводят к широкому распространению ее нелегальных форм. Контроль за предложением иностранной рабочей силы с помощью административных рычагов малоэффективен. Взаимная неформальная поддержка внутри эмигрантских этнических сообществ, возможность въехать в европейскую страну в качестве туриста позволяют обойти барьеры на пути иммиграции[1091]. Хотя расходы на иммиграционный контроль в странах Западной Европы в 90‑х годах XX в. возросли в 3–4 раза, видимого влияния на иммиграционные процессы это не оказало[1092]. В США число нелегальных иммигрантов оценивается в пределах от 2 до 15 млн человек, в Европе – между 1,3 и 5 млн человек[1093].
По мере ограничения легальных форм трудовой иммиграции ее важным каналом становится прием беженцев. Конвенция по правам беженцев была принята в 1951 году – к этому подтолкнул печальный опыт Второй мировой войны, когда европейские демократии отказывались принимать тех, кто бежал от фашистских режимов. Определенную роль сыграли и реалии “холодной войны”: прием беженцев из стран социалистического лагеря был одной из форм политического противоборства двух систем. Все это обусловило либеральный характер установленных конвенцией норм[1094]. С середины 1980‑х годов доля иммигрантов, прибывающих в развитые страны в качестве беженцев, растет. Между 1983 и 2001 годами в странах Евросоюза попросили политического убежища 5,7 млн человек[1095]. Международные миграционные организации оценивают число иммигрантов, претендующих на статус беженцев, в 20 млн человек[1096]. Сложившаяся ситуация выглядит иррациональной. По законодательству многих европейских стран иммиграция в рамках, регламентированных Конвенцией по правам беженцев, предполагает предоставление набора социальных прав, но без права на работу. В результате прибывающие в страны-реципиенты беженцы вынуждены работать в нелегальном секторе экономики.
Распространение среди иммигрантов теневой занятости ставит их в положение, в котором находились рабочие западноевропейских стран в начале XIX в. Они лишены права голоса и социальных гарантий. Отсюда отчуждение от общества, которое пустило их в страну, но не сделало соотечественниками. Поскольку нелегальный характер иммиграции заставляет приезжих полагаться прежде всего на этническую солидарность, они легко вовлекаются в полулегальную и нелегальную экономическую деятельность[1097]. А это подстегивает антииммигрантские настроения среди коренного населения, служит расхожим аргументом для обвинений в связях иммиграции с преступностью. Отсюда возрастающая агрессия части местных жителей против чужаков, популярность ультраправых партий, играющих на антииммигрантских настроениях.
Странам классической иммиграции приспособиться к условиям постиндустриального развития было легче. Открытость общества для иммигрантов, возможность их интеграции в социальную структуру – часть господствующей в этих странах идеологии. Однако и здесь во второй половине XX в. стало проявляться то же противоречие – между потребностью страны в приезжей рабочей силе и политическим давлением, направленным на ограничение иммиграции. В США в последние десятилетия XX в. выросла доля легальных иммигрантов, въехавших сюда в порядке воссоединения семей и в качестве беженцев. В 1990‑х годах легальная трудовая иммиграция составляла здесь лишь десятую часть въехавших в страну для постоянного проживания на других, но вполне законных основаниях. В этих условиях распространение нелегальной иммиграции неизбежно.
Несмотря на все усилия служб иммиграционного контроля, ежегодное количество нелегально въезжающих в США достигает сейчас около полумиллиона человек. Примерно столько же нелегалов въезжает за год и в Западную Европу[1098]. Массовый спрос на неквалифицированную рабочую силу делает борьбу с этим явлением малоэффективной. Характерен случай, когда власти штата Джорджия запретили иммиграционной службе применять санкции к сельскохозяйственным предприятиям, использующим труд нелегалов[1099].
В 1986 году Конгресс США принял Акт об амнистии иммигрантов. На этом основании более 3 млн человек смогли легализовать свое пребывание в стране. В начале XXI в. вопрос о легализации незаконных иммигрантов вновь оказался в повестке дня. В 2001 году президенты Мексики и США В. Фокс и Дж. Буш-младший создали совместную рабочую группу, призванную подготовить решение об урегулировании статуса нелегальных мексиканских рабочих в США[1100].
Иммиграционная политика Канады тоже не избежала шараханий и определенных противоречий, хотя ее отличала большая последовательность, вызванная необходимостью выдерживать конкуренцию с южным соседом. Впрочем, значительная часть иммигрантов использовала Канаду в качестве промежуточного пристанища на пути к конечной цели – США.
Начиная с XIX в. канадская иммиграционная политика была подчинена задачам развития национальной экономики. В 80‑х годах XIX в. правительство привлекает рабочих для участия в строительстве трансконтинентальной железной дороги. В начале XX в. Канада приглашает фермеров для расселения на западе страны. После окончания Второй мировой войны основное внимание переключается на привлечение специалистов для современных секторов канадской экономики.
Иммиграционным актом 1976 года в Канаде была введена балльная система отбора иммигрантов по 9 критериям, первый из которых – владение английским или французским языком. В 1994 году иммигранты по воссоединению семей составили 51 % прибывших, а отобранные по девяти критериям – 43 %. К 2000 году усилиями властей удалось повысить качество иммигрантов – долю отбираемых по балльной системе – до 53 % вновь прибывших[1101]. В 1991 году власти Канады прокламировали: в течение следующих 30 лет необходимо предпринять все возможные усилия, чтобы использовать иммиграционную политику для смягчения возрастного дисбаланса населения Канады[1102].
Традиции XVIII–XIX вв., когда крупные и слабозаселенные страны в массовых масштабах привлекали иммигрантов для освоения необжитых регионов, ушли в прошлое. В настоящее время лишь США, Канада, Австралия, Новая Зеландия продолжают эту политику. Однако в XXI в. сочетание размеров слабоосвоенной территории и долгосрочной динамики численности коренного населения ставит в этом отношении Россию в уникальное положение. В стране, где демографические процессы XX в. задали на ближайшее десятилетие тенденцию к сокращению численности населения, иммиграционная политика – важнейший фактор, который определяет ситуацию на рынке труда, устойчивость пенсионной системы.
§ 4. Перспективы миграционной политики современной России
При наиболее благоприятном сценарии[1103], чтобы сохранить численность населения на нынешнем уровне, страна должна ежегодно принимать 700 тыс. иммигрантов[1104]. Мировая история знает более масштабные миграции. Достаточно сказать, что в наши дни в США ежегодно въезжают около 1,5 млн легальных и нелегальных иммигрантов. Однако по российским меркам принимать сотни тысяч человек в год – задача амбициозная.
После распада СССР в Россию устремилось значительное количество иммигрантов из республик, прежде входивших в состав Союза. Это происходило на фоне сокращающейся эмиграции из нашей страны (табл. 10.30). Поток иммиграции в Россию достиг максимума в 1994 году, затем начал сокращаться.
Приведенные в табл. 10.30 данные показывают лишь масштабы легального въезда в страну. Есть множество свидетельств о существовании значительной нелегальной иммиграции, в первую очередь связанной с нехваткой в стране рабочей силы по дефицитным профессиям. Согласно статистическим данным, сегодня в России официально работают 400 тыс. трудовых иммигрантов, а по мнению российских официальных лиц, – от 1,5 до 15 млн. Наиболее достоверные оценки объема нелегальной иммиграции в России: 4–4,2 млн человек[1105].
Большинство нелегальных иммигрантов – выходцы из стран СНГ. Как правило, они прибывают в Россию легально: транзитом, в качестве туристов, по временным трудовым контрактам. Однако сложности, с которыми они сталкиваются, стремясь получить постоянное разрешение на работу и жительство, вынуждают их рано или поздно переходить на нелегальное положение.
Таблица 10.30. Сальдо миграции[1106] в России в 1985–2002 годах
Источник: Демографический ежегодник РФ. 1993. М.: Госкомстат России, 1994; Российский статистический ежегодник. 2001. М.: Госкомстат России, 2002; Социально-экономическое положение России, январь – октябрь 2001 года. М., 2001; Демоскоп № 145–146 (/).
Как и везде в мире, в России нелегальный характер иммиграции обостряет проблемы, связанные с использованием иностранной рабочей силы. Нелегальные иммигранты заняты в теневом секторе экономики, не приносящем государству налоговых поступлений. Коррумпированные представители власти вымогают у них деньги. Трудовые, социальные права нелегальных иммигрантов не обеспечены. Члены их семей не имеют гарантий получения образования и медицинской помощи. Для защиты своих интересов они, как и иммигранты в Западной Европе, полагаются на этническую солидарность. Это провоцирует формирование преступных группировок по национальному признаку. Вовлечение иммигрантов в противозаконную деятельность, в свою очередь, дает неразборчивым в средствах политикам возможность играть на ксенофобии части населения. Рост численности иммигрантов в составе российского населения – процесс долгосрочный, остановить его невозможно. Попытки ужесточить меры против нелегальных иммигрантов приведут лишь к обострению проблем.
Формируя российскую иммиграционную политику, необходимо учитывать, что Россия – страна с низкой плотностью населения, в которой очевидны долгосрочные тенденции к сокращению рабочей силы и старению населения. Значительный приток легальных иммигрантов позволит ускорить экономический рост, увеличить поступающие в распоряжение государства финансовые ресурсы, повысить устойчивость пенсионной системы. При своей территории и ресурсной базе Россия в XXI в. могла бы сыграть роль мирового лидера в приеме иммигрантов, ту самую роль, которую в XIX–XX вв. играли США. При этом надо понимать, что Россия, будучи по составу населения страной полиэтнической, не обладает историческим опытом массового приема иммигрантов. Масштабная иммиграция, социальная и культурная адаптация к ней станут для нее новым нестандартным вызовом. От того, в какой мере российской власти и российскому обществу удастся выработать эффективную иммиграционную политику, во многом зависит социально-экономическое развитие страны в XXI в.
Опыт постиндустриальных стран, в том числе и негативный, показывает, что предпосылкой успеха в создании широких легальных рамок иммиграции, формировании государственной политики ее регулирования и социальной адаптации иммигрантов является культурная открытость общества, позволяющая приезжим и их потомкам самоидентифицироваться со страной проживания, со временем стать ее полноправными гражданами. Нынешняя иммиграционная политика России, направленная на всемерное ограничение легальной трудовой миграции и борьбу с ее нелегальными формами, бесперспективна.
Уже сейчас в России немало рабочих мест, на которые трудно или невозможно привлечь собственную рабочую силу. Происходящее на московском рынке труда, особенно в строительном комплексе и на общественном транспорте, – наглядное тому свидетельство. Опыт самого экономически развитого города России наглядно демонстрирует ситуацию, которая со временем будет складываться во все большем числе крупных российских городов. Если на протяжении следующих десятилетий удастся реализовать удовлетворительный сценарий развития российской экономики, т. е. не увеличить, а, возможно, сократить традиционное для России на протяжении последних полутора веков отставание от крупных стран Западной Европы примерно на два поколения, неизбежно возрастет число рабочих мест, для заполнения которых рекрутируемая за рубежом рабочая сила незаменима.
Как показали многочисленные исследования, один из важнейших параметров, влияющих на соотношение среднего заработка иммигрантов с общим по стране, – знание языка страны пребывания[1107]. С этой точки зрения Россия по сравнению с другими большими государствами обладает важным преимуществом: ее окружают страны, население которых живет беднее российских граждан; прежде эти страны входили в состав единого государства – Российской империи, Советского Союза; в них живут миллионы этнических русских и десятки миллионов людей, знающих русский язык, интегрированных в русскую культуру.
Показатели уровня образования официальных иммигрантов в Россию в 1990‑х годах превышают средние показатели, характерные для занятых в российской экономике. 17,8 % прибывших из ближнего зарубежья имели высшее образование. В числе занятых в экономике страны таких было 12,3 %. В большинстве своем иммигранты в Россию были русскими и жителями крупных городов[1108]. Из 25,3 млн этнических русских, граждан бывшего СССР, оказавшихся в 1989 году за пределами России, за последние 10–15 лет в нашу страну переехали 3,3 млн человек. Более 20 млн остались за ее пределами. При формировании целенаправленной миграционной политики потенциал иммиграции в Россию только русских из государств СНГ оценивается в 3–3,5 млн человек. Совокупный же потенциал миграции в Россию из стран СНГ составляет 7–8 млн человек[1109].
Это не удовлетворит потребностей России в дополнительной рабочей силе на длительный срок. Со временем придется вырабатывать политику привлечения трудовых иммигрантов из государств за пределами СНГ. Но на ближайшее десятилетие приоритет стран Содружества как важнейшего источника новой рабочей силы для России очевиден.
Открытие каналов легальной трудовой иммиграции, позволяющей вновь приехавшим законно жить и работать в России, пользоваться социальными благами, включая право на образование, здравоохранение, право по прошествии нескольких лет получить российское гражданство, создаст реальную альтернативу нелегальной иммиграции, работе в теневом секторе российской экономики и одновременно позволит регулировать региональное распределение привлеченных из-за рубежа трудовых ресурсов.
Формирование контуров активной иммиграционной политики исключительно важно для перспектив развития России. Однако еще важнее осознание российской элитой и российским обществом потребностей будущего российского государства.
Отождествление государства и этноса – новое историческое явление. Европейские государства вплоть до XVIII в. были сообществами подданных своего монарха. Этнический состав этого сообщества имел второстепенное значение. Лишь с крахом средневековых монархий власть начинает испытывать потребность в новой легитимизации. Ответом на этот вызов времени становится идея национального государства, связь между гражданством и принадлежностью к тому или иному этносу. Характерный пример – Германия, которая в XIX в. трансформируется из исторических княжеств в страну немцев. В это время обостряются проблемы этнических меньшинств. С серьезными проблемами легитимизации сталкиваются традиционные многонациональные империи, такие как Австро-Венгрия. Иначе развиваются события в иммиграционных странах. Здесь с самого начала гражданство отделяется от этнической принадлежности. США формируются как государство не иммигрантов-англосаксов, а американских граждан. Отсюда и разная острота проблем, с которыми приходится сталкиваться традиционно мононациональным странам и странам иммиграционным в век глобальной миграции.
Германии, которая и по Конституции, и по самосознанию общества остается государством немцев, трудно адаптироваться к тому, что все возрастающая часть ее жителей относится к другим этническим группам. Для иммигрантских стран, где гражданство не связано с национальностью, превращение вчерашних иммигрантов из Италии, Польши или Мексики в американских или канадских граждан, отождествляющих свое будущее с Америкой, также не лишено проблем, но они решаются значительно проще, чем во Франции, Германии или Японии.
В политической сфере Россия XIX в. не претерпела трансформации, подобной западноевропейской. Она была и оставалась страной подданных самодержавного российского царя, включавшей множество этносов. Открытость российского общества, способность к интеграции иноэтнических, нерусских элементов были одной из важных черт, которые веками давали империи силы для экспансии, поддерживали ее устойчивость[1110]. Перечень видных представителей российской политической и культурной элиты, которые не могли похвастать русским происхождением, слишком велик, чтобы приводить его здесь. В офицерском корпусе русской армии в 1867–1868 годах 23 % офицеров были неправославными. Среди полных генералов на долю протестантов приходилось 27 %. Лояльность трону, профессионализм ценились выше, чем этническая и конфессиональная принадлежность[1111]. В конце XIX в. русскоязычных среди потомственных дворян было немногим более половины (52,6 %)[1112].
В Российской империи были народы и конфессии, по отношению к которым царское правительство, сомневаясь в их лояльности, проводило политику дискриминации. Пример – поляки и евреи. Во второй половине XIX – начале XX в. официальная идеология на фоне волны национализма в Европе муссировала тему особой роли русских в империи[1113]. Тем не менее Российская империя оставалась полиэтническим сообществом подданных российского государя.
Наследник царской империи – Советский Союз также никогда не был государством русских. По сути это было сообщество подданных тоталитарной коммунистической власти, по пропагандистской форме – сообществом граждан Советского Союза. В конце правления И. Сталина, а также с начала 1970‑х годов, когда стал очевидным кризис коммунистической идеологии, начинался легкий флирт с идеей российского национализма. Но даже не блиставшему интеллектом брежневскому руководству были понятны опасности подобной идеологической трансформации в полиэтнической стране. Националистическая линия никогда не проводилась последовательно, дело так и не дошло до официального превращения СССР в государство с особыми правами русских.
Крах СССР и марксистской идеологии, образование Российской Федерации в ее нынешних границах по-новому поставили вопрос о государственной самоидентификации. Часть российской элиты активно выступает за определение России как государства русских, где особая их роль интегрирована в официальную идеологию и подкреплена особым положением Православной церкви. В полиэтнической стране с значительной и растущей долей нерусского населения, даже без учета возможного притока иммигрантов в ближайшие десятилетия, это неизбежно приведет к нарастанию межэтнических конфликтов.
Государственный, русский национализм делает страну чужой и для нерусских коренных жителей России, и для иммигрантов, подрывает их лояльность к официальным институтам, провоцирует национальную рознь. Поворот к идеологии “государства русских” – отнюдь не естественное продолжение долгой исторической традиции; в российской истории этого не было. Речь идет о новом, крупномасштабном антиисторическом эксперименте, опасные последствия которого легкопредсказуемы.
Для многонационального государства, жители которого на протяжении многих поколений были подданными сначала царя, потом тоталитарного режима, трансформация в страну российских граждан – органичный путь развития. На этом пути именно гражданство служит критерием, определяющим статус человека, а этническая принадлежность личности отделяется от государства, перестает быть тем, что государство устанавливает и контролирует, становится частным делом гражданина.
По традициям государственной идеологии Россия не принадлежит к иммигрантским странам, но во многом ближе к ним, чем к мононациональным этническим государствам. Открытое сообщество российских граждан, как это ни странно звучит для радикальных националистов и ксенофобов, органичнее продолжает российскую историю, чем закрытое сообщество русских. Именно такое открытое сообщество граждан предоставит России XXI в. возможности, которые активно и успешно использовала Америка позапрошлого и прошлого столетий: потенциал массового привлечения иммигрантов и их интеграцию в структуру российского полиэтнического общества, объединенного русским языком, русской культурой и российским гражданством.
Глава 11 Государственная нагрузка на экономику
В настоящее время одна из самых обсуждаемых российскими экономистами и политиками тем – вопрос о государственной нагрузке на экономику, иными словами, о той части внутреннего валового продукта, распоряжение которой берет на себя государство. Это коренной вопрос проводимых в стране социальных реформ, вызывающих противостояние политических сил в обществе. Чтобы разобраться в этом вопросе, полезно послушать, что говорит об этом История.
§ 1. Доля государственных расходов в ВВП. Исторический опыт
На рубеже XVIII–XIX вв. в Англии, где впервые начался современный экономический рост, доминировали представления о том, что государственные расходы следует ограничить: люди сами должны решать, как им вести свои дела и куда тратить собственные средства. Традиция, заложенная А. Смитом в его труде “Исследование о природе и причинах богатства народов”, закрепленная в “Началах политической экономии” Дж. С. Милля, определяла в качестве важнейших задач государства обеспечение защиты от внешней угрозы, поддержание законности и порядка. В более поздние – викторианские – времена в круг государственных задач включается ограниченное участие в решении социальных проблем.
История английского парламентаризма второй половины XIX в. не сохранила свидетельств серьезных разногласий по поводу необходимости ограничивать государственные расходы и соответственно налоговое бремя. Это воспринималось как аксиома. Дискуссия велась о том, как решить эту задачу[1114]. Оживленная полемика в английском парламенте в 1860–1880 годах шла не о величине расходов – все сходились в том, что их надо ограничить, как говорил Гладстон, “экономить на свечах”. Спорили о способах извлечения доходов, их достоинствах и недостатках.
Государственные расходы росли во времена больших войн, финансировавшихся главным образом за счет займов. Когда наступал мир, они погашались. Необходимость сбалансированных бюджетов в английских финансах была символом веры.
Расчеты доли государственных расходов в ВВП для XIX в. ненадежны из-за сложности адекватной оценки объема производства. Да и к оценкам самих государственных расходов, характеризующим период до XX в., необходимо относиться осторожно. Так, например, в США вплоть до 1921 года не существовало систематических документов, позволявших точно оценить расходы федерального бюджета, не говоря уже о консолидированном[1115]. Однако детальная работа с доступными источниками все же позволяет восстановить картину развития событий по большинству стран – лидеров современного экономического роста.
Те данные, которыми располагает историческая статистика, показывают, что доля государственных расходов в ВВП была долгосрочно устойчивой. Так, в Англии до наполеоновских войн она составляла примерно 11 %. После погашения накопленного за военные годы долга эта доля практически возвращается в 1830‑1840‑х годах на тот же уровень, затем снижается (табл. 11.1).
В 70‑х годах XIX в. доли государственных расходов в ВВП, характерные для стран – лидеров современного экономического роста, составляли примерно 8 %. В США они были ниже, в континентальных странах Западной Европы – выше. Характерная для Франции того времени государственная нагрузка на экономику – 12,6 % ВВП – считалась необычайно высокой[1116]. Один из ведущих французских экономистов конца XIX в., П. Лерой-Болье, обсуждая вопросы разумного уровня налогообложения, писал, что налоги, составляющие 5–6 % национального продукта, являются умеренными, а те, которые больше 12 %, вредят экономическому росту[1117].
Таблица 11.1. Доля государственных расходов в ВВП Англии XIX в.[1118]
Источник: Mitchell B. R. International Historical Statistics. Europe 1750–1993. London: Macmillan Reference LTD, 1998.
США возникли как государство в результате революции налогоплательщиков, выступавших против права государственных органов, в которых они не представлены, устанавливать налоги[1119]. Представление о необходимости ограничивать налоговую нагрузку было здесь еще более твердым, чем в Англии. Доля государственных расходов в ВВП США в XIX в. была примерно в 2 раза меньше английской. Подавляющую часть доходов федерального правительства обеспечивали таможенные сборы. В 1886 году федеральные доходы США составляли 3 % ВВП, 60 % из них приносили таможенные сборы, почти все остальное – акцизы на алкоголь и табак[1120]. Линия на ограничение государственных расходов отражала и реальности баланса политических сил в демократии налогоплательщиков, и влияние доминировавшей в первые десятилетия XIX в. либеральной парадигмы. С третьей четверти XIX в. ситуация меняется. В стадию современного экономического роста вступают страны, решающие задачи догоняющей индустриализации. У них больше возможности использовать влияние государства, чем у стран-лидеров, выше потребность в этом. К тому же по сравнению с англосаксонским миром здесь не доминирует представление о том, что государственное участие в жизни общества должно быть ограничено. Активное патерналистское государство соответствует унаследованным от аграрной эпохи национальным традициям. Это в полной мере относится к двум крупным странам, начавшим современный экономический рост во второй четверти XIX в., – Франции и Германии[1121]. К середине столетия уже проявляются социальные противоречия, характерные для раннеиндустриального этапа развития. Если остановить процесс индустриализации невозможно[1122], то необходимо предпринять усилия, чтобы социальная дестабилизация не привела к формированию сильного рабочего движения, способного подорвать существующую систему власти. Отсюда интерес имперского правительства Германии к рабочему законодательству, формированию систем социальной защиты.
Изменяется и политическая ситуация. Национальные элиты постепенно приходят к пониманию, что в условиях индустриального общества невозможно сохранить традиционные формы демократии налогоплательщиков, исключающие из политического процесса низкодоходные группы населения. Начинаются политические реформы, направленные на расширение избирательных прав и в конечном счете введение всеобщего избирательного права. К концу XIX – началу XX в. в большинстве развитых стран имущественный ценз был отменен, избирательное право для мужчин становится всеобщим или близким к всеобщему (табл. 11.2).
Таблица 11.2. Введение всеобщего избирательного права для мужчин в развитых странах мира[1123]
Источник: Engerman S. L., Sokoloff K. L. Factor Endowments: Institutions and Differential Paths of Growth Among New World Economies: A View from Economic Historians of the United States // NBER. Working Paper. No. H0066. December 1994; Maddison A. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OECD, 1995.
Расширение избирательного права изменяет баланс сил при принятии решений об уровне оптимальной государственной нагрузки на экономику. Все большее участие в политическом процессе принимают те, кто может выиграть от повышения налогов и расширения финансируемых на этой основе перераспределительных программ. В связи с этим интересно привести выдержку из работы Дж. Адамса “В защиту конституционного правления в Соединенных Штатах Америки”. Он писал: “Если в стране введут всеобщее избирательное право, то первым делом будут отменены все долговые обязательства, затем установят высокие налоги на богатых, остальные от налогов будут освобождены, и, в конце концов, большинство избирателей проголосует за всеобщий раздел имущества”[1124].
Введение всеобщего равного избирательного права сказывается не сразу, его влиянию противодействуют устойчивые традиции. Хотя в США всеобщее избирательное право (понимаемое как всеобщее избирательное право белых мужчин) появляется рано, укоренившиеся антиэтатистские установки позволяют десятилетиями сохранять минимальную роль государства и низкие налоги. Однако участие низкодоходных групп населения в политическом процессе постепенно расширяется, и это, как прозорливо предвидел А. де Токвиль[1125], открывает дорогу активным действиям государства по реализации перераспределительных программ и соответственно повышению налогового бремени. На это обращают внимание многие авторы[1126].
В конце XIX в. в Америке господствует представление, что по мере экономического развития и увеличения объемов производства государственные расходы должны расти, но темпами, которые соответствуют темпам экономического роста[1127]. В континентальной Европе постепенно укореняется иное мнение. Немецкий экономист А. Вагнер, один из разработчиков реформ, формировавших системы социального страхования, выдвинул тезис о неизбежном росте государственной доли в экономике по мере экономического развития, получивший впоследствии название “закон Вагнера”. Закономерность роста роли государства в экономике Вагнер выводит из наблюдений за динамикой государственных расходов в странах западной цивилизации. Он выделяет несколько крупных групп государственных затрат и пытается доказать, что в условиях современного общества в каждой из них расходы на обеспечение государственных функций будут расти быстрее, чем общественное производство. И это не зависит от политической или социальной природы общества, в котором проявляются такие закономерности. Ускоренный рост общественных затрат задан самой природой современной индустриальной экономики. Именно в усложнении экономической жизни следует искать причины расширения правительственных функций. Недостаток финансовых средств может до поры до времени сдерживать государственную активность, но в долгосрочной перспективе рост роли государства неизбежен[1128]. Даже в Англии под влиянием новых реальностей и идеологических течений меняется тональность, в которой идут споры на финансовые темы. Парламент, на протяжении своей истории сдерживавший расходные обязательства правительства и налоговое бремя, с конца XIX в. начинает подталкивать правительство к принятию новых расходных программ. Сбалансированный бюджет еще остается символом веры[1129], но представление о целесообразности минимизировать участие государства в экономике подорвано. Дополнительные государственные обязательства оправдывают повышение налогов.
В ходу новые идеи: сами государственные расходы могут с течением времени приносить доходы. Это стимулирует новые финансовые обязательства государства. В первой половине XIX в. опыт Англии задает европейские стандарты экономического развития. На рубеже столетий образцом для подражания становится германская система социальных программ. Если возглавлявший английское правительство в 1880–1885 годах У. Гладстон глубоко убежден в необходимости сокращать налоги и государственные расходы, то уже Д. Ллойд Джордж, премьер-министр в 1916–1922 годах, заявляет, что при его правительстве ни один налог не будет отменен. Представления английской политической элиты о роли государства поменялись радикально[1130].
Введение в 1842 году подоходного налога в Англии современники считали мерой временной, которая потребовалась для компенсации доходов, потерянных из-за снижения импортных тарифов. Однако представление о прямых подоходных налогах как о регулярных обязательных платежах постепенно укоренялось. Это противоречило многовековой английской налоговой традиции, рассматривавшей такие налоги лишь как исключительную меру военного времени[1131].
В конце XIX в. на развитие налоговой системы, ее структуру все большее влияние оказывает дирижистская идеологическая волна, стремление решать социальные проблемы, используя налоговые механизмы. В 1894 году в Англии вводится первый прогрессивный налог – на наследство. Освобождение низкодоходных групп от подоходного налога и налога на наследство, стремление переложить налоговое бремя на обеспеченные слои населения – эти меры на грани XIX и XX вв. обеспечивают политическую поддержку решениям о повышении прямых налогов[1132].
На рубеже XIX и XX вв. меняется отношение к государственным расходам и в США – последнем бастионе веры в благотворность ограниченной активности государства. Эти идеологические перемены связаны с активизацией американской внешней политики, основанной на растущей экономической и финансовой мощи страны. Непосредственным поводом к увеличению налогообложения в США послужила необходимость финансировать крупномасштабную программу строительства военного флота.
В 1893 году американский Конгресс ввел федеральный подоходный налог. Верховный суд признал это решение неконституционным, поскольку налоговое бремя распределялось между штатами неравномерно. Ожесточенная борьба вокруг этого налога длилась два десятилетия, в течение которых финансовые потребности государства продолжали расти. Росло и политическое влияние коалиции популистов и либеральных республиканцев. В итоге была принята 16‑я поправка к Конституции Соединенных Штатов, которая устранила препятствия на пути применения федерального подоходного налога. В 1913 году он был введен.
При всем значении происшедших в начале XX в. перемен в представлениях о роли государства в экономике и обществе доля государственных расходов в ВВП стран – лидеров современного экономического роста изменилась с 20‑х годов XIX в. мало. Сам экономический рост, значительное увеличение доступных финансовых ресурсов позволяли наращивать государственные расходы при сохранении стабильного баланса доходов и расходов в ВВП. На грани XIX и XX вв. важнейшим аргументом против повышения доли налогов в ВВП становится не концепция минимального государства, а представление о верхних пределах налогового бремени. Существование такого ограничения ни у кого не вызывало сомнений. О его наличии в аграрных обществах прекрасно знали политики и ученые.
Таблица 11.3. Доля государственных доходов в ВВП в последней трети XIX – начале XX в., %
Источник: Tanzi V., Schuknecht L. Public Spending in the 20th Century. A Global Perspective. Cambridge University Press, 2000.
Отличие представлений о пределах налогового бремени от концепции минимального государства состоит в том, что ограниченность возможности мобилизовывать доходы – менее надежный инструмент сдерживания вмешательства государства в функционирование экономики. Если минимальное государство – это идеологическая конструкция, жесткая логика которой заключается в том, что люди лучше государства распорядятся своими средствами, то существование предела налогообложения лишь гипотеза, требующая эмпирической проверки в каждой стране.
Как видно из табл. 11.3, в первые десятилетия после публикации работ А. Вагнера вопреки его представлениям существенного увеличения доли государственных расходов в ВВП в странах – лидерах современного экономического роста не происходит. Ситуация изменяется во время Первой мировой войны. До ее начала многие считали, что изъятие государством более 10 % национального продукта опасно для развития страны[1133]. После ее окончания этот тезис стал более чем спорным.
За период с 1914 по 1945 год финансовая ситуация в ведущих мировых державах изменилась, иными стали представления о роли государства в экономике и обществе, о его функциях и возможностях. Две мировые войны сыграли ключевую роль в повышении принятых уровней государственной нагрузки на экономику.
§ 2. Эволюция представлений о величине государственной нагрузки на экономику в период мировых войн
К 1914 году уровень жизни в странах – лидерах современного экономического роста в несколько раз превысил необходимый для существования и продолжения рода минимум, характерный для аграрных обществ, где попытки увеличить налоговые изъятия сверх 10–15 % ВВП приводили к невозможности для крестьянского населения поддерживать жизнь и производственную деятельность, к социальным катаклизмам. Для современных индустриальных обществ даже в условиях глубокого кризиса, порожденного большой войной и внешней угрозой, возможность увеличивать налоговое бремя выше. Здесь рост военных налогов – серьезная неприятность для налогоплательщиков, но никак не опасность умереть с голоду. Административные ресурсы, которыми располагает современное государство для мобилизации налоговых поступлений, несопоставимы с теми, которые были доступны в аграрную эпоху. Оно способно использовать сложные системы учета, обеспечивать налогообложение источников доходов, которые выпадали из поля зрения владык аграрных государств. Все это проявилось в ходе Первой мировой войны. Она привела к беспрецедентному росту военных расходов, которые воюющие страны покрывали, поднимая налоги и прибегая к заимствованиям и эмиссионному финансированию[1134].
Повышение во время войны государственных расходов вызывает необходимость совершенствования налогового администрирования. Повышение ставок налогообложения, невозможное прежде по политическим причинам, не встречает протеста и закрепляется в финансовых системах развитых стран послевоенного периода[1135].
С одной стороны, большая война вызывает всплеск социальной солидарности, стремление улучшать организацию здравоохранения, рационировать ограниченные ресурсы продовольствия[1136]. Из войны участвовавшие в ней страны вышли обремененные долгами, которые необходимо обслуживать. Но, с другой стороны, война продемонстрировала, что прежние представления о возможностях и пределах налогообложения не соответствуют реалиям современного мира. Системы налогового администрирования позволяли мобилизовывать в пользу государства значительно более высокую долю ВВП[1137]. В США и Англии, где сохраняются следы либеральных традиций, после войны начинаются споры о целесообразности отмены или снижения военных налогов[1138], но и 10 лет спустя государственная нагрузка на экономику в этих странах существенно выше, чем до 1914 года.
Сама логика доминирующей дирижистской идеологической волны, связывающей надежду на решение экономических и социальных проблем с участием государства в регулировании общественной жизни, способствует росту государственных расходов, повышению налогового бремени[1139]. На рубеже 20‑х и 30‑х годов XX в. представления о роли государства в экономике прошли проверку в горниле социально-экономических потрясений, порожденных Великой депрессией, связанным с нею беспрецедентным обострением социальных проблем, ростом безработицы.
К 1937 году доля государственных расходов в ВВП наиболее развитых стран возросла до 22,8 % и вдвое превысила средний уровень 1913 года[1140]. Экономический кризис подорвал веру в два фундаментальных принципа, которые считались основой ответственной финансовой политики в XIX – начале XX в.: золотовалютный стандарт и необходимость поддержания в условиях мира сбалансированного бюджета. На протяжении всей истории европейской демократии сбалансированность любых шагов по расходам и доходам бюджета была механизмом, ограничивающим рост государственных обязательств. До конца XIX в. среди английской политической элиты господствовало представление, что правительство не может принимать на себя обязательства, по которым будут расплачиваться его преемники[1141].
Отказ от принципа сбалансированности бюджета как элемента ответственной экономической политики ставит правительство в принципиально новые условия. Теперь политики имеют возможность соревноваться – кто выдвинет более привлекательные предложения по новым, не подкрепленным налоговыми поступлениями расходным программам; кто придумает, как снизить налоги, не сокращая расходы. Увеличение государственных расходов получает новый импульс. Формируются программы новых обязательств, возлагающие на государство финансовое бремя, которое будет действовать и десятилетия спустя.
Вторая мировая война, вновь вызвавшая резкий рост государственных расходов, потребовавшая введения чрезвычайных налогов и приведшая к накоплению государственного долга, выводит государственную нагрузку на экономику на новый уровень. Но если после Первой мировой войны еще предпринимались попытки снизить налоговое бремя вслед за наступлением мира, то после 1945 года они сходят на нет. Характерная для развитых стран налоговая нагрузка после Второй мировой войны повышается до 25–30 %.
1950–1973 годы – необычный период в мировом экономическом развитии. Завершение войн, восстановление европейской экономики, расширение международной торговли, возможность для Западной Европы и Японии заимствовать технологический опыт мирового лидера – США, реконструировать промышленность, используя современные по меркам времени технологии, – все это обеспечило высокие темпы роста экономики развитых стран и всего мира. Финансовые возможности государств возрастают, появляются новые инструменты мобилизации доходов, развивается налоговое администрирование. Сначала во Франции в 1954 году, а затем во многих других развитых странах появляется налог на добавленную стоимость, повышающий долю налоговых поступлений в ВВП. Вводятся налоги на заработную плату, призванные финансировать системы социального страхования, увеличиваются объемы мобилизуемых с их помощью средств, их доля в ВВП.
Вера в способность государства подменять своими действиями то, что раньше делал рынок, рост возможностей мобилизовывать доходы, связанный и с увеличением ВВП, и с повышением качества налогового администрирования, позволяют нарастить долю государственных расходов в ВВП в беспрецедентных размерах. Г. Стиглер обращает внимание на то, что значительная часть деятельности государства связана с предоставлением услуг. Сам рост доли услуг в ВВП в условиях постиндустриального общества – важный фактор роста государственной нагрузки на экономику[1142]. В странах ОЭСР средняя невзвешенная доля государственных расходов в ВВП увеличивается с 28 % в 1960 году до 43 % в 1980 году. В Бельгии, Ирландии, Японии, Испании, Швеции и Швейцарии она почти удваивается.
К 1980 году в Австрии, Бельгии, Нидерландах и Швеции государственные расходы превышают 50 % ВВП[1143] (табл. 11.4).
Таблица 11.4. Доля расходов расширенного правительства в ВВП некоторых стран ОЭСР, %[1144]
Источник: OECD Historical Statistics 1960–1993. OECD, 1995. P. 72.
Неудивительно, что в период между началом Первой мировой войны и концом 1970‑х годов тезис о существовании верхних границ налогообложения окончательно вышел из употребления, а его использование стало опасным для профессиональной репутации[1145].
За это время попытки оценить верхние пределы налогообложения стали неблагодарным занятием. Отсутствие интереса к этой теме связано с тем, что в период выхода на новый уровень равновесия повышение налогового бремени проходит относительно безболезненно[1146]. В конце 1980‑х годов определились новые, характерные для постиндустриальных условий границы налогового бремени, однако опасение повторить прежние ошибки в определении пределов государственной нагрузки на экономику заставляли специалистов по финансам крайне осторожно относиться к любым долгосрочным прогнозам финансовой динамики[1147].
В период, когда окончательно складывается представление о безграничных возможностях государства мобилизовывать доходы и перераспределять ВВП, не нанося при этом ущерба экономическому развитию, современные формы, характерные для стран – лидеров современного экономического роста, приобретают такие социальные институты, как системы пенсионного обес печения, пособий по безработице, семейные пособия, государственное финансирование образования и здравоохранения. Эти институты на десятилетия вперед задают уровень финансовых обязательств, закрепленных законом и политическими реалиями[1148].
§ 3. О верхнем уровне налоговых изъятий
К середине 70‑х годов XX в. в Западной Европе ресурсы форсированного роста, связанного с послевоенным восстановлением, уже были исчерпаны, технологическое отставание от США сократилось, повышение цен на нефть породило серьезные трудности в экономическом развитии стран-лидеров. Среднегодовой рост мировой экономики за 1973–2000 годы ниже беспрецедентных темпов предшествующего периода. В начале 1980‑х годов наиболее развитые страны, быстро наращивающие социальные расходы, вновь сталкиваются с тем фактом, что верхние пределы налогообложения существуют. В этих странах (что существенно – в мирное время) возникают крупные и устойчивые бюджетные дефициты, свидетельствующие о кризисе государственных финансов. Рост доли налоговых отчислений в ВВП замедляется[1149].
Наиболее острый характер финансовый кризис приобрел в странах с самой высокой долей государственных расходов в ВВП. К концу 1970‑х годов в Швеции, которая к этому времени стала мировым лидером по государственной нагрузке на экономику, получают распространение массовое уклонение от уплаты налогов, отказ от сверхурочных работ, налоговое планирование. Даже социал-демократические правительства осознают, что дальнейшее повышение НДС и платежей по социальному страхованию невозможно. Это заставляет их идти на снижение бюджетных расходов. Однако лишь финансовый кризис начала 1990‑х годов приводит страну к серьезным реформам в сфере государственных обязательств[1150].
Высокоразвитые индустриальные страны, в первую очередь те, которые стали лидерами по росту государственных расходов, в конце 1970‑х – начале 1980‑х годов вплотную подошли к верхнему пределу, за которым наращивание налогового бремени оказывается либо невозможным из-за растущего сопротивления налогоплательщиков, либо непродуктивным из-за расширения теневой экономики[1151]. Высота этого налогового “плато” определяется особенностями социально-экономической истории и социально-экономической структуры каждого государства.
Специалисты по государственным доходам сформулировали гипотезу: верхний уровень налоговых изъятий выше в небольших и однородных по национальному составу странах, унитарных государствах, где налогоплательщики легче принимают повышенное налоговое бремя, и ниже в больших, дифференцированных в социально-культурном отношении федеративных государствах. Факты подтверждают ее справедливость. Среди развитых стран относительно высокое налоговое бремя существует лишь в двух федерациях – в Германии и Австрии. В большинстве же федеративных государств оно ниже, чем в унитарных[1152].
Наличие верхнего предела налогообложения вовсе не означает, что каждая страна должна его достичь. Индустриализация, новые возможности мобилизации финансовых ресурсов позволяют государству изымать от 20 до 50 % ВВП. В этих рамках выбор определяется специфическими чертами того или иного общества, его идеологическими установками[1153]. Нет социально-экономических аргументов в пользу того, что верхний предел налогообложения оптимален для экономики любой страны. Сопоставление налоговой нагрузки и социальных индикаторов опровергает такое предположение.
Итак, когда казалось, что государство всеобщего благосостояния может позволить себе все, доля государственных изъятий быстро росла. Когда же темпы экономического роста снизились, а налоговая нагрузка достигла верхних пределов, выяснилось, что дальнейшее увеличение государственных расходов приводит к кризису государства. Сегодня и на ближайшее десятилетие это главная проблема большинства развитых стран.
К началу 1980‑х годов благодаря дирижистской политике предшествующих десятилетий был заложен потенциал роста социальных обязательств, обусловленный завершением демографического перехода и старением населения. Когда наиболее однородные в социально-культурном отношении страны вышли на уровень налоговых изъятий, составляющий примерно 50 % ВВП, перед ними по-прежнему стояла задача увеличения социальных расходов. До этого времени страны – лидеры современного экономического роста весь XX в. не проводили значимых программ по сокращению государственных обязательств. Теперь важнейшей частью политической жизни становится борьба, развернувшаяся вокруг таких программ.
Ситуация обостряется налоговой конкуренцией. Современная налоговая система формировалась в мире, пережившем катаклизмы двух мировых войн. Она обрела нынешние формы в 1950‑х – начале 1960‑х годов, когда сохранялись серьезные торговые барьеры и национальные правительства выстраивали свою экономическую политику каждое самостоятельно, независимо от других. К концу XX в. этот мир меняется. Экономики становятся открытыми, происходит либерализация торговли, валютных режимов и рынка капитала. Все это стимулирует рост налоговой конкуренции, перемещение центров прибыли в страны с более благоприятным налоговым режимом, что и ограничивает свободу маневра правительств в формировании своих налоговых систем. В первую очередь речь идет о налогах на прибыль корпораций, ставки которых под влиянием международной конкуренции начинают снижаться[1154].
Пока экономика росла высокими темпами, а инфляция оставалась низкой, что было характерно для 1950‑1960‑х годов, общество принимало рост налогового бремени. После 1973 года экономический рост замедляется, ускоряется инфляция. Происходит это в условиях прогрессивной системы подоходного налогообложения, автоматически увеличивающей налоговую нагрузку вместе с инфляцией. Это вызывает все большее сопротивление налогоплательщиков.
Последовавшая за исчерпанием возможностей наращивать долю государственных расходов в экономике инфляционная волна 1970‑х – начала 1980‑х годов изменила доминирующую в мире идеологическую атмосферу (табл. 11.5).
Поворот начался с налоговой реформы, проведенной Р. Рейганом в начале 1980‑х годов. К тому времени в США предельная ставка налогообложения доходов составляла 75 %. К 1989 году она сократилась до 28 %. Во время правления М. Тэтчер в Великобритании предельная ставка подоходного налога снизилась с 98 % в 1970‑х годах до 40 %[1155].
Почему же идейный климат в мире повернулся в сторону традиционного либерализма? Одна из причин состояла в том, что расходы превысили возможности правительств их финансировать: слишком сильно выросли долги и бюджетные дефициты. Для западноевропейских государств поддерживать привычный уровень благосостояния становилось все более обременительной задачей.
Идеологические волны нового времени по-разному сказались на государственных расходах и доле государства в экономике. Первая из них, порожденная дирижистскими идеями, сопровождалась многократным увеличением доли государственных расходов в ВВП. Реформы конца XX в. позволили лишь приостановить повышение государственной нагрузки на экономику. Почти нигде они не привели к значительному снижению доли ВВП, перераспределяемой государством. Несмотря на попытки реформ, направленных на ограничение государственных расходов, эта доля в 1980–1990‑х годах продолжала возрастать, хотя и более низкими темпами, чем прежде: 1990 год – 44,8 % ВВП, 1994 год – 47,2 % (в среднем по странам ОЭСР).
Таблица 11.5. Темпы инфляции в странах ОЭСР, % в год (среднее геометрическое за десятилетие)
Источник: IMF IFS 2004.
Сколько бы приходившие к власти правительства ни метались между социалистической и либеральной риторикой, жизнь заставляла их проводить программы, ограничивающие государственные обязательства. Налицо радикальное изменение идеологического тренда – от социалистической и социал-демократической идеологии 1920–1970 годов к неолиберализму начала 1980-х. Эта вторая идеологическая волна отнюдь не уступка конъюнктуре: перемены диктует сама логика постиндустриального перехода.
Как уже отмечалось, прогнозировать дальнейшее развитие событий в странах – лидерах современного экономического роста – занятие неблагодарное. Однако возросшее в этих странах в конце 1970‑х – начале 1980‑х годов сопротивление росту налогов, осознание политическими элитами невозможности повышения налоговых ставок отражает объективную реальность: государственные расходы вышли на предельный уровень. Он не универсален, зависит от комплекса социокультурных обстоятельств, специфичных для разных стран и регионов, но вызванные им ограничения проявляются повсеместно.
Развитым странам вновь приходится приспосабливаться к ограниченным финансовым возможностям государства. Реформы Рейгана в США стали возможными после того, как с конца 1970‑х годов рухнул сформировавшийся в предшествующие десятилетия консенсус двух ведущих политических партий, которые поддерживали высокие налоги. В Японии серьезное сопротивление встретило введение налога на добавленную стоимость. В Германии ширится недовольство растущим налогообложением, растет разочарование в возможностях государства решать стоящие перед ним проблемы. В Италии распространяется занятость в неформальном секторе, большая часть населения уклоняется от уплаты налогов. Формы, в которых общество реагирует на государственную перегрузку экономики, для разных стран специфичны, но суть этой реакции одна – жесткие ограничения возможности дальнейшего наращивания доли государственных расходов в ВВП.
Верхние пределы налоговой нагрузки существуют даже для наиболее развитых государств. Характерное для времени с середины 1910‑х до начала 1970‑х годов представление о возможности безграничного повышения доли государственных изъятий, не наносящего ущерба экономике и обществу, о справедливости закона Вагнера оказалось ошибочным. Можно спорить, где лежит этот предел для той или иной страны с ее размерами душевого ВВП, национально-культурным составом населения, традициями, но он определенно существует. Есть и стандартный набор механизмов, которые вступают в действие при превышении такого предела: рост теневой экономики, перевод производств в другие страны, финансовая нестабильность, ускорение инфляции, накопление долга, падение темпов экономического роста, политическая консолидация тех, кто не принимает дальнейшего повышения налогов.
Выясняется, что, когда государственные расходы превышают 30 % ВВП, как правило, их увеличение уже не улучшает показатели здоровья населения, средней продолжительности жизни, образовательного уровня[1156]. Есть два параметра, которые при более высоких уровнях государственной нагрузки на экономику влияют на жизнь общества: уровень безработицы и социальная дифференциация. Чем выше налоги, тем, как правило, выше безработица. С ростом доли государства в экономике обычно уменьшается социальная дифференциация. Для стран – лидеров современного экономического роста выбор государственной нагрузки на экономику в диапазоне 30–50 % – предмет острой политической борьбы. На этот выбор, как указывалось, влияют национальные традиции, доминирующая идеология, а также инерционный рост государственных обязательств, принятых, когда возможности государства казались безграничными. Поэтому результат борьбы в каждой стране труднопредсказуем.
§ 4. Государственная нагрузка в постсоциалистических странах
Социалистические страны из-за специфики избранной модели социально-экономического развития, где определяющую роль играет государство, вышли на высокие уровни показателей, характеризующих долю доходов и расходов государства в ВВП на относительно ранних стадиях своего развития (табл. 11.6).
Таблица 11.6. Доля государственных доходов в ВВП СССР во второй половине XX в.
Источник: Синельников С. Г. Бюджетный кризис в России. М.: Евразия, 1995.
То же характерно и для других стран, прошедших через социалистический эксперимент. Так, в Китае, где в 30‑х годах доходы государства колебались в пределах 5–7 % ВВП, к 1957 году доля государственных доходов в ВВП достигает 30 %, в несколько раз превышает довоенный уровень. Она примерно вдвое превосходит показатели, характерные для стран с аналогичным уровнем развития[1157]. К моменту краха социалистической системы государственная нагрузка на экономику в СССР, в восточноевропейских странах социализма находилась на уровне, близком к 50 % ВВП, т. е. на том, который оказался в конце XX в. предельным для наиболее развитых стран, характеризующихся высокой социально-культурной однородностью и обладающих хорошо отлаженным государственным аппаратом. Этот уровень выше, чем тот, который был достигнут в рыночных экономиках с уровнями душевого ВВП, характерными даже для наиболее развитых постсоциалистических стран.
Крах политических и экономических институтов социализма привел к постсоциалистической рецессии с падением производства, растянувшейся на 3–7 лет. На это накладывается кризис системы мобилизации государственных доходов. Инструменты, которые использовались при социализме, не адекватны рыночным условиям. Формирование налоговой системы, позволяющей мобилизовывать необходимые государству доходы в принципиально изменившейся ситуации, требует времени. И все это на фоне длительного периода высокой инфляции, которая обусловлена ликвидацией денежного навеса, накопленного в позднесоциалистический период, слабой денежной политикой. Высокая инфляция подрывает доходную базу бюджета, в этом причина финансового кризиса, механизмы развертывания которого были рассмотрены в гл. 9. Лишь после преодоления этого кризиса происходит снижение инфляции, стабилизация доходов бюджета. На это уходит несколько лет. Затем постсоциалистические страны выходят на разные показатели доли государственных расходов в ВВП – от 15 до 50 % ВВП (см. табл. 11.7).
Существенное влияние на специфику национальных траекторий оказывают два фактора. Первый из них – уровень экономического развития к моменту краха социализма. Как правило, страны, в которых он был выше, добиваются финансовой стабилизации при более высоких показателях государственной нагрузки. Второй – характеристики переходного процесса, протяженность периода высокой инфляции, масштабы инфляционного кризиса. Там, где период высокой инфляции оказался растянутым, масштабы падения доли государственных доходов в ВВП обычно выше.
Можно условно выделить две группы постсоциалистических стран с различными финансовыми результатами постсоциалистического перехода, важными для оценки стратегических проблем их развития.
Первая – это постсоциалистические государства Восточной Европы и Балтии. При различиях национальных траекторий важными для большинства из них были близость к Европе, Европейскому Союзу, ориентация политики на скорейшее присоединение к ЕС. Период падения государственных расходов здесь оказался коротким, доля государственных расходов в ВВП стабилизировалась на высоком уровне[1158].
Таблица 11.7. Доля государственных расходов в ВВП в постсоциалистических странах в 2001 году
Источник: EBRD Transition Report 2003. London, 2003. P. 61.
Пример такого развития событий – Польша. Именно в Польше – постсоциалистической стране, первой восстановившей экономический рост и превысившей предшествовавший краху социализма максимум национального ВВП, проявились и долгосрочные проблемы, порожденные такой эволюцией. Удовлетворительно функционирующая налоговая система, раннее начало экономического роста, стремление сгладить социальные издержки рыночной реформы привели к экспансии государственных социальных обязательств. Доля пенсионных расходов относительно ВВП к середине 1990‑х годов достигла 15 % – показателя, высокого даже для большинства наиболее развитых стран. Перегрузка экономики социальными обязательствами и соответственно масштабы налогового бремени в условиях исчерпания ресурсов восстановительного роста становятся угрозой долгосрочным перспективам развития этой страны[1159].
Все это накладывается на необходимость адаптации восточноевропейских стран и стран Балтии к стандартам ЕС, выработанным для государств с более высоким уровнем развития, соответственно предполагающим дополнительные расходные обязательства. Речь идет не только о формальных стандартах. В ЕС они лишь в ограниченной степени затрагивают социальные программы и обязательства. Как правило, ключевую роль в их определении играют национальные правительства и парламенты. Но демонстрационный эффект опыта более развитых стран ЕС в формировании систем социальной защиты на внутреннюю политику более бедных постсоциалистических стран Восточной Европы серьезен. Сама Западная Европа сталкивается с долгосрочными проблемами, порожденными негибкостью рынка труда, несоответствием систем социальной защиты реалиям постиндустриального общества. Постсоциалистические страны Восточной Европы вынуждены решать их на более низком уровне развития, при ограниченных финансовых ресурсах в условиях, когда свобода маневра в области институциональных реформ и выработки экономической стратегии ограничена членством в Европейском Союзе. В какой степени преимущества, обеспечиваемые доступом к европейскому рынку товаров, рабочей силы и капитала, а также финансовая помощь ЕС позволят решить эти проблемы, покажет время. В любом случае развитие событий в странах данного региона будет определяться успехами институциональных реформ и социально-экономической стратегией, вырабатываемой в рамках Евросоюза. Европейская ориентация позволила восточноевропейским странам решить переходные проблемы, импортировать политическую и социальную стабильность, но в долгосрочной перспективе сократила свободу маневра в выработке национальной стратегии развития.
Для второй группы постсоциалистических стран, отдаленных от объединенной Европы и, очевидно, не имевших перспектив быстрого вступления в Евросоюз, период переходного кризиса оказался более растянутым, масштабы падения производства – больше, а финансовый кризис более глубоким[1160]. Доля государственных доходов в экономике к моменту начала восстановительного роста здесь ниже, чем в восточноевропейских государствах и странах Балтии. Преодоление бюджетного кризиса, снижение инфляции потребовали более жесткого сокращения государственных расходов. Ограниченность финансовых ресурсов почти не оставляла свободы маневра для наращивания государственных расходов и обязательств, подталкивала к реформам, позволяющим ограничить государственную нагрузку на экономику. Отсутствие перспектив вступления в ЕС означает, что никто не снимет с национальных элит ответственности за выработку самостоятельной и долгосрочной стратегии развития, в том числе и в решении вопроса об оптимальных условиях государственной нагрузки на экономику. Разумеется, никто не может дать гарантий, что они сумеют разумно распорядиться такой свободой маневра.
В конце 1990‑х – начале 2000‑х годов в России шла оживленная дискуссия по вопросу о выработке линии в области государственной нагрузки на экономику. Одни авторы увязывали перспективы экономического роста России со скорейшим снижением государственной нагрузки на экономику, другие отстаивали тезис, что ограничение государственной нагрузки лишь один из факторов экономического роста и сам по себе, без институциональных реформ во многих областях, не позволит заложить основу устойчивого развития[1161]. Обсуждение того, в какой степени масштабы государственной нагрузки на экономику влияют на темпы экономического роста, в экономической литературе идет давно, и оно не принесло однозначных результатов[1162]. И связано это не с недостатком усилий, а с тем, что сами эти взаимосвязи различны на разных уровнях и этапах развития. Для каждого уровня среднедушевого ВВП существуют характерные диапазоны уровней налоговых нагрузок на экономику. Можно предположить, что при приближении к верхней границе такого диапазона перегрузка экономики начинает негативно сказываться на темпах экономического роста. Это соответствует здравому смыслу, хотя однозначно и не доказано. Если для стран-лидеров на индустриальной стадии их развития существовали уровни налогового бремени, приводящие к замедлению темпов развития, то до 60–70‑х годов XX в. этот фактор себя не проявил. По комплексу причин, унаследованных от исторической традиции XIX в., масштабы государственной нагрузки в них были ниже тех, при которых возникают проблемы с экономическим ростом. Для выработки линии долгосрочного развития важнее не столько ненадежные построения, напрямую связывающие проценты снижения государственных расходов с ускорением экономического роста, сколько понимание важнейших фактов, связанных с государственной нагрузкой на стадии постиндустриального развития, к настоящему времени установленных и значимых для принятия решений в этой области.
Как мы уже отмечали, уровень государственных расходов, как правило, выше в этнически компактных странах с устойчивыми традициями социальной солидарности (таких как Скандинавские страны), чем в больших этнически разнородных государствах (США)[1163]. Они более высоки в унитарных государствах, чем в федеративных государствах с аналогичным уровнем развития.
Для России – страны этнически разнородной и федеративной – это означает, что уровни государственных изъятий, совместимые с устойчивым функционированием налоговой и финансовой систем, даже на высоких уровнях развития находятся ниже показателей, характерных для унитарных стран с однородным населением. Если учесть, что и сегодня уровень расходов расширенного правительства России в ВВП выше, чем в США, то можно предположить, что в долгосрочной перспективе возможность устойчивого повышения государственной нагрузки на экономику маловероятна[1164]. Осознание факта ограниченной возможности наращивания государственной активности особенно значимо на фоне тех институциональных изменений, которые характерны для постиндустриального мира. К обсуждению их мы перейдем в следующих главах.
Глава 12 Становление и кризис систем социальной защиты
Как указывалось, элиты традиционных аграрных обществ считали бедность низших классов явлением нормальным, более того, желательным. Если крестьяне богаты, значит, они платят мало налогов. В 1771 году А. Юнг писал: “Все, кроме идиотов, знают: низшие классы надо держать в бедности, иначе они никогда не будут прилежны”[1165]. По мнению Вольтера, “не все крестьяне станут богатыми, да и не нужно, чтобы они были таковыми; существует потребность в людях, которые имели бы только руки и добрую волю”[1166].
Лишь изредка, например после Великой чумы в Европе середины XIV в., когда резко сокращается численность населения, спрос на рабочую силу растет, а потому поднимаются доходы низших классов и правительства принимают законодательные акты, сдерживающие заработки работников, – такие, как английские законы 1351–1382 годов[1167]. Обычно же, чтобы поддерживать доходы основной массы крестьянского населения на низком уровне, было достаточно традиционных мер: мало платить и много отбирать – в пользу государства и привилегированной элиты.
Бедность мало тревожила властные институты аграрных государств. Их беспокоила нищета, приводящая к массовому вымиранию населения, бегству крестьян с земли. Хорошо организованные аграрные империи старались предотвращать такие катастрофы или регулировать их последствия. Многие века помощь голодающим оказывали власти Китая. В Европе государственная поддержка бедствующих была менее распространена – главную роль играли механизмы взаимопомощи в деревне, благотворительность и церковь.
В эпоху перед началом современного экономического роста правительства европейских государств были озабочены не голодом в деревне, а миграцией крестьян в город и вызванным ею распространением нищенства и преступности. Основная часть законов о помощи бедным, в том числе английское законодательство эпохи Тюдоров, была направлена не столько на урегулирование социальных проблем, порожденных бедностью, сколько на обеспечение законности и порядка. Они традиционно отделяли “достойных” бедных – тех, кто столкнулся с неожиданными трудностями и заслуживает поддержки общества, – от иных, чья бедность, по мнению властей, является их собственным выбором. Принуждение к труду работоспособных бедных было важнейшим элементом английского законодательства со времен Тюдоров до 1834 года.
Закон о бедных 1601 года ввел в Англии ответственность местной власти за помощь нуждающимся и предусмотрел различные подходы к категориям бедняков. Неспособные работать – старики, больные – должны быть обеспечены минимально необходимым для жизни. Трудоспособным предоставлялась возможность трудиться в работных домах. Не желающие работать подлежали наказанию.
Свидетельствует Ф. Бродель: “В Париже больных и инвалидов всегда помещали в госпитали, здоровых же использовали на тяжелых и изнурительных работах по бесконечной очистке городских рвов и канав, притом сковывали по двое. Мало-помалу по всему Западу умножается число домов для бедняков и нежелательных лиц, где помещенный туда человек осужден на принудительный труд – в английских работных домах, в немецких воспитательных домах и во французских смирительных домах вроде, например, того комплекса полутюрем, которые объединила под своим управлением администрация парижского большого госпиталя, основанного в 1659 году”[1168].
§ 1. Возникновение систем социальной защиты
Современный экономический рост создает предпосылки беспрецедентного повышения благосостояния людей. В то же время он ускоряет структурные сдвиги, усиливает зависимость предприятий и целых отраслей, занятости в них от колебаний рыночной конъюнктуры. Жизнь в традиционной деревне остается бедной и короткой, но более устойчивой и привычной, чем в городе раннеиндустриальной эпохи. Все возможные беды известны многим поколениям селян: неурожаи, малоземелье, притеснения налогового чиновника или жадность феодала. Процессы огораживания, концентрации земельной собственности, крайне важные для развития передового, ориентированного по стандартам времени на рынок, высокопродуктивного сельского хозяйства, приводили к еще большей бедности значительной части населения деревни, ускоряли миграцию в города[1169]. Брошенный в город, занятый в промышленности вчерашний крестьянин сталкивается с новыми проблемами. Технический прогресс делает ненужными целые профессии, которые раньше давали высокий социальный статус, гарантировали приличные заработки. Острая конкуренция приводит к разорению предприятий и массовым увольнениям. Сдвиги в структуре производства превращают города и районы в зоны бедности и безработицы.
Если в деревне крестьянин защищен от произвола феодала вековой традицией, определяющей объем его обязательств, позволяющей при неурожае обратиться к землевладельцу за помощью, то с хозяином промышленного предприятия или его управляющим рабочего традиционные отношения не связывают. В аграрных обществах случаи, когда крестьян сгоняли с земли, бывали, но редко. Потерять работу в раннеиндустриальном городе, быть уволенным с промышленного предприятия – постоянная угроза.
В западноевропейских странах первой половины XIX в. эти проблемы проявились в полной мере. К тому же характерный для европейских стран – лидеров экономического роста, в первую очередь для Англии, политический режим не демократия, основанная на всеобщем избирательном праве. Парламентаризм вырос из демократии налогоплательщиков, избирательное право было ограничено высоким имущественным цензом и на подавляющее большинство рабочих не распространялось. Регулирование трудовых отношений ориентировалось на защиту хозяина и было безразличным к интересам наемного работника. А. Смит обращает внимание на то, что в Англии его времени нет ни одного парламентского акта против соглашений о понижении цены на труд, но существует множество актов, которые препятствуют ее повышению[1170].
В период, предшествующий современному экономическому росту, английской системе регулирования бедности приходится иметь дело с двумя серьезными проблемами. Сдвиги в производстве и занятости приводят к росту безработицы. Это, в свою очередь, требует финансовых ресурсов для поддержания системы вспомоществования по закону о бедности, а характерный для законодательства этого времени патернализм вступает в противоречие с доминирующей на грани XVIII и XIX вв. либеральной идеологией, оказывающей глубокое воздействие не только на экономику, но и на социальную сферу. Либеральные идеи выдвигали на первый план такие ценности, как свобода, равенство, ответственность гражданина за свою судьбу. Либеральное видение мира отвергало право человека на получение общественной помощи. В свободной стране каждый выбирает собст венное будущее, отвечает за свои успехи и неудачи.
А. Смит пишет о том, что законодательство о бедных противоречит свободе передвижения рабочей силы. Местная власть несла ответственность за обеспечение бедных. Любой вновь прибывший на ее территорию человек (разумеется, из низших сословий) мог быть выдворен – кому нужны лишние нахлебники? Закон 1662 года о поселении ограничивал свободу выбора места жительства, а значит, и работы[1171]. Активно выступавший против законодательства о бедных Т. Мальтус подчеркивал, что оно стимулирует рост численности населения и снижает уровень жизни, что последствия этих законов прямо противоположны провозглашенным целям[1172]. По мнению Д. Рикардо, все действовавшие налоги того времени показались бы мелочью по сравнению с налоговым бременем, которое могло лечь на англичан, если бы действовала система, гарантирующая каждому достаточные средства существования от государства[1173].
Но отмахнуться от порождаемых началом индустриализации социальных проблем было невозможно. В 1832 году в Англии начала работать королевская комиссия, которая должна была подготовить предложения по законодательству о бедности. Большинство ее членов находилось под сильным влиянием либеральных идей. Один из главных авторов доклада, Н. Сениор, поставил ключевой вопрос: не будут ли законы, призванные регулировать бедность, обострять проблемы, которые они призваны решить?[1174] Опасение, что помощь тем, кто при желании может найти себе работу, стимулирует пауперизацию населения и безответственность людей, стало основанием для стремления ограничить помощь трудоспособным в любых формах[1175].
§ 2. Развитие систем социальной защиты
Во второй половине XIX в. отношение к системам социальной защиты меняется. Опыт Англии продемонстрировал, что ускоренное индустриальное развитие сопровождается проявлением новых, не известных традиционному обществу социальных проблем, связанных с изменившимися формами организации экономики и общества: это экономические кризисы, массовое высвобождение рабочей силы, безработица. Политическая активизация низших классов становится фактором, влияющим на развитие систем социальной защиты. Вслед за Англией в стадию современного экономического роста вступают другие крупные страны, такие как Германия, где политическая культура, традиции правящей элиты далеки от классического англосаксонского либерализма.
Социальные реформы О. Бисмарка позволили создать первую в индустриальном мире развитую систему социальной защиты, включающую медицинское, пенсионное страхование и страхование по инвалидности. Их создатель не помышлял о благосостоянии рабочих. Он преследовал иные цели: обеспечить контролируемый и направляемый государством социальный порядок, подорвать позиции радикалов, угрожавших устойчивости политического режима[1176].
Экономико-исторические исследования показывают: в странах первой волны индустриализации, вступивших в эту фазу до середины XIX в., не просматривается связь между уровнем экономического развития и временем, когда начала формироваться развитая система социальной защиты. В странах-лидерах она нередко создается позже, чем в менее развитых. Большое значение имели национальные традиции, политическая ситуация[1177]. Не обнаружено также зависимости между временем, когда в странах Западной Европы вводились программы пенсионного и медицинского страхования, и другими признаками развития – индустриализацией, урбанизацией, политической активностью рабочего класса, распространением всеобщего избирательного права. Однако исследования показали, что авторитарные и полуавторитарные режимы создавали системы социального страхования, как правило, раньше, чем парламентские демократии[1178]. С учетом особенностей догоняющего развития закономерно, что именно авторитарные режимы, которые столкнулись с характерной для ранних этапов современного экономического роста социальной дестабилизацией, первыми стали формировать инструменты социального равновесия и контроля. Их опыт повлиял на институциональное развитие и в странах-лидерах.
В Англии германский опыт создания систем социального страхования отразился на переменах в настроениях общества. В 80‑х годах XIX в. А. Тойнби, влиятельный историк, который ввел в широкий оборот понятие промышленной революции, глубоко сожалеет о ее социальных издержках, о вине английской элиты, столь мало сделавшей для решения порожденных индустриализацией проблем, ее ответственности за низкий уровень социальной защиты[1179].
Реформы избирательного права 1867 и 1884 годов расширили участие наемных рабочих в политическом процессе. Это также повлияло на отношение общества к социальному законодательству. В 1880 году вводится ответственность работодателя за увечье рабочего на производстве. Основная волна реформ, создавших основы социальной защиты в Англии, приходится на 1906–1914 годы. Именно в это время формируются системы пенсий по старости, страхования по болезни и безработице[1180]. В конце XIX – начале XX в. такие системы создаются во всех странах – лидерах современного экономического роста.
США с их укоренившимися традициями либерализма и индивидуализма вступают на этот путь последними. Но и здесь Великая депрессия меняет положение. К 30‑м годам прошлого столетия необходимость создания национальной системы страхования по старости и безработице становится очевидной и для политической элиты, и для общества. Массовое движение за радикальные меры по построению всеобъемлющей системы социальной защиты делает ее создание политически неизбежным.
Революция в России стала для элит развитых государств важным сигналом, предупреждением о хрупкости сложившегося порядка и необходимости учитывать интересы наемных рабочих. Европейские и североамериканские политические институты оказались достаточно гибкими, чтобы обеспечить мирную эволюцию к основанной на всеобщем избирательном праве демократии, интегрировать в демократический процесс группы населения с низким социальным статусом. Изменился баланс политических сил, теперь интересы и работодателей, и наемных работников обеспечивались в равной мере. Поскольку последние составляли самую многочисленную часть избирателей, политическое равновесие постепенно сдвигалось в их сторону. Ограничение продолжительности рабочего дня и прав работодателей на увольнение работников, законодательное закрепление прав профсоюзов, создание систем социальной защиты, адекватных условиям городского, индустриального общества, позволяющих людям застраховаться от бед, порожденных перепадами экономической конъюнктуры, сформировали в странах – лидерах современного экономического роста каркас существующих и поныне институтов социальной защиты.
Расширение финансовых возможностей государства в период между мировыми войнами, о чем говорилось в предыдущей главе, естественное для развитого индустриального общества представление о том, что право на адекватную социальную защиту входит в число неотъемлемых прав человека, – все это в послевоенный период приводит к стремительному расширению социальных программ и государственных обязательств. Эта волна продолжается вплоть до конца 1970‑х годов, пока в развитом мире господствует видение современного государства как государства-благодетеля, способного обеспечивать своих граждан пособиями по старости, безработице, бедности, нетрудоспособности.
В послевоенный период на фоне высоких темпов экономического роста и увеличения государственных доходов системы социальной защиты продолжают развиваться, становясь все более и более щедрыми: растут размеры пособий по отношению к заработной плате, расширяются периоды их выплат, снижаются требования к их получателям. На работодателей накладываются новые ограничения по увольнению работников. У власти во многих странах Европы долгое время удерживаются тесно связанные с профсоюзами левые правительства. Это также способствует увеличению государственной помощи малоимущим.
Мы уже упоминали о том, что в начале XIX в. либеральные экономисты говорили и писали о негативном влиянии социальной защиты на трудовую этику и стимулы к труду. Полтора столетия успешного функционирования систем социальной помощи на фоне высоких темпов экономического роста и повышения производительности труда, казалось бы, продемонстрировали беспочвенность подобных опасений. Но стоило странам – лидерам современного экономического роста вступить в постиндустриальную стадию развития, как выяснилось, что либералы XIX в. были во многом правы. Трудовое поведение людей, которые получают легкодоступную и щедрую социальную помощь, пусть медленно, на протяжении поколений, но меняется.
Начиная с 1970‑х годов в крупных европейских странах все больше проявляются долгосрочные проблемы, порожденные высокими социальными гарантиями и обязательствами. Первая среди них – устойчиво высокий, в том числе и в периоды благоприятной экономической конъюнктуры, уровень безработицы. Структурные изменения постиндустриального мира вызывают необходимость перераспределять рабочую силу между предприятиями, профессиями, видами занятости. Промедление грозит утратой конкурентоспособности, вытеснением отечественных предприятий с рынка. Однако при жестком законодательном ограничении права на увольнение и политически влиятельных профсоюзах обеспечить перераспределение рабочей силы, необходимость которого продиктована требованиями рынка, непросто. Известна роль профсоюза клепальщиков, сумевшего отсрочить массовое внедрение электросварки, в кризисе английского судостроения.
Уволить работника трудно. Это понуждает работодателей ограничивать набор кадров даже при благоприятной конъюнктуре. Предприниматели знают, что подъем рано или поздно закончится и тогда будет сложно избавиться от лишних рук. Если обратиться к материалам исследований о том, как размер пособий по безработице соотносится с уровнем заработной платы, становится очевидной корреляция щедрости пособий и времени, в течение которого их получатели остаются безработными[1181]. В самом деле, зачем спешить к станку, на стройку или к конвейеру, если на жизнь хватает? Проведенные Р. Лайардом, С. Никкелом и Р. Джэкменом исследования связи между безработицей, рынком труда и размером пособий по безработице в 20 странах ОЭСР дали интересные результаты: снижение замещающих заработок пособий на 10 % уменьшает уровень безработицы на 1,7 %, а сокращение максимального срока их выплаты на 1 год приводит к снижению безработицы на 0,9 %[1182]. Из других работ известно, что увеличение замещающего заработную плату пособия на 10 % увеличивает продолжительность пребывания без работы для ее среднестатистического соискателя в среднем на неделю[1183].
Современные системы пособий по безработице формировались в индустриальных обществах, где для труженика возможность остаться без работы представляла серьезную угрозу – потерю заработка, социального статуса, возможности содержать семью. Мысль, что работник может добровольно предпочесть занятости жизнь на пособие, казалась абсурдной. Такое поведение было прямой дорогой к социальному остракизму. Когда сразу после Великой депрессии создавалась система пособий по незанятости, была еще свежа память о социальных бедах и потрясениях, вызванных резким ростом безработицы. Лишиться рабочего места было очевидной и страшной бедой. Ни те, кто разрабатывал эти системы, ни те, кто пользовался ими в первые годы, не могли себе представить, что появятся большие группы населения, которые предпочтут жизнь на пособие поиску работы.
Традиции живут долго, на протяжении поколений, но не вечно. Как справедливо отмечал С. Ландсбург, “люди реагируют на стимулы; остальное – детали”[1184]. Пособия по безработице становятся щедрее, но растут и налоги на заработную плату, которые населению приходится платить, финансируя все более дорогостоящие социальные программы. Это размывает основы трудовой этики[1185]. Сталкиваясь с выбором “работа и высокие налоги или пособие по безработице”, все больше людей, в первую очередь молодых, начинают воспринимать статус безработного как удовлетворительный. Выбор в пользу пособия перестает быть чем-то аномальным, асоциальным, заслуживающим порицания и санкций[1186]. В Германии доля тех, кто просит социальной помощи (базовой поддержки доходов), возросла с 1,2 % в 1970 году до более чем 5 % в середине 1990-х[1187]. Такая жизненная стратегия становится распространенной, массовой. Это, в свою очередь, подрывает базу унаследованных от индустриальной эпохи норм[1188].
Повторим: щедрые социальные пособия, в том числе пособия по безработице, оплачиваются из налогов на оплату труда работающих[1189]. Смена положения занятого на положение безработного радикально меняет финансовые отношения человека с государством. Живущий на пособие не платит высоких налогов и становится реципиентом финансовой помощи. Статус безработного нередко дает право не только на пособие, но и на набор дополнительных льгот – на медицинское обслуживание, обучение детей и т. д. Формируется культура массовой, длительной, добровольной безработицы, финансирование которой увеличивает долю государственных расходов в ВВП и снижает стимулы к экономическому росту.
Устойчивое сохранение за США роли лидера мирового экономического развития в постиндустриальную эпоху связано с тем, что американские профсоюзы оказались слабее западноевропейских, регулирование трудовых отношений, в том числе прав на увольнение, – более мягким, чем в Старом Свете, система пособий по безработице в США – значительно жестче (отношение среднего пособия к средней заработной плате меньше, сроки, на которые помощь предоставляется, короче).
Необходимость реформировать систему трудовых отношений, регулировать рынок труда и системы пособий по безработице – одна из самых насущных и оживленно обсуждаемых сегодня проблем Евросоюза. Если не решить ее, трудно рассчитывать на снижение характерного для стран континентальной Западной Европы устойчиво высокого показателя – доли безработных среди экономически активного населения (табл. 12.1). Но массовое распространение социальных программ, участие в них значительной части населения, стоящие за каждой из таких программ групповые интересы – все это затрудняет реформирование даже тех из них, которые очевидно негативно влияют на трудовую этику.
Пособие по бедности, введенное США в 1964 году, – классический пример системы, которая оказала долгосрочное влияние на трудовое и семейное поведение населения страны. Однако, прежде чем рассказать об этом, сделаем небольшое отступление, связанное с темой, которая обсуждалась в гл. 10.
Кризис традиционной семьи – характерная черта постиндустриального общества. Еще в середине XX в. типичной была семья, где мужчина – единственный работник; женщина, как правило, не работает, воспитывает детей. Спустя несколько десятилетий картина меняется. Распространяется женская занятость, уменьшается число рождений на 1 женщину, количество детей в семье. Традиционная система установок, доставшаяся в наследство от аграрного общества и отражавшая его реалии, отмирает. Внебрачный ребенок не считается позором для женщины, это теперь не семейная катастрофа, а житейское дело. Среди населения растет доля одиноких людей, незарегистрированных браков, неполных семей.
Таблица 12.1. Средняя за десятилетия доля безработных среди экономически активного населения, %
Источник: Employment Outlook and Analysis, Labor Market Statistics Data, Query – LFS by Sex ().
С середины 1980‑х годов число внебрачных детей в Швеции опережает число родившихся и живущих в традиционных семьях с отцом и матерью. В других развитых странах это соотношение еще не достигает половины, но продолжает расти, особенно в течение последнего десятилетия. Естественна озабоченность общества детской бедностью, в первую очередь бедственным положением детей, которые растут в неполных семьях. Однако это как раз одна из тех областей, где принимаемые решения зачастую не выдерживают пробы на упомянутый тест члена королевской комиссии по законодательству о бедности Н. Сениора. Велик риск выстроить систему, которая усугубит проблему. Как это происходит, наглядно иллюстрирует опыт США 1965–1996 годов.
Неполные малообеспеченные семьи, в которых неработающая мать воспитывает одного или нескольких детей, почти автоматически подпадают под критерий бедности и получают право на пособие. Нуждающаяся, но имеющая работающего кормильца семья такое право теряет. Для одинокой матери поиск работы и заработка может обернуться лишением набора привилегий, которые связаны с пособием, – денежных выплат, продовольственной и медицинской помощи и т. д. Такой порядок стимулирует рождение детей вне брака, а не создание семей, стремление как можно дольше получать пособия по бедности, а не работать. Появляются новые традиции: девочки из живущих на пособие семей вырастают и сами рожают детей вне брака, воспитывают их без отца[1190]. Они знают, что без средств к существованию не останутся[1191].
Эти негативные последствия сформированной в 1965 году системы пособий по бедности привели в США к политическому консенсусу в вопросе о необходимости серьезно ее реформировать – сделать пособия временными, предоставлять их с непременным условием искать работу или учиться[1192]. Это редкий для пост индустриального общества случай достижения политического согласия по поводу глубокой реформы, затрагивающей крупные группы избирателей.
Противоположный пример демонстрирует Швеция, где на постиндустриальной стадии социальные обязательства превысили все мыслимые масштабы и оказали значительное влияние на экономическое и социальное развитие страны. Здесь даже по стандартам континентальной Европы необычайно велика доля государственных расходов в ВВП вообще и социальных расходов в частности, пособия по безработице и семейные пособия особенно щедрые, а уровень внебрачной рождаемости крайне высок.
Экспансия социальных обязательств в Швеции – явление относительно новое. Основы системы социальной защиты сложились здесь в 30‑х годах XX в. Но в 1940‑х и начале 1950‑х годов доля государственных расходов остается ниже среднего уровня, характерного для государств ОЭСР. Лишь к 1960 году этот показатель выходит на средний уровень для ОЭСР – 31 %. Причина этого очевидна: Швеция не участвовала в мировых войнах, в ней не действовали военно-мобилизационные механизмы, которые привели к быстрому повышению государственной нагрузки на экономику в воевавших странах.
В 1950‑1960‑е годы Швеция демонстрирует высокие темпы роста, развивается более динамично, чем страны ОЭСР в среднем. Именно в 1960‑е годы происходит скачок социальных обязательств. Развитие государства всеобщего благосостояния в 1950–1960‑х годах, увеличение в расходах государственного сектора с 30 до 45 % уровня ВНП оказались совместимыми с относительно быстрым ростом производительности. Однако затем рост замедляется. В странах ОЭСР ВНП на душу населения увеличился на 60 % в 1970–1995 годах, в Швеции соответствующий рост – 37 %. Начиная с 1970 года позиция Швеции по уровню ВНП на душу населения значительно ухудшается. В 1970 году Швеция заняла 4‑е место среди 25 стран ОЭСР по ВНП на душу населения – на 15 % выше среднего (6 %, исключая Мексику и Турцию); к 1990 году опустилась до 9-й позиции[1193].
Показательно воздействие шведской системы социальных гарантий на трудовую этику: в среднем на работу по болезни в день не выходит каждый десятый работник. По этому показателю Швеция почти впятеро опережает значения, характерные для стран Евросоюза. Выплаты на пособия по временной нетрудоспособности составляют примерно 1/10 государственных расходов. И это объясняется отнюдь не слабым здоровьем шведов. У них и продолжительность жизни выше, чем в среднем по Европе, и приверженность вредным для здоровья привычкам (курение, неумеренное потребление алкоголя) проявляется слабее. Все упирается в трудовую этику. На вопросы социологов 62 % занятых шведских граждан ответили, что считают ситуацию, когда человек не болен, но находится на больничном, не работает и получает пособие по болезни, нормальной[1194]. Можно представить, сколь невероятным показалось бы это тем, кто всего несколько десятков лет назад формировал в Швеции контуры современной системы социальной защиты.
В начале 1990‑х годов Швеция столкнулась с тяжелым финансовым кризисом, вынудившим внести корректировки в налоговую систему и систему социальной защиты, ограничить рост государственных обязательств. Но общие контуры этих систем остались неизменными. Экспансия социальных обязательств расширяет для политических партий, поддерживающих дорогостоящие расходные программы, базу электоральной поддержки, поскольку увеличивает численность граждан, которые в разных формах получают деньги из бюджета и потому заинтересованы эти выплаты сохранить. 65 % шведского электората – получатели бюджетных денег. Убедить этих людей в необходимости поддержать программы сокращения государственных расходов непросто[1195].
Исследования вскрывают положительную корреляцию доли социальных расходов в ВВП с тремя факторами: средним возрастом населения, продолжительностью существования в стране государственной системы социальной поддержки, а значит, объема накопленных населением прав, и душевым ВВП[1196]. Все эти показатели в период постиндустриального развития растут. В такой ситуации объективно заложены предпосылки для действия закона А. Вагнера – роста социальной и государственной нагрузки на экономику. Однако, как уже отмечалось, масштабы налогового бремени, совместимые с экономическим ростом, в постиндустриальную эпоху ограниченны. Именно в этом противоречии – источник трудностей, с которыми сталкиваются развитые страны, пытаясь обеспечить устойчивость своих систем социальной защиты. В наибольшей степени эти трудности проявляются в самом важном и дорогостоящем элементе социальной структуры – пенсионном.
§ 3. Кризис современных систем пенсионного страхования
Для истории не новость, что сравнительно небольшие социальные программы, поначалу не слишком дорогостоящие, имеют тенденцию разрастаться, становиться все более и более обременительными для государственного бюджета. Когда Юлий Цезарь ввел военные пенсии, он вряд ли отдавал себе отчет в том, что создает прецедент, который спустя несколько столетий усугубит финансовые трудности Римской империи. Что касается истории формирования современной пенсионной системы, это пример, пожалуй, самого масштабного по влиянию на государственные финансы и общественное развитие экономического и политического решения.
Первая организованная государством система пенсий по возрасту для занятых в частном секторе была введена в Германии в 1889 году. Ее характерной чертой было обязательное социальное страхование, основанное на взносах работодателей и самих работников. Немецкая пенсионная система базировалась на практике добровольных фондов взаимопомощи, создававшихся гильдиями и другими объединениями рабочих и ремесленников. Право на пенсию обеспечивали ранее внесенные работниками взносы. Затем пенсионные системы, ориентированные на целевую помощь бедным, ввели Дания (1891 год) и Новая Зеландия (1898 год). В этих странах пенсии, финансируемые из общих налоговых доходов, предоставлялись после проверки материального положения получателя. Они гарантировали плоские выплаты. Такие пенсионные системы вытекали из традиционного европейского законодательства о бедных[1197].
В последующие годы большинство западноевропейских стран сформировали собственные системы пенсионного страхования, ориентированные на германскую модель, а англосаксы (за важным исключением – США) и скандинавы предпочли путь Дании и Новой Зеландии. Разные системы решали различные задачи. Германская была ориентирована на сохранение за работником после выхода на пенсию его прежнего социального статуса; датская, впоследствии введенная в Англии, – на ограничение бедности. В XX в. пенсионные системы развитых стран постепенно сближаются[1198]. Там, где они были основаны на страховых взносах, как, например, в Германии, вводятся гарантированные минимальные пенсии, размер которых не зависит от предшествующих взносов. В странах, ориентировавших свои пенсионные системы на равные для всех пенсии, финансируемые из общих бюджетных доходов, отменяется контроль за нуждаемостью. В Великобритании в дополнение к одинаковым для всех граждан, соответствующих критериям возраста и нуждаемости, минимальным пенсиям вводится обязательное социальное страхование.
В Северной Америке государственные пенсии по старости получили распространение сравнительно поздно. Канада в 1927 году приняла систему, основанную на проверке нуждаемости и не предусматривающую страховые взносы. В США правительства штатов начали вводить основанные на критерии нуждаемости пенсионные системы в 1920‑е годы. К 1934 году они уже действовали в 28 штатах[1199]. В 1935 году в США создается национальная система пенсионного страхования.
На этапе становления пенсионных программ они популярны. Это неудивительно: выходящие на пенсию за всю трудовую жизнь не внесли в виде постоянных платежей ту сумму, которая могла сделать их старость обеспеченной. Для таких нетто-бенефициаров пенсионная система была подарком судьбы. Основная тяжесть выплат по их пенсиям ложится на следующее поколение. Однако для молодого индустриального общества с ограниченной долей старших возрастных групп это не порождает серьезных политических проблем.
Ф. Рузвельт поддерживал основанную на взносах систему пенсионного страхования, поскольку рассчитывал, что она получит устойчивую долгосрочную политическую поддержку. Он говорил: “Мы ввели эти начисления на заработную плату, с тем чтобы дать их плательщикам правовые, моральные и политические права на получение своей пенсии. С этим налогом ни один чертов политик никогда не решится ликвидировать мою программу социального страхования”[1200].
Хотя к началу Второй мировой войны системы пенсионного обеспечения имели практически все индустриальные страны, получавшая пенсии часть населения была ограниченной, а уровень пенсионных выплат невысок. Десятилетия после Второй мировой войны стали в большинстве развитых стран временем беспрецедентного распространения пенсионных платежей.
По данным Всемирного банка, около 30 % пожилых людей в мире охвачено пенсионной системой (государственной или частной), 40 % всех занятых в мире платят взносы, рассчитывая на получение пенсии в старости[1201].
Как и все программы социального страхования, пенсии по старости должны обеспечивать баланс между социальной защитой и стимулированием. Выплаты по социальному страхованию защищают старшие возрастные группы от резкого падения жизненного уровня при утрате трудоспособности. Но право на выплаты по старости изменяет трудовое поведение и пожилых людей, и молодых. Государство должно находить оптимальное соотношение между характеристиками пенсионного страхования как средства социальной защиты и отрицательными стимулами, которые оно порождает[1202].
Система пенсионного страхования задумывалась как инструмент, который дает дожившему до возраста нетрудоспособности человеку возможность существовать. Когда ее вводили в США, большинство мужчин этой страны в возрасте старше 60 лет работали. Однако эта система сама становится фактором, уменьшающим занятость в пенсионном возрасте. Об этом убедительно свидетельствует статистика: в 1870 году 64,2 % мужчин 60 лет и старше работали в американской экономике, в 1900-м – 66,1, в 1930-м – 64,5, в 1960-м – 45,4, в 1990-м – 27,6 %. В период с 1950 по 1990 год возраст выхода на пенсию в наиболее развитых странах снизился с 66 до 62 лет. В 1960 году в возрастной категории 60–64 года доля работающих в Бельгии, Нидерландах, Франции превышала 70 %. К середине 1990‑х годов она упала до 20 %[1203].
Кризис сложившихся на этапе индустриального развития пенсионных систем – результат изменения демографической ситуации. Мы отмечали, что в странах – лидерах экономического роста они сформировались в то время, когда население пенсионного возраста составляло лишь незначительную часть работающих (табл. 12.2).
Установление возраста, начиная с которого действует пенсионное обеспечение по старости, при формировании первых пенсионных систем определялось финансовыми соображениями. Минимальный возраст выхода на пенсию устанавливался на уровне, превышающем среднюю продолжительность жизни, характерную для страны в период создания пенсионных систем (70 лет – в Германии и Великобритании, 65 лет – в США и Франции). В это время не более половины мужчин из тех, кто достигал возраста 20 лет, доживал до 65 лет и еще меньше – до 70 лет[1205].
Таблица 12.2. Доля населения старше 65 лет в ведущих развитых странах, %[1204]
Источник: Mitchell B. R. International Historical Statistics 1750–1993. London: Macmillan Reference LTD, 1998; United Nations Organization ().
В такой демографической ситуации небольшие сборы с работающих и работодателей были достаточны, чтобы обеспечить немногочисленным пенсионерам материальный уровень, сопоставимый с их доходами во время трудовой деятельности, с учетом того, что пожилым людям уже не приходится тратиться на обучение детей, приобретение жилья.
В условиях быстрого роста продолжительности жизни ситуация меняется. Доля пенсионеров в численности населения увеличивается. Эта тенденция, по всем существующим прогнозам, продолжится в XXI в. В Японии в течение первой половины XXI в. медианный возраст населения увеличится с 41 до 49 лет. Доля населения в возрасте старше 65 лет возрастет с 17 до 32 %. В Италии эти показатели возрастут соответственно с 41 до 53 лет и с 18 до 35 %[1206]. При этом если в 1939 году отношение средней пенсии к средней заработной плате в наиболее развитых странах, впоследствии объединенных в ОЭСР, составляло 15,4 %, то к 1980 году оно возросло до 45 %[1207].
Поскольку численность получающих пенсию или тех, кто скоро станет пенсионером, растет, повышение пенсионных выплат не может не получить политическую поддержку. Известный экономист Г. Виленски замечает: “Если и есть один влиятельнейший фактор, увеличивающий расходы на поддержку благосостояния… так это доля старших возрастных групп в общей численности населения”[1208].
В период расцвета государства всеобщего благосостояния (1960–1970‑е годы) время начала пенсионного возраста снижается. В наиболее развитых странах фактический возраст выхода на пенсию стремится к 60 годам[1209]. В большинстве стран, где существуют государственные системы пенсионного страхования, минимальный возраст выхода на пенсию редко бывает ниже 60 лет и столь же редко выше 65 лет[1210].
Современные пенсионные системы порождают тенденцию к увеличению доли пенсионных расходов в ВВП. Они “созревают”, более длительные периоды уплаты взносов увеличивают число получателей пенсий и их размеры. Социальные системы, которые задумывались и создавались как недорогостоящие[1211], не требующие для своего финансирования больших выплат, становятся для государства и общества обременительными. С 1960–1985 годов расходы на государственные пенсии в странах – членах ОЭСР росли в 2 раза быстрее, чем ВВП[1212].
Растущие пенсионные взносы работников и работодателей отражают меняющуюся демографическую ситуацию. Увеличение налогов на заработную плату стимулирует переток рабочей силы в неформальный сектор экономики, рост безработицы. Сокращается число наемных работников, которые вносят средства в систему пенсионного страхования, по отношению к численности пенсионеров.
Международная организация труда считает нормальным коэффициент замещения пенсией заработной платы, равный 60–70 %, минимально приемлемым – 40 %[1213]. Представить себе сценарий развития событий, в рамках которого такие показатели соотношения средней пенсии и средней заработной платы оказались бы совместимыми с реалиями середины XXI в. с учетом старения населения, трудно.
Процесс старения раньше, чем в других странах, начался в Японии и Германии, где послевоенный бум рождаемости оказался непродолжительным. Если в 1950 году японцы 65 лет и старше составляли 10 % населения страны, то к 1990 году их доля возросла до 19 %, а по прогнозам на 2025 год, достигнет 42,9 %. Соответствующие цифры для Западной Германии: 15,7; 24,1 и 42,2 %[1214]. Процесс старения задан объективными обстоятельствами и потому неизбежен[1215]. В развитых странах мира, по прогнозам ООН, к 2050 году число людей, относящихся к возрастной группе старше 60 лет, будет примерно вдвое превосходить число детей. Сегодня в мире 1 человек из 10 принадлежит к возрастной группе старше 60 лет. По прогнозам ООН, в 2050 году к ней будет принадлежать 1 из 5[1216].
Согласно демографическим прогнозам, к 2030 году бремя, которое ляжет на работающее население из-за растущей численности пенсионеров, в наиболее развитых странах удвоится по сравнению с 2000 годом[1217]. В государствах “большой семерки” прогнозируется рост расходов на пенсии с 6,7 % ВВП (в 1995 году) до 10,7 % (в 2030 году)[1218]. По оценкам ОЭСР, при реализации базового сценария глобального социально-экономического развития затраты на социальное обеспечение увеличатся с 18,3 % ВВП (в 1990 году) до 25,5 % (в 2050 году). Оптимистичный и пессимистичный сценарии дают соответственно 23,7 и 30,4 % расходов на социальное обеспечение в ВВП 2050 года. В течение этого периода расходы на социальную помощь будут ежегодно расти в среднем на 1,9 % в реальном выражении[1219].
Оценки финансового разрыва – роста расходов государственного бюджета, связанных со старением населения, увеличением потребностей в финансировании пенсионного обеспечения и здравоохранения при ограниченных возможностях увеличения налоговой нагрузки на протяжении следующего полувека в странах – членах ОЭСР, – варьируют в пределах 6–10 % ВВП с наиболее вероятной оценкой 8 %[1220]. Повышение пенсионных обязательств в предстоящие десятилетия задано логикой системы пенсионного обеспечения, созданной в конце позапрошлого столетия и первые десятилетия прошлого. Этот рост невозможно финансировать за счет дальнейшего увеличения налогов на заработную плату. И это фундаментальная проблема обеспечения устойчивости социальных институтов, сложившихся в индустриальную эпоху, в условиях постиндустриального общества.
Распределительная пенсионная система в постиндустриальном обществе со стареющим населением оказывает серьезное влияние на долгосрочные перспективы социально-экономического развития. У этой проблемы есть еще один аспект. Он связан с динамикой нормы сбережений. Среди других показателей, определяющих темпы экономического роста, особое значение имеет доля инвестиций в ВВП. Национальные нормы инвестиций тесно коррелируют с национальными нормами сбережений[1221]. По сравнению с аграрным обществом индустриальная эпоха характеризуется повышением доли сбережений и инвестиций в ВВП. На постиндустриальной стадии ситуация меняется. В большинстве стран-лидеров доля сбережений в ВВП сокращается (табл. 12.3). М. Фелдстейн в своих работах показал, что это связано с введением щедрых распределительных пенсионных систем[1222]. Насколько убедительно ему удалось доказать такую связь, учитывая возможное влияние других факторов, – предмет дискуссий в экономической литературе двух последних десятилетий. Но то, что формирование распределительных пенсионных систем создает объективные стимулы уменьшать сбережения на старость, и то, что именно на постиндустриальной стадии проявляется тенденция к снижению частных сбережений, вряд ли можно считать простым совпадением[1223] (табл. 12.4).
Таблица 12.3. Доля сбережений в ВВП, среднее значение за период, %
Источник: OECD Economic Outlook Web Site. June 2003.
Таблица 12.4. Доля сбережений домашних хозяйств в располагаемом доходе, среднее значение за период, %
Источник: OECD Economic Outlook Web Site. June 2003.
§ 4. Реформы пенсионных систем
Разрешить это противоречие можно, теснее увязав объемы страховых взносов и предоставляемых пенсионных прав, устранив из системы пенсионного страхования элементы перераспределения, наличие которых означает, что страховые и налоговые компоненты смешиваются. Такие реформы предполагают введение накопительной пенсионной системы, в которой объем пенсионных прав определяется размером взносов и свободой выбора, куда инвестировать пенсионные накопления[1224]. Ликвидация перераспределения изменяет отношение и работников, и работодателей к страховым платежам. Если весь объем пенсионных прав определяется взносами, они из налогов превращаются в налоговые льготы для тех средств, которые направляются в долгосрочные накопления на старость. Это устраняет стимулы ухода из формального сектора экономики, основанного на нежелании работников вносить страховые платежи. Пример хорошо организованной, управляемой государством накопительной пенсионной системы, оказавшейся долгосрочно устойчивой, – Сингапур. Здесь такая система была сформирована в 1955 году. Ее преимущество по отношению к обязательным, регулируемым государством, но частным пенсионным системам – меньшие административные расходы. Но у нее есть и недостаток – низкие доходы на вложенный капитал[1225].
Показателен пример Чили – страны, пенсионная реформа в которой вызвала многолетние дебаты о целесообразности и возможности перехода к накопительной системе пенсионного страхования. В 70‑е годы XX в. взносы в распределительное пенсионное страхование достигли здесь высокого уровня и стимулировали уклонение от налогов. С 1981 года в Чили перешли к накопительной системе: каждый работающий стал вносить 1/10 своего заработка на пенсионный сберегательный счет в выбранном им фонде. Еще около 3 % заработной платы направлялось на страхование – на случай инвалидности и потери кормильца, а также на управленческие расходы пенсионных фондов. К выходу на пенсию на индивидуальном счете пенсионера накапливаются средства, обеспечивающие достойную жизнь в старости. Дефицит финансовых ресурсов для обеспечения пенсионных обязательств в такой системе по определению невозможен.
Влияние чилийского опыта на представления о путях эволюции пенсионных систем в условиях изменения возрастной структуры населения, разработку программ пенсионных реформ отражает опубликованный в 1994 году доклад Мирового банка. Существует множество работ, в которых исследуется влияние перехода к накопительной системе на норму национальных сбережений и на экономический рост[1226]. Результаты этих исследований не позволяют однозначно ответить на вопрос, сколь велико такое влияние. Но такой переход изменяет отношение и работников, и работодателей к страховым платежам, особенно когда им предоставлена свобода выбирать, где и как хранить накопленные средства, куда их инвестировать, гарантировано право передавать пенсионные накопления по наследству. Люди перестают воспринимать отчисления на собственную старость как налог, рассматривают их в качестве дополнения к оплате своего труда. Так возникают предпосылки для преодоления серьезного противоречия постиндустриальной эпохи – растущих потребностей пенсионной системы в финансовых ресурсах и невозможности повышать налоговое бремя на оплату труда. Прямая связь пенсионных прав будущих пенсионеров с их накопительными взносами придает системе устойчивость, сохранение которой меньше, чем при распределительной системе, зависит от демографической тенденции – старения населения.
Переход к накопительной системе пенсионного обеспечения сам по себе не разрешает фундаментальной проблемы постиндустриального общества: падения нормы сбережений с изменением возрастной структуры населения, увеличением доли старших возрастных групп и соответственно падением доли тех, кто относится к категории работоспособных. Однако заинтересованность работающих в высокой пенсии, увеличении накопительных отчислений позволяет создать более мягкий механизм, повышающий средний возраст выхода на пенсию, который соответствует растущей продолжительности жизни и улучшению здоровья немолодых, но еще трудоспособных людей.
Еще раз подчеркнем: преимущества накопительной пенсионной системы очевидны, она чрезвычайно важна для постиндустриального общества с его стареющим населением и высокой государственной нагрузкой на экономику. Однако ее широкому внедрению в странах – лидерах современного экономического роста препятствует одно обстоятельство: отчисления в пенсионную систему накапливаются на индивидуальных счетах работающих и не могут быть использованы для финансирования текущих обязательств перед уже вышедшими на пенсию. У трудящихся старших возрастных групп возможность накопить достаточные средства на старость ограничена временем, в течение которого они отчисляют средства в пенсионную систему. Острота проблем, связанных с ее реформированием, становится очевидной, если учесть, что накопленные развитыми странами пенсионные обязательства, как правило, существенно превышают их текущий государственный долг (табл. 12.5).
Из стран – лидеров современного экономического роста Великобритания первой предприняла серьезные шаги в области пенсионной реформы. Английская пенсионная реформа 1986 года обеспечила работникам и работодателям право переходить из государственной системы пенсионного страхования в частные, где пенсионные права связаны с отчислениями, накопленными средствами[1227]. Традиционно социально-демократическая Швеция при краткосрочном правлении Умеренной партии под руководством К. Бильда последовала по сходному пути. Пенсионные реформы, предполагающие предоставление права выхода из государственной системы пенсионного страхования в частную, были элементом трансформации системы социального обеспечения в Японии[1228]. Но в целом в наиболее развитых странах пенсионные реформы, направленные на предоставление работнику права выбора системы пенсионирования, перехода в частные пенсионные системы, на увеличение доли накопительных элементов в пенсии, – редкость.
Пока продолжались дискуссии об эффективности накопительных пенсионных систем и оправданности ограничения перераспределительных механизмов, которые обеспечивают социальную солидарность, стал очевиден еще один ключевой фактор, сдерживавший пенсионные реформы в странах-лидерах. Это вопрос о цене реформ и проблема так называемого двойного платежа.
Таблица 12.5. Валовые государственные пенсионные обязательства развитых стран, % ВВП
Источник: OECD Statistics, Finance Fiscal Balances and Public Indebtedness – E074 Annex. Table 33. General Government Gross Financial Liabilities. .
Переход к накопительным пенсионным системам означает, что по меньшей мере часть платежей нынешнего работающего поколения пойдет на личные счета, на финансирование индивидуальных пенсий, а не на выплаты нынешним пенсионерам. Но отменить обязательства перед последними в демократическом обществе невозможно. Значит, для перехода на накопительную систему нужны финансовые ресурсы для выполнения в период реформ уже принятых обязательств перед нынешними пенсионерами и работниками старших поколений, которые не успеют накопить достаточно средств на собственную пенсию по старости. Такими ресурсами страны – лидеры современного экономического роста, отягощенные грузом пенсионных обязательств, не располагают. Даже республиканская администрация Дж. Буша-младшего, в начале своей деятельности обсуждавшая возможность трансформации американской системы пенсионного страхования в накопительную, пока не решилась сделать шаги в этом направлении – из-за остающегося открытым вопроса об источниках финансирования переходных процессов.
Когда нет возможности наращивать налоги, пенсионные обязательства растут и будут расти, а глубокая реформа либо невозможна, либо крайне сложна, правительствам приходится идти на частичные и крайне непопулярные изменения в пенсионных системах – повышать пенсионный возраст и требования к необходимому для получения нормальной пенсии стажу, урезать льготы, которые предоставляют специальные пенсионные системы, уменьшать отношение средней пенсии к средней заработной плате[1229].
Все современные проблемы систем социальной защиты – стимулирование незанятости, зарегулированность рынка труда, неспособность государства провести диктуемые финансовыми трудностями реформы – проявляются особенно заметно там, где такие системы зародились: в континентальной Западной Европе. Это еще раз подтверждает известную закономерность: чем дольше существуют подобные институты, тем острее проблемы обеспечения их устойчивости на постиндустриальной стадии. Под давлением финансовых трудностей даже тем политикам, которые традиционно выступали за расширение социальных обязательств, приходится инициировать малопопулярные реформы, направленные на их ограничение. В Германии налоги на заработную плату достигли 42 % ее величины, государственные финансы в кризисе, страна не может привести бюджетный дефицит в соответствие с маастрихтскими критериями. Поэтому неудивительна позиция лидера германских социал-демократов канцлера Г. Шредера: “Мы не можем сохранять существующую систему: никаким образом не можем избежать изменений должны сказать «до свидания» многому, что стало для нас дорого, но, к сожалению, оказалось слишком дорогостоящим… Мы должны изменить нашу ментальность и научиться смотреть в лицо реальности – демографический спад и старение населения скоро сделают нашу систему здравоохранения, пенсионную систему непозволительно дорогими. Многое придется изменить, и этому нет разумной альтернативы”[1230].
С начала 1980‑х годов, когда кризис пенсионных систем стал очевидным, в Германии, Греции, Италии, Португалии и Великобритании стали повышать возраст выхода на пенсию; в Германии, Греции и Италии – увеличивать минимальный стаж, необходимый для полного пенсионного обеспечения; во Франции и Германии – ужесточать условия для раннего перехода в пенсионеры. В Австрии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Италии и Нидерландах отношение средней пенсии к заработным платам было снижено благодаря введению более жестких механизмов индексации. Сокращались пенсионные привилегии для занятых в государственном секторе[1231].
Старшие возрастные группы постоянны, консервативны в своих политических приоритетах. Для этой части электората важнее всего отношение партий к государственным субсидиям пенсионерам. Политический выбор немолодых избирателей в большей степени зависит от отношения кандидата к пенсионному обеспечению, чем электоральная мотивация любой другой группы по любому другому вопросу. В федеральных выборах 1996 года в США приняло участие 2/3 граждан возрастной категории старше 65 лет. Это на 36 % больше, чем тот же показатель для возрастной группы 25–44 года[1232]. Журнал “Форчун” провел опрос среди политической элиты Вашингтона – конгрессменов, высокопоставленных чиновников Белого дома, сената и палаты представителей. Их просили оценить влияние 120 групп интересов на политические решения в стране. По результатам опроса оказалось, что самое влиятельное лобби в столице США – Американская ассоциация пенсионеров[1233].
Политические препятствия на пути пенсионных реформ особенно серьезны в тех странах, где социальная помощь пожилым людям самая щедрая, где отношение средней пенсии к средней заработной плате самое высокое, а пенсионные выплаты важны для большей части населения и для политически влиятельных избирателей средних классов. Все это особенно характерно для стран континентальной Западной Европы[1234]. Здесь группы влияния, лоббирующие сохранение действующих пенсионных порядков, могут оказать на правительство давление и заставить его либо отказаться от шагов, направленных на ограничение пенсионных обязательств, либо принять малозначительные, чисто косметические меры.
Меры, связанные с ограничением пенсионных обязательств, непопулярны. Это усиливает позиции политиков, которые поддерживают существующий порядок[1235]. Даже в странах со слабым рабочим движением нетрудно организовать массовый протест против попыток правительства ограничить социальные программы. Наглядный тому пример – Франция, где в профсоюзах состоит меньше 15 % рабочих, а профсоюзное движение разобщено. Однако, когда надо мобилизовать общество на защиту социальных гарантий действующей пенсионной системы, французские профсоюзы демонстрируют способность остановить предлагаемые правительством реформы.
В постиндустриальном мире правительства оказываются под двойным давлением: тенденция к старению населения, глобальная налоговая конкуренция вынуждают их сокращать социальные расходы или по меньшей мере ограничивать их рост; но непопулярность таких мер создает серьезные, часто непреодолимые препятствия на пути реформ.
Сочетание набора факторов – невозможность дальнейшего роста налоговой нагрузки, повышения пенсионного возраста и снижения отношения средней пенсии к средней заработной плате – оставляет мало свободы для маневра в поисках финансовых источников перехода к накопительной системе. Семьдесят лет назад, когда наиболее развитые страны формировали свои пенсионные системы, они без труда могли развивать накопительное страхование, не сталкиваясь с острейшей экономической и политической проблемой, которая встала перед ними сейчас. Но в то время было нелегко предвидеть возникшие сегодня реалии. Таково тяжелое бремя лидерства – учиться приходится на собственных ошибках. У стран догоняющего развития, к которым относится и Россия, есть преимущество: они могут воспользоваться опытом тех, кто уже прошел трудный путь проб и ошибок, заняться долгосрочными проблемами до того, как те встанут в полный рост и окажутся неразрешимыми.
§ 5. Проблемы систем социальной защиты в России
В России страхование рабочих на случай болезни начало формироваться после принятия IV Государственной Думой закона от 23 июня 1912 года. Предполагалось обязательное создание больничных касс. Аккумулированные в них средства расходовались на выдачу пособий, лекарств, материальной помощи[1236].
Представление о связанном с возрастом праве на получение пенсии не сразу получило распространение в СССР. Один из участников дискуссии по вопросу о формировании системы социального страхования в 1924 году писал: «…Фарисейское уважение к сединам и морщинам – шутка, чуждая пролетарской морали… Если ты старик и способен еще к труду – работай. А лишился трудоспособности – получай пенсию”[1237].
Постепенно ситуация меняется. К концу 1920‑х годов пенсионным обеспечением по старости были охвачены преподаватели высших учебных заведений, рабочие текстильной промышленности, затем ведущих отраслей тяжелой промышленности. В 1932 году пенсионное обеспечение по старости было предоставлено всем рабочим. В 1964 году был принят Закон “О пенсиях и пособиях членам колхозов”, который предусматривал с 1965 года для колхозников выход на пенсию для мужчин с 65 лет, для женщин – с 60 лет. В 1968 году колхозники получили право на пенсию по старости с того же возраста, что и рабочие и служащие[1238].
Опыт пенсионных реформ, направленных на увеличение доли накопительной компоненты, подобных чилийской, но, как правило, менее радикальных, оказал серьезное влияние на эволюцию пенсионных систем в постсоциалистических странах[1239].
Постсоциалистический кризис, увеличение безработицы стимулировали широкое распространение досрочного выхода на пенсию как способа смягчения проблем на рынке труда. Отсюда необычно высокие даже по сравнению с наиболее развитыми странами темпы роста числа пенсионеров, приходящихся на одного работающего. В Болгарии в 1990 году на 100 занятых приходилось 58 пенсионеров, в 1996 году – 76; в Венгрии – соответственно 45 и 75, в Польше – 43 и 58, в Словакии – 51 и 62, в Хорватии – 38 и 83, в Чехии – 55 и 63 пенсионера[1240]. В России в 1991 году на 100 занятых приходилось 46 пенсионеров и в 2002 году – 59[1241].
В Польше в период начала экономических реформ было принято законодательство, которое вывело страну в число лидеров по доле расходов на пенсионное обеспечение в ВВП (16 %)[1242]. И это до масштабных изменений возрастной структуры населения, которые произойдут в первой половине XXI в.
Первой из постсоциалистических стран пенсионную реформу, направленную на создание элементов обязательного накопительного пенсионного страхования, провела Венгрия в 1998 году. На постсоветском пространстве пионером стал Казахстан[1243]. В 1999 году пенсионная реформа, основанная на сходных принципах, предполагающая сочетание государственного распределения пенсий, обязательно регулируемой государством накопительной пенсии и добровольно-накопительного пенсионного страхования, началась в Польше.
В России работа, связанная с глубокой пенсионной реформой, началась в 1995 году[1244]. В 1997 году основные контуры пенсионной реформы были выработаны и одобрены правительством. Однако из-за политических причин (отсутствие поддержки парламентского большинства) к практическому проведению реформ удалось приступить только в 2001–2002 годах.
Принятые в 2001–2002 годах решения заменили доставшуюся в наследство от Советского Союза и первого постсоветского десятилетия распределительную систему, в рамках которой пенсионные права были слабо связаны с трудовым вкладом и предшествующими отчислениями в пенсионный фонд, конструкцией, включающей:
1) минимальную плоскую социальную пенсию, гарантируемую всем российским гражданам по достижении пенсионного возраста, финансируемую за счет социального налога;
2) условно-накопительную компоненту – дополнительные выплаты, превышающие гарантируемую минимальную пенсию; в рамках данной компоненты пенсионные права четко зависят от объема предшествующих отчислений;
3) собственно накопительную часть пенсионной системы, где происходит реальное аккумулирование средств на индивидуальных счетах граждан (в 2002 году на эти цели были направлены отчисления в размере 2 % выплачиваемой заработной платы, к 2006 году этот размер должен быть увеличен до 6 %). Граждане имеют право самостоятельно выбрать – хранить им пенсионные накопления в государственном Пенсионном фонде или в одном из лицензированных государством негосударственных пенсионных фондов[1245]. Хотя некоторые важные проблемы остались неурегулированными (перестройка системы профессиональных пенсий, связанных с особыми условиями работы, изменения в законодательстве о негосударственных пенсионных фондах и т. д.), принятые решения позволили повысить устойчивость пенсионной системы, подготовиться к тем проблемам, с которыми стране придется столк нуться с конца текущего десятилетия. Был сделан шаг в правильном направлении, но это именно первый шаг, не решающий совокупности долгосрочных проблем[1246].
Расчеты показывают, что при сохранении в неизменном виде сформированных в ходе реформы 2001–2002 годов контуров пенсионной системы стране во втором десятилетии текущего века придется столкнуться с проблемой выбора между повышением налогов на заработную плату, пенсионного возраста или снижением соотношения средней пенсии к средней заработной плате[1247]. Как показывает опыт, раннее внимание к долгосрочным проблемам пенсионной системы позволяет снизить социальные и экономические издержки, связанные с необходимостью ее серьезного изменения. Сложившиеся в России уровни минимального возраста выхода на пенсию мужчин и женщин с учетом средней продолжительности жизни пенсионеров не являются беспрецедентно низкими. Средняя продолжительность предстоящей жизни после выхода на пенсию в России близка к этому показателю в постиндустриальных странах (табл. 12.6).
Таблица 12.6. Минимальный пенсионный возраст и средняя продолжительность жизни пенсионера в некоторых странах[1248]
Источник: . OECD Statistical and Analytical Information on Ageing. Table 23; . The World’s Women 2000: Trends and Statistics. Table 3. A; . National Vital Statistics Report. Table 7; . Population, Life Expectancy; . Population and Migration, Population, Life Expectancy.
К концу XX в. коэффициент поддержки пенсионеров в России был на уровне более низком, чем в развитых постиндустриальных странах. Это было связано с низким пенсионным возрастом, распространением практики льготного пенсионирования. На протяжении первого десятилетия XXI в. в связи с последствиями демографической волны, связанной с падением рождаемости в ходе Второй мировой войны, отношение числа людей в трудоспособном возрасте к числу пенсионеров будет изменяться в благоприятную для проведения пенсионной реформы сторону. Выход из трудового возраста малочисленных возрастных когорт рождения начала 1940‑х годов и вступление в трудовой возраст детей, родившихся у родителей послевоенного поколения – второй половины 1940–1950‑х годов, гарантируют до 2007 года рост числа работников, приходящихся на 1 пенсионера. Лишь в 2008 году начнется ускоряющийся рост нагрузки на работающих, связанный со вступлением в пенсионный возраст относительно многочисленных возрастных когорт послевоенной волны высокой рождаемости. Поэтому ключевое значение для выработки и реализации пенсионной реформы в России играет фактор времени. Если не реализовать радикальную стратегию пенсионной реформы, направленную на расширение доли накопительной части пенсионного страхования, форсированное развитие стимулируемых государством систем добровольного пенсионного страхования, Россия столкнется с теми же проблемами в этой области, которые сегодня стоят перед странами – лидерами экономического роста: очевидная невозможность сохранить контуры сложившейся системы пенсионного обеспечения и отсутствие финансовых ресурсов для ее глубокой реформы.
При закреплении норм поведения постиндустриального общества, снижении уровня алкоголизма, адаптации российского здравоохранения к задачам профилактики и лечения массовых неинфекционных заболеваний, как это и предполагалось в рассмотренных выше вариантах сценарного прогноза численности населения на долгосрочную перспективу, время предстоящей жизни пенсионера после выхода на пенсию при неизменности пенсионного возраста увеличивается. Вместе с долгосрочным сокращением численности трудоспособного населения такой благоприятный сценарий создает и новые проблемы пенсионной системы: необходимость увеличения возраста выхода на пенсию, что трудно реализовать в демократическом обществе со значительной долей пожилого населения.
Важнейшее направление изменений, позволяющих уйти от административного повышения возраста выхода на пенсию или по меньшей мере сделать эти изменения более мягкими, растянутыми по времени, – увеличение накопительной компоненты в пенсионной системе, усиление связанных с ней стимулов. При накопительной системе вопрос о минимальном пенсионном возрасте теряет остроту. Работающий обеспечивает средства для выплаты себе пенсии, ее уровень определяется накопленными взносами. Свобода выбора срока выхода на пенсию не создает дополнительной нагрузки на государственную пенсионную систему. Однако возможности дальнейшего наращивания накопительной компоненты в составе налогов на заработную плату, поступающих в пенсионную систему, ограничены ростом нагрузки на распределительную часть пенсионной системы, обусловленную изменением соотношения числа пенсионеров и числа работающих. Возможно решение, позволяющее повысить роль стимулов, связанных с накопительной пенсионной системой, и ее значение в обеспечении адекватного уровня доходов пенсионеров: дополнение обязательных отчислений добровольными отчислениями работодателей и работников.
В рамках смешанной накопительной и распределительной пенсионных систем то, в какой степени отчисления, направляемые на финансирование накопительной части пенсии, воспринимаются как налог, во многом зависит от режима расходования этих средств. Чем большую свободу выбора имеет работник, чем более четко гарантированы права наследования накопительных пенсий, тем в большей степени отчисления в рамках пенсионной системы являются не налогом, а налоговой льготой, формой оплаты, не облагаемой подоходным и социальным налогами. Для России проблема наследования прав на пенсионные отчисления обостряется тем, что значительная часть населения не доживает до возраста выхода на пенсию (табл. 12.7, 12.8).
Изменения пенсионного законодательства, обеспечивающие четкие и однозначные права наследников на средства, аккумулированные в рамках накопительной пенсионной системы (ее обязательной и добровольной частей), позволили бы создать дополнительные стимулы для работающих и работодателей без новых проблем для распределительной пенсионной системы.
Важнейшая долгосрочная проблема функционирования накопительной пенсионной системы – обеспечение ее устойчивости, в том числе устойчивости в условиях, характерных для постиндустриального развития, быстрых изменений мировой экономической конъюнктуры. Для России, как и для многих стран догоняющего развития, эта проблема усугубляется масштабными колебаниями цен на энергетические и сырьевые товары, которые по меньшей мере в ближайшие десятилетия будут иметь значительный удельный вес в объеме экспорта и доходах бюджета, а также слабостью финансового сектора, низкой долей денег в ВВП, зависимостью инфляционных ожиданий и темпов инфляции от динамики валютного курса. Отсюда повышенные риски, связанные с вложением долгосрочных пенсионных накоплений в российские ценные бумаги. При благоприятном развитии страны они могут быть высокодоходными, но все же останутся недостаточно надежными.
Таблица 12.7. Число не доживающих до 55, 60 и 65 лет из 100 доживших до 20 лет (Россия, 1965–1995 годы)
Источник: Вишневский А. Г., Андреев Е. М., Трейвиш А. И. Перспективы развития России: роль демографического фактора: Научные труды ИЭПП № 53Р. М., 2003. С. 40 ().
Таблица 12.8. Доля наследования, или вклад умерших при разных пенсионных границах в условиях российской смертности соответствующих лет, %
Источник: Вишневский А. Г., Андреев Е. М., Трейвиш А. И. Перспективы развития России: роль демографического фактора: Научные труды ИЭПП № 53Р. М., 2003. С. 41. ().
Смысл пенсионной реформы в том, чтобы в условиях стареющего общества, высокой доли государственных обязательств в ВВП диверсифицировать риски, обеспечить надежность, долгосрочную устойчивость пенсионных систем[1249]. Эффективность преобразований, направленных на формирование накопительной пенсионной системы, зависит от того, в какой мере пенсионные накопления диверсифицированы, не концентрируются в государственных ценных бумагах стран, внедряющих накопительную пенсионную систему. На первых этапах перестройки пенсионной системы в России добиться такой диверсификации не удалось. Это остается нерешенной стратегической задачей.
Колебания показателей мирового экономического роста в долгосрочном плане меньше, чем колебания темпов экономического роста отдельных стран. Диверсификация активов пенсионных фондов, расширение в их составе высоконадежных активов стран – лидеров постиндустриального развития позволяют снизить риски, связанные с их концентрацией в активах собственной страны. Принятое в России в 2002 году законодательство позволяет постепенно увеличивать долю иностранных активов, аккумулированных в системе обязательного накопительного пенсионного страхования, с 5 до 20 % средств[1250]. Повышение доли активов, вложенных в диверсифицированный портфель высоконадежных иностранных ценных бумаг, – необходимый шаг в обеспечении гарантий сохранности пенсионных средств, укреплении доверия населения к накопительной пенсионной системе.
То, что Россия на относительно раннем этапе развития смогла начать глубокую пенсионную реформу, позволило повысить шансы на обеспечение долгосрочной устойчивости пенсионной системы, улучшило перспективы ее развития в XXI в. Однако то, что в результате социалистической индустриализации процесс изменения возрастной структуры населения шел в России необычно быстро (см. гл. 10) в сочетании с низким возрастом выхода на пенсию (60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин), широким распространением категорий, имеющих право на досрочное пенсионирование, создает серьезные риски.
С учетом финансовых ограничений, невозможности масштабного финансирования распределительной пенсионной системы за счет общих доходов бюджета (см. гл. 11) и существенного ускорения наращивания доли накопительной компоненты в системе обязательного пенсионного страхования возможным остается путь форсированного наращивания компоненты добровольного пенсионного страхования. Так, в США фактор, повышающий долгосрочную устойчивость пенсионной системы, – развитие ее частной компоненты. В 1962 году 18 % лиц в возрасте, превышающем 65 лет, получали частные пенсии. К 1990 году их доля достигла 44 %. Доля доходов, получаемых из данного источника, составляла в 1990 году 18 %[1251].
К настоящему времени роль независимых пенсионных фондов в экономике России остается скромной. Число их участников, по данным на 1 июля 2003 года, составило 5 млн человек. По итогам 2003 года доля накопленных в них резервов составляет лишь 0,7 % ВВП[1252].
Существенным препятствием к быстрому развитию добровольного пенсионного страхования являются решения, принятые в ходе налоговой реформы 2000–2001 годов[1253]. Налоговые льготы для систем добровольного пенсионного страхования – распространенная мировая практика. Различаются их формы: от льгот по уплате подоходного налога и других форм обложения заработной платы с последующим налогообложением пенсионных доходов, получаемых в рамках системы добровольного страхования, до систем, в которых взносы в фонды добровольного пенсионного страхования облагаются налогом, а выплаты освобождаются от подоходного налога, как и от других налогов на фонд заработной платы.
В России в рамках налоговой и пенсионной реформ была выбрана модель, при которой предусматривалось освобождение выплат в фонды добровольного пенсионного страхования от налогов, но в крайне ограниченных пределах (до 2 тыс. руб.). Впоследствии эта норма было повышена до 5 тыс. руб.[1254].
Основанием для этих решений было стремление уйти от использования схем добровольного пенсионного страхования для уклонения от налогообложения. Опыт применения введенной в 2001–2002 годах системы показал, что установление жесткого верхнего предела сумм пенсионных отчислений, освобождаемых от налогов, неоправданно. Фиксация же предела таких освобождений, как доли облагаемого налогом дохода, будет стимулировать легализацию заработной платы, способствовать развитию системы добровольного пенсионного страхования, повышению долгосрочной устойчивости пенсионной системы.
С точки зрения повышения заинтересованности высокодоходных групп населения в формировании пенсионных накоплений нет смысла и в сохранении количественного ограничения масштабов ежегодных пенсионных накоплений в рамках системы обязательного пенсионного страхования (17 870 руб. в год)[1255]. Логичным шагом в развитии пенсионной реформы было бы освобождение от уплаты единого социального налога той же доли доходов в случае ее перечисления на цели добровольного пенсионного страхования[1256].
Глава 13 Эволюция систем образования и здравоохранения
§ 1. Организация государственной системы образования
В традиционном аграрном обществе просвещение простого народа отнюдь не входило в число приоритетов властей. Как писал один из древнекитайских классиков – Лао-цзы, “в древности те, кто следовал дао, не просвещали народ, а делали его невежественным. Трудно управлять народом, когда у него много знаний. Поэтому управление страной при помощи знаний приносит стране несчастье, а без их помощи приводит страну к счастью. Кто знает эти две вещи, тот становится примером для других”[1257].
Специфика эволюции Западной Европы (см. гл. 7) привела к тому, что еще до начала современного экономического роста уровень образования здесь был выше, чем в подавляющей части остального мира[1258] (табл. 13.1).
Сказывались более высокий уровень урбанизации в Западной Европе, больший вес торговли и промышленности в структуре занятости. Важным фактором лидерства Западной Европы с середины XVII в. было то, что ее ведущие государства сумели реорганизовать систему начального образования, использовать преимущества, которые дают печать и массовое производство учебников[1259].
Таблица 13.1. Доля населения, охваченного теми или иными видами формального обучения, %
Источник: Мельянцев В. А. Экономический рост стран Востока и Запада в долгосрочной перспективе: Автореф. дис. д-ра экон. наук. М., 1995. С. 222.
Сама организация системы образования по сути не отличалась от той, что существовала в предшествующие столетия. Государство практически не участвовало в предоставлении образовательных услуг и организации обучения. Считалось, что учебные заведения могут содержать себя сами, государственного финансирования не требуют.
В большей части Европы школы и университеты либо вовсе не обременяли государственную казну, либо забирали из нее не много. Их содержали за счет местных доходов, ренты с земельных владений или процентов с капитала, который предоставляли для этого государь или чаще меценаты.
В образовательном процессе активное участие принимала церковь, организовавшая сеть воскресных школ, в которых единственным учебным текстом была, как правило, Библия. Образовательная система оставалась сословной, ориентированной на сохранение социальной стратификации[1260].
Индустриализация, предполагающая новый уровень спроса на навыки и знания работающих, требует более высокого уровня образования. Для властей постепенно становится очевидной необходимость массового распространения грамотности. Политическая активизация низкодоходных групп населения, их интеграция в политический процесс также повышают потребность в образовании непривилегированных классов. Однако в Англии, стране, которая тогда была лидером современного экономического роста, адаптация образовательных институтов к изменившимся условиям проходила медленно.
До 1870 года ориентированные на привилегированную элиту школы в Англии принадлежали частным или религиозным организациям. Все они, кроме приходских школ в Шотландии, были платными. Лишь состоятельные люди располагали возможностью дать своим детям образование выше начального. Половина населения Британии формального образования не имела. Это способствовало сохранению архаичной классовой структуры в эпоху быстрых социальных перемен. С течением времени слабость английского массового образования стала одним из факторов, лишившим Великобританию роли лидера современного экономического роста.
Государство в Англии начало регулировать и финансировать образование лишь в 1833 году, когда были выделены первые гранты нескольким протестантским школам. С 1847 года начинается финансирование подготовки учителей. Однако, даже выделяя бюджетные ресурсы, власти долгое время отказываются принимать участие в организации образовательного процесса.
Консерватизм, медленная адаптация к изменившимся условиям и новым потребностям характерны для Англии того времени. Успехи промышленного развития, рост экономической и военной мощи страны убеждают английскую элиту в совершенстве национальных институтов, в отсутствии необходимости изменений. Только в 1870 году был принят Акт об образовании, который хотя бы в принципе предоставил каждому юному британцу возможность учиться. Школьные советы получили право (но не обязанность) обеспечивать начальное образование, используя местные доходы и государственные средства. Посещение школ для детей от 5 до 10 лет стало обязательным (по закону 1880 года) и практически бесплатным (по закону 1891 года). Постепенно сформировалась система обязательного начального образования, финансируемого государством. К 1900 году неграмотным оставалось лишь 3 % населения Великобритании[1261]. Подобная эволюция стала возможной благодаря участию государства в организации финансирования обучения – к тому времени стало очевидным, что образованные работники более продуктивны, распространение массового образования способствует экономическому росту.
В континентальных западноевропейских странах ситуация иная. Вызов уходящей вперед Англии подталкивает их к большей инициативе, к политике, которая способна подстегнуть экономический рост. Поэтому они делают ставку на инновации, направленные на его стимулирование. Поскольку ускоренное развитие в XIX в. очевидно связано с прогрессом знаний, одна из первых идей в этом ряду – активное участие государства в развитии образования[1262].
Швеция была одной из первых стран Европы, которая ввела массовое обязательное и продолжительное начальное образование. С 1842 года все шведские дети должны были получать образование в течение 6 лет[1263]. Первой среди крупных европейских держав формировать систему массового начального образования под эгидой государства начинает Пруссия[1264]. В стране повышается уровень грамотности, растет средняя продолжительность обучения. Другим европейским государствам эта реформа приносит неожиданные и серьезные сюрпризы.
Пруссия вводит, опять-таки первой, всеобщую воинскую обязанность в мирное время при сравнительно коротком по стандартам середины XIX в. сроке службы – 3 года. Широкое распространение грамотности позволяет обеспечить высокий уровень военной подготовки в достаточно короткий срок[1265]. Это дает возможность формировать мощный боеспособный резерв, который призывается в случае войны. После франко-прусской кампании 1870–1871 годов в ходу было суждение: при Седане победил не кто иной, как немецкий учитель[1266].
Континентальные державы не ограничивались развитием начального образования. Многие из них создавали образовательные учреждения, ориентированные на естественнонаучную и техническую подготовку, рассматривая их как инструмент ускорения экономического роста. И это также становится важным направлением в политике индустриального развития. В Англии с ее традицией классического образования такие образовательные учреждения, немногочисленные и не пользующиеся государственной поддержкой, оставались бедными родственниками старых университетов. Данные табл. 13.2 характеризуют разницу масштабов распространения высшего образования в Великобритании и в странах континентальной Западной Европы.
Таблица 13.2. Число студентов на 1000 человек во Франции, Германии и Великобритании в 1930–1980 годах
Примечание. 1980 год для Германии – данные по ФРГ.
Источник: Расчет по: Mitchell B. R. International Historical Statistics. Europe 1750–1993. London: Macmillan Reference LTD, 1998.
Государство осознает, что начальное образование – фундамент боеспособной массовой армии, и поэтому активно участвует в его организации. К началу прошлого столетия в Западной Европе широкое распространение получают системы обязательного начального образования с государственным финансированием. Даже Англия, пусть и со значительным опозданием по сравнению с другими странами с сопоставимым уровнем развития, вынуждена пойти по этому пути. Однако чисто британские традиции сословного общества продолжали сказываться на эволюции системы образования[1267].
За столетие в Великобритании и Франции государственные расходы на образование возрастают с 0,2–0,3 % ВВП (в начале XIX в.) до 1,3–1,5 % (в Великобритании) и 1,6–1,7 % (во Франции)[1268]. На заре промышленной революции доля грамотных среди взрослого населения превышала половину лишь в трех странах – в Германии, Англии и США. К началу Первой мировой войны в этих государствах, а также во Франции она составляла уже около 90 %. Интенсивность образовательного процесса, развитие средней и высшей школы, профессиональной подготовки, увеличение средней длительности обучения – все эти показатели опережали рост грамотности. За век с небольшим (1800–1913 годы) средняя продолжительность обучения повысилась в Италии с 1,1 до 4,8 года, в Японии – с 1,2 до 5,4, во Франции – с 1,6 до 7, в Великобритании – с 2 до 8,1, в США – с 2,1 до 8,3, в Германии – с 2,4 до 8,4 года[1269].
В США, где в XIX в. военное строительство практически не влияло на эволюцию системы образования, развитие последнего было связано с другими обстоятельствами и тенденциями, характерными для Америки XVIII–XIX вв.: это децентрализация управления; роль местной самоорганизации и местных органов власти; более раннее, чем в Европе, появление всеобщего избирательного права; представление о том, что обучение детей престижно, является одним из приоритетов достойной семьи и местного сообщества. Организация школьного образования становится здесь прерогативой и одной из важнейших функций местного самоуправления. Отсюда открытый характер школы, ее общедоступность, отсутствие централизованного бюрократического контроля за программой и содержанием обучения, инициируемые снизу общественные движения, ставящие перед собой цель повышать качество образования и расширять круг обучаемых[1270]. Все это привело к необычайно быстрому развитию среднего образования в Соединенных Штатах.
К началу Первой мировой войны начальное образование в Западной Европе, дававшее минимальные навыки письма, чтения и счета, стало практически всеобщим. Однако среднее образование, которое получали дети в возрасте 11–16 лет, по-прежнему оставалось доступным лишь представителям высших классов. Его задачей была подготовка для поступления в университеты. В Соединенных Штатах в это время среднее образование становится массовым. Наряду с базовыми предметами школьники изучают иностранные языки, получают естественнонаучные и другие полезные в повседневной жизни и работе знания. По уровню развития школьного образования США в это время опережают ведущие европейские государства на 3–4 десятилетия.
К середине XX в. в странах – лидерах современного экономического роста сформировалось общественное согласие по вопросу об обязанности государства создавать систему бесплатного и обязательного начального и среднего образования и по меньшей мере содействовать развитию высшего образования.
В это же время политические элиты убеждаются в возможности и необходимости использовать образование в своих странах не только для подготовки кадров, но и для решения социальных задач, в том числе для уменьшения неравенства в обществе. В самом деле, уровень образовательной подготовки – важнейший фактор, определяющий возможности социального продвижения. Необходимо предоставить всем группам населения, в том числе выходцам из слоев с низкими доходами и социальным статусом, равные возможности получать образование. Однако для социального выравнивания общества этого недостаточно. Низшие, бедные слои все равно остаются в неблагоприятном положении по сравнению со средним классом: доступ к дополнительному образованию для них ограничен – сказываются семейные традиции, влияние низкого уровня образования старшего поколения. Говорить надо не о равенстве возможностей, а о равенстве результатов. Необходимо, чтобы дети из семей с разным статусом получали если не одинаковое, то по меньшей мере близкое по уровню образование. Подобные представления в 1960‑1980‑х годах оказали сильное влияние на развитие образовательных систем во многих развитых странах, их до сих пор разделяет значительная часть мировой образовательной элиты. Поскольку эти убеждения были по сути реакцией общества на пережитки традиций сословного образования, они хорошо вписывались в интеллектуальную атмосферу времени с характерной для тех лет верой в неограниченные возможности государства, его способность решать экономические и социальные проблемы.
Тезис о равенстве конечных результатов обучения как цели образовательной политики в дополнение к общепринятому взгляду на необходимость равного для всех доступа к образованию выдвинул Д. Колеман, один из авторитетных авторов, работавший в эти годы над образовательной проблематикой. Разумеется, речь идет о равных результатах применительно к социальным группам, а не к отдельным личностям. Такой подход требует активных действий государства, направленных на выравнивание уровня и качества образования, которое получают разные слои общества[1271]. Убежденность в том, что важнейшей задачей образования является сокращение разрыва между элитой и массами, остается, например, одной из наиболее распространенных, укорененных идей, определяющих политику лейбористской партии Великобритании.
Сторонники концепции “равенства результатов” стремились сделать учебный процесс максимально универсальным, исключить возможность формирования школ разных типов. Их ключевой аргумент: нестандартные учебные заведения, особенно те из них, которые ориентированы не на подготовку к поступлению в вузы, а только на приобретение учащимися узкопрофессиональных навыков, являются инструментом социальной дискриминации. В Англии именно такая аргументация привела к отказу от созданных после вой ны трех типов средней школы и единообразному для всей страны обучению со стандартизированным набором предметов и программ.
Когда у родителей есть право и возможность выбирать школу, в которой учатся их дети, возникает опасность, что выходцы из более обеспеченных семей попадут в лучшие учебные заведения, где соберутся самые подготовленные ученики. И это приведет к еще большей дифференциации в качестве образования[1272]. Если отбор учеников в школу сопровождается тестированием, выходцы из более обеспеченных семей получают преимущества[1273].
Из логики “равенства результатов” органично вытекает линия на ограничение права родителей выбирать школу или на полный отказ в таком праве: учиться следует по месту жительства. Поскольку образование должно быть общедоступным и гарантировать “равенство результатов”, а уровень подготовки детей из разных семей неодинаков, подобная логика фактически ориентирует (хотя и не провозглашает это открыто) учебный процесс на самых слабых учеников. Последствия для качества образования очевидны.
Продукт эгалитарной идеологии – общая школа для детей из среднего и рабочего классов – вот идеал сторонников стандартного комплексного учебного заведения. Дальше – больше. Если недопустимо принимать учеников в школу, ориентируясь на их способности, то нельзя отказывать в приеме по причине отсутствия каких бы то ни было способностей. Отсюда объективная тенденция к снижению требований к ученикам, поступающим в общую школу и обучающимся в ней.
Начиная с середины XX в. линию на “равенство результатов” разные страны проводили с неодинаковой жесткостью и последовательностью, но ее влияние на организацию мирового образовательного процесса оставалось в то время значительным. При выборе приоритетов – образование или социальное равенство – предпочтение отдавали последнему[1274].
Образование оказывает серьезное влияние на экономическое развитие государства. Но это проявляется не сразу. Англия стала отставать от своих основных конкурентов в формировании широкой системы начального образования во второй половине XIX в., но экономическое лидерство утратила лишь в первой половине следующего столетия. Последствия принятых или непринятых решений в сфере образования проявляются десятилетия спустя[1275]. Успешно сформированная американская система массового среднего образования помогла стране занять спустя несколько десятилетий доминирующее положение в мире XX в. К его середине это стало очевидным. Когда высокоиндустриальному обществу потребовались сотни тысяч работников, не только обладающих элементарными навыками чтения и письма, но и способных стать техниками, механиками, конторскими служащими, машинистками, медицинскими сестрами, американская образовательная система оказалась готовой поставлять такие кадры в массовых масштабах. Разница в качестве образования ярко проявилась в конце Второй мировой войны. Правительство Великобритании предоставило своим ветеранам возможность завершить среднее образование, а в США Закон о правах ветеранов гарантировал им получение высшего образования за счет государства[1276]. Эта гарантия была подкреплена тем, что в большинстве своем молодые американцы – участники войны успели перед мобилизацией окончить среднюю школу.
Когда следующий этап экономического развития – постиндустриальный переход – потребовал массовой подготовки специалистов с высшим образованием, способных работать инженерами, врачами, квалифицированными служащими сферы услуг, в США была образовательная база, способная удовлетворить спрос на работников такого уровня.
Представление о том, что образование позитивно влияет на экономическое развитие страны, было широко распространено уже в XIX в. В середине 1950‑х годов экономические исследования, основанные на обширной статистике, наглядно продемонстрировали связь экономического роста с накоплением человеческого капитала, в том числе с продолжительностью обучения[1277]. С этого времени увеличение расходов на образование, охват им населения и длительность учебы считаются важнейшими инструментами, которые ускоряют экономическое развитие[1278]. Быстрый рост расходов на образование и их доли в ВВП в последующие десятилетия позволяет ограничить негативное воздействие политики социального выравнивания на качество образовательного процесса. Во второй половине прошлого столетия сначала США, а затем и другие высокоразвитые страны вступают в новую стадию развития: доля промышленности в ВВП падает, доля услуг возрастает. В 1956 году американские “белые воротнички” опережают по численности количество “синих”. Быстро растет спрос на специалистов с высшим образованием. Основой рабочей силы в индустриальном обществе были рабочие не очень высокой квалификации, на их обучение стандартным операциям требовалось несколько недель. С переходом к экономике, где доминирует сфера услуг, растет спрос на квалифицированную рабочую силу и управленцев. В 1950‑1970‑е годы в США число должностей, требующих высшего образования, увеличивается вдвое быстрее численности рабочих[1279]. В Америке и Западной Европе среднее образование становится нормой; среди работающих растет доля выпускников университетов. Постиндустриальный мир с характерным для него уменьшением относительной численности тех, кто представляет массовые рабочие профессии, ростом спроса на менеджеров и специалистов, предъявляет высокие требования к уровню образования (табл. 13.3).
Технологические перемены вынуждают работников приобретать новые производственные навыки, учиться на протяжении всей трудовой деятельности. Создание и применение новых знаний становится важнейшей отраслью экономики. Ускоряются темпы их накопления, формируется потребность в непрерывном образовании, постоянном повышении квалификации.
Авторам, которые изучали специфику постиндустриального общества, дальнейшее повышение роли образования в экономике и обществе, увеличение доли расходов на образование в ВВП представлялись естественными и неизбежными процессами. С конца 70‑х годов XX в. события развиваются иначе. В большинстве развитых стран полуторавековой быстрый рост доли государственных расходов на образование в ВВП либо замедляется, либо останавливается. Замедление роста или даже стабилизация доли расходов на образование в ВВП – результат финансового кризиса постиндустриальной эпохи, развитие которого рассматривалось в предыдущих главах (табл. 13.4).
Как было показано, постиндустриальные государства вышли на верхние пределы возможностей мобилизации налоговых доходов, а сформированные десятилетиями раньше расходные обязательства требуют увеличивать долю социальных программ в ВВП. Что касается пенсионных систем и систем финансирования здравоохранения, то для них старение населения автоматически ведет к росту расходных обязательств. Остановить этот процесс можно, лишь проведя тяжелые и непопулярные реформы. В образовании механизм увеличения расходов не столь жесток. Более того, здесь наблюдается противоположная тенденция: доля младших возрастных групп, на которую падает значительная часть образовательных расходов, в численности населения сокращается. Вот почему в подавляющем большинстве стран – лидеров современного экономического роста приоритеты финансовой политики в социальной сфере ориентированы не на систему образования, а на пенсионную систему и систему здравоохранения.
Таблица 13.3. Средняя продолжительность обучения в ведущих развитых странах, число лет
Источник: Maddison А. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OECD, 1995. P. 37; UN Statistics Division (); UNESCO Institute for Statistics ().
Таблица 13.4. Доля государственных затрат на образование в ВВП крупных развитых стран, %[1280]
Источник: 1 National Center for Education Statistics. Digest of Education Statistics, 2001. Table # 29: Total Expenditures on Educational Institutions Related to Gross Domestic Product, by Level of Institution: 1929–30 to 2000–01. .
2 (Если не указано иного.) OECD Education, Statistics. Education at a Glance 2001 – List of Indicators. Table B2.1a Expenditure on Educational Institutions Relative to GDP. .
3 (Если не указано иного.) Базы данных ООН: .
Компенсировать неэффективность сформированной в 50‑70‑х годах прошлого века системы образования, прежде всего образования школьного, быстро увеличивая направляемые сюда потоки ресурсов, как это делалось в предшествующие десятилетия, оказывается невозможным. Между тем в обществе широко распространены представления о том, что государство располагает безграничными ресурсами и способно заплатить за все, а частные средства, которые направляются на финансирование образования, только мешают решать социальные задачи. Поэтому государство нередко не только не стимулирует негосударственные расходы на образование, но и препятствует их увеличению.
Учебные заведения, финансируемые из частных источников, существуют в большинстве постиндустриальных стран. Делая выбор в пользу такой школы, родители снимают с государства ответственность за финансирование учебы своих детей. Они не имеют права дополнить государственные средства собственными, а могут лишь полностью отказаться от помощи государства. При этом они остаются налогоплательщиками, средства которых идут на образовательные нужды других семей. Такое могут себе позволить лишь самые обеспеченные. Когда из-за нехватки финансовых ресурсов положение государственных школ ухудшается, частные учебные заведения становятся инструментом социальной сегрегации[1281].
Притчей во языцех стало низкое качество обучения в государственных школах Вашингтона[1282]. Большая часть американской политической элиты против того, чтобы дать родителям право выбирать школу для своих детей или ввести систему образовательных ваучеров, предоставляющую им такую возможность. При этом подавляющая часть сенаторов, конгрессменов, высокопоставленных чиновников исполнительной власти учит своих детей в частных учебных заведениях[1283]. В Великобритании, которая на протяжении десятилетий проводила политику социального выравнивания с помощью комплексной школы, всегда сохранялась система платных школ, из которых вышла преобладающая часть политической и экономической элиты[1284].
В системе государственного образования, которая не позволяет родителям выбирать школу для своих детей, действует набор факторов, снижающих эффективность образовательных учреждений. При отсутствии конкурентной борьбы за учеников, бюджетном финансировании, не связанном с результатами учебного процесса, школа не заинтересована прилагать усилия к повышению качества образования, а если делает это, то создает дополнительные проблемы для детей, чья успеваемость хуже, чем у их ровесников, а такие дети чаще всего происходят из не очень обеспеченных семей. Образование – консервативная система. Если в стране традиция ориентирует школьное образование на высокие стандарты знаний, она долгое время сдерживает действие противоположных стимулов – к снижению качества учебного процесса. Долгое время, но не вечно.
Государственная школа – часть государственной машины. На нее, по крайней мере в большинстве развитых стран, распространяются принятые стандарты государственной службы. Один из важных в условиях демократии принципов последней – гарантии государственным служащим сохранения рабочих мест независимо от исхода очередных выборов. Перечень должностей, причисленных к политическим, применительно к которым приход новой политической команды чреват заменой работников, ограничен. Чтобы политические процессы не влияли на комплектование школьных кадров, учителя и другие сотрудники школ наделены правами госслужащих. Уволить их за профессиональную непригодность или слабые результаты работы сложно[1285]. При таком порядке комплектования кадров вышестоящие органы управления образованием не могут доверить школе набирать персонал самостоятельно. Подбор педагогов и их замена относятся к компетенции чиновников, которые непосредственно не участвуют в учебном процессе. Государственное бюджетное финансирование также предполагает жесткий контроль за бюджетом школы, лишает ее самостоятельности в расходовании средств[1286].
Еще одна проблема организации государственного школьного образования – тенденция к его политизации. Многие вопросы, имеющие отношение к учебному процессу и школьной программе, в демократических обществах вызывают идеологические и политические споры. Это касается и содержания учебников. Результаты очередных выборов, смена власти на национальном, субфедеральном или местном уровнях нередко приводят к смене политических ориентиров. А это затрагивает учебники и школьные программы[1287].
Сторонники сохранения сформировавшейся в 1960‑1970‑х годах модели стандартной школы, к которой, как крепостные, привязаны родители и дети, утверждают: неоспоримых доказательств негативного влияния этой модели на качество получаемого образования не существует. А наблюдаемое в большинстве развитых стран ухудшение образования может быть обусловлено другими факторами. Как бы то ни было вопрос о качестве школьного обучения в постиндустриальных обществах в последние десятилетия становится все более острым[1288].
Сталкиваясь с невозможностью выбирать государственную школу без смены места жительства, родители нередко поступают так, как поступали крепостные крестьяне в России до отмены Юрьева дня, – переезжают в другое место. Поскольку уровень учебного заведения во многом зависит от подготовки и усердия учеников, что, в свою очередь, связано с доходами, образованием и социальным статусом семей, то при отсутствии выбора без изменения места жительства высокообразованные и высокостатусные группы населения концентрируются в районах, где есть приличные школы, которые финансируются из более высоких (на душу населения) доходов местных бюджетов, сформированных благодаря налогам, оплачиваемым состоятельными налогоплательщиками. Хорошее финансирование и контингент детей с достаточной подготовкой и мотивацией к учебе – оба этих фактора способствуют повышению качества образования. Круг замыкается. Напротив, низкостатусные группы населения концентрируются в менее престижных районах – с низкими душевыми доходами местных бюджетов, с неудовлетворительным финансированием школ, с учениками, чьи способности, подготовка и учебная мотивация оставляют желать лучшего[1289]. Задуманная для социального выравнивания и сформированная в 50‑70‑х годах прошлого века государственная школа становится инструментом сегрегации. Особенно ярко это проявляется в США с характерной для страны высокой территориальной мобильностью населения[1290].
Проблемы существующей системы школьного образования вызывают оживленные дискуссии в обществе и политические дебаты[1291]. К середине 1970‑х годов в Англии рухнул существовавший долгое время консенсус по вопросу о развитии образовательной системы и целесообразности ее ориентации на социальное выравнивание. Кризис образовательной сферы побудил Дж. Каллагана (в те годы премьер-министра страны) открыть дискуссию о стратегии развития английского образования. К тому времени предприниматели все чаще стали выражать недовольство тем, что приходящие на предприятия молодые работники, выпускники учебных заведений, не обладают необходимой квалификацией.
К. Кокс, А. Диссон и Р. Байсон в своих работах доказывали, что английский эксперимент по введению комплексного образования провалился, привел к падению образовательных стандартов, что дух соревновательности и стремление к высокому качеству образования были принесены в жертву социалистическим представлениям о социальной справедливости[1292]. В подготовленном в это время докладе сторонников образовательной реформы отмечалось: “Необходимо помнить, что снижение качества английского образования было связано с тем, что школы рассматривались в качестве инструмента выравнивания, а не обеспечения образования детей. Достижения, конкуренция, самоуважение – все это было девальвировано и отрицалось. Обучение фактам уступило место изложению мнений. Обучение часто заменялось индоктринацией[1293]”[1294].
Необходимость реформы образования стала очевидной. Речь шла о предоставлении родителям права выбирать учебные заведения для своих детей, о соответствии государственного финансирования школы численности обучающихся, праве школьной администрации отбирать учеников, об использовании тестов, позволяющих родителям и педагогам получать адекватное представление о подготовке детей и качестве обучения, отказе от единой комплексной школы и о сосуществовании учебных заведений разных типов, объединенных общими требованиями к образовательным стандартам, возможности использовать как частное, так и государственное финансирование, наконец, о праве родителей отдавать ребенка в частную школу, используя для оплаты обучения ребенка причитающиеся ему средства из государственных источников[1295].
Каждое из перечисленных направлений реформы обсуждалось в разных вариантах. Предлагалось, например, позволить родителям выбирать для своих детей любую государственную школу, но без права перевода их в частное учебное заведение с сохранением государственного финансирования; выбирать школу только в пределах района; предоставить родителям право выбора, но часть мест в школе распределять по жребию среди жителей округа, где она расположена[1296].
Существуют различные варианты использования образовательных ваучеров – от последовательно либерального подхода М. Фридмана, при котором в максимальной степени увеличивается свобода выбора и возможность конкуренции образовательных учреждений, до существенно более ограниченных, в рамках которых возможность выбора пытаются сочетать с сохранением равенства доступа к образовательным услугам для выходцев из разных социальных групп населения. Основные принципы либерального подхода: свободно устанавливаемые цены, которые могут быть выше стоимости государственного ваучера; отсутствие дифференциации ваучеров по стоимости. Производителем образовательных услуг, на приобретение которых распространяется действие образовательного ваучера, могут быть как государственные, так и негосударственные вузы. Вузы обладают свободой при отборе потенциальных студентов (вправе использовать листы ожидания, вступительные экзамены или иные механизмы отбора)[1297].
Те, кто пытается совместить приоритеты социальной политики с использованием механизма образовательных ваучеров, предполагают, что доходы учебных заведений должны напрямую зависеть от числа обучающихся, которых удалось привлечь, исключают возможность взимания платы, превышающей стоимость ваучера, предлагают вводить компенсации (дополнительные компенсационные ваучеры) для детей из бедных семей, семей, относящихся к этническим меньшинствам. Предполагается также, что в учебных заведениях, где спрос превышает предложение, половина всех мест должна распределяться по специальной форме, установленной и регулируемой государством[1298].
Во многих странах-лидерах все это широко обсуждалось, но так и не вышло за пределы экспериментов[1299]. Лишь реформа 1988 года, проведенная в Великобритании правительством М. Тэтчер, привела к серьезным изменениям в системе образования крупной развитой страны. Но и здесь, в отличие от пенсионной реформы, где правительство в 1980‑х годах добилось глубоких структурных изменений, преобразования были ограниченными. Английские реформаторы осторожно провели в жизнь часть сформулированных выше принципов. Родители школьников получили значительную свободу в выборе государственных школ, а финансирование последних было поставлено в зависимость от числа учащихся. При сохраняющихся серьезных проблемах английской государственной школы в 1990‑х годах качество обучения обнаруживало тенденцию к росту. В других странах подобные изменения были заблокированы.
Оптимальный способ обеспечить диверсификацию школьного образования – разрешить школам выбирать учеников. Но это подорвало бы стремление к равноправию. Поэтому даже в Великобритании специализированные школы, которые должны быть на переднем крае движения к диверсификации, получили разрешение “отдавать приоритет” лишь 10 % учеников на основе их склонности (слово “способности” находится под запретом) к спорту, искусству, языкам и информационным технологиям. Это разрешение не касается большинства школьных предметов[1300].
Политологи давно обратили внимание на специфику английского политического процесса: опирающееся на парламентское большинство правительство обладает необычной для большинства демократических стран свободой маневра; система сдержек и противовесов здесь слаба. Исполнительная власть, убежденная в правильности избранной линии, способна провести необходимые реформы[1301]. В большинстве других демократий конституционные ограничения (разделение исполнительной и законодательной власти в президентских республиках; двухпалатные парламенты с существенными полномочиями верхней палаты; пропорциональные системы голосования, повышающие роль небольших партий в политическом процессе, и т. д.) позволяют даже не контролирующим правительство политическим силам блокировать реформы, которые в той или иной мере затрагивают интересы важных групп избирателей.
В постиндустриальном обществе образование – одна из сфер, в которой занята значительная часть избирателей. У этой группы электората широкие возможности самоорганизации. Ее интересы направлены на сохранение статус-кво. Хотя в успехах образования заинтересовано все общество, политику в этой сфере формируют те, кто непосредственно участвует в образовательном процессе. В США, например, профсоюзы учителей – одна из самых мощных лоббистских структур, поддерживающих демократическую партию. Они способны не только мобилизовать финансовые ресурсы, но и выделить армию активистов для работы в предвыборных кампаниях. Особенно велика роль учительских профсоюзов на выборах в штатах и муниципалитетах, где явка избирателей низкая. Сохранение существующей образовательной системы, которая не позволяет родителям выбирать государственную школу для своих детей, – политический приоритет этого лобби. Разумеется, в публичных дискуссиях о реформе образования ее противники аргументируют свою позицию не корпоративными интересами образовательного сообщества, а доводами о необходимости социального выравнивания, о недопустимости системы, которая приводит к концентрации лучших учеников в лучших школах.
Постиндустриальные общества столкнулись в сфере образования с характерными для этой стадии развития проблемами. Выработанные на более ранних этапах институциональные решения, удовлетворительно работавшие в условиях быстрого роста государственных финансовых ресурсов, несовместимы с новыми реалиями. Проблемы не могут быть решены с помощью дальнейшего увеличения доли государственных образовательных расходов в ВВП; они носят структурный характер и без глубоких реформ могут лишь усугубляться. Вместе с тем политические структуры зрелых демократий с характерной для них низкой политической активностью, развитой системой сдержек и противовесов, хорошо организованными группами интересов, стремящимися сохранить статус-кво, способны блокировать реформы.
Перепись 1897 года показала, что средний процент грамотности населения России составлял 21,1 %, т. е. грамотными являлись 26,5 млн человек из 125,6 млн всего населения[1302]. В 1900 году по показателям неграмотности Россия входила в тройку самых отсталых стран Европы, опережая лишь Румынию и Сербию. По количеству неграмотных среди новобранцев Россия опережала лишь Румынию.
В 1896–1910 годах в России происходит бурный рост числа учебных заведений. Между 1896 и 1910 годами было открыто больше школ, училищ и институтов, чем за весь предшествующий период российской истории[1303]. При этом по идущей от XIX в. традиции российское образование всегда было пронизано элитарными тенденциями и в связи с этим шло скорее по пути английского, чем континентального образовательного процесса. При низком уровне грамотности, впрочем, соответствующем российским показателям душевого ВВП, уровень высшего университетского образования был близок к тому, который характерен для стран – лидеров современного экономического роста[1304].
Образование было одним из приоритетов в рамках социалистической модели индустриализации в отличие от здравоохранения, по доле которого в ВВП социалистические страны существенно уступали странам – лидерам современного экономического роста. Доля образования в ВВП в развитых социалистических странах в конце 1980‑х годов превышала ту, которая была характерна для стран ОЭСР (соответственно 5,9 и 5,4 % ВВП)[1305].
Формально важнейшей целью советской образовательной системы было “расширение охвата населения однородными по составу и качеству услугами”[1306]. Однако реальность существенно отличалась от формально прокламируемых целей образовательной политики. Традиция элитарного образования не была прервана социалистическим экспериментом. Социалистические власти никогда не рассматривали образование в качестве инструмента социального выравнивания. Ярчайший пример этого – существование в 30‑е годы так называемых образцовых школ, где учились дети высшего руководства страны[1307]. Другой пример того, в какой степени руководство СССР считало малозначимым использование образования в качестве такого инструмента, – решение, принятое в 1940 году, о введении платы за образование в старших классах средней школы[1308]. В отличие от стран – лидеров современного экономического роста, в которых в 1950–1960 годах намечается тенденция к переходу к комплексной школе, ликвидируется деление учебных заведений школьного уровня на те, которые ориентированы на подготовку к дальнейшему обучению в университете, и иные, предполагающие более раннюю интеграцию в трудовую деятельность на ролях, не требующих высшего образования, в СССР в 1958 году было принято решение, ограничивающее обязательное образование 8 годами (с 7 до 15 лет). Предполагалось, что большинство учащихся должно получать дополнительное техническое образование, не ориентированное на обучение в университетах, либо в специальных учебных заведениях (ПТУ, техникумы), либо на рабочем месте[1309].
Система специальных школ с углубленным изучением иностранных языков, физики и математики, существовавшая в СССР в течение многих десятилетий, полностью противоречила сформировавшейся в 1970–1980 годы в странах – лидерах современного экономического роста концепции комплексной школы как образовательного учреждения, ориентированного именно на стандартизацию образовательного процесса. Недемократический режим, элита которого могла позволить себе обеспечить высокое качество образования своим детям без формальной платы за него, не нуждался в таком институте, как частные школы. Традиционной проблемой советского, затем российского образования было слабое обучение навыкам владения иностранным языком. Но, собственно, в советской школе такая задача и не ставилась. Такие знания считались привилегией детей политико-экономической элиты.
Проявление элитарных тенденций в современной российской системе образования, унаследованных от советского времени, отсутствие влияния той волны, которая распространилась в развитых странах в 60‑70‑х годах XX в., когда образование стало рассматриваться как инструмент социального выравнивания, – система стипендий в высших учебных заведениях. Эксперты ОЭСР в исследовании, посвященном высшему образованию в России, с недоумением отмечают: “Особый вопрос возникает в связи с выплатой вознаграждений за академические успехи. Разумеется, любое общество стремится к признанию и поощрению лучших студентов. Однако признание необязательно привязано к солидному денежному вознаграждению. Поскольку многие особо успевающие студенты происходят из обеспеченных семей, весьма вероятно, что назначение стипендий исключительно в зависимости от успеваемости обернется субсидированием тех, кто в нем менее всего нуждается. Система назначения стипендий, при которой потребности в материальной помощи учитывались бы наряду с успехами в учебе, была бы оптимальной”[1310]. Эксперты ОЭСР пишут также: “…Существующая в России система высшего образования безжалостна к тем, кто не отвечает ее требованиям. Эксперты рабочей группы выражают опасение, что это не столько следствие верности высоким бескомпромиссным стандартам, сколько знак недостаточного еще осознания того обстоятельства, что благосостояние общества зависит от среднего уровня образования всех людей, а не только избранной элиты”[1311].
Формально прокламируемый принцип равенства доступа к высшему образованию на практике не действовал. Именно переход от школьного образования к высшему, особенно к высококачественному высшему, был ключевым этапом, где главную роль играли статус родителей, их связи и влияние. Но роль качественного образования в обеспечении экономического роста, в первую очередь обороноспособности, заставляла руководство страны осуществлять широкомасштабные образовательные проекты, направленные на мобилизацию в профильные высшие учебные заведения (в первую очередь связанные с оборонным комплексом) способных абитуриентов из низкостатусных социальных групп, не проживающих в столичных городах[1312].
На поздних этапах развития социализма в СССР под влиянием возрастающих финансовых ограничений, кризиса сельского хозяйства, роста расходов бюджета на субсидии радикально меняется ситуация с финансированием образования. Если в первые десятилетия социалистического развития рост расходов на образование, его доли в валовом внутреннем продукте – характерная черта социалистической индустриализации, то с начала 1950‑х годов ситуация меняется. Доля затрат на образование в национальном доходе в СССР между 1951 и 1961 годами заметно снижается[1313].
Результатом краха Советского Союза стало сокращение государственных расходов на образование, более радикальное, чем сокращение государственных расходов на здравоохранение. Их доля в ВВП приблизилась к показателям стран соответствующего уровня развития (табл. 13.5).
Таблица 13.5. Доля государственных расходов на образование в ВВП,%[1314]
Источник: World Development Indicators 2003. World Bank.
Образование – традиционно консервативная система. Известная парадигма педагогического сообщества – учить не так, как тебе объясняли, а так, как тебя учил твой собственный учитель. В связи этим российская образовательная система оказалась достаточно устойчивой к кризисным явлениям, которые были порождены крахом социализма (табл. 13.6–13.8).
Таблица 13.6. Результаты тестирования школьников 7–8‑х классов отдельных стран мира в 1995 году[1315]
Источник: IEA 3rd International Mathematics and Science Study.
Таблица 13.7. Результаты тестирования школьников 11‑х классов отдельных стран мира в 1995 году[1316]
Источник: IEA 3rd International Mathematics and Science Study.
Таблица 13.8. Результаты международных олимпиад для школьников по математике (2003 год)
Источник: International Physics Olympiad 2004 Official Website (/).
Реакцией на финансовый кризис стало быстрое распространение формальных и неформальных соплатежей населения за образовательные услуги[1317]. Особое развитие это явление получило на стадии перехода от среднего к высшему образованию. При этом если платное образование носит легальный характер, то различные формы оплачиваемого допуска к формально бесплатному, финансируемому государством высшему образованию (целевое репетиторство, использование связей, прямые взятки) оказывают глубокое негативное воздействие на образовательный процесс[1318]. Все это вместе приводит к парадоксальной ситуации, при которой дети из высокостатусных и высокодоходных семей получают образование, финансируемое из государственных источников, бесплатно, дети из семей среднего класса учатся за счет родителей, дети из низкостатусных и низкодоходных семей идут служить в армию (см. гл. 14).
§ 2. Сфера здравоохранения
В традиционном аграрном европейском обществе роль государства в организации здравоохранения была ограниченной. Население получало платные медицинские услуги от частных врачей, в некоторых случаях помощь медиков оплачивалась за счет благотворительности. Государство вмешивалось в регулирование здравоохранения в экстремальных ситуациях, во время крупных эпидемий, организовывало оказание медицинской помощи в армии. Низкий уровень санитарии и гигиены при скученности жителей в городах приводил к высокой смертности городского населения по сравнению с сельским[1319]. Смертность в городах превышала рождаемость, однако, поскольку доля городского населения оставалась небольшой, городские демографические показатели слабо влияли на общенациональные.
Современный экономический рост, урбанизация выдвинули новые требования к санитарным стандартам и охране здоровья[1320]. Широкое распространение тифа и туберкулеза, эпидемии холеры в английских городах раннеиндустриального периода заставили правительство Великобритании отказаться от традиции невмешательства в проблемы, связанные со здоровьем населения. В 1871 году был принят Закон о здравоохранении, определивший обязанности местных органов власти по обеспечению санитарии.
В континентальных странах Западной Европы, где традиция экономического либерализма была не столь сильна, государство активно вмешивалось в проблемы здоровья нации уже на относительно ранних стадиях развития, рассматривало здравоохранение и как средство, позволяющее улучшить положение низших слоев, и как инструмент, дающий возможность повышать качество рабочей силы, темпы экономического роста. С начала – середины XIX в. в большинстве развитых стран возникают различные формы медицинского страхования: общества взаимопомощи, фонды пособий по болезням и нетрудоспособности, которые создают сами рабочие. К концу XIX в. эти институты получают широкое распространение.
Германское законодательство 1883 года ввело систему регулируемого государством обязательного медицинского страхования наемных работников. Оно стало образцом для других европейских государств. О. Бисмарк, считавший политический контроль за рабочим движением важнейшей задачей социальных реформ, заложил в немецкую систему медицинского страхования элементы социальной солидарности, перераспределения страховых взносов и прав. Медицинское страхование было при Бисмарке обязательным, государственным; размер страховых взносов не влиял на объем предоставляемых услуг. Эта система была отделена от общего бюджета, охватывала на первых этапах только занятых на крупных и средних предприятиях. Постепенно медицинское страхование распространяется на крестьян и трудящихся, занятых в собственном хозяйстве. Хотя по форме система была страховой, в ней смешаны страховые и налоговые элементы: работники, которые по размеру взносов и объективным показателям рисков должны были получать больший объем предоставляемых услуг, имели те же права, что и трудящиеся, чьи взносы меньше, а страховые риски выше.
Как и в других областях социальной политики, Англия, общепризнанный лидер экономического роста до конца XIX – начала XX в., отставала в формировании систем социальной защиты. Лишь под влиянием англо-бурской войны, выявившей неудовлетворительное здоровье английских солдат, формируется целостная государственная система организации здравоохранения.
Период мировых войн ознаменовался быстрым развитием и расширением систем государственного здравоохранения, повышением его эффективности (табл. 13.9).
Это было связано и с собственно военными потребностями ведущих государств, и с характерным для военного времени ростом социальной солидарности в обществе. После Второй мировой войны в большинстве наиболее развитых стран (за исключением США; об эволюции американской системы здравоохранения речь пойдет ниже) складывается система общедоступной медицинской помощи. Граждане получают право пользоваться услугами организованной государством системы здравоохранения, финансируемой либо из общих налоговых поступлений, либо за счет взносов в систему государственного медицинского страхования. Право на получение медицинской помощи определяется медицинскими показателями, а не внесенными ранее страховыми взносами или финансовыми возможностями больного. Частное финансирование здравоохранения или дополнительные платежи населения за оказание врачебных услуг либо исключаются, либо носят вспомогательный характер. В большинстве систем организации страхового здравоохранения присутствует элемент солидарности: перераспределение средств богатых и здоровых к людям с меньшим достатком и худшим здоровьем.
Таблица 13.9. Детская смертность на 1000 рожденных во Франции, Германии и Великобритании в 1913–1970 годах[1321]
Источник: Mitchell B. R. International Historical Statistics. Europe 1750–1993. London: Macmillan Reference LTD, 1998. P. 123–126.
Другое дело – частное медицинское страхование, в рамках которого можно получить любой разумный пакет услуг. Решение о том, кого страховать, а кому отказать в страховке, какие риски она охватывает, – прерогатива страховщиков. Конкуренция между страховщиками дает потребителю возможность выбора. Такая система не предусматривает солидарного перекрестного субсидирования между группами с разными доходами. Сторонники общенационального медицинского страхования подчеркивают, что эта система создает механизм для объединения страховых рисков и социальной солидарности, тогда как при использовании множества схем, обслуживающих узкие группы населения, справедливо распределить риски и расходы труднее.
Недостатки рыночных механизмов в сфере здравоохранения известны – это проблемы несимметричной информации, риск неправильного выбора медицинского учреждения, моральные издержки в сделках страхования, благоприятные и неблагоприятные внешние эффекты и т. д.[1322]. Достоинство обязательного государственного страхования в том, что государство способно решить проблему неправильного выбора, отказав тем, у кого риски наименьшие, в праве выйти из системы. Еще один аргумент в его пользу: медицинская помощь не то благо, которое можно распределять на рыночных основаниях; доступ к ней не может быть связан с наличием или отсутствием финансовых ресурсов у потребителя этих услуг.
Настроения времени, когда убежденность в безграничных возможностях государства организовывать и финансировать систему здравоохранения доминировала, хорошо отражены в докладе комиссии британского экономиста У. Бевериджа (1942 год), в котором было рекомендовано ввести в Англии всеобщую систему медицинского страхования, обеспечивающую бедным те же возможности доступа к медицинской помощи, что и богатым. В нем доступная медицинская помощь рассматривается в качестве предоставляемого населению права, а не предлагаемого ему товара: “С точки зрения социального страхования медицинское обеспечение, которое предоставляет полный объем медицинской помощи любого вида любому гражданину без исключения, без ограничений расходов и без экономических барьеров, является идеальной системой”[1323]. Эти идеи получили воплощение в законах, принятых в 1946 году.
В основе подобной парадигмы лежали и социальная солидарность, порожденная опытом мировых войн, и доминирующее в мире первых послевоенных десятилетий убеждение в способности государства решать сложные социальные вопросы, и ограниченная роль здравоохранения в экономике. В условиях индустриального общества с доминирующей занятостью в промышленности доля расходов на здравоохранение в ВВП по-прежнему была невелика, хотя и выросла по сравнению с началом XIX в.
На американское здравоохранение европейские идеи существенного влияния не оказали. В США сильное медицинское лобби выступило против общегосударственной системы социального страхования. Доминирующую роль в предоставлении услуг медицинского страхования здесь играют частные страховые компании. Страховые взносы подпадают под действие налоговых льгот. Однако и в США система частной страховой медицины дополняется в 1960‑е годы страхованием государственным, прежде всего для групп высокого риска: пенсионеров по старости, инвалидов, бедных[1324]. При этом в США 43 млн человек (примерно 16 % населения) не охвачены ни частными страховыми системами, ни государственными[1325]. Это одна из самых острых проблем американской системы здравоохранения.
В период, предшествующий Второй мировой войне, доля расходов на здравоохранение в структуре мирового валового внутреннего продукта была ограничена, а вопросы государственной организации здравоохранения редко приобретали политическую остроту. Во время мировой войны и сразу после нее возможности медицины расширяются. Изобретение и массовое внедрение антибиотиков дают медицине сильный инструмент влияния на здоровье населения и уровень смертности. Быстрее идет накопление медицинских знаний, создаются новые технологии лечения, диагностики, производства лекарственных препаратов. Важный результат этого – стремительный рост продолжительности жизни и в странах – лидерах современного экономического роста, и в развивающихся странах.
Здесь можно выделить два крупных этапа. На первом из них главные успехи были связаны со снижением заболеваемости инфекционными болезнями и смертности от них. На втором – основной вклад в повышение продолжительности жизни внесли достижения медицины, связанные с профилактикой и лечением массовых неинфекционных заболеваний, в первую очередь заболеваний сердечно-сосудистой системы. Повышение уровня жизни, удовлетворение важнейших материальных потребностей, рост продолжительности жизни и доли пожилого населения в обществе – все это объективно способствует увеличению значимости человеческого здоровья и здравоохранения в системе общественных приоритетов (табл. 13.10).
Таблица 13.10. Доля расходов на здравоохранение в ВВП, %
Источник: OECD Health Data 2003 – Frequently asked data – Table 10: Total Expenditure on Health, % of GDP. .
Рост продолжительности жизни вместе с падением рождаемости приводит к увеличению доли старших возрастных групп в численности населения. В то же время именно в этих группах возрастает потребность в медицинских услугах[1326].
В финансируемых государством системах здравоохранения ни потребители медицинских услуг, ни те, кто их предоставляет, не заинтересованы в ограничении расходов. Прогресс медицины позволяет использовать для продления человеческой жизни значительные материальные и финансовые ресурсы. С ростом продолжительности жизни пациенты и врачи сталкиваются с медицинскими проблемами, характерными для старших возрастов. Прежде неизлечимые сердечные и онкологические заболевания могут быть приостановлены, жизнь больных продлена, но это требует значительных средств. В рамках финансирования по программе “Медикейр” в США расходы, которые приходятся на лечение больных в последний год их жизни, составляют 30 %[1327].
Сами условия постиндустриального общества того периода, в который наиболее развитые страны вступили с 50‑70‑х годов прошлого столетия (удовлетворение элементарных потребностей в питании, одежде, жилище; возросшие финансовые возможности семьи), подталкивают к увеличению спроса на услуги здравоохранения, быстрому росту доли расходов на здравоохранение в ВВП. По странам ОЭСР они увеличиваются с 4 % в 1960 году до примерно 8 % к концу века.
Выявляется фундаментальное противоречие, присущее модели организованной государством системы финансирования здравоохранения. Поток медицинских и связанных с медициной технических инноваций нарастает. Появляются новые лекарства и методы лечения. Но финансовые ресурсы даже самых богатых стран небесконечны, их недостаточно, чтобы можно было обеспечить всем нуждающимся доступ к возможностям, которые предоставляет современная медицина[1328]. Связанный со старением населения рост расходов на медицинское страхование порождает в странах – лидерах современного экономического роста проблему финансовой устойчивости здравоохранения – не меньшую, чем рост доли пенсий в ВВП[1329]. Если пенсии растут со скоростью, заданной демографической динамикой, то расходы на финансирование медицины прогнозировать и контролировать труднее. Они в существенной мере зависят от накопления знаний и технологии[1330].
Принцип солидарности в здравоохранении не предполагает ограничения цен на медицинские услуги. В экономике существует выбор между равенством возможностей и эффективностью, и он в полной мере проявляется в медицинской сфере. Когда современные системы ее финансирования формировались, эффективность еще не стала важнейшей заботой. Государства были готовы позволить себе неэффективные системы медицинского обеспечения, но с непременным условием – равный доступ к услугам здравоохранения. Теперь под влиянием перемен на медицинском рынке баланс между “равенством и эффективностью” изменяется. Технологические инновации увеличили медицинские расходы. Это привело к практической невозможности поддерживать всеобщее равенство доступа к медицинским услугам[1331].
Отсутствие возможности улучшить доступ к системе регулируемого государством здравоохранения при помощи дополнительных выплат, добиться таким образом сокращения очереди, которую приходится выстоять для получения медицинской помощи, лучших условий содержания в больнице, стало одним из символов веры в организации здравоохранения многих стран – лидеров современного экономического роста[1332]. Конфликт между моральным императивом – сохранить социальную солидарность – и бюджетными ограничениями, которые вызывают необходимость сдерживать расходы, – лейтмотив большинства дискуссий по организации здравоохранения в Западной Европе в 80‑90‑е годы XX в. С этого времени в странах, где действуют системы государственного финансирования здравоохранения, все чаще прибегают к мерам, ограничивающим рост медицинских расходов[1333]. Они включают ужесточение контроля за бюджетами больниц (Бельгия, Франция, Германия, Нидерланды), ликвидацию избыточных мощностей в госпиталях и развитие амбулаторной помощи (Дания, Франция, Венгрия, Швеция), финансирование больниц по объему оказанных услуг (Австрия, Швеция) и т. д.[1334].
Эти меры позволяют на время сдержать увеличение расходов на здравоохранение, но не решают фундаментальной проблемы: население продолжает стареть, роль медицинских услуг в системе общественных приоритетов растет. Ограниченность государственных ресурсов порождает дефицит средств, направляемых на финансирование государственной системы здравоохранения, а характерные черты “экономики дефицита”, как известно всем, кто жил в условиях социализма, – это очереди, рационирование, взятки в различных формах за внеочередное обслуживание, необходимость связей для получения услуг[1335]. По сути дела, это “экономика продавца” – реальные права потребителя, пользователя услуг сведены к минимуму. Естественный результат – рост общественного недовольства существующей системой здравоохранения.
В США, где в сфере медицинских услуг доминируют частные страховые компании, проблемы, свойственные постиндустриальному периоду развития, проявляются иначе, в первую очередь в еще более быстром росте доли расходов на здравоохранение в ВВП. В течение последних десятилетий разрыв между средней долей затрат на здравоохранение в ВВП в странах “большой семерки” и в США быстро увеличивается. К 1999 году эта доля в США превосходила показатели, характерные для других высокоразвитых стран, более чем на треть[1336].
Неналоговое финансирование медицинских расходов позволяет США наращивать ассигнования на здравоохранение, следуя растущему спросу на его услуги. Но при этом возникают другие проблемы. Рост отчислений на медицинское страхование облегчается налоговыми льготами по этим расходам. А влиятельное медицинское лобби не дает федеральным властям возможности эффективно контролировать расходы, которые покрываются за счет этих налоговых льгот, оценивать целесообразность и необходимость той или иной медицинской услуги. Согласно результатам недавних исследований, технологические инновации обусловливают примерно половину роста расходов на здравоохранение, остальное связано с ростом цен на услуги[1337].
Высокие темпы роста расходов в частном секторе страхования ведут к повышению затрат по программам “Медикейр” и “Медикейд”, которые финансирует государство. Со времени введения программ их доля в ВВП увеличивается. Власти США пытаются приостановить этот рост, ограничивая и контролируя расходы[1338]. В результате американские потребители медицинских услуг все чаще жалуются на то, что государственные системы страхования финансируются за счет частных, увеличивая бремя страховых взносов; что многие медицинские учреждения отказываются оказывать услуги тем, кто имеет право на медицинскую помощь по программам “Медикейр” и “Медикейд”[1339].
Специфика организации медицинской помощи в США влияет на состояние всего мирового здравоохранения. Менее жесткие, чем в других странах – лидерах экономического роста, нормы, ограничивающие повышение доли расходов на здравоохранение в ВВП, которые связаны с частным и страховым характером большей части американской системы, стимулируют крупные вложения в медицинские инновации, в создание новых технологий. В свою очередь, современные, но дорогостоящие американские технологии становятся образцом для остального мира, задают уровень медицинской помощи, на который, пусть и нехотя, вынуждены ориентироваться развитые страны с государственными системами здравоохранения. Внедрение этих технологий обостряет и без того тяжелые проблемы финансирования медицинской помощи.
Столкнувшись в 1970‑1980‑х годах с очевидной невозможностью наращивания государственных расходов, направленных на финансирование здравоохранения темпами, позволяющими удовлетворить растущий спрос на медицинские услуги, правительства развитых стран пытаются сократить медицинские расходы и сделать их более рациональными. Но и там, где был введен контроль за ними и начато их регулирование, они продолжали расти быстрее, чем могло допустить государство. Ограничительные меры позволяют некоторое время удерживать темпы роста расходов, но затем они вновь ускоряются, отражая реальности стареющего постиндустриального общества. Это произошло в Великобритании в 1970-х, в Канаде – в 1980-х, в Германии и Японии – в 1990‑х годах. И это естественно: ограничение расходов на здравоохранение не может устранить сам факт роста технологических возможностей в медицине, оно лишь на время сдерживает его проявление.
В начале 1990‑х годов канадское правительство было вынуждено закрывать больницы и ужесточать лимиты расходов на их финансирование. Общество разуверилось в том, что национальная система медицинского финансирования стабильна. За 10 лет доля канадцев, убежденных в том, что система здравоохранения в их стране функционирует удовлетворительно, сократилась с 56 до 20 %[1340].
В Германии расходы на здравоохранение (примерно 11 % ВВП) выше, чем в среднем по странам ОЭСР. Отсюда относительно высокая удовлетворенность немецкого общества качеством услуг, которые предоставляет национальное здравоохранение. Но цена этого – большая доля налогов на заработную плату, направляемая на финансирование страховой медицины (14,3 % оплаты труда). За последнее десятилетие она возросла на треть. Невозможность дальнейшего наращивания налогов на зарплату заставляет правительство социал-демократов вырабатывать программу сокращения затрат на здравоохранение. Предлагается комплекс мер, который позволит уменьшить медицинские расходы на 22 млрд евро в год и сократить налоги на заработную плату, идущие на финансирование медицинского страхования, до 13 %. Для Германии это жизненно важно: в стране, где впервые была сформирована целостная система обязательного медицинского страхования, возможности дальнейшего ее расширения за счет налогообложения заработной платы, очевидно, исчерпаны[1341].
Опросы общественного мнения, проводившиеся на рубеже прошлого и нынешнего веков в развитых странах с самыми разными системами организации и финансирования здравоохранения, показывают глубокую неудовлетворенность общества работой национальных структур в этой сфере[1342]. Это понятно: проблемы здравоохранения имеют структурный характер и без глубоких реформ будут лишь обостряться по мере старения населения, увеличения продолжительности жизни, роста спроса на медицинские услуги и появления все большего количества медицинских инноваций[1343].
В России организуемое обществом бесплатное для населения здравоохранение возникает в массовых масштабах в 1860‑х годах XIX в. в процессе земской реформы. Однако и в начале XX в. по показателям детской смертности традиционная Россия опережала все европейские государства[1344].
В отличие от системы образования здравоохранение на практике не входило в число приоритетов советского правительства. Доля государственных расходов на здравоохранение в ВВП на протяжении социалистического периода оставалась на уровне, близком к той, которая характерна для несоциалистических стран с аналогичным уровнем развития.
Первому наркому здравоохранения РСФСР Н. Семашко приписывались слова, что врачам много платить не надо, народ их и так прокормит[1345]. Тем не менее опыт формирования советской системы здравоохранения с такими его принципами, как государственный характер, бесплатность, общедоступность, единство, плановое развитие, в 1930–1970‑х годах XX в. оказал влияние на формирование стандартов организации систем здравоохранения в мире. В резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения № 61 от 1970 года именно эти принципы были приняты в качестве образца[1346].
Крах СССР порождает серьезные проблемы в финансировании советской государственной системы здравоохранения, правда, в меньших масштабах, чем системы образования. В условиях развитого индустриального общества, предъявившего высокий спрос на услуги здравоохранения, неизбежным оказывается широкое распространение частных платежей за эти услуги[1347].
С 1993 года в России создана система обязательного медицинского страхования по модели, близкой к той, которая идет от германской реформы 80‑х годов XIX в. Однако программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, составной частью которой является базовая программа обязательного медицинского страхования, не сбалансирована с размером финансовых ресурсов, направляемых государством на здравоохранение. Система ОМС введена и функционирует на территории России фрагментарно, в значительных масштабах сохраняется система бюджетного финансирования медицинских учреждений[1348].
Результаты анализа деятельности 20 амбулаторно-поликлинических учреждений в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове свидетельствуют, что бесплатная медицинская помощь сводится к оказанию минимального набора услуг. Почти в 70 % случаев амбулаторно-поликлиническое лечение больных ограничивается приемом врача-терапевта, реже – узкого специалиста. Лишь 20–30 % всех больных получают дополнительно одно-два назначения диагностических и лечебных процедур, предусмотренных протоколами (федеральными стандартами) при лечении соответствующих заболеваний. Структура услуг, оказываемых застрахованному по добровольному медицинскому страхованию, существенно отличается от услуг, предоставляемых населению бесплатно. Более высока доля затрат на проведение диагностических исследований. Доля больных, обеспечиваемых в системе добровольного медицинского страхования, медицинская помощь которым сводится лишь к приему врача, составляет менее 10 % обратившихся[1349].
В последние годы взносы на добровольное медицинское страхование в России растут динамично. В 1998–2002 годах они увеличились в 2,6 раза – с 6,3 до 16,7 (в ценах 2000 года). Их доля в общих расходах на здравоохранение по-прежнему незначительна. Но результаты социологических исследований показывают, что заинтересованность населения в получении доступа к этой системе оказания медицинских услуг высока.
§ 3. Вопросы реформирования систем образования и здравоохранения в России
В постиндустриальную эпоху и для сферы образования, и для сферы здравоохранения характерен комплекс сходных по своей природе, хотя и различных по характеру проявления проблем. Напомним главные из них.
• Рост потребностей в услугах, что предполагает повышение их доли в ВВП и структуре занятости. Подобно тому как закон Энгеля отражал характерное для периода индустриализации сокращение доли продуктов питания в структуре потребления, в условиях постиндустриального общества пробивают себе дорогу тенденции к росту доли расходов на образование и здравоохранение в ВВП[1350].
• Унаследованные от предшествующей индустриальной эпохи институты, которые были сформированы на гребне дирижистской идеологической волны, ориентированы на равенство доступа к услугам образования и здравоохранения; они основаны на представлении о безграничных возможностях государства финансировать рост предоставления этих услуг, возникшем при низкой доле и образования, и здравоохранения в ВВП послевоенного мира; ограничивают частное финансирование в этих отраслях.
• Жесткие финансовые ограничения, выявившиеся в конце 70‑х – начале 80‑х годов прошлого века.
• Долгосрочные структурные проблемы, которые сближают национальные системы здравоохранения и образования стран-лидеров с реалиями социалистической экономики: дефицит, “рынок продавца”, отсутствие выбора, бюрократизация, коррупция в сферах, где распределяются блага[1351].
Разрыв между спросом на услуги образования и здравоохранения, местом этих отраслей в системе приоритетов постиндустриального общества и ограниченными возможностями государственного финансирования порождает явления, памятные населению бывших социалистических стран и описанные Я. Корнаи в его классической работе “Экономика дефицита”[1352]. Обширная, постоянно увеличивающаяся сфера экономики выводится за пределы действия рыночных механизмов, становится бюрократизированной, а потому недостаточно гибкой, не меняется в соответствии с общественными потребностями.
Перестройка в организации и финансировании образования и здравоохранения, которая могла бы привести эти сферы в соответствие с реалиями постиндустриального общества, широко обсуждается в странах-лидерах. Некоторые из них начали реформировать свои образовательные и медицинские системы. Если у государства нет возможностей за собственный счет финансировать растущие потребности в этих услугах, оно обязано четко и однозначно определить гарантии и стандарты предоставления тех или иных бесплатных благ населению или отдельным его группам с учетом реальных источников финансирования. Должны быть определены правила распределения тех услуг, которые в силу финансовых ограничений не могут быть общедоступными. При распределении бесплатных услуг следует использовать механизмы, которые расширяют свободу выбора потребителя, стимулируют конкуренцию между теми, кто предоставляет услуги. Медицинские и образовательные учреждения в рамках установленных для них стандартов и правил должны обладать самостоятельностью, позволяющей оптимизировать формы и методы предоставления услуг. Задача государства – стимулировать в здравоохранении и образовании частное финансирование, способствовать тому, чтобы для потребителей, готовых оплачивать услуги самостоятельно, это не замещало государственные гарантии, а на законных основаниях дополняло их[1353].
Поскольку тенденции, порождающие сегодняшние проблемы в финансировании образования и здравоохранения – рост спроса на их услуги и ограниченность государственных расходов, носят долгосрочный и устойчивый характер, то в странах, которые окажутся неспособными провести перечисленные преобразования, кризис в этих сферах будет нарастать. Однако внедрение новых организационных принципов в образование и здравоохранение – непростая задача. Здесь занята значительная часть работников пост индустриальной экономики. Это, как правило, высокоорганизованные и политически влиятельные группы населения, привыкшие к работе в условиях “экономики дефицита”. Они отнюдь не заинтересованы в формировании “рынка покупателя”, расширении конкуренции, свободе выбора потребительских услуг. Радикальные реформы, закрепляющие право выбора за пользователем, позволяющие создать конкуренцию между поставщиками, задействовать рыночные стимулы, которые и породили современный экономический рост, встречают жесткое сопротивление сильных отраслевых лобби, не устающих апеллировать к принципам социальной справедливости в понимании мира середины XX в.[1354].
Можно подвести итог: проблемы в здравоохранении и образовании принципиально неразрешимы без радикальных перемен на двух основных направлениях.
1. Государству следует отказаться от использования системы образования в качестве инструмента социального выравнивания, переориентировав цель государственной политики в сфере школьного образования с равенства результатов на обеспечение его качества. В сфере высшего образования важнейшим приоритетом сделать равенство доступа к нему. Необходимо применять прозрачные и общие для всех процедуры, которые позволяют выявить тех, кто может быть допущен к финансируемому государством высшему образованию, повысить роль рыночных механизмов в образовательной сфере. 2. Необходимо трансформировать механизмы реализации принципа солидарности в организации медицинского страхования, четко отделить налоговые составляющие в этой системе, нужные для того, чтобы предоставлять услуги здравоохранения низкодоходным группам населения, неспособным в рамках страховой медицины оплачивать минимальную, определенную государственными стандартами медицинскую помощь, от собственно страховой части, где есть зависимость объема предоставляемых услуг от величины взноса, возможность выбора страховой компании и пакета ее услуг.
Такие перемены необходимы, чтобы повернуть эту растущую в постиндустриальном мире сферу экономики к рыночным механизмам и стимулам, дополненным государственным регулированием, государственными услугами и социальной поддержкой. Должны быть построены системы, в которых государство подправляет и регулирует рынок здравоохранения и образования, а не стремится его вытеснить.
Прогнозировать, как будут решаться эти проблемы, – дело опасное и неблагодарное. Странам – лидерам современного экономического роста приходится реформировать финансирование образовательных и медицинских систем в неблагоприятных условиях, когда безнадежность попыток надолго сохранить сложившиеся бюрократические методы их организации становится очевидной, а мощные политические силы заинтересованы в сохранении статус-кво. Для стран догоняющего развития, в том числе и для России, осознание противоречий, которые проявились в организации и финансировании образования и здравоохранения на постиндустриальной стадии, позволит извлечь полезные уроки, даст возможность проводить реформы, не дожидаясь обострения кризиса, когда преодолеть его будет уже крайне сложно.
Важнейшее направление реформ образования и здравоохранения в России – это создание механизмов, позволяющих стандартизировать критерии, по которым государство предоставляет финансируемые из бюджета услуги и стимулирует в легальных формах привлечение частных ресурсов для их финансирования.
Важно унифицировать подходы к финансированию услуг, предоставляемых работающим гражданам из средств обязательного медицинского страхования и неработающим – за счет региональных бюджетов. Ситуация, при которой работающие граждане находятся в системе обязательного медицинского страхования, а неработающее население в эту систему не включено, объективно приводит к сочетанию худших черт страхового и бюджетного здравоохранения, дороговизне и отсутствию стимулов к эффективному использованию средств. Унификация системы здравоохранения, переход от финансирования региональными бюджетами лечебных учреждений к оплате медицинских услуг, оказываемых неработающему населению, – необходимая предпосылка повышения эффективности функционирования учреждений системы здравоохранения[1355].
Но и это лишь часть проблемы. Как отмечалось выше, смешение налоговых и страховых элементов систем финансирования услуг здравоохранения в условиях финансового кризиса постиндустриального общества делает их неустойчивыми. Рост спроса на медицинские услуги вступает в объективное противоречие с возможностями увеличения налоговых изъятий в ВВП.
Это предполагает предоставление права работодателю или работнику по соглашению с работодателем выхода из системы государственного медицинского страхования и перехода, подкрепляемого соответствующими налоговыми вычетами[1356] или другими стимулами, в частные системы медико-социального страхования, где может быть выбран пакет услуг, связанный с обеспечением здоровья[1357]. В этом случае, как и в случае с добровольным пенсионным страхованием, налог на заработную плату трансформируется в налоговую льготу, снимаются противоречия между ростом спроса на услуги и масштабами государственной нагрузки на экономику. Налоговая реформа 2000–2001 годов в России позволила сделать некоторые шаги в этом направлении. Были введены налоговые вычеты из подоходного налога на финансирование расходов, связанных со здравоохранением[1358]. Однако принятые меры были весьма ограниченными. Для групп населения, заинтересованных в частном финансировании здравоохранения, установленные пределы вычетов при административных сложностях в их использовании сделали их применение малопривлекательным[1359].
Отказ от количественных ограничений объемов вычетов на финансирование медицинских услуг, замена их ограничениями на долю в налогооблагаемом доходе станут одновременно дополнительными стимулами к легализации заработной платы и повышению объема средств, легально направляемых на финансирование медицинских услуг[1360].
Обсуждение проблематики, связанной с реформой образовательного процесса в России, началось с 90‑х годов XX в. Первыми шагами стали расширение самостоятельности школы в выборе учебных программ, дебюрократизация учебного процесса.
Серьезная проблема современной российской школы – перегруженность учеников[1361]. Разумный, хотя и нелегко реализуемый выход в этой ситуации – ограничение федерального образовательного стандарта, сведение его к действительно необходимому минимуму с предоставлением регионам, муниципалитетам и школам широких возможностей дополнения этого стандарта собственными программами. Это позволит сохранить характерные для российской школы образовательные традиции, обеспечить плюрализм образовательных программ, их вариативность по сложности и объему изучаемого материала.
Широко обсуждаемый вопрос, имеющий отношение к теме реформы образования: переход к системе образовательных ваучеров на уровне средней школы. Для России, где привязка места учебы к месту жительства родителей никогда не была жесткой, политические препятствия на пути такого решения (в том числе и введения финансируемых государством образовательных ваучеров, которые могут использоваться для финансирования обучения в частной школе) слабее, чем в странах – лидерах современного экономического роста.
К концу 1990‑х годов при обсуждении образовательной реформы в России в центре внимания оказался вопрос о проблемах, связанных с переходом из школы в высшие учебные заведения, коррупцией в образовательном процессе, концентрирующейся именно на этом уровне. Между тем высшее образование в России стало нормой и рассматривается большинством населения как необходимое условие жизни в современном обществе. 80 % взрослого населения России, и 89 % молодых людей считают, что высшее образование нужно для успешной карьеры. В 2003 году 83,1 % учащихся средних школ предполагали поступать в вузы[1362].
Основные направления намеченных в настоящее время мер по реформе образования в России – замена ныне действующей системы выпускных экзаменов по окончании средней школы или учебного заведения начального и среднего профессионального образования и вступительных экзаменов в вуз Единым государственным экзаменом (ЕГЭ); сдача Единого государственного экзамена всеми гражданами, окончившими школу или учебное заведение начального и среднего профессионального образования в прошлые годы, при поступлении ими в вуз; введение государственных именных финансовых обязательств (ГИФО). ГИФО – финансовые обязательства государства, выдаваемые гражданам по результатам сдачи ЕГЭ и обеспечивающие полное или частичное финансирование получения ими профессионального среднего и высшего образования. ГИФО дифференцируются по результатам сдачи ЕГЭ: более высоким результатам Единого государственного экзамена соответствует получение более высокой категории ГИФО. Тем, кто сдал ЕГЭ неудовлетворительно, категория ГИФО не присваивается. Учиться в вузе они могут, только полностью оплачивая свое обучение. Происходит переход от дуальной системы – одни ничего не платят за высшее образование, а другие оплачивают его полностью – к системе дифференцированной оплаты за обучение[1363]. Предусматривается также постепенный переход на нормативно-подушевое финансирование среднего образования.
Сроки проведения эксперимента слишком коротки, чтобы можно было однозначно оценить его результаты. Но некоторые проблемы, связанные с ним, уже очевидны. Объем средств, выделяемых по ГИФО (даже по высшей категории – около 500 долл. в год), по сравнению с затратами на платное образование делает прием студентов, финансируемых за счет государства, малопривлекательным, по меньшей мере для престижных вузов.
При этом система финансирования по ГИФО, как и система обязательного медицинского страхования, не является единственной и даже доминирующей в финансовом обеспечении высших учебных заведений государством. Вместе с тем система ЕГЭ объективно подрывает возможности мобилизации финансовых ресурсов руководством вуза, связанные с отбором абитуриентов. Отсюда острое неприятие идеи образовательной реформы лидерами образовательного сообщества в России[1364]. При этом от приводимых ими аргументов нельзя отмахнуться.
Действительно, предполагать, что по ЕГЭ можно отобрать людей, способных учиться в консерватории, Институте стран Азии и Африки, на мехмате МГУ, в Физтехе, ГИТИСе и т. д., трудно. Здесь, как это уже бывало в странах – лидерах современного экономического роста, возникает противоречие в решении двух задач: обеспечение равенства доступа к качественному образованию и собственно качество образования. Разумный компромисс – сочетание принципа стандартизации государственного экзамена, дающего право на финансирование из государственного бюджета высшего образования студента как единственного инструмента, позволяющего радикально сократить коррупцию при переходе из школы в высшее учебное заведение, обеспечить возможность получения высшего образования детям из низкостатусных семей, с повышением финансовой обеспеченности ГИФО[1365] при максимальном ограничении государственного финансирования вузов вне системы ГИФО и предоставлении им права отбора студентов, соответствующих требованиям, предъявляемым вузом. В этом случае система ЕГЭ становится инструментом выявления способных молодых людей, действующим по стандартным правилам, прозрачным и позволяющим определить тех, кто достоин государственной поддержки в получении высшего образования. В рамках такой системы ГИФО становится для вузов единственным инструментом получения государственного финансирования. Студенты, сдавшие ЕГЭ, получают возможность выбора вуза, но высшее учебное заведение сохраняет свое право профессионального отбора[1366].
Такая система, разумеется, не может быть единственной. И сейчас действует специальная система поступления в вуз для победителей российских олимпиад, участников международных олимпиад по предметным дисциплинам, дающая право внеконкурсного поступления в вуз. Но это исключение из правил. Доля участников олимпиад, зачисленных в вузы для получения высшего образования, крайне невелика. Еще одно очевидное и разумное исключение – льготы по поступлению в вуз для контрактников, прослуживших определенное количество лет (см. гл. 14).
Объективные противоречия постиндустриального общества делают важнейшей задачей дополнение государственного финансирования образования частным. Как указывалось, сейчас в системе высшего образования примерно 50 % расходов финансируется из частных источников[1367].
В ходе налоговой реформы 2000–2001 годов в России были введены налоговые вычеты на образовательные цели из подоходного налога. Однако эта система, как и система вычетов по расходам, направленным на оплату услуг здравоохранения, пока не получила широкого распространения (см. сноску 96 к данной главе). Низкие пределы вычетов предопределяют, что экономия средств, направленных на финансирование образования, не может превышать 3250 руб. в год (в настоящее время – 4940). В сочетании с административными сложностями это сделало ее непривлекательной для тех групп населения, которые готовы оплачивать учебу детей. Естественный и логичный шаг в связи с этим – переход от количественного ограничения объемов образовательных вычетов к установлению их как доли в доходе, подлежащем налогообложению. Такая мера одновременно позволяет стимулировать легализацию облагаемых налогом доходов и масштабов легальных платежей, направляемых на финансирование системы образования.
Глава 14 Трансформация системы комплектования вооруженных сил
“Всё куплю”, – сказало злато; “Всё возьму”, – сказал булат.
А. С. Пушкин. Золото и булатОтправлять на войну людей, не получивших подготовки, – это значит расстаться с ними.
Лунь Юй[1368]. Древнекитайская философияДемографические и социальные перемены, связанные с современным экономическим ростом, делают неизбежной трансформацию методов комплектования вооруженных сил. На постиндустриальной стадии призывная система становится неэффективной, происходит отказ от нее и переход к комплектованию вооруженных сил по контракту. Но призыв в армию возник не на пустом месте – он долго сосуществовал с унаследованными от аграрных обществ способами мобилизовать людские ресурсы для военных целей. Поэтому, прежде чем анализировать собственно призывную систему, напомним, как на протяжении веков, предшествующих современному экономическому росту, этап за этапом трансформировалась военная организация.
§ 1. Системы комплектования вооруженных сил, предшествовавшие всеобщей воинской обязанности
До IV в. н э. римские легионы оставались самой эффективной формой организации вооруженных сил, по крайней мере в Средиземноморье. С V в. закат легионов становится очевидным. В Евразии наступает эпоха боевой конницы[1369].
Если не вдаваться в детали, на Евразийском материке сформировались два типа конницы; появление каждого из них было вызвано географическими и социальными причинами. Одна из них – это степная конница, главным достоинством которой была мобильность. В противовес ей оседлые аграрные цивилизации сначала в Иране, а затем по всей Евразии стали создавать армии, главной силой которых были тяжеловооруженные воины в доспехах, на крупных, мощных лошадях. Вплоть до XIV в. н. э. эти формы военной организации господствовали в аграрных обществах.
Социальная структура и традиции военного сословия консервативны. Потребовалась Столетняя война – несколько тяжелейших поражений, чтобы французская элита к середине XV в. осознала неизбежность радикальных перемен в организации военного дела, бесперспективность попыток опираться на феодальную конницу. Успехи ополчения швейцарских крестьян‑горцев в борьбе с рыцарскими отрядами[1370] знаменуют закат эпохи, когда в Евразии господствовала конница. К XVI в. доля кавалерии в европейских армиях снижается с 50 до 15 %[1371]. Конница превращается в один из вспомогательных родов войск. Возрастает роль артиллерии и инженерного дела.
В XIV–XV вв. политические элиты стран континентальной Европы сталкиваются с тяжелой проблемой в военном строительстве. Верно, что феодальная конница как боевое формирование устарела. Но вся структура социальных установлений, сформировавшихся на протяжении столетий, работала на традиционную формулу: рыцарь обязан отслужить сюзерену 40 дней в году. Разделение воинов на пеших и конных носит не только военный, но и социальный характер, проводит границу между простона родьем и знатью. Это делает невозможным переход от рыцарского ополчения к пехотным армиям, комплектуемым за счет мобилизации непривилегированного сословия.
В большинстве стран континентальной Западной Европы на протяжении веков укоренилась традиция, запрещающая крестьянам – большинству населения – носить или хранить оружие. Четкое отделение специализирующегося на насилии привилегированного меньшинства от мирного, безоружного крестьянства – одна из важнейших черт эпохи[1372]. На протяжении XV–XVII вв. это противоречие разрешалось наемными армиями, для формирования которых часто привлекали профессиональных солдат-иностранцев – поодиночке и целыми отрядами. Швейцарские крестьяне‑горцы, в XIV–XV вв. неоднократно демонстрировавшие эффективность своей военной организации, становятся в те времена в Европе едва ли не самыми востребованными наемниками[1373]. Впрочем, профессиональных солдат поставляет не одна Швейцария. На этом рынке присутствует и Северная Германия, в частности города‑государства Ганзейского союза, а также своеобразное исключение в континентальной Европе, обусловленное многовековой реконкистой[1374], – Испания и Португалия, где традиционно совмещались роли крестьянина и воина[1375].
Наемные армии демонстрируют очевидные преимущества перед феодальным ополчением. Они лучше организованы, способны использовать эффективные по меркам своего времени военные технологии. Но у них есть и слабости. Отряды наемников разнородны по составу, недисциплинированны, склонны к самовольным реквизициям и насильственным действиям против местного населения, в том числе и жителей государств, которым служат. Наемные армии дорого стоят. Когда наступают перебои с оплатой наемников, они разбегаются и могут перейти на сторону неприятеля. В Западной Европе наемные армии получили наибольшее распространение во время Тридцатилетней войны, которая сопровождалась массовыми жертвами среди мирного населения, реквизициями, разорением крестьян[1376].
В Испании XVI–XVII вв. армия была наемной, но, в отличие от вооруженных сил многих других европейских государств, национальной. Ее основу составляла кастильская пехота. Благодаря отсутствию иностранных наемников она была дисциплинированной и хорошо обученной. В XVI в. испанская армия, безусловно, одна из лучших в Европе[1377].
Первым регулярным военным соединением, которое принимало участие в европейских войнах и комплектовалось не наемниками, а солдатами-профессионалами, был корпус янычар в Оттоманской империи[1378].
В Голландии, наиболее развитой европейской стране XVI–XVII вв., проблемы, связанные с наемными армиями и их поведением по отношению к мирному населению, небезуспешно пытались решать на основе введения длительных контрактов и поддержания строгой дисциплины[1379]. Опыт голландских военных установлений был использован шведским королем Густавом Адольфом II в его военных реформах. Но он пошел дальше, чем могли позволить себе правители Голландии.
Военная реформа Густава Адольфа II была обусловлена историческими причинами. В Швеции феодальная система носила более мягкий характер по сравнению с господствовавшей в континентальной Европе. Здесь сохранились традиции, унаследованные от норманнского периода, в частности, функции крестьянина и воина не были окончательно разделены. Четвертое сословие – крестьянство – было слабо представлено в парламенте, но все-таки имело там своих представителей. Именно это обстоятельство дало Густаву Адольфу возможность ввести систему рекрутского набора: на каждую деревню возлагалась обязанность поставлять армии определенное количество рекрутов, пропорциональное численности населения. Все мужчины Швеции старше 15 лет попадали в списки военнообязанных. Набор проводили местные власти. Призыву подлежал каждый десятый из военнообязанных. Шахтеры, оружейники, крестьянские семьи, в которых один сын уже служит в армии, получали льготы в виде отсрочки от призыва или освобождения от службы[1380]. Военная служба была долгой, по существу, пожизненной. В армии поддерживалась жесткая дистанция между офицерами из привилегированных сословий и солдатами из простонародья. Шведская армия, насчитывавшая в конце XVI в. 15 тыс. человек, после введения рекрутского набора выросла к 1650–1660 годам до 70 тыс. Длительная служба обеспечивала высокий уровень военной подготовки. Дисциплина поддерживалась жесткими наказаниями. Шведские вооруженные силы наряду с регулярной рекрутской армией включали отряды иностранных наемников. Однако именно хорошо организованные и боеспособные полки, сформированные из рекрутов, обеспечили Швеции победу в Тридцатилетней войне, успехи в первые годы Северной войны[1381]. С конца XVII в. элиты других стран континентальной Европы осознали необходимость использовать в комплектовании своих вооруженных сил шведский опыт – рекрутский набор и регулярную армию[1382]. Петр I, реформируя российскую армию, именно эту модель взял за основу[1383]. В России регулярный призыв крестьян в армию начинается во время 13‑летней войны с Польшей 1654–1667 годов. В это время обычно один рекрут призывался от 20–25 крестьянских домохозяйств. Петр I в 1699 году ввел пожизненную военную службу для рекрутов. В 1705 году своим указом он же установил регулярный призыв (один рекрут с 20 домохозяйств). С 1793 года срок службы, до этого пожизненный, был ограничен 25 годами, призывной возраст установлен в пределах 20–35 лет[1384].
Сформированные из рекрутов регулярные воинские соединения доминируют в Европе до конца XVIII в. В это время выявляются как сильные стороны такой организации вооруженных сил, так и ее недостатки, связанные с сословным характером их организации. Между условиями жизни и службы офицера-дворянина и солдата, мобилизованного по рекрутскому набору крестьянина, – пропасть. Для крестьянина, которому выпало несчастье попасть в рекруты, это жизненная катастрофа, возврат к отношениям отмершего или смягчившегося в Западной Европе крепостничества. Массовое дезертирство становится для западноевропейских армий серьезной проблемой. Это заставляет военачальников прибегать к боевым порядкам, в которых солдаты постоянно находятся под контролем офицеров. Появляется статичное, малоподвижное, исключающее инициативу и самостоятельность в бою, препятствующее децентрализованным боевым действиям каре. Сформулированный Фридрихом II Прусским принцип “солдат должен бояться своего офицера больше, чем врага” точно отражает реалии сословной рекрутской армии[1385].
Военные историки отмечают: российский солдат оказался одним из лучших в Европе XVIII в. именно потому, что система рекрутского набора соответствовала социальным институтам царской России того периода, жесткому крепостническому режиму. Для российского крепостного крестьянина солдатчина означала личную беду, но не воспринималась как радикальное изменение социального статуса. Это была лишь еще одна повинность, которую несли низшие слои общества перед государством и привилегированным сословием[1386]. Эффективности рекрутской системы в России способствовало и то, что русский крестьянин был привычен к традициям общины, совместным действиям, круговой поруке[1387]. Отсюда ограниченное распространение дезертирства в российской армии, возможность более гибко управлять вооруженными силами. По мнению некоторых исследователей, российский солдат конца XVIII в. превосходил солдата Фридриха II, у которого была одна из лучших армий Западной Европы[1388]. Правда, и в России рекрутчина отнюдь не была популярной[1389].
Специфика прусской военной организации была связана с ограниченными ресурсами государства и военными амбициями его элиты. Со времен Фридриха Вильгельма I Пруссия держит небольшую постоянную армию, сформированную в основном из иностранных наемников, но хорошо организованную, обученную и дисциплинированную, одновременно организуя массовую подготовку резерва, который может быть мобилизован в случае военной угрозы. Резервные полки закреплены за территориальными округами. Центры пехотных полков – города, кавалерийских – сельская местность. Резервисты обязаны ежегодно больше месяца проходить военную подготовку. Остальное время им предоставлено для мирных занятий. Военная подготовка организована так, чтобы она не мешала сельскохозяйственным работам. Такая организация вооруженных сил позволила Пруссии во время Семилетней войны выставить 170‑тысячную армию, примерно равную французской при территории, населении и финансовых ресурсах в несколько раз меньших[1390]. В конце XVIII в. прусская система комплектования вооруженных сил еще не получила широкого распространения. Однако позднее она легла в основу прусской военной реформы 1813–1814 годов, стала базовой в мире для обеспечения массовых армий людскими ресурсами вплоть до середины XX в.[1391].
§ 2. Всеобщая воинская обязанность в странах – лидерах прогресса
Не станем останавливаться на том, какую роль сыграла Великая французская революция в крахе старого режима в Западной Европе и создании предпосылок для распространения современного экономического роста. Однако общепризнано, что она стала переломным моментом в комплектовании армий и военного дела вообще. Ломка традиционной социальной структуры, возводившей барь еры между привилегированной знатью и крестьянским большинством, открыла эпоху массовых армий, формирующихся на основе призыва, не разделенных на привилегированных офицеров и бесправных солдат, внутренне интегрированных, объединенных патриотическими, гражданскими чувствами. Большинство маршалов и генералов наполеоновской эпохи вышли не из дворянских семей, а из простонародья, начинали службу в армии рядовыми или унтер-офицерами. Фраза “плох тот солдат, который не носит в ранце маршальский жезл” отражала характерные черты французской армии эпохи революций и империи. Это радикально отличало ее от рекрутских армий феодальной Европы.
Сознательное отношение к воинской службе и призыву, отсутствие дезертирства как массового явления позволили внести изменения в саму организацию военного дела. Отпала необходимость жестко контролировать каждый шаг солдата, больше не нужна была палочная дисциплина. Если раньше огонь использовался как “подготовительное средство”, а решающее значение имел штыковой удар пехоты и натиск конницы, то с повышением качества огнестрельного оружия сомкнутые построения боевых порядков войск стали причиной больших потерь. Настало время перейти от статичного и уязвимого для артиллерийского огня каре к новым порядкам – мобильным, маневренным колоннам, рассыпному строю. Такая тактика, гибкая и мобильная, дала французам преимущество перед противостоявшими им феодальными армиями[1392]. Массовый призыв позволял Франции иметь вооруженные силы, численность которых по отношению ко всему населению страны была больше, чем в других европейских странах, полагавшихся на постоянные армии с рекрутским набором[1393]. Сочетание численности, мобильности и социальной сплоченности армии – важнейшие предпосылки военных успехов Наполеона.
Всеобщая воинская обязанность была введена во Франции в 1793 году как экстренная мера, чтобы противостоять войскам австро-прусской коалиции. Но потребность в военных ресурсах для отражения армий феодальных государств сохраняется надолго. Призыв институционализируется – через 5 лет он из вызванной военной опасностью чрезвычайной меры становится обычной практикой. Наполеон не ввел призывную систему, он получил ее в наследство от республиканского правительства, но сумел воспользоваться ее преимуществами в полной мере. Неаполитанский публицист В. Куоко в статье 1802 года отмечал: “Из всех идей, которые зародились, были реализованы, или отвергнуты, либо трансформированы за предшествующее десятилетие, наибольшее влияние на будущее Европы окажет идея всеобщей воинской обязанности”[1394].
Введенная во Франции система призыва не была всеобщей, предусматривала льготы, оставляла пути уклонения от службы. С самого начала в ней была предусмотрена возможность откупа: призывник или его семья могли за деньги нанять ему замену или вместо службы в армии выплатить определенный денежный взнос государству[1395]. Существовали льготы по семейным обстоятельствам для некоторых категорий людей призывного возраста: женатых, единственных сыновей, на содержании у которых находится мать, и т. д. Были и профессиональные льготы: от призыва освобождались ремесленники, чей труд необходим армии. Во время правления Наполеона военная обстановка не требовала мобилизации всего призывного контингента, да и финансовые возможности государства не позволяли сделать это.
Французская армия победоносно шествовала по Европе, и система призыва распространялась на подконтрольные Франции государства-вассалы. В 1802 году Наполеон вводит призыв в Итальянской республике, в 1806‑м – в Неаполе, в 1807‑м – в Вестфалии, в 1810‑м – в Голландии. Система работает с перебоями, порождает многие проблемы. Широкое распространение получают различные формы уклонения от военной службы, злоупотребления с льготами. Особенно массовыми стали эти явления в покоренных Францией странах, где патриотические мотивы идти в армию отсутствовали. В Италии входят в моду фиктивные браки[1396]. Поскольку семинаристы не подлежали призыву, бурно растет число семинарий. Нередки случаи, когда призывники отрубали себе пальцы на правой руке, случаи взяточничества в призывных канцеляриях, дезертирства. Теми же способами уклонялись от призыва и в метрополии, но масштабы этого были меньше[1397]. Но даже когда призыв противоречил национальным традициям, а о патриотических чувствах не было и речи, за 3–4 года, необходимых для организационной подготовки, он становился эффективным мобилизационным средством. К 1807 году итальянская армия, которой ко времени наполеоновского завоевания практически не было, уже насчитывала 70 тыс. человек.
Эффективность системы всеобщей воинской обязанности, включающей право откупиться от призыва, объясняется тем, что она отвечала социальным условиям времени, когда складывались основы современного экономического роста, его ранней фазы. Большая часть населения еще живет в деревне, занята сельским хозяйством. Семьи в основном многодетные, смертность высокая. Для молодого деревенского юноши призыв – возможность интегрироваться в меняющийся мир, получить дополнительное образование, социально адаптироваться. А во время войны, да еще победоносной, служба сулит добычу, успешную военную карьеру. Для многодетной крестьянской семьи гибель на войне сына – беда, но беда обыденная, привычная. К тому же общество только выходит из рамок традиционного аграрного общества с характерными для него натуральными повинностями крестьянского населения. Для немногочисленной привилегированной верхушки система оставляет лазейку – возможность за деньги освободить своих сыновей от военной службы.
После наполеоновских войн французская система всеобщей воинской обязанности становится нормой в континентальной Западной Европе. Военные успехи Наполеона, несмотря на его конечное поражение от войск общеевропейской коалиции, продемонстрировали, что сохранять рекрутские или наемные армии – непозволительная роскошь[1398]. Как правило, формирующиеся в посленаполеоновскую эпоху системы комплектования армии включали краткосрочную (2–3 года) службу для призывников и долгосрочную (6–8 лет) для тех, кто за деньги заменял военнообязанного из обеспеченной семьи либо был нанят государством. Если учесть существовавшие семейные и категориальные льготы, воинская обязанность на деле не была всеобщей.
Исключением стала армия Пруссии. После ее поражения в 1806 году при Йене и Ауэрштедте Наполеон по условиям мирного договора ограничил ее численность 42 тыс. человек. Такое ограничение и сложившаяся со времен Фридриха Вильгельма I традиция массовой военной подготовки заставили Пруссию прибегнуть к краткосрочной мобилизации значительной части призывников. Это дало возможность быстро включить тысячи обученных солдат в состав действующей армии. После кампании 1812 года система краткосрочной мобилизации позволила прусской армии всего за несколько месяцев вдвое превысить численность, установленную по договору с Наполеоном.
Наследие эпохи Фридриха Вильгельма I и Фридриха II, военный опыт 1807–1813 годов, подталкивает прусскую элиту к тому, чтобы ввести в 1813–1814 годах всеобщую воинскую обязанность – систему призыва, но без права откупа[1399]. Срок службы ограничивался двумя-тремя годами[1400]. Важнейшая задача прохождения службы – военная подготовка военнообязанных. Существовали категориальные льготы, льготы, связанные с семейным положением. Финансовые ресурсы Пруссии не позволяли держать под ружьем армию, в которую были бы мобилизованы все мужчины призывного возраста, призывалась лишь часть их. Но распространение воинской обязанности в Пруссии по европейским меркам было необычно широким. После прохождения двухлетней или трехлетней службы военнообязанный пребывал в резерве и проходил регулярную подготовку на воинских сборах. Такая система давала Пруссии, а затем и Германии, на которую после объединения распространился прусский порядок комплектования вооруженных сил, возможность располагать в военное время мобилизуемой, хорошо подготовленной армией, по численности многократно превышающей армию регулярную. Следует упомянуть еще один фактор, который повышал действенность прусско-германской системы: высокий – по стандартам времени – уровень начального образования. За короткий срок военной подготовки грамотные молодые люди становились хорошо обученными, “знающими свое место в строю” рядовыми и сержантами.
С началом франко-прусской войны стало ясно, что мобилизационный потенциал Германии позволяет сформировать армию военного времени в 3 раза большую, чем французская. Исход военной кампании 1870–1871 годов был предопределен до ее начала[1401]. После этой войны для правительств большинства европейских стран, соседствующих с Германией, становится очевидной необходимость заимствовать прусский опыт. Первой это сделала Франция. Она ввела систему, подобную прусской, в 1872 году.
В России рекрутчина и крепостное право были органично связаны, это особенно ярко проявилось во время, когда в Европе уже начался переход от рекрутского набора к всеобщей воинской обязанности. Чтобы создать кадры резервистов, необходимые для развертывания армии в военное время, нужно увеличить контингент призывников за счет сокращения срока службы. В России это было невозможно: зачисляемые в армию рекруты уже не числились крепостными[1402]. С середины 1860‑х годов вокруг военной реформы разворачивается политическая борьба. Итоги франко-прусской войны усиливают позиции реформаторов. В дискуссии с представителями старого генералитета военный министр граф Д. Милютин аргументирует необходимость радикально изменить систему комплектования вооруженных сил, отказаться от рекрутского набора, ввести всеобщую воинскую обязанность. Он доказывает, что Россия, которая содержит большую, дорогостоящую регулярную армию мирного времени, пополняемую рекрутами, может столкнуться с превосходящими по численности армиями военного времени Германии и Австро-Венгрии, не имея возможности увеличить свои вооруженные силы из-за нехватки обученного резерва[1403]. Это стало решающим доводом в пользу начала глубокой военной реформы, введения в 1870‑е годы всеобщей воинской обязанности в России[1404]. Те же соображения влияли на комплектование российских вооруженных сил в последующие десятилетия. Так, одной из мер, принятых царским правительством после японской войны для увеличения военно-обученного резерва, было сокращение срока службы, с тем чтобы пропускать через армию большее количество людей[1405].
Эволюция систем комплектования вооруженных сил в Англии, английских колониях, образовавшихся на их основе независимых государствах шла иначе, чем в континентальной Европе. В Англии с IX в. воинская обязанность распространяется и на знать, и на простонародье. Это не европейская всеобщая воинская обязанность XIX в., а лишь мобилизация ополчения для отражения норманнских набегов. Такой призыв сохраняется и в последующие столетия. В Англии никогда не было запрета носить оружие тем, кто принадлежал к непривилегированным сословиям. Это дало возможность во время Столетней войны усиливать рыцарскую конницу укомплектованным из простонародья ополчением. Островное положение дает Англии военные преимущества перед континентальными странами: столетиями она обходилась сильным флотом, феодальной конницей, народной милицией и малочисленной наемной армией. Традиционная для Англии организация вооруженных сил была перенесена в английские колонии, в том числе североамериканские. Здесь сформировалась система всеобщей воинской обязанности, иными словами, обязанности каждого участвовать в защите от нападений индейцев. Это была не регулярная армия, а территориальные милицейские формирования.
В ходе Войны за независимость в США возникла необходимость в организованной регулярной армии. Пытаясь мобилизовать силы местной милиции на постоянную армейскую службу, Дж. Вашингтон сталкивается с тяжелыми проблемами. После завоевания независимости тема регулярной армии становится одной из ключевых при обсуждении Конституции страны. Широко обсуждается идея, что Конституция должна содержать прямой запрет на существование регулярной армии в мирное время, поскольку это может угрожать гражданским свободам[1406]. Авторы Конституции выдвигали контраргументы: роль милиции, которая состоит из вооруженных граждан и находится под гражданским контролем, безусловно, велика, однако регулярная армия при неожиданной угрозе позволит выиграть время, необходимое для ее мобилизации[1407]. Доводы федералистов оказались весомее. Конституция США не запрещает содержать постоянную армию. Но из-за опасений угрозы гражданским свободам в Конституцию была внесена поправка, гарантировавшая гражданину право хранить оружие и выступать с оружием в руках для защиты свободы и демократии.
Вплоть до 1861 года в основе американских вооруженных сил оставалась модель, сходная с английской, основанная на милицейской системе при ограниченной регулярной армии. Сохранить эту модель не позволили масштабные боевые действия во время Гражданской войны. И на Севере, и на Юге формируются созданные на базе милиции массовые армии – добровольческие, но организованные, постоянные. Нехватка добровольцев, готовых сменить милицейскую службу вблизи своего дома на собственно воинскую вдали от него, побуждает сначала южные штаты, у которых беднее людские и материальные ресурсы (в 1862 году), затем и северные (в 1863 году) ввести всеобщую воинскую обязанность.
Воинская обязанность в США во время Гражданской войны была далеко не всеобщей – кто-то мог откупиться от службы, кто-то пользовался льготами. И на Юге, и на Севере мобилизационная кампания шла не слишком успешно[1408]. Мобилизация противоречила сложившимся традициям, воспринималась как несправедливость, произвол властей. Известны массовые случаи уклонения от воинской службы, дезертирства, нередко вспыхивали бунты призывников, уничтожались призывные списки. До конца войны значительную часть обеих армий – и конфедератов, и северян – составляли добровольцы.
После Гражданской войны вооруженные силы США возвращаются к довоенной модели. Политики и высшие военные продолжают обсуждать, насколько такая система отвечает реалиям современного мира, в то время как в Европе существуют массовые призывные армии. Однако североамериканская модель вооруженных сил остается неизменной вплоть до начала Первой мировой войны. Основные перемены конца XIX – начала XX в. в военной сфере США – программа строительства флота, не противоречащая англосаксонской традиции, постепенное увеличение комплектуемой на добровольческой основе численности регулярной армии.
С началом Первой мировой войны, когда германский флот стал атаковать суда нейтральных стран, в том числе и американские, именно ограниченная численность сухопутных войск и обученных призывников несколько лет не позволяла Америке начать активные боевые действия. Лишь в 1917 году в США вводят всеобщую воинскую обязанность и страна вступает в войну с Германией.
В Великобритании всеобщая воинская обязанность тоже вводится не сразу после начала Первой мировой войны, но на год раньше, чем в Америке. Малочисленная английская армия мирного времени, ограниченность призывного контингента не позволяли Британии прийти на помощь французским союзникам в самом начале войны.
Итак, первое столетие современного экономического роста ознаменовалось введением всеобщей воинской обязанности, по крайней мере во время войн. Первыми на это пошли крупные страны, претендующие на участие в мировой политике, озабоченные сохранением территориальной целостности. Такая организация вооруженных сил в корне изменила порядок, господствовавший в мире прежде. В аграрных обществах доля профессиональных военных в общей численности населения, как правило, не превышала 1 %. Исключение составляли горские народы, кочевники, античный мир. Но это незначительная часть населения мира. Низкая продуктивность традиционного хозяйства, деградация земледелия при попытках увеличить налоги, слабость налоговых систем – все это длительное время не позволяло финансировать крупные регулярные армии. Крах античных институтов был связан с военным перенапряжением империи. Заметим, что численность армии поздней Римской империи – 500–600 тыс. человек – составляла примерно 1 % ее населения.
Как и в других сферах, современный экономический рост изменяет ситуацию в военном строительстве. В странах, которые в этот процесс вовлечены, душевой ВВП значительно превосходит количество необходимых для поддержания жизни ресурсов. У государства появляется больше возможностей аккумулировать финансовые средства, сохраняя при этом налоговый потенциал. Это позволяет увеличить и число граждан, мобилизуемых для участия в длительных войнах, и необходимые для обеспечения армий ресурсы.
Во время наполеоновских войн – после введения всеобщей воинской обязанности во Франции и на подконтрольных ей территориях – доля европейского населения, участвовавшего в войнах, вряд ли превышала 2 %. В ходе Второй мировой войны для основных стран-участниц она приближается к 10 %. Даже в США, где отсутствует традиция всеобщей воинской обязанности, а первые призывные кампании во время Гражданской войны были неудачными, призыв 1917 года прошел организованно, не встретил общественного сопротивления. Правда, в англосаксонской традиции он продолжал считаться исключением военного времени. В Великобритании и США после окончания Первой мировой войны призыв был отменен. Эти страны возвращаются к привычным контрактным системам комплектования армии. Но понимание того, что в случае новой крупной войны вновь придется прибегнуть к призыву, укореняется и здесь. Когда в 1940 году, более чем за год до вступления США в войну, американские власти объявляют первый в истории страны призыв на воинскую службу в мирное время, это решение не вызывает серьезных протестов общества. Что касается стран континентальной Европы, не защищенных морем от потенциального агрессора, не имеющих времени для перехода к армии военного образца, то здесь всеобщая воинская обязанность сохраняется и между мировыми войнами.
После окончания Второй мировой войны крупнейшие военные державы сталкиваются с новыми реальностями: “холодная война”, войны в Корее и Вьетнаме. Это заставляет США на десятилетия сохранить призывную систему. Она по-прежнему господствует и в континентальной Европе. Военная элита развитых стран, за исключением Великобритании, Канады и Австралии, принимает этот способ комплектования своих армий как естественный и единственно возможный. Однако в эпоху радикальных перемен, вызванных современным экономическим ростом, многие укоренившиеся представления рано или поздно приходится пересматривать. Так было и с воинским призывом.
§ 3. Воинский призыв в эпоху постиндустриализации
За десятилетия, прошедшие после введения всеобщей воинской обязанности, в социальной структуре стран – лидеров современного экономического роста произошли изменения. Доля сельского населения теперь не превышает 5 %. Нормой стала малодетная семья с высокой продолжительностью предстоящей жизни детей. Служба в армии лишилась прежней привлекательности. Люди сами решают проблемы социальной адаптации, получают дополнительное образование, если того пожелают. 2–3 года принудительной, практически бесплатной повинности воспринимаются как потерянное время, помеха в социальном и профессиональном росте.
Для малодетных семей отправка единственного сына в армию, тем более на войну, – катастрофа.
В постиндустриальном мире у демократического государства не много возможностей навязать обществу то, чего оно не хочет, не принимает. Молодежь в массовых масштабах уклоняется от воинской службы. Растет доля призывников с теми или иными отсрочками и льготами.
Если значительная, более того, преобладающая часть общества категорически не принимает принудительной службы в армии и нет простых и прозрачных способов от нее освободиться, неизбежны разнообразные легальные или полулегальные привилегии, коррупция в системе органов, проводящих призыв и медицинское освидетельствование призывников. Призыв становится несправедливым натуральным налогом, ложащимся на бедные, низкостатусные группы населения, не способные обеспечить своим детям освобождение от воинской службы[1409]. Формально эгалитарный механизм набора в армию на деле становится коррумпированным и несправедливым.
Во время Второй мировой войны в США призывали практически всех мужчин от 18 до 26 лет. После окончания войны в Корее призыв становится избирательным. Призывные комиссии получают право решать, где молодой человек будет больше полезен стране – на своем рабочем месте, в учебном заведении или в армии. Постепенно дело идет к тому, что наиболее подготовленные и образованные молодые люди из-за своей ценности для общества вообще не призываются на воинскую службу, а те, чьи успехи или квалификация ниже, призыву подлежат. Результат понятен: расслоение общества по уровню доходов, увеличение разрыва между социальными группами[1410].
Выясняется, что в постиндустриальном обществе с развитой демократией и всеобщим избирательным правом сложно, более того, практически невозможно использовать призывной контингент для ведения войн, если речь не идет об очевидной угрозе для безопасности страны[1411]. Первой из развитых стран с этой проблемой столкнулась Франция во время военных действий в Индокитае. Несмотря на тяжесть войны, которая закончилась поражением французской армии, власти так и не решились послать во Вьетнам ни одного призывника из метрополии. Воевали солдаты из французских колоний, профессиональные военные – офицеры и унтер-офицеры, Иностранный легион[1412].
В отличие от войны в Индокитае, которая рассматривалась как далекая, не затрагивающая национальных интересов, войну в Алжире общественное мнение первоначально воспринимало как серьезную угрозу стране. Французское правительство в начале алжирской войны провозгласило: “Алжир – это Франция”[1413]. К 1956 году Франция задействовала в Алжире 400 тыс. военнослужащих. Здесь были и алжирские добровольцы, и Иностранный легион, но обойтись без направления призывников из Франции при заданных масштабах военных действий было невозможно. Это радикально изменило отношение к войне во Франции[1414]. В 1960 году 75 % французов на референдуме поддержало предоставление Алжиру независимости[1415].
В Португалии во время колониальной войны число призывников, уклоняющихся от военной службы, между 1961 и 1974 годами достигло 110 тыс. человек. Основной формой уклонения были эмиграция и отказ вернуться в страну. Крушение авторитарного режима в Португалии было тесно связано с непопулярными колониальными войнами, для участия в которых направляли призывников[1416].
Колониальные империи не переживают, как показывает опыт XX в., вступления метрополии в стадию высокоиндустриального развития с характерным для нее быстрым снижением уровня рождаемости. Данные табл. 14.1 иллюстрируют связь краха империй и уровня экономического развития метрополии.
Та же проблема проявилась, когда США вели войну во Вьетнаме. Американская военная элита знала о неудачном опыте использования призывных контингентов в борьбе с партизанами. Но генералитет полагался на подготовку и боевой дух американских призывников, верил в возможность использования их для создания эффективных военных формирований. Реальность опровергла эти расчеты. Если во время Первой и Второй мировых войн американские солдаты примерно поровну представляли разные социальные группы общества, то вьетнамский призыв оказался очевидно социально несправедливым. Призывники не имели ни малейшего желания воевать[1417]. Между 1966 и 1970 годами дезертирство в армии США возросло втрое[1418].
Таблица 14.1. ВВП на душу населения стран-метрополий в год потери контроля над бывшими колониями
Источник: Maddison A. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OECD, 1995. P. 195–199.
Проведенное социологом Дж. Уэббом исследование, посвященное судьбе выпускников одного из наиболее престижных в США Гарвардского университета, окончивших его между 1964 и 1972 годами (и соответственно подпадавших под действие Закона о призыве), показало, что из 12 565 молодых людей лишь 9 оказалось во Вьетнаме[1419]. Во время вьетнамской войны социологические опросы показывали: при всей яркости и массовости студенческих протестов против войны наиболее жесткую антивоенную позицию занимали представители наименее обеспеченных и образованных групп населения – те, из которых и формировался призывной контингент для отправки во Вьетнам[1420].
Средний класс категорически отказывался отправлять своих детей во Вьетнам. Когда это стало ясно, продолжение войны сделалось невозможным. Представители среднего класса хорошо знали, как воздействовать на своего конгрессмена, как повлиять на позицию местного сообщества, на тех, кто финансирует избирательные кампании. Средний класс дал четкий сигнал власти предержащей – уходите либо из Вьетнама, либо со своих выборных постов[1421]. К началу 70‑х годов XX в. невозможность дальнейшего использования призывной армии во Вьетнаме стала очевидна американской политической элите. В изменившихся социальных условиях система комплектования вооруженных сил по призыву изжила себя.
Еще раньше, в 1967 году, в США начинается серьезная дискуссия о военной реформе. Позиция Министерства обороны США, выражающая мнение военного руководства, была сформулирована в докладе Конгрессу, подготовленном летом 1966 года. Заместитель министра обороны Д. Маррис настаивал на том, что систему призыва необходимо сохранить. Отказ от нее дорого обойдется казне. К тому же служба в армии – это патриотический долг гражданина. Переход к профессиональной армии породит административные проблемы. Если и удастся укомплектовать рядовой состав вооруженных сил контрактниками, это произойдет за счет выходцев из низкостатусных групп, приведет к непропорционально большой доле этнических меньшинств в составе вооруженных сил[1422]. Несмотря на эти доводы, сложившаяся после вьетнамской войны политическая обстановка настоятельно требовала проведения военной реформы.
Р. Никсон, избранный президентом в 1969 году, создал комиссию во главе с бывшим министром обороны Дж. Гейтсом[1423], поставил перед ней задачу проанализировать возможность и целесообразность перехода к добровольческой армии. 20 февраля 1970 года комиссия представила президенту доклад, в котором эта идея была поддержана[1424].
Входивший в состав комиссии лауреат Нобелевской премии по экономике М. Фридман привел следующие аргументы в пользу военной реформы: добровольческая армия формируется из людей, которые сами выбрали военную карьеру. Переход к ней позволит повысить боевой дух армии, сократить текучесть кадров, экономить средства, расходуемые на подготовку рядового и сержантского состава. Добровольческая армия оставляет за гражданами свободу выбора – служить им или не служить; ликвидирует права призывных комиссий – решать, кто из молодых людей проведет несколько лет своей жизни на воинской службе, а кого это минует. Свободный выбор военной службы дает возможность избежать дискриминации тех или иных групп населения, отменить привилегии, которыми пользуются обеспеченные социальные слои, способные дать детям платное образование. Отмена призыва позволит молодым людям – и тем, кто служит в армии, и тем, кто выбирает мирные профессии, – планировать свою карьеру и семейную жизнь. Введение контрактной армии позволит учебным заведениям лучше выполнять свои образовательные функции, освободит их от необходимости учить сотни тысяч молодых людей, для которых учеба лишь способ уклонения от воинской службы[1425].
В 1970 году президент Р. Никсон сказал: “21 февраля я получил отчет комиссии по переходу к добровольческой армии. Члены комиссии единодушно пришли к выводу, что интересам нации в большей степени отвечает добровольческая армия, чем смешанная, состоящая из добровольцев и призывников, и что необходимо предпринять шаги в этом направлении. Все мы видели, какое влияние оказывает призыв на нашу молодежь, нормальное течение жизни которой сначала нарушается годами неопределенности, а потом самим призывом. Мы знаем о несправедливости нынешней системы, как бы мы ни старались сделать ее справедливой. После тщательного рассмотрения всех связанных с этим факторов я поддержал выводы комиссии. Убежден в том, что мы должны двигаться к отмене призыва”[1426].
Американская армия перешла на контрактное комплектование в 1973 году. Была сохранена регистрация контингента, который подлежит мобилизации в условиях чрезвычайного положения или большой войны.
Военная организация традиционно консервативна и инертна[1427]. В США преодолеть инерцию – отменить призыв и перейти к контрактной армии – удалось из-за того, что затянувшаяся война вдали от Америки была чужда большей части общества. В других постиндустриальных странах продвижение к военной реформе происходило медленнее. Однако повсеместно возникали одни и те же проблемы: несовместимость сформированной на раннеиндустриальном этапе развития системы всеобщей воинской обязанности с реалиями современного общества[1428].
Сама технология современной войны на постиндустриальной стадии развития радикально отличается от ведения военных действий в первой половине XX в. Уходит в прошлое эпоха массовых пехотных армий, растут требования к подготовке солдат и офицеров, которые управляют военной техникой. Разрушается социальный консенсус, позволявший в предшествующие десятилетия сохранять систему всеобщей воинской обязанности и потребности армии в ней.
Один из первых ответов на новые реальности – сокращение срока службы по призыву. Если после Второй мировой войны он, как правило, составлял 2–4 года, то к 1980–1990-м годам в развитых странах, сохранивших призывную систему, сокращается до 9–12 мес.[1429]. За такое непродолжительное время можно обеспечить боевую подготовку, но нельзя укомплектовать слаженные воинские части и соединения.
Президент Франции Ж. Ширак, аргументируя необходимость военной реформы в стране – отказа от призыва, перехода к комплектованию армии на контрактной основе, – напомнил, что во время кризиса 1991 года в Персидском заливе многочисленная на бумаге французская призывная армия не смогла в необходимый срок выдвинуть в зону боевых действий даже десятитысячный контингент[1430].
В некоторых постиндустриальных странах, несмотря на продолжающиеся дискуссии о необходимости реформы вооруженных сил и отказа от призыва, пока такие решения не приняты. Характерный пример – Германия. До 1983 года система призыва здесь предполагала обязательную воинскую службу в течение 10 мес. и альтернативную гражданскую немногим больше года. Желающие служить на “гражданке” должны были обосновать свой выбор в органах призыва. Примерно половина из них получала отказ. К 1983 году невозможность дальше сохранять такой порядок стала очевидной. Реформа 1983 года создала основу действующей системы комплектования вооруженных сил. Подлежащий призыву молодой человек должен направить в государственные органы письмо, в котором излагается его выбор. 99 % ходатайств о прохождении альтернативной службы удовлетворяются, лишь одному из 100 отказывают из-за неправильно оформленных документов. Примерно половина проходящих альтернативную службу работает в организациях здравоохранения. Срок военной службы – 10 мес., альтернативной – 11 мес. По существу это и есть добровольная воинская служба[1431].
Однако в Германии остались сторонники призыва. Их аргументация своеобразна. Сохранение хотя бы частично призывной армии сводит к минимуму риск, что политики втянут страну в военный конфликт за ее пределами. К тому же альтернативная гражданская служба – важный источник рекрутирования кадров для малопрестижных профессий. Отказ от нее создаст дополнительные финансовые проблемы.
Перед контрактными армиями постиндустриального мира поставлен выбор – какой модели контракта отдать приоритет. Он определяется характером угроз, которые испытывает страна.
Американская система комплектования вооруженных сил опирается на короткие контракты. Контрактники – молодые люди, как правило, 18–20‑летние – подписывают контракт на 3–5 лет с правом его продлить. К окончанию срока службы они получают набор привилегий, права на бесплатное продолжение образования, на государственную и муниципальную службы. Преимущества такой системы: мобильность рядового состава, возможность быстро перебрасывать его в горячие точки, превращение армии в институт, открывающий выходцам из низкостатусных семей, откуда обычно черпают контрактников, путь к социальному продвижению. У коротких контрактов есть и недостатки. Срок службы ограничен несколькими годами, а на подготовку солдат, способных обращаться с современным высокотехнологичным оружием, уходит время. При наборе новых контрактников армии приходится нести новые расходы на их обучение.
Иную систему использует Канада. Здесь Министерство обороны делает ставку на длительные контракты, служба рядового и сержантского состава в армии занимает большую часть их трудового стажа и длится 20–25 лет. Преимущества и недостатки этой системы очевидны. Немолодых, обремененных семьей контрактников трудно перебрасывать в горячие точки и долго держать в зоне боевых действий. Зато экономятся средства на подготовке личного состава, военнослужащие годами накапливают боевой опыт.
Какими бы ни были различия в организации контрактных вооруженных сил, развитие стран – лидеров современного экономического роста на протяжении последних десятилетий убедительно показало, что массовые призывные армии наподобие тех, что были необходимы в мировых войнах прошлого столетия и отвечали социальным и технологическим условиям полуторавекового исторического периода с начала XIX и до середины XX в., уходят в прошлое. Насколько устойчива эта тенденция, покажет время. Как отмечалось, прогнозировать тенденции развития стран – лидеров современного экономического роста – занятие неблагоприятное. Однако демографическая динамика, в значительной мере определяющая отношение общества к призыву, носит долгосрочный характер.
Для стран догоняющего развития важно учитывать опыт лидеров, осознавать, что проблемы призывной системы не случайны. Они возникают не только из-за нехватки финансовых ресурсов или переменчивых настроений общества. Они носят стратегический характер, заданный долгосрочными тенденциями общественного развития.
§ 4. Проблемы комплектования российских Вооруженных сил
В России специфика демографического перехода, связанная с социалистической индустриализацией, падением числа рождений, приходящихся на 1 женщину, на раннем этапе современного экономического роста в сочетании с быстрым развитием системы образования сделали кризис системы комплектования Вооруженных сил неизбежным. В Российской империи ни во времена рекрутчины, ни после введения всеобщей воинской обязанности (реформа 1874 года) единственные сыновья в мирное время призыву не подлежали[1432]. В 80‑90‑х годах XX в., когда семья с единственным сыном, получившим полное среднее образование, становится правилом, кризис призывной армии – данность.
На это наложились три обстоятельства: крах социализма и последующий революционный кризис, для которого характерны делегитимация институтов старого режима, в том числе системы призыва; финансовые трудности, связанные с крушением старых институтов при слабости новых; неизбежность сокращения доли военных расходов в ВВП по сравнению с аномально высокими показателями, характерными для СССР (табл. 14.2), включая численность армии, доставшуюся новой России, не соответствующую ни возможностям, ни потребностям нового государства, аномально высокую для высокоиндустриальных обществ. Отсюда многолетнее недофинансирование армии, низкий уровень денежного довольствия военнослужащих.
Таблица 14.2. Доля военных расходов РФ в ВВП, %[1433]
Источник: ; Российская экономика. Тенденции и перспективы. За 1999–2002 г г. М., 1999–2002.
К советским социологическим опросам надо относиться осторожно. Тем не менее данные опросов молодежи об отношении к военной службе за 1978, 1986, 1992 годы весьма характерны. По данным военных социологов, в 1975 году 77,7 % сержантов и солдат “служили с большим интересом”, понимая необходимость и важность выполнения воинского долга. В 1986 году таких стало 63 %, а в 1990 году – 11,6 %[1434]. В этой ситуации легальное или полулегальное уклонение от призыва по показаниям здоровья, участию в образовательном процессе, семейному положению становится массовым[1435]. Призыв оказывается натуральным налогом, возлагаемым на наименее обеспеченные группы населения, на тех, чьи родители не способны дать детям платное или бесплатное высшее образование, оформить соответствующие медицинские документы. Отсюда качество призывного контингента: распространение малограмотности, физической неразвитости, значительная доля имеющих судимость[1436]. В XXI в., когда высокоточное оружие, обращение с которым требует технических знаний и навыков, становится важнейшим фактором эффективной организации военных действий, неэффективность Вооруженных сил, пополняемых таким контингентом солдат и младших офицеров, не вызывает сомнения[1437].
Еще одно обстоятельство, стимулирующее проведение реформы системы комплектования Вооруженных сил, – демографическая динамика. Как отмечалось выше, возрастная структура российского населения находится под сильным влиянием трех факторов: специфики демографического перехода в социалистической России; демографических волн, связанных с последствиями Второй мировой войны; попыток государства воздействовать на процесс воспроизводства населения. Отсюда неравномерность распределения молодежи по возрастным когортам. С 2006–2007 годов число юношей, вступающих в призывной возраст, будет уменьшаться. К 2011 году оно сократится почти вдвое по отношению к призывным контингентам 2003–2004 годов[1438]. Выбор прост: реформировать систему комплектования либо в то время, пока она хотя и плохо, но работает, либо в условиях нарастающего кризиса.
Возможна эволюция системы комплектования российских Вооруженных Сил по модели, характерной для многих континентальных стран Западной Европы, таких как Германия: переход к системе, где короткая и по сути добровольная воинская служба дополняется альтернативной службой в социальной сфере. Однако геополитические обстоятельства России иные, чем у западноевропейских стран. В российских условиях аргументы в пользу того, что подобная система комплектования – лучший способ против вовлечения страны в вооруженные конфликты, малоубедительны.
Континентальное расположение России, близость к ее южным и восточным границам потенциальных очагов нестабильности не позволяют стране обходиться без массового военнообученного резерва как средства геополитического сдерживания. Для контрактных армий стран, столкнувшихся с крупномасштабной войной, отсутствие такого резерва создавало проблемы. Государствам, отделенным от потенциального противника морем, решить их было легче, континентальным странам – сложнее. В российских условиях естественна линия на переход комплектования армии рядовым и сержантским составом по контракту, сочетающаяся с краткосрочным призывом для получения начальной военной подготовки[1439].
Такой способ комплектования вооруженных сил во многом сходен с системой, действовавшей в СССР с 1925 года, после военной реформы, проведенной М. Фрунзе. Вооруженные силы были разделены на кадровые части – те, в которых требуется высокий уровень подготовки (авиация, Военно-Морской флот), а также размещенные в приграничных областях, и территориальные части, используемые для военной подготовки. Эта система позволяла оптимизировать соотношение военных расходов и количество военнообученного резерва. В территориальных частях в течение 1‑го года службы военнослужащие проходили трехмесячное обучение в войсках. Остальные 4 года они периодически привлекались для прохождения учебных сборов[1440].
Важнейшие вопросы, обсуждаемые при подобных преобразованиях системы комплектования: мотивы, побуждающие контрактника поступать на службу; состав контрактников; оптимальные сроки службы; финансовые издержки, связанные с реформой системы комплектования вооруженных сил.
Проводившиеся в нашей стране опросы показывают, что важнейшим мотивом поступления на военную службу, как это характерно для прагматичного постиндустриального общества, является уровень оплаты труда, возможность приобретения льгот в области образования и государственной службы[1441]. Как показывает опыт большинства стран-лидеров, привлечение на контрактную службу рядовых требует предоставления им денежного довольствия, лишь немного более высокого, чем минимальная заработная плата. Кризис комплектования американских Вооруженных сил в начале 1970‑х годов шел на фоне денежного довольствия рядового, в 2 раза более низкого, чем минимальная заработная плата[1442]. В российских условиях ситуация сложнее. Данные ВЦИОМа показывают, что для пополнения Вооруженных сил качественным рядовым и сержантским составом требуется денежное довольствие в размере 1,1–1,2 средней заработной платы по стране[1443]. Это примерно вдвое выше, чем средняя заработная плата рабочего в половине регионов России. Отсюда ответ на вопрос, каков будет контингент контрактников. Как и везде в мире, это, как правило, выходцы из низкодоходных групп населения и депрессивных регионов[1444], для которых воинская служба и связанные с ней социальные льготы являются путем к социальному продвижению.
Есть разные модели организации контрактной службы по ее срокам: от ориентации на относительно короткие 3–5‑летние контракты с возможностью их продления до пожизненной, вплоть до наступления пенсионного возраста, службы. Для России, не отделенной от потенциальных центров угроз морем, боеготовность, быстрота развертывания войск принципиально значима. Опыт показывает, что войска, укомплектованные многосемейными, немолодыми военнослужащими, менее мобильны. Отсюда естественность выбора модели короткого контракта, подобного тому, который характерен для американской армии.
Это же подталкивает к увязке реформы системы комплектования Вооруженных сил и образовательной реформы[1445]. При нынешней призывной армии образовательные льготы малополезны. Для контингента, который попадает сегодня в российскую армию, они непривлекательны, при широком распространении могут снизить качество высшего образования. Ориентация на пожизненный контракт также делает их роль ограниченной. Но краткосрочная контрактная служба, предоставляющая право на финансируемое государством высшее или среднее специальное образование, – серьезный стимул выбора военной службы как базы социального продвижения выходцами из малообеспеченных семей, доступ которых к высшему образованию ограничен.
Главный вопрос, связанный с реформой комплектования системы Вооруженных сил, – ее цена. Военное руководство обычно консервативно, как правило, не любит реформ. Один из аргументов, который традиционно приводится в связи с этим: реформа потребует непосильных затрат[1446]. Расчеты показывают, что в российских условиях расходы на реформу системы комплектования Вооруженных сил в годовом исчислении составляют примерно 0,3 % ВВП[1447]. Это немало, особенно если учесть долгосрочный рост расходов на социальную сферу и ограничение возможностей наращивания доли государственных доходов в ВВП – повсеместные черты постиндустриальной стадии развития. Но такая реформа неизбежна. Вопрос в том, удастся ли ее провести упорядоченно, с минимальными издержками или же на фоне углубляющегося кризиса комплектования Вооруженных сил. Это еще один фактор, стимулирующий комплексные преобразования организации социальной сферы, ухода от стереотипов, характерных для индустриального общества, формирования рыночных механизмов ее функционирования.
Глава 15 Об устойчивости и гибкости политических систем
Но без доверия [народа] государство не сможет устоять.
Лунь Юй. Древнекитайская философияФормирование демократии налогоплательщиков, системы прав и свобод, гарантий частной собственности – все это создало в Европе предпосылки современного экономического роста. В одних странах (Англия, Голландия, США) эти институты сложились еще в условиях аграрного общества, в других формировались на ранних этапах индустриализации. Демократические установления оказались устойчивыми в разной степени, иногда (Германия, Италия, Япония) они демонтировались. Однако на стадии постиндустриального развития складывается консенсус по вопросу о том, что представительная демократия, основанная на всеобщем избирательном праве, – единственно возможная форма политического устройства.
§ 1. О связи уровня экономического развития и характера политических институтов
С. Липсет в 1959 году обратил внимание на связь между экономическим развитием, измеряемым уровнем душевого ВВП, и характером политических институтов[1448]. В последующие десятилетия это было предметом дискуссии политологов и экономистов. Результаты исследований показывают, что, как это случается со взаимосвязями долгосрочных тенденций социально-экономического и политического развития, они менее жесткие, чем представлялось первооткрывателям. В странах западноевропейской традиции устойчивые демократии, как правило, формируются при уровнях душевого ВВП более низких, чем в странах догоняющего развития. В богатых ресурсами странах, где основную часть доходов государства составляют различные виды рентных платежей, при высоких уровнях душевого ВВП сохраняются традиционные монархии или авторитарные режимы[1449]. Существуют очевидные исключения. Индия – пример функционирующей демократии с низкими для такого политического устройства параметрами экономического развития[1450]. Сингапур – одно из наиболее развитых государств мира, сохраняющее авторитарный режим. Но в целом выявленные С. Липсетом закономерности – резкое повышение вероятности существования стабильных демократий при выходе на высокие уровни экономического развития и связанные с ними характеристики социальной структуры (уровень образования, урбанизации) – подтвердились.
В статичном аграрном обществе неизменность установлений, верность традициям – залог стабильности. Здесь нет нужды в регулярных инновациях. В условиях современного экономического роста, который сам является процессом масштабных социально-экономических перемен, высок спрос на способность общества и элит регулярно проводить реформы сложившихся, закрепленных традициями социально-экономических структур. На данной стадии развития это условие успешной адаптации страны к новым вызовам, способности сохранить место в группе лидеров.
Ранние этапы современного экономического роста, связанные с ними радикальные изменения социально-экономической структуры создают серьезные риски для стабильности политических институтов. Традиционные аграрные общества, как правило, стабильные монархии, хотя и переживают потрясения под влиянием “династического цикла”, механизм которого описан в гл. 4. Высокоиндустриальные и постиндустриальные общества в подавляющем большинстве случаев – стабильные демократии. Но между этими двумя уровнями – период политической нестабильности молодых, неустойчивых демократий, социальных революций, тоталитаристских экспериментов, неустойчивых авторитарных режимов[1451].
Процесс эволюции политических институтов во многих крупных странах догоняющего развития шел иначе, чем в странах-лидерах. Здесь не было традиции демократии налогоплательщиков, укоренившихся представлений о правах и свободах. Демократические установления не вырастали органически из структур, сложившихся в рамках аграрного общества. Характерным политическим режимом была традиционная монархия. Подъем Запада, рост экономического, военного и политического могущества стран Западной Европы поставил эти государства перед выбором. Опиумная война в Китае, Крымская война в России, прибытие эскадры коммодора Перри к берегам Японии продемонстрировали военную слабость, уязвимость традиционных режимов перед лицом растущей мощи государств, вовлеченных в процесс современного экономического роста; показали, что придется либо приспособиться к изменившимся условиям, отказаться от многовековых традиций, снимать препятствия на пути структурных сдвигов, научиться осваивать и внедрять новые знания и технологии, либо утратить политическую независимость, превратиться в колонию или полуколонию.
С конца XVIII – начала XIX в. наиболее развитые, мощные в финансовом и военном оснащении страны – это те, в которых есть демократические институты. Представление о демократии как о естественной форме правления, ее связи с экономическими и военными успехами укореняется и в сознании элит стран догоняющего развития. Именно элиты становятся источником дестабилизации традиционных режимов. Российская история XIX в. от декабристов до народников – яркое свидетельство роли образованной части общества в подрыве устоев традиционной монархии.
Некоторым из монархий удалось успешно решить эти задачи, сохранив преемственность и традиции. Яркий тому пример – Япония. Однако в большинстве случаев попытки создания предпосылок современного экономического роста, а также связанные с его ранними стадиями социально-экономические изменения приводят к кризису и крушению монархий. Сама логика индустриализации, быстрые изменения условий жизни и занятости, способов производства подрывают основу легитимности наследственной монархии – традицию[1452]. Для рационального мышления современного общества идея, что старший сын монарха – наилучший правитель, экзотична, а преимущества, обеспечиваемые наследственной монархией (отсутствие или редкость кризисов, связанных с преемственностью власти, ограничение традициями произвола правителя и т. д.), теряют свою привлекательность[1453]. Опыт развития республик и конституционных монархий с значительной ролью парламента в управлении государством начинает восприниматься национальными элитами как объект для подражания.
На стадии подготовки современного экономического роста, а также на его начальном этапе обостряется конфликт вокруг прав на землю. Замена смешанных, крестьянских, феодальных и государственных прав, характерных для аграрного общества, полноценной, четко определенной частной собственностью – предпосылка современного экономического роста. Но она же и база конфликта между крестьянами, убежденными в том, что земля должна принадлежать тем, кто на ней работает, и благородным сословием, верящим в исконность своих прав на землю. Эти противоречия накладываются на социальную дезорганизацию – рост численности городского населения, трудность адаптации к городской жизни, демонтаж традиционных механизмов социальной поддержки.
Бедные страны нестабильны не потому, что они бедны, а потому, что они стараются стать богатыми. Наибольший уровень насилия (смертность от причин, связанных с насилием) не в самых бедных странах (с доходами меньше 100 долл. на человека в год – данные за 1950–1960 годы), а в следующей группе – с доходами от 100 до 200 долл. на человека в год[1454]. В ряде случаев наложение кризисов, конфликтов и противоречий приводит к социальным потрясениям, революциям, открывает дорогу периодам политической нестабильности. Иногда национальной политической элите удается урегулировать эти конфликты, ограничившись верхушечными переворотами, слабо затрагивающими большинство населения. Нередко на смену традиционной монархии приходит не устойчивая демократия, а череда нестабильных демократий, перемежающихся с авторитарными режимами. Созданию предпосылок стабильности демократических институтов препятствует отсутствие стоящей за ними традиции, обеспечивающей историческую легитимацию. Препятствует этому и острота социальных конфликтов раннеиндустриальной эпохи[1455].
§ 2. Слабость государства – определяющая черта революции
Великие революции – редкое явление в мировой истории. Как правило, под революциями понимают ситуации, в которых сочетаются крах установлений предшествующего режима, длительный период социальной дезорганизации и проходящие на этом фоне глубокие изменения социальных и политических институтов[1456]. Большинство исследователей включает в их число Английскую революцию XVII в., Французскую революцию конца XVIII в., мексиканскую революцию начала XX в., русскую революцию 1917–1921 годов, китайскую революцию середины XX в. При всем различии исторических деталей в этих случаях происходит крушение институтов предшествующего строя, открывающее период социально-политической нестабильности. Слабость государства отражает отсутствие согласия в элитах и обществе по поводу норм, институтов и идеалов[1457]. Способность государства выполнять свои базовые функции – обеспечивать защиту собственности, исполнять контракты, поддерживать правопорядок, собирать налоги – оказывается подорванной. Происходят глубокие изменения в составе элит. Формируются новые институты.
Революционный кризис завершается постреволюционной стабилизацией, формированием новой элиты, набором институциализированных норм, усилением государственной власти. Исследования истории и теории революций не позволяют выявить набор факторов, определяющих их неизбежность. Вероятно, это и невозможно. Крупномасштабная революция – катаклизм, тяжелая болезнь. Можно выявить факторы риска, обстоятельства, при которых возможно развертывание событий по революционному сценарию. Но между возможностью и неизбежностью лежит поле политического выбора, борьба вокруг альтернатив национальной политики. Риски революционных катаклизмов связаны с современным экономическим ростом, масштабными изменениями условий жизни, норм поведения. Этот процесс динамичных перемен, беспрецедентных на протяжении предшествующих тысячелетий, предъявляет высокие требования к способности национальных экономических, социальных и политических институтов адаптироваться к условиям и вызовам меняющегося мира. Одновременно он подрывает источники легитимации традиционных институтов аграрного общества, повышает уровень социальной, профессиональной и региональной мобильности, требует от национальной элиты способности систематически проводить в жизнь глубокие изменения норм, регулирующих функционирование соответствующих обществ[1458]. В условиях современного экономического роста адаптивный потенциал общества, гибкие механизмы, позволяющие приспосабливаться к новым вызовам и социальным условиям, – предпосылка сочетания стабильности и развития. Склеротичные, не дающие простора изменениям, закрывающие дорогу к социальному продвижению новым элитам институты увеличивают риски крушения общественных установлений, полномасштабной революции[1459]. Независимо от причин, породивших предпосылки революции, конкретики политической борьбы, обусловившей переход возможности в данность, все великие революции имеют ряд общих черт. Это, в частности:
1. Крах институтов предшествующего режима при постепенном формировании новых норм и институтов. Он порождает феномен деинституциализации, дефицита общепринятых норм регулирования общественной жизни.
2. Слабость политической власти, придающая отношениям собственности неустойчивый характер. В ходе революций происходят масштабные изменения в распределении собственности[1460].
3. Для великих революций характерен острый финансовый кризис, как правило проявляющийся в высокой инфляции, падении налоговых доходов и недофинансировании бюджетной сферы (бюджетные неплатежи)[1461]. Чем более развитым в индустриальном отношении является общество, тем более тяжелые экономические последствия имеет деинституциализация[1462].
В Англии XVII в., во Франции XVIII в. ослабление способности государства исполнять свои функции привело к перебоям в снабжении городов, неисполнению контрактов, бюджетной нестабильности. Но все это лишь в ограниченной степени затрагивало базу экономической деятельности – натуральное крестьянское хозяйство. В Мексике и России начала XX в., успевших сформировать элементы современной промышленности, крах рыночных и общественных связей, существовавших при старом режиме, национальной валюты, государственных институтов привел к глубокому падению производства, в первую очередь на наиболее технически сложных, требующих высокого уровня организации предприятиях.
Широкое распространение установки “после нас – хоть потоп”, кризис общественной морали – результат нестабильности системы общественных норм. Если отношения собственности зыбкие, негарантированные, могут быть пересмотрены при изменении политической конъюнктуры, наивно ждать от собственников ориентации на долгосрочное развитие предприятий. Более рационально отношение к ним как к случайно и временно доставшемуся имуществу, которое надо использовать за короткий срок.
Бегство капитала, медленное формирование менеджмента, ориентированного на долгосрочную перспективу, – характерные черты периода социально-политической нестабильности.
То же относится к функционированию государственного аппарата. Важный фактор, определяющий эффективность государственной машины, – наличие принятых норм поведения. Лишь в обществе с высоким уровнем согласия по важнейшим ценностям можно ожидать формирования некоррумпированного государственного аппарата с высокими стандартами профессиональной этики. Когда страна внутренне разделена по основным вопросам государственного строительства и стратегии развития, трудно ждать от чиновника, что он, проникнутый чувством высокой ответственности, будет заботиться о государственных, а не о личных интересах. Не случайно масштабная коррупция является характерной чертой всех великих революций, по меньшей мере на их завершающем, неромантическом, термидорианском этапе[1463].
Слабость государства в условиях революции накладывает отпечаток на развертывание двух процессов, характерных для таких периодов: финансового кризиса и перераспределения собственности. Способность государства собирать налоги, финансировать выполнение своих функций определяется готовностью общества воспринимать налоги как необходимые и справедливые. Причем готовность эта дополняется силой государства, позволяющей ему навязать свою волю тем, кто с этим не согласен. Развал институтов и норм прежнего режима в условиях дефицита согласия по вопросу о правилах игры подрывает и готовность общества платить налоги, и способность государства их собирать. Отсюда падение доли государственных доходов в ВВП, характерное для великих революций[1464]. Конечно, не всегда дело доходит до крайностей Французской революции, лидеры которой в 1791 году приняли решение об отмене налогов, но падение эффективности налоговой системы в условиях революции – естественное проявление слабости государства.
Революционные режимы, как правило, возглавляют решительные, жесткие, а иногда и жестокие лидеры. Их готовность к неограниченному применению насилия создает ложное впечатление о силе государства. Но она лишь прикрывает слабость режима. Робеспьер мог послать на гильотину тысячи людей, но правительство якобинцев было не в состоянии собирать налоги. Слабое государство не может ограничить обязательства, которые должны финансироваться за счет налоговых поступлений. Отсюда характерные для революций политический популизм, финансовая нестабильность, растянутый период, в течение которого бюджетные дефициты приводят к неплатежам либо финансируются за счет денежной эмиссии. Потому обычно так высока инфляция.
С течением времени подрыв доверия к национальной валюте, падение спроса на нее снижают возможности использования сеньоража[1465] для финансирования государственных расходов. Это ограничивает стимулы к продолжению эмиссионного финансирования, заставляет революционное государство ограничивать расходы. Но и на этом этапе слабость власти приводит к тому, что сокращение государственных расходов проводится в форме бюджетных неплатежей (еще одна характерная черта революций). По природе отношения собственности – принятые, устоявшиеся нормы общественного поведения. Они формируются обычаем и лишь затем фиксируются в письменном праве. Революционный кризис, крах норм предшествующего режима – всегда глубокий кризис отношений собственности. Слабое, не опирающееся на традиционную легитимацию революционное правительство не способно обеспечить выполнение контрактов, защитить частную собственность[1466]. То, что казалось укорененным, принятым, незыблемым, оказывается предметом разногласий, борьбы. Революционному правительству не удается воплотить заранее выработанную, идеологически выверенную программу трансформации отношений собственности[1467]. Этот процесс отражает расстановку социальных сил, поиск временных коалиций и компромиссов[1468].
Две характерные черты определяют трансформацию отношений собственности в условиях революции. Во-первых, сама негарантированность, зыбкость собственности, ее перераспределение приводят к падению цен на имущество. Они определяются не только физическими свойствами объекта собственности, но и мерой устойчивости, гарантированности прав ее приобретателей. Отсюда жалобы на то, что собственность раздается чуть ли не бесплатно[1469]. Во-вторых, тот факт, что за перераспределенной собственностью нет исторической традиции, делает ее сомнительной, спорной. Изменение отношений собственности – результат борьбы, и значительная часть общества им всегда недовольна.
Будучи протяженным процессом, охватывая, как правило, период, сопоставимый с десятилетием, иногда более долгий (Китай), революция все же не может длиться вечно. Два фактора играют определяющую роль в завершении революционного периода, начале постреволюционной стабилизации. Во-первых, общество за годы революции вырабатывает согласие по вопросу о базовых институтах и ценностях. Та часть элиты, которая отказывается принять это согласие, маргинализируется, устраняется от активного участия в политическом процессе, либо – в насильственных революциях – уничтожается. Во-вторых, сама усталость общества от революционного периода, изменений на фоне слабой власти порождает потребность в усилении власти, законе и порядке.
На завершающей стадии революции общество, уставшее от слабости государства, его нестабильности, неспособности выполнять свои функции, страстно желает прихода новой, пусть авторитарной, но функционирующей власти, способной обеспечить порядок, положить конец периоду революционной дезорганизации. Появляется повышенный спрос на “сильную руку”, при этом такую “руку”, которая не отберет завоевания революции, уже принятые обществом и элитами[1470]. Отсюда же расширение автономии власти на этапе стабилизации, обретение свободы маневра в выборе проводимой политики, невозможное ни при старом режиме[1471], ни в условиях революционного кризиса[1472]. Чем более насильственной была революция, чем глубже дезорганизация общественной жизни, тем больше шансов на формирование после революции автономного, стоящего над обществом, тоталитарного режима. Пример русской и китайской революций начала – середины XX в. (самых глубоких и насильственных революций в истории человечества), сформировавшихся на их базе коммунистических систем – наглядное тому подтверждение. В таких случаях власть оказывается вполне свободной в своих действиях; на этапе стабилизации она может даже пересмотреть важнейшие результаты революции, в том числе структуру земельной собственности, провести коллективизацию и вторичное закрепощение крестьянства.
§ 3. Групповые и общенациональные интересы
М. Олсон в работе “Логика коллективного действия”[1473] показал, что “перераспределительные коалиции” – относительно узкие группы людей, объединенные частным интересом, в большей степени способны к самоорганизации, чем широкие, аморфные группы, объединенные общими интересами[1474]. Занятые в производстве стали в США составляют незначительный процент населения. Не черная металлургия определяет перспективы экономического развития этой страны. Повышение таможенных пошлин на металлургическую продукцию наносит ущерб американским потребителям стали и экономике в целом. Однако хорошо организованные группы производителей стали активно участвуют в политическом процессе. Для них издержки, связанные с сохранением импортной конкуренции, реальны. Организовать американских потребителей на борьбу против высоких импортных тарифов на сталь – сложная и неблагодарная задача. Объединить металлургическое лобби для голосования “за” или “против” членов Конгресса в нескольких ключевых штатах, исход выборов в которых определяет расстановку сил, – относительно просто.
Отрасли, находящиеся в авангарде постиндустриального развития, с быстро растущей занятостью и расширяющимися рынками, не имеют столь сильных стимулов к защите своих интересов политическими методами. Их интересы обеспечиваются конкурентоспособностью и экономическим ростом. Именно в “заходящих отраслях”, где занятость должна сокращаться по мере экономического развития, самые сильные стимулы к самоорганизации, созданию лоббистских структур, активному участию в политике.
После Второй мировой войны британские верфи выпускали примерно половину тоннажа морских судов, производимых в мире. В течение следующей четверти века, в период, когда в кораблестроении происходили радикальные изменения, появлялись новые типы судов, в том числе гигантские танкеры, производство в Англии стагнировало. С 1975 по 1987 год оно резко сократилось (на 95 %). Важнейшими факторами стали неспособность английского судостроения адаптироваться к новым технологиям, сопротивление этому профсоюзов[1475].
Пример влияния хорошо организованных групп интересов – аграрная политика большинства постиндустриальных стран. Структурные сдвиги, связанные с современным экономическим ростом, сократили значение ранее доминировавшей аграрной сферы. Отказ от субсидирования производства продовольствия, либерализация рынков аграрной продукции позволили бы сократить государственные расходы, высвободить ресурсы для решения проблем социальной сферы, создать условия для экономического роста в развивающихся странах. Тем не менее развитые страны мира продолжают тратить на аграрные субсидии средства, многократно превышающие расходы на помощь развивающимся странам. Европейский Союз расходует на поддержку сельского хозяйства примерно половину своего бюджета. В США в 2002 году было принято решение об увеличении субсидий сельскому хозяйству. Рынки сельскохозяйственной продукции остаются закрытыми в большинстве развитых стран.
§ 4. Зрелая демократия и ее альтернативы
В условиях стабильного, богатого постиндустриального общества проблемы, находящиеся в центре политического процесса, лишь в ограниченной степени задевают жизненные интересы избирателей. Наряду с коалициями, возникшими вокруг решения вопросов, важных для относительно узких групп лиц, как правило, формируются две противостоящие друг другу политические силы. Они объединяются вокруг первоочередной проблемы постиндустриального общества – соотношения уровня налоговой нагрузки и социальных обязательств. Партии правого центра отстаивают интересы налогоплательщиков, партии левого центра – интересы групп населения, получающих социальные выплаты и льготы или заработную плату за счет бюджета. В ситуации баланса сил этих групп и представляющих их политических партий лоббистские структуры, способные повлиять на голосование узких, но организованных групп избирателей, получают мощные рычаги влияния на политический процесс, нередко определяют исход выборов и состав правительства. Так, сменяющиеся лево– и правоцентристские правительства во Франции крайне осторожно относятся ко всему, что может затронуть интересы аграрного лобби.
Отметим несколько характерных черт зрелых демократий постиндустриальных стран.
1. Долгосрочная устойчивость. За существующими демократическими институтами продолжительная история стабильного функционирования, охватывающая многие десятилетия. Мысль о возможности радикального изменения политического устройства, использования насильственных действий вне серьезной политики. Она удел маргиналов.
2. Важнейший элемент политического процесса – партии, опирающиеся на длительную историческую традицию. Они предлагают варианты решения проблем, волнующих значительные группы избирателей.
3. Периодическая смена у власти партий, занимающих разные позиции по важным для постиндустриального общества вопросам – в первую очередь по вопросам о соотношении уровня приемлемого налогового бремени и социальных обязательств государства.
4. Крайние политические партии, представляющие радикальную альтернативу существующему политическому и социально-экономическому строю (коммунисты, нацисты и т. д.), маргинализованы и не представлены во власти. Баланс интересов постиндустриального общества, в котором большинство населения относит себя к среднему классу, пришедший на смену социальной поляризации ранней индустриальной эпохи, подталкивает основные политические партии к центру, к поиску равновесия между интересами основных групп избирателей.
5. Велико влияние “перераспределительных коалиций” – лоббистских структур, представляющих частные интересы узких (относительно общества в целом), организованных отраслевых и профессиональных групп.
6. Стабильность существующих установлений, баланс политических сил, влияние “перераспределительных коалиций”, заинтересованных в сохранении существующих привилегий, редкость острых кризисов – все это делает трудным проведение глубоких реформ, меняющих сложившиеся установления. Сложность проведения реформ в условиях зрелых демократий является обратной стороной важнейшего преимущества – стоящей за ними традиции, обеспечивающей их устойчивость.
Формирующиеся после затяжных периодов господства авторитарных и тоталитарных режимов молодые демократии обладают чертами, противоположными тем, которые свойственны политическим установлениям стран – лидеров современного экономического роста. Это в основном следующие черты:
1. Новизна демократических институтов, отсутствие их исторической легитимации. Демократические установления недавно созданы, не стали привычными. В этом источник рисков острых политических конфликтов, возможности использования в политическом процессе насилия. Первые десятилетия существования демократических установлений – время нестабильности.
2. Политические партии слабы, не опираются на мощные организационные структуры и продолжительную историческую традицию[1476]. Политический процесс носит личностный характер, по стандартам устойчивых демократий необычно высока роль политических лидеров в определении траектории развития.
3. Молодость демократии, отсутствие баланса социальных и политических сил приводят к тому, что те, кто отрицает основы демократической системы и важнейшие социально-экономические установления (коммунисты, радикальные националисты), нередко пользуются общественной поддержкой. Это создает риски для устойчивости демократических механизмов.
4. Отсутствие баланса политических сил, тенденции к смещению наиболее сильных политических структур к центру, высокая роль политического лидерства ограничивают влияние перераспределительных коалиций. Они возникают и в молодых демократиях, но возможности блокировать неблагоприятные для их интересов изменения здесь ниже, чем в развитых демократиях[1477].
В отличие от зрелых демократий, где устойчивость сложившихся институтов осложняет преобразования, молодые демократии обладают большей гибкостью. Нередко выборы здесь не просто имеют значение, но и определяют долгосрочную траекторию развития социально-экономических институтов. Но период молодости демократии, первых десятилетий ее существования – это и период хрупкости демократического режима, и время гибкости политических институтов, возможностей проведения преобразований, не ограниченных сложившимся балансом сил и перераспределительными коалициями, характерными для зрелой демократии.
Для молодых демократий Восточной Европы и стран Балтии, сформировавшихся после краха советской империи, консенсус элит в отношении стратегического курса развития – возвращение в Европу, тесное сотрудничество с Евросоюзом и НАТО, в перспективе вступление в эти организации – задавал каркас политической стабильности. При всей остроте предвыборной полемики после выборов независимо от их исхода политический и экономический курс претерпевал ограниченные изменения. Европейские стандарты задавали требования к соблюдению демократических прав и свобод, проводимой бюджетной и денежной политике, уровню инфляции, стандартам защиты частной собственности, регулированию банковской системы. Эти страны имели возможность импортировать политическую стабильность, облегчив себе первые годы существования демократических институтов. Но за это приходится платить.
Сложившиеся европейские установления – продукт развития постиндустриального общества – отражают накопившиеся в нем проблемы. Их заимствование восточноевропейскими странами, находящимися на более низком уровне развития, создает серьезные трудности в обеспечении устойчивого экономического роста. Возможность использовать гибкость установлений ранней демократии для решения долгосрочных социальных и экономических проблем, порождаемых постиндустриальным развитием, здесь оказалась ограниченной. Импортируя стабильность европейских институтов, восточноевропейские страны импортируют и их ригидность[1478].
Странам, не имевшим возможности импортировать политическую стабильность и обеспечить на этой основе устойчивость молодой демократии, приходится решать эту задачу самостоятельно. Один из известных ответов на вызовы, связанные с отсутствием демократических традиций: формирование авторитарного режима, основанного на личной власти диктатора. Иногда ему ставят прижизненные памятники. При более цивилизованных формах памятников не ставят, но суть дела от этого не меняется.
Догоняющее развитие создает предпосылки для широкого участия государства в экономике. Технологический образ желаемого будущего задан идущими впереди странами, имеющимся у них набором знаний и технологий. Возможности продвижения к нему зависят от темпов роста инвестиций в национальную экономику. Авторитарный характер власти, проводящей политику индустриализации, позволяет снять ограничения, накладываемые демократией налогоплательщиков. Опыт последних двух веков показывает, что авторитарные режимы совместимы с ранними этапами современного экономического роста, более того, для стран догоняющей индустриализации это характерная форма правления[1479]. Крестьянское население, владеющее землей или не переобремененное чрезмерно высокими арендными платежами, обеспечивает таким режимам надежную базу[1480].
На стадиях зрелого индустриального развития, в условиях постиндустриального общества начинается кризис и крушение авторитарных режимов. Урбанизация, рост уровня образования подрывают их социально-политическую базу. Городское население, имеющее среднее и высшее образование, как показывает опыт, – ненадежная опора для авторитаризма[1481]. Оно предъявляет спрос на политические права и свободы. В отличие от неграмотного крестьянства раннеиндустриальной эпохи городское население, интегрированное в глобальный, открытый мир, знает, как организована политическая система в развитых странах. Если раньше представление о демократии как о естественной организации политической системы, доказавшей свою эффективность, было уделом привилегированного меньшинства, то на новом этапе оно получает широкое распространение.
В то же время переход к постиндустриальной эпохе подрывает основы экономической эффективности политики авторитарных режимов[1482]. Исчерпание возможностей промышленной политики как инструмента развития, перемещение ее центра тяжести на защиту “заходящих отраслей”, рост роли организаций, обеспечивающих создание и распространение новых знаний, – все это снижает роль государственных инвестиций как фактора экономического роста. В странах, на 2–3 поколения отстающих в своем развитии от государств-лидеров и близких по уровню душевого ВВП к крупным странам послевоенной Западной Европы (таких как Испания, Португалия, Греция, Южная Корея, Бразилия, Аргентина и т. д.), начинается демонтаж авторитарных установлений, формирование молодых демократий.
В условиях урбанизированного, образованного общества надолго убедить людей в том, что неизбранный человек должен решать, как им жить, – неразрешимая задача[1483]. Раньше или позже диктатор умирает, бежит или его убивают, памятники сносят. За этим рассыпается вся политическая конструкция авторитарного режима, ставятся под сомнение сложившаяся структура распределения собственности, ранее заключенные контракты. Созданные под предлогом обеспечения стабильности авторитарные режимы сами оказываются источником потрясений. Автократ в современном обществе, как правило, вынужден постоянно доказывать, что его режим – временная мера, переходный период, после которого он непременно восстановит демократию.
§ 5. Что несет с собой “закрытая”, или “управляемая”, демократия
Альтернативный способ решения проблемы политической стабильности – формирование “закрытых”, или, что то же самое, “управляемых”, демократий. Это политические системы, в которых оппозиция заседает в парламенте, а не сидит в тюрьме; регулярно проводятся выборы; нет массовых репрессий, существует свободная пресса, если это не относится к средствам массовой информации, имеющим выход на общенациональную аудиторию, и правительство можно критиковать не только на кухне, но и на улице, в газетах, в парламенте. Нет пожизненного диктатора, политическая элита договорилась о механизмах регулярной передачи власти[1484]. Примеры таких режимов известны: это Мексика на протяжении десятилетий после революции[1485], Италия после Второй мировой войны и до конца 1980‑х годов, Япония того же периода[1486]. Есть все видимые элементы демократии, за одним исключением – исход выборов предопределен, от избирателей ничего не зависит[1487]. Гражданин может думать что угодно, но на выборах победит либерально-демократическая партия Японии, она же сформирует правительство. В Мексике преемником президента станет тот, кого он сам выбрал и, как правило, назначил министром внутренних дел. В течение многих лет мексиканская и японская системы правления рассматривались в качестве примера для подражания во многих государствах Латинской Америки и Азии. Именно неспособность обеспечить устойчивое функционирование такой системы нередко становилась базой формирования откровенно авторитарных режимов[1488].
Развитие событий в России на протяжении последних лет позволяет предположить, что значительная часть политической элиты именно такую организацию политического процесса считает образцовой или по меньшей мере пригодной для России на ближайшие десятилетия. Этот тезис достоин обсуждения. Подобные режимы позволяют надолго сохранять политическую стабильность. Эрнесто Че Гевара, профессиональный революционер, в свое время писал, что революция не имеет шансов на успех, если речь идет о свержении правительства, которое пришло к власти на основе народного голосования, в какой бы степени достоверно оно ни было, и которое сохраняет хотя бы внешние формы конституционной законности[1489]. Именно сохранение видимости политической конкуренции, свободных выборов и конституционного режима – черта, отделяющая “закрытые” демократии от откровенно авторитарных режимов. Однако надо понимать последствия выбора такой стратегии политического развития.
Общеизвестная черта “закрытых” демократий – широкое распространение коррупции[1490]. Сам по себе демократический режим не является гарантией от коррупции. Но его отсутствие делает ее неизбежным элементом политической и экономической жизни[1491]. Если учесть, что широкое распространение коррупции в российской власти – явление многовековое и имеет давнюю традицию, вспомнить о безуспешных попытках Петра I справиться с ней мерами административного воздействия, то легко понять, какую траекторию развития российской государственности на десятилетия мы зададим, сформировав режим “закрытой” демократии. Никакими ритуальными кампаниями, никакими громкими процессами с этой проблемой не справиться. Она неразрывно связана с характером режима, организацией политического процесса, который формируется в ее рамках.
Еще одна характерная черта “закрытых” демократий – их склеротичность, негибкость. Откровенно авторитарные режимы и эффективно функционирующие демократии бывают способны на проведение глубоких структурных реформ. Авторитарный режим в Чили при А. Пиночете[1492] и устойчивые демократические институты Великобритании при М. Тэтчер – очевидные тому примеры. В “закрытых” демократиях с течением времени выстраиваются хорошо организованные группы, способные защищать частные интересы, останавливать реформы, необходимые для страны в целом, но невыгодные им. Япония, столкнувшаяся с одним из самых тяжелых экономических кризисов в крупной развитой стране в конце XX в. и оказавшаяся неспособной провести необходимые реформы в течение 15 лет, – наглядное тому подтверждение. В мире XXI в., где гибкость, способность менять установления, структуры, реагировать на вызовы времени – важнейший залог способности выдерживать глобальную конкуренцию, выбор в пользу “управляемой” демократии представляет серьезную угрозу устойчивому экономическому росту.
К тому же важнейший фактор конкурентоспособности национальной экономики в условиях постиндустриального развития (если Россия не собирается ориентироваться исключительно на сырь евые отрасли) – способность воспроизводить и сохранять высококвалифицированные кадры. Опыт показывает: тот, кто может конкурировать на мировом рынке квалифицированной рабочей силы, хочет, чтобы его мнение при обсуждении проблем той страны, в которой он живет, было услышано. Формирование режима “закрытой” демократии – прямой путь к ускорению “утечки мозгов”.
Современный экономический рост – динамичный процесс, требующий радикальных изменений в институциональных установлениях. Но этот процесс, связанный с формированием институтов, гарантирующих права и свободы, с демократией налогоплательщиков, порождает тенденции к усилению склероза политической системы, делает проведение необходимых реформ все более сложным. Станет ли это базой замедления развития, выхода на новое плато, подобное тому, которое было характерно для эпохи аграрных цивилизаций, покажет время. Делать подобные прогнозы – занятие неблагодарное.
Страны догоняющего развития, многие из которых относятся к группе молодых, нестабильных демократий, сегодня сталкиваются с историческим вызовом. Они могут использовать свои преимущества – слабость политических лобби, представляющих группы интересов, а также широту политического маневра для проведения структурных реформ, необходимых для адаптации к постиндустриальным условиям на ранних стадиях развития, когда проблемы, стоящие сегодня перед странами-лидерами, не обострились до предела, не стали трудноразрешимыми.
Это и происходит сегодня по ряду важнейших направлений. Хотя реформа пенсионной системы, связанная с введением ее накопительной формы, была начата в авторитарном Чили, в дальнейшем именно молодые демократии оказались в числе стран, энергично последовавших по этому пути. Они же стали лидерами радикальных реформ системы налогообложения, о необходимости которых многие годы говорили экономисты в странах – лидерах современного экономического роста. Если такие реформы идут на фоне упрочения и развития демократических институтов, обретения ими исторической легитимации, это дает странам догоняющего развития возможности преодолеть дистанцию, отделяющую их от лидеров, сохранив шансы на долгосрочно устойчивые темпы экономического роста.
Построить в России действующую демократию, разумеется, сложнее, чем ее муляж. Но эту задачу придется решать. Не надо иллюзий. Мы живем в мире XXI в., а не XVIII в. Глобальный характер обмена информацией, быстрые, масштабные социально-экономические изменения, современный характер общества не дают шансов на сохранение устойчивых недемократических режимов.
Заключение
Нет дела, коего устройство было бы труднее, ведение опасней, а успех сомнительней, нежели замена старых порядков новыми.
Н. Макиавелли. ГосударьМожно констатировать: Россия уже вышла из периода социально-экономических изменений, связанных с крушением социалистической системы, формированием рыночных институтов. Казалось бы, можно перевести дух, порадоваться стабильности, забыть о реформах. Ведь реформы – перемены, если они и улучшат жизнь, то потом, с течением времени. Для удовольствия их проводят редко. Вначале это стресс, изменение привычного уклада жизни. Как правило, реформы начинаются лишь тогда, когда старые установления либо разваливаются, либо оказываются несовместимыми с изменившимися реалиями.
К сожалению, все не так просто. Пройдя мучительный постсоциалистический переходный период, Россия оказалась не в застойном, традиционном мире, а в динамичном, меняющемся мире современного экономического роста. Это процесс перехода от мира устойчивых, долгосрочно неизменных аграрных обществ к иным реалиям. Процесс масштабный, охватывающий человечество в целом, к тому же незавершенный, трудно поддающийся анализу. Для него характерны неожиданные и резкие повороты. В этой ситуации способность национальных элит и обществ адаптироваться к меняющимся условиям развития – предпосылка устойчивости, возможности для одних сохранять глобальное лидерство, а для других – сокращать дистанцию, отделяющую их от стран-лидеров.
Внутренние противоречия между динамизмом меняющегося мира и инерционностью установлений, сформированных на ранних стадиях развития, трудности проведения структурных реформ в условиях зрелых постиндустриальных демократий – важнейший вызов. Возможность учиться на ошибках других, проводить глубокие, ориентированные на долгосрочную перспективу реформы, когда проблемы еще не обострились до предела, не стали трудноразрешимыми или неразрешимыми, – стратегическое преимущество стран догоняющего развития. А. Гершенкрон связывал “преимущество отсталости” с возможностью использования технологических инноваций, созданных в развитых странах, теми государствами, которые отстают от них в экономическом развитии. В мире XXI в. “преимущество отсталости” начинает проявляться и в ином отношении – в потенциале ранней адаптации социально-экономических установлений к условиям постиндустриального общества. То, в какой степени страны догоняющего развития сумеют этим воспользоваться, определит их место в мире середины XXI в. Отдыхать от реформ, наслаждаться стабильностью рано. Предстоит большая работа.
Некоторые ее направления уже определились: это активная иммиграционная политика, направленная на исправление неблагоприятных демографических тенденций, в том числе на привлечение иностранной рабочей силы, ее интеграцию в структуру российского общества; создание налоговой системы, сочетающей низкие предельные ставки налогообложения, простоту и расширение налоговой базы; быстрое наращивание накопительной части национальной пенсионной системы. Это реформы, позволяющие восстановить рыночные механизмы в ключевых для постиндустриального общества сферах: образовании и здравоохранении. Нужно добиться, чтобы государственное финансирование не вытесняло, а дополняло частное. Такие реформы невозможно импортировать как готовый продукт из стран-лидеров. В подавляющем большинстве эти проблемы не решены, продолжают обостряться.
В XX в. Россия пережила две революции: 1917–1921 годов и начала 90‑х годов XX в. Каждая из них дорого обошлась стране. Обе были вызваны неспособностью элит вовремя провести необходимые реформы. России на многие десятилетия хватит революций.
С высоты пройденного опыта ясно: те страны догоняющего развития, которые сумеют, сохранив стабильность молодых демократических институтов и не поддавшись соблазну рецептов “закрытых” демократий, провести реформы социально-экономических институтов, обеспечивающие гибкую адаптацию и устойчивое развитие в условиях постиндустриального мира, получат наибольшие шансы сократить свое отставание от стран-лидеров, избежать опасных кризисов, связанных с проблемами постиндустриального развития.
История учит: ни одной стране мира не гарантировано сохранение вечного лидерства, тем более роли гегемона в мире. И теперь государства, начавшие экономический рост на поколения позже лидеров, способны преодолеть отделяющую их дистанцию, стать лидерами его следующих этапов. Но смогут ли национальные элиты, общество в целом использовать этот шанс? Вот главный вопрос. Его решение зависит от всех нас.
Вкладка
Карта 1. Начало современного экономического роста в Западной Европе, 1820 г. (в современных границах)
ВВП на душу населения, долл[1493]:
Источник: Maddison A. The World Economy. A Millennial Perspective. OECD, Paris, 2001.
Карта 2. Распространение современного экономического роста в мире за последние 150 лет (в современных границах)
ВВП на душу населения, долл.[1494]:
Источник: Maddison A. The World Economy. A Millennial Perspective. OECD, Paris, 2001.[1495]
Карта 3. Изменение доли городского населения в странах мира с 1950 по 2000 г. и прогноз на 2025 г.[1496] (в современных границах)
Доля городского населения, %
Источник: World Urbanization Prospects: the 2001 Revision. UNPD, 2001.
Карта 4. Уровень младенческой смертности в 1960 и 2001 гг.
Число детей, не доживших до 1 года, на юоо рождений:
Источник: World Development Indicators 2003, The World Bank.
Карта 5. Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 1960 и 2001 гг.
Продолжительность жизни, годы:
Источник: World Development Indicators 2003, The World Bank.
Карта 6. Россия в контексте мирового экономического роста (оценка примерной дистанции, отделяющей Россию от стран с более высоким уровнем ВВП на душу населения)[1497]
Источник: расчеты по: Maddison A. The World Economy. A Millennial Perspective. OECD, Paris, 2001;
Maddison A. Monitoringthe World Economy 1820–1992. OECD, Paris, 1995; World Development Indicators 2003, The World Bank.
Сноски
1
Правда, в последнее время такие работы стали появляться (см.: Мир на рубеже тысячелетий / Рук. В. А. Мартынов, А. А. Дынкин. М.: Новый век, 2001; Федоренко Н. П. Россия на рубеже веков. М.: Экономика, 2003).
(обратно)2
Maddison A. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OESD, 1995; Idem. The World Economy: A Millennial Perspective. P.: OECD, 2001; Mitchell B. R. International Historical Statistics. The Americas 1750–1993. London: Macmillan Reference LTD, 1998; Idem. International Historical Statistics. Europe 1750–1993. London: Macmillan Reference LTD, 1998; Bairoch P. How and Not Why; Economic Inequalities Between 1800 and 1913: Some Background Figures. Geneva: Librairie Droz, 1991; Kuznets S. Modern Economic Growth. Rate, Structure and Spread. New Haven; London: Yale University Press, 1966; Abramovitz M. Thinking about Growth аnd other Essays on Economic Growth and Welfare. Cambridge: Cambridge University Press, 1991; Goldsmith R. W. An Estimate of the Size and Structure of the National Product of the Early Roman Empire. New Hawen: Income and Wealth, Series 30. № 3. September 1984; Goldstone J. A. Revolution and Rebellion in the Early Modern World. Berkeley; Los Angeles; Oxford: University of California Press, 1991.
(обратно)3
Таким образом, нет единого пути, нет всеобщего закона развития. Каждая страна, которая сталкивается с задачами индустриализации, страна догоняющего развития, вне зависимости от того, в какой степени она находится под влиянием британского опыта, в какой-то степени вдохновлена им, в какой-то степени напугана, вырабатывает свой собственный путь к современному обществу. Если это правильно для стран ранней индустриализации, то это в еще большей степени правильно сегодня. Все зависит от времени… Развивающиеся страны неизбежно будут пытаться миновать отдельные стадии развития” (см.: Landes D. S. The Wealth and the Poverty of Nations. Why Some are so Rich and Some so Poor. New York; London: W. W. Norton & Company, 1999. P. 236).
(обратно)4
Лихтенберг Г. Афоризмы. М.: Наука, 1965. С. 87.
(обратно)5
Гриневецкий Василий Игнатьевич (1981–1919) – выдающийся мыслитель, инженер, преподаватель, организатор отечественного образования, экономист. Профессор, а с 1914 года ректор Императорского Московского технического училища, впоследствии – МВТУ им. Баумана. В 1918 году издал книгу “Послевоенные проблемы русской промышленности”, ряд идей которой, несмотря на ее антибольшевистскую направленность, были использованы на первых этапах советской власти, начиная с разработки государственных планов развития народного хозяйства, основанных на электрификации страны. (Здесь и далее в сносках, отмеченных звездочкой, – прим. ред.)
(обратно)6
Эпоха Хань, династия Хань – самая длительная династия в китайской истории, просуществовавшая с 206 г. до н. э. по 220 г. н. э. после династии Цинь и перед эпохой Троецарствия. Правление и институты этой династии считались образцом для последующих. Идеологическую основу составляло конфуцианство. Была существенно продвинута на запад Великая Китайская стена. Связи распространялись вплоть до Древнего Рима.
(обратно)7
Чандрагупта Маурья – первый в истории объединитель Индии, основавший империю Маурьев. Правил ориентировочно с 317 по 293 г. до н. э.
(обратно)8
“Усредненные показатели подушевого национального продукта в ханьском Китае и Римской империи достигали, по нашим ориентировочным расчетам и оценкам, соответственно 340–440 и 300–400 долл. (в относительных ценах 1980 года); урожайность зерновых – 8–10 и 6–8 центнеров с гектара; уровень урбанизации (города с населением более 5 тыс. человек) – 11–12 и 9–10 %, продолжительность жизни – примерно 24–28 и 22–26 лет” (см.: Мельянцев В. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история и современность. М.: Изд-во МГУ, 1996. С. 56). В пересчете на международные доллары 1990 года, которые являются базовыми в данной работе, аналогичные показатели составляют 510–660 и 450–600 соответственно. По оценкам Р. Голдсмита, в золотом эквиваленте среднедушевые доходы в ранней Римской империи были несколько выше, чем в Индии в середине XIX в., но значительно ниже, чем в Англии 1688 года или Франции и США 1820 года (см.: Goldsmith R. W. An Estimate of the Size and Structure of the National Product of the Early Roman Empire // Income and Wealth. Series 30. № 3. September 1984. P. 280).
(обратно)9
Здесь и далее под международными долларами подразумеваются доллары Geary – Khamis (названы в честь авторов методики), пересчитанные с учетом паритетов покупательной способности национальных валют и приведенные к постоянному уровню цен (в данном случае 1990 года) (подробнее см.: Maddison A. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OECD, 1995).
(обратно)10
Разумеется, экономическая история демонстрирует и существенные отклонения от характерных для большинства стран мира взаимосвязей, но об этом ниже.
(обратно)11
С. Веддингтон был прав, когда отмечал, что “если бы римлянина периода империи можно было перенести на 18 веков во времени, он оказался бы в обществе, которое без больших трудностей смог бы понять” (см.: Waddington C. H. The Ethical Animal. Chicago: University of Chicago Press, 1960. Р. 15).
(обратно)12
См.: Лещенко Н. Ф. Япония в эпоху Токугава. М.: ИВ РАН, 1999. C. 194.
(обратно)13
Империя Сун существовала в Китае с 960 по 1279 г. Правящая династия Чжао. Ее основание положило конец раздробленности Китая после падения династии Тан в 907 г., хотя границы нового государства не были восстановлены полностью по сравнению с предшествующими. Для этого периода характерен бурный интеллектуальный подъем.
(обратно)14
Maddison A. The World Economy: A Millennial Perspective. P.: OECD, 2001. P. 51–52. Один из аргументов в пользу предположения об ускорении экономического роста Западной Европы уже в XI в. – заметный рост доли городского населения в ее ведущих странах. За несколько столетий она повышается с характерных для аграрных государств 10–15 % до трети (Англия, середина XVIII в.). Кроме того, в 1500–1800 годах урожайность зерновых по основным регионам Западной Европы увеличилась в 1,5–2 раза.
(обратно)15
Байрох в своей работе доказывает, что к 1800 году Китай по душевому ВВП опережал Европу, а Япония и остальная Азия отставали от европейского уровня лишь на 5 % (см.: Bairoch P. New Estimates on Agricultural Productivity and Yields of Developed Countries, 1800–1990 // Bhaduri A., Skarstein R. (eds.). Economic Development and Agricultural Productivity. Cheltenham, 1997. P. 45–64).
(обратно)16
См.: Phillis D. The First Industrial Revolution. Second ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1967. P. 11.
(обратно)17
Kuznets S. Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread. New Haven; London: Yale University Press, 1966.
(обратно)18
См.: Kuznets S. Modern Economic Growth: Findings and Reflections // The Ame rican Economic Review. Vol. 63. Issue 3. June 1973. P. 248, 249.
(обратно)19
Cм: Kuznets S. Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread. New Haven; London: Yale University Press, 1966. P. 3–8.
(обратно)20
См.: Kuznets S. Modern Economic Growth: Findings and Reflections // The American Economic Review. Vol. 63. Issue 3. June 1973. P. 10.
(обратно)21
А. Мэддисон пишет: “Я… не согласен с Кузнецом относительно времени перехода к тому, что он называет “современным экономическим ростом” (а я – “капиталистическим развитием”). Данные, которыми мы располагаем сегодня, свидетельствуют о том, что подобный переход состоялся примерно в 1820 году, а не в 1760-м. Работы Крафтса (1983 и 1992 годов) и других исследователей помогли переосмыслить прежде бытовавшую концепцию о резком взлете Англии во второй половине XVIII в. Исследования последних лет (в области истории экономики Нидерландов. – Е. Г.) доказали, что в конце XVIII в. доходы там были выше, чем в Соединенном Королевстве. Работы в сфере количественной истории других западноевропейских стран, увидевшие свет в последние два десятилетия, дают еще больше оснований, чтобы отодвинуть переход дальше в глубь времен и изменить прежний упор на британскую исключительность” (см.: Maddison A. The World Economy: A Millennial Perspective. P.: OECD, 2001. P. 45). Есть и другая точка зрения: Р. Фогель считает, что в Англии современный экономический рост начался раньше, чем полагал С. Кузнец, – в первые десятилетия XVIII в. (см.: Fogel R. W. Simon S. Kuznets. April 30, 1901 – July 9, 1985. NBER Working Paper 7787. P. 23).
П. Байрох обращает внимание на трудности, связанные с определением начала современного экономического роста. Принципиальная проблема здесь – что брать за точку отсчета: развитие событий в подавляющем большинстве стран мира или положение в странах-лидерах. К 1800 году 99 % населения мира не было затронуто изменениями, связанными с индустриализацией. Но в Великобритании рост промышленности и связанные с ним изменения в социальной структуре уже достигли серьезных масштабов (см.: Bairoсh P. How and Not Why; Economic Inequalities Between 1800 and 1913: Some Background Figures // Batou J. (ed.) Between Development and Underdevelopment. The Precocious Attempts at Industrialization of the Periphery, 1800–1870. Geneva: Librairie Droz, 1991). К вопросу о начале современного экономического роста см. также: col1_2 Patterns of Development in Nineteenth Century Europe // Oxford Economic Papers. Vol. 36. 1984. P. 438–458; Ashton T. S. The Industrial Revolution 1760–1830. Oxford: Oxford University Press, 1948; Idem. An Economic History of England: the 18th Century. London: Methuen &Co. LTD, 1955; Deane P., Cole W. A. British Economic Growth 1688–1959: Trends and Structure. Cambridge: Cambridge University Press, 1962; Wrigley E. A. Poverty, Progress and Population. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
(обратно)22
Reynolds L. G. Economic Growth in the Third World, 1850–1980. London: Yale University Press, 1985. P. 31.
(обратно)23
Рассчитано как среднее геометрическое за рассматриваемый период.
(обратно)24
Adelman I. The Genesis of the Current Global Economic System. /~adelman/KEYNOTE.html. P. 1, 2.
(обратно)25
“Прежде всего некоторые процессы, протекавшие между XV и XVIII вв., нуждаются в особом названии. Присмотревшись к ним, убеждаешься, что простое отнесение их к рыночной экономике в обычном понимании граничит с абсурдом. Слово же, которое при этом само приходит на ум, – это капитализм. В раздражении вы гоните его в дверь – оно тут же возвращается в окно. Ибо вы не находите для него адекватной замены – и это симптоматично. Как сказал один американский экономист, лучшим доводом за использование слова капитализм, как бы его ни порочили, является тот факт, что не найдено ничего другого, чтобы его заменить… Я склонен усматривать, с некоторой долей произвола, разумеется, что его реальное вхождение в современный язык связано с появлением в 1902 году широко известной книги Вернера Зомбарта «Современный капитализм» (Der moderne Kapitalismus)” (см.: Бродель Ф. Динамика капитализма. Смоленск: Полиграмма, 1993. C. 50, 51). К. Маркс, разумеется, был автором концепции, в рамках которой основные черты устройства современного ему общества описывались как “капитализм”, но сам он употреблял это слово редко. В этом нетрудно убедиться, посмотрев на слово “капитализм” в предметном указателе Полного собрания сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса: Т. 8. С. 120; Т. 13. С. 7, 8; Т. 19. С. 386, 413, 419; Т. 23. С. 10, 91, 180, 229, 372, 611, 727, 759; Т. 24. С. 43, 44, 65; Т. 25. С. 142, 380–382, 385; Т. 29. С. 258.
(обратно)26
В этом корень многих недоразумений, которые возникают в экономико-исторических исследованиях, относящихся к XVI–XVIII вв., когда общество в Западной Европе уже явно приобретает черты, существенно отличающие его от традиционных аграрных цивилизаций, но индустриализация, урбанизация в масштабах, сопоставимых с тем, что происходило на протяжении последних двух веков, еще не начались. О проблемах, связанных с интерпретацией этого периода, см., например: Sanderson S. K. Social Transformations: a General Theory of Historical Development. Oxford, Cambridge: Blackwell, 1995. P. 134. О том, что даже квалифицированные историки и сегодня смешивают возникновение капиталистических форм социально-экономической организации, создающих предпосылки современного экономического роста, и сам процесс современного экономического роста со свойственными ему радикальными изменениями всех важнейших параметров, характеризующих организацию жизни общества, см.: Гребнев Л. С. Мавр возвращается? А он и не приходил… // Вопросы экономики. 2004. № 7–8.
(обратно)27
Де Врис и Дер Вуди следующим образом определяют характерные черты современной (капиталистической) экономики: 1. Свободные рынки товаров и факторов производства. 2. Достаточно высокий уровень производительности сельского хозяйства, позволяющий поддерживать сложные социально-экономические структуры с глубоким разделением труда. 3. Государство, желающее и способное поддерживать права собственности, свободу движения товаров, заключения и выполнения контрактов и озабоченное условиями жизни своего населения. 4. Уровень технологий организации, позволяющий поддерживать ориентированное на рынок потребление населения (см.: Vries J. de, Woude A. van der. The First Modern Economy: Success, Failure and Perseverance of the Dutch Economy, 1500–1815. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. P. 693).
(обратно)28
А. Мэддисон называет весь период развития Западной Европы между 1000 и 1820 годами протокапиталистическим (см.: Maddison A. The World Eco -nomy: A Millennial Perspective. P. 45).
(обратно)29
Сами по себе капиталистические институты не давали гарантии перехода к современному экономическому росту. Опыт Голландии – наиболее развитой страны Европы ХVII – ХVIII вв., сформировавшей их, но не сумевшей обеспечить функционирование механизма динамичного экономического развития, индустриализации в ХVII – ХVIII вв., – наглядное тому свидетельство (см.: Mokyr J. Editor’s Introduction: the New Economic History and the Industrial Revolution // Mokyr J. (ed.). The British Industrial Revolution: An Economic Perspective. Boulder: Westview Press, 1993. P. 131, 119, 120; Vries J. de, Woude A. van der. The First Modern Economy: Success, Failure and Perseverance of the Dutch Economy, 1500–1815. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. P. 693; Wrigley E. A. Poverty, Progress and Population. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. P. 58–63).
(обратно)30
Под странами – лидерами современного экономического роста автор понимает те государства, которые по уровню душевого валового внутреннего продукта отстоят от страны, имеющей максимальные показатели по этому параметру, не более чем на одно поколение (25 лет). Скажем, в 1870 году уровень душевого ВВП Великобритании составлял 3263 долл. США достигли сходного показателя в 1881 году. Австралия (тогда колония Великобритании) уже в 1870 г. имела уровень душевого ВВП, превышающий английский. Бельгия вышла на сходный уровень ВВП в 1890 году, Нидерланды – в 1885-м, Новая Зеландия – в 1880-м. Применительно к концу XIX в. это и есть страны, которые можно включить в круг лидеров. Страны догоняющего развития – это те, которые по уровню душевого ВВП отстают от лидеров на дистанцию, превышающую поколение. Очевидное исключение здесь – небольшие и крайне богатые ресурсами страны, душевой ВВП которых может существенно превышать другие показатели, характеризующие уровень развития: структуру занятости, расселения, уровень образования и т. д.
(обратно)31
Rostow W. W. The Stages of Economic Growth. A Non-Communist Manifesto. Cambridge: Cambridge University Press, 1960. P. 8.
(обратно)32
О доле капитальных вложений в ВВП Англии во время индустриализации см.: Crafts N. F. R. British Industrialization in an International Context // The Journal of Interdisciplinary History. Vol. XIX. № 3. Winter 1989, а также: Williamson J. G. Debating the British Industrial Revolution // Explorations in Economic History. Vol. 24. 1987. P. 269–292.
(обратно)33
* Здесь и далее в скобках указан год, для которого рассчитан показатель.
** Только для белого населения.
(обратно)34
Рассчитано как среднее геометрическое за рассматриваемый период.
(обратно)35
В международных долларах 1990 года.
(обратно)36
“Постиндустриальное общество определяется как общество, в экономике которого приоритет перешел от преимущественного производства товаров к производству услуг, проведению исследований, организации системы образования и повышению качества жизни; в котором класс технических специалистов стал основной профессиональной группой и, что самое важное, в котором внедрение нововведений… во всеобщей степени стало зависеть от достижений теоретического знания… Постиндустриальное общество… предполагает возникновение нового класса, представители которого на политическом уровне выступают в качестве консультантов, экспертов или технократов” (см.: Bell D. Notes on the Post-Industrial Society // The Public Interest. Vol. 7. 1967. P. 102).
(обратно)37
Природа этого процесса пока изучена мало. Одним из факторов, способствующих ему, по всей видимости, является рост экологических притязаний населения, характерный для постиндустриальных стран (см.: Лопатников Д. Л. Постиндустриализм и экологическая перспектива. М.: АБФ, 2003. С. 148–171). Другой фактор, отмеченный американскими авторами, – кризис систем школьного образования в городах (см.: col1_0 The Counter Urbanization Process: Urban America Since 1970 // Berry B. J. L. (ed.) Urbanization and Counter Urbanization. London: Sage, 1976; Population Growth, Structure and Distribution. New York: United Nations, 1999. P. 28, 29).
(обратно)38
База данных Всемирного банка, /.
(обратно)39
Очевидное, но к этому времени малозначимое исключение – США после Войны за независимость.
(обратно)40
Gerschenkron A. The Rate of Growth of Industrial Production in Russia Since 1885 // Journal of Economic History. Vol. 7 (Supplement). 1947. Такого же мнения придерживался У. Ростоу (см.: R o s t o w W. W. (ed.) The Economics of Take-Off into Sustained Growth. New York: St. Martin’s Press, 1963. P. 152–154).
(обратно)41
О темпах роста российской экономики в первые десятилетия современного экономического роста, сходных с темпами роста стран-лидеров, см.: Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX – начало XX в.): Новые подсчеты и оценки / Пер. с англ. И. Кузнецова, А. и Н. Тихоновых. М.: РОССПЭН, 2003. С. 24; Bairoch P. Niveaux de développement économique de 1810 à 1910 // Annales: Economies, Sociétés, Civilisations, 20e année. No. 6. 1965. P. 1091–1118; Прокопович C. Опыт исчисления народного дохода 50 губерний Европейской России в 1900–1913 годах. М., 1918. В России в 1888–1913 годах они уступали темпам роста Соединенных Штатов, Японии и Германии, но опережали соответствующие показатели по Британии и Франции (см.: Goldsmith R. The Economic Growth of Tsarist Russia, 1860–1913 // Economic Development and Cultural Change. Vol. 9 (3). April 1961. P. 441–475). П. Грегори и М. Фалкус пытаются доказать, что темпы роста российской экономики в этот период были несколько выше, чем те, которые были характерны для стран – лидеров современного экономического роста в тот же период (см.: Gregory P. R. Russian National Income, 1885–1913. Cambridge: Cambridge University Press, 1983; Falkus M. E. The Industrialization of Russia 1700–1914. London: Macmillan, 1972; Idem. Russia’s National Income, 1913: A Revaluation // Economica. Vol. 35. February 1968. P. 52–73). Впрочем, неточность исторической социально-экономической статистики конца XIX – начала XX в. вряд ли когда-либо позволит однозначно подвести черту под этой дискуссией. В любом случае очевидно, что темпы роста экономики России на протяжении этих десятилетий находились недалеко от тех, которые были характерны для стран-лидеров.
(обратно)42
Есть особая группа стран, начавших современный экономический рост заметно позже лидеров, но сумевших их догнать. Самый яркий пример – Япония, которая практически одновременно с Россией обнаружила тенденцию к ускорению экономического роста и уже к 70-м годам XX в. сумела войти в группу лидеров.
(обратно)43
У. Ростоу обращал внимание на сходство многих черт социально-экономической структуры СССР середины 50‑х годов XX в. с аналогичными характеристиками США в начале века (см.: R o s t o w W. W. The Stages of Economic Growth. A Non-Communist Manifesto. Cambridge: Cambridge University Press, 1960. P. 67).
(обратно)44
Здесь и далее ВВП на душу населения: до 1913 года – по Российской империи в границах СССР; для 1950 года – по СССР; для 2001 года – по Российской Федерации.
(обратно)45
1 Труд и занятость в России: Статистический сборник. М.: Госкомстат России, 2001.
2 Groninghen Growth & Development Center Sectoral Database (. rug.nl/ggdc).
(обратно)46
1 Труд и занятость в России: Статистический сборник. М.: Госкомстат России, 2001.
2 Groninghen Growth & Development Center Sectoral Database (. rug.nl/ggdc).
* С учетом занятых в строительстве.
(обратно)47
Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи. Т. 2. СПб.: Изд-во Дмитрия Буланина, 2000. С. 384.
(обратно)48
Последнюю в зависимости от политического вкуса можно назвать контрреволюцией. Суть дела от этого не изменится.
(обратно)49
Мельянцев В. А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, теория и современность. М.: Изд-во МГУ, 1996. С. 15.
(обратно)50
И это при том, что, как справедливо отмечает Н. Федоренко, “…в течение прошедших ста лет для промышленного производства России была характерна уникальная, не имеющая аналогов в мире неравномерность темпов роста” (см.: Федоренко Н. Россия на рубеже веков. М., 2003. С. 126).
(обратно)51
Easterly W. The Elusive Quest for Growth. Economists Adventures and Misadventures in the Tropics. Cambridge; Massachusetts; London: The MIT Press, 2000.
(обратно)52
Easterly W. The Elusive Quest for Growth. Economists Adventures and Misadventures in the Tropics. Cambridge; Massachusetts; London: The MIT Press, 2000. P. 278, 279.
(обратно)53
См.: Витте С. Ю. Докладная записка Николаю II // Историк-марксист. 1935. № 2/3. С. 131–139.
(обратно)54
О сравнительном анализе топливного баланса наиболее развитых стран и России как базе долгосрочной стратегии развития страны после окончания Гражданской войны см.: Гриневецкий В. И. Послевоенные перспективы русской промышленности. М.: Изд-во Всероссийского центрального союза потребительских обществ, 1922. С. 42–53.
(обратно)55
См.: Туган-Барановский М. И. Земельный вопрос на Западе и в России. М., 1917.
(обратно)56
См.: Струве П. Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России. СПб.: Типография И. Н. Скороходова, 1894. C. 288.
(обратно)57
Berlin I. Historical Inevitability. London: Oxford University Press, 1959; Hayek F. A. von. Studies in Philosophy, Politics and Economics. London: Routledge & Kegan Paul, 1967; Hayek F. A. von. The Road to Serfdom. Chicago: University of Chicago Press, 1945; Hayek F. A. von. The Counter-revolution of Science: Studies of the Abuse of Reason. Glencoe, Ill.: The Free Press, 1952; Popper K. R. The Poverty of Historicism. London: Routledge & Kegan Paul, 1961; Popper K. R. Conjectures and Refutations: The growth of Scientific Knowledge. London: Routledge & Kegan Paul, 1963; Popper K. R. The Open Society and Its Enemies. Vol. 1–2. London: Routledge & Kegan Paul, 1957.
(обратно)58
Данная глава – результат совместной работы с одним из единомышленников автора – В. Мау. Подробнее взгляды на эту тему изложены в статье: Гайдар Е., Мау В. Между научной теорией и “светской религией”: марксизм как философия истории // Вопросы экономики. 2004. № 5–6.
(обратно)59
Сэр Исайя Берлин (1909–1997) – английский философ, один из наиболее выдающихся либеральных мыслителей XX в. Родился в России (г. Рига). Историк философских идей в Европе, переводчик русской литератуы и философской мысли. В 1957 г. возведен в рыцарское звание. С 1974 по 1978 г. был президентом Британской академии.
(обратно)60
Нигде идеи Маркса не были так быстро реципированы, как в России, не только публицистикой, но и так называемой научной литературой” (cм.: Струве П. Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России. СПб.: Типография И. Н. Скороходова, 1894. С. 43–44).
(обратно)61
Tranter N. The Labour Supply 1780–1860 // McCloskey D. (ed.). The Economic History of England Since 1700. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. P. 220, 221; Crafts N. F. R. British Economic Growth, 1700–1850; Some Difficulties of Interpretation // Explorations in Economic History. Vol. 24 (3). 1987. P. 245–268. По этому вопросу продолжается дискуссия. Некоторые авторы считают, что Крафтс и те, кто разделяет его мнение, опираются лишь на данные, характеризующие продолжительность рабочего года в текстильной и металлургической промышленности. С учетом традиционных отраслей увеличение продолжительности рабочего года во время промышленной революции было не столь резким (см.: Williamson J. G. Debating the Industrial Revolution // Explorations in Economic History. Vol. 24 (3). 1987. P. 280).
(обратно)62
О динамике преступности в Англии, Франции и Германии на ранних стадиях современного экономического роста см.: Emsley C. Crime and Society in England 1750–1900. Chapter 2. London; New York: Longman, 1987; Zehr H. The Modernization and Crime in Germany and France, 1830–1913 // Journal of Social History. Vol. 8 (4). 1975. P. 117–141.
(обратно)63
Данные о среднем росте поступающих на военную службу в Англии, рекрутируемых, как правило, из низкостатусных групп населения, дают основание полагать, что представления об увеличении распространения бедности в начале XIX в. не были беспочвенными (см.: Riley J. C. Rising Life Expectancy. A Global History. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. P. 141).
(обратно)64
Как говорил кардинал Ришелье: “Все политики согласны, что ежели народ будет в достатке, то невозможно будет содержать его в границах его обязанностей. Они основываются на том, что, имея меньше знаний, чем другие сословия государства, несравненно лучше воспитанные и более образованные, народ едва ли оставался бы верен порядку… если бы он не был до некоторой степени сдерживаемый нуждою” (см.: Андреев А. Р. Гений Франции, или Жизнь кардинала Ришелье. Документальное историческое исследование. Политическое завещание А. П. Ришелье. М.: Белый Волк, 1999. С. 157).
(обратно)65
Как справедливо отмечал Э. Ле Рой Ладури, Мальтус был рациональным теоретиком традиционных обществ, но он был пророком прошлого; он слишком поздно родился для быстро изменяющегося мира (см.: col1_1 The Peasants of Languedoc. Urbana; Chicago; London: University of Illinois Press, 1976. Р. 311).
(обратно)66
“Главная и постоянная причина бедности мало или вовсе не зависит от образа правления или от неравномерного распределения имущества; не во власти богатых доставить бедным работу и пропитание, поэтому бедные, по самой сущности вещей, не имеют права требовать от них того и другого. Эти важные истины вытекают из закона народонаселения, который при ясном изложении доступен самому слабому пониманию. Поэтому, раз убедившись в них, низшие классы выказывали бы больше терпения в перенесении тягостного положения, в котором они могут оказаться. Нужда не вызывала бы в них такого негодования против правительства и богатых людей; они не выражали бы постоянной готовности к неповиновению и мятежу, а, получая вспомоществование от общественного учреждения или частного лица, чувствовали бы больше признательности и лучше ценили бы его” (см.: Мальтус Т. Опыт закона о народонаселении. Петрозаводск: Петроком, 1993. С. 110).
(обратно)67
McCulloch J. R. Treatises and Essay on Money, Exchange, Interest, the Letting of Land, Absenteeism, the History of Commerce, Manufactures, etc. Edinburgh, 1859. P. 454, 455.
(обратно)68
Hicks J. A Theory of Economic History. London; Oxford; New York: Oxford University Press, 1969. P. 148, 149.
(обратно)69
Hayek F. A. (ed.) Capitalism and the Historians. Chicago: The University of Chicago Press, 1954. P. 14.
(обратно)70
В это время Алексис де Токвиль описывает социальный климат во Франции как войну всех против всех. “Я видел общество, разделенное на два лагеря. Те, кто не имеет ничего, объединены в алчности. Те, кто что-то имеет, объединены страхом. Никаких связей не существует между этими двумя классами. Везде господствует идея неизбежной и приближающейся схватки” (см.: Tocqueville A. de. Democracy in America. Vol. I. New York: Alfred A. Knopf, 1945). Как справедливо отмечает С. Хантингтон, “модернизация всегда вызывает кризис традиционной политической системы, но отнюдь не всегда обеспечивает создание современной политической системы. Если развитость приносит стабильность, то развитие (модернизация) приносит нестабильность” (см.: Huntington S. P. Political Order in Changing Societies. New Haven; London: Yale University Press, 1968. P. 40, 41).
(обратно)71
Энгельс стал заниматься экономическими проблемами раньше Маркса, именно он пробудил у К. Маркса интерес к ним. Работу “Положение рабочего класса в Англии”, написанную Энгельсом в 1844–1845 годах, К. Маркс назвал гениальной (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2‑е изд. М.: Госполитиздат, 1959. Т. 13. С. 8).
(обратно)72
О влиянии специфических условий первой половины XIX в. на формирование взглядов К. Маркса см.: Field A. J. The Future of Economic History. Boston; Pordrecht; Lancaster: Kluver, Nijhoff Publishing, 1987. P. 301, а также: R o s t o w W. W. The Stages of Economic Growth. A Non-Communist Manifesto. Cambridge: Cambridge University Press, 1960. P. 157.
(обратно)73
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2‑е изд. М.: Госполитиздат, 1961. Т. 21. С. 350, 351.
(обратно)74
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2‑е изд. М.: Госполитиздат, 1961. Т. 21. C. 367.
(обратно)75
“Франция, Германия и особенно Америка – вот те грозные соперницы, которые, как я это предвидел в 1844 г., все более и более подрывают промышленную монополию Англии. Их промышленность молода сравнительно с английской, но она растет гораздо более быстрым темпом и в настоящее время – и это весьма любопытно – достигла почти той же ступени развития, на какой английская промышленность находилась в 1844 году. По отношению к Америке сравнение особенно разительно. Конечно, внешние условия жизни рабочего класса в Америке весьма отличны от этих условий в Англии, но и тут и там действуют одни и те же экономические законы, так что результаты, хотя и не во всех отношениях тождественные, должны все же быть одного и того же порядка. Вот почему мы находим в Америке ту же борьбу за более короткий рабочий день, за законодательное ограничение рабочего времени, в особенности для женщин и детей на фабриках; находим в полном расцвете систему оплаты труда товарами и систему коттеджей в сельских местностях, – системы, которые используются «боссами» как средство господства над рабочими” (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2‑е изд. М.: Госполитиздат, 1961. Т. 21. C. 263).
(обратно)76
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Со ч. 2‑е изд. М: Госполитиздат, 1961. Т. 9. С. 250, 251.
(обратно)77
См.: Энгельс Ф. К аграрному вопросу на Западе. Одесса, 1905.
(обратно)78
Плеханов Г. В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. М.: ОГИЗ, Госполитиздат, 1938. С. 92.
(обратно)79
Hicks J. A Theory of Economic History. Oxford; New York: Oxford University Press, 1969. С. 3.
(обратно)80
Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books, Inc., Publishers, 1973. P. 55, 56.
(обратно)81
“В каком-то смысле марксизм и есть одна из религий… Верующему она дает систему конечных целей, которые составляют смысл жизни и являются абсолютными стандартами, по которым можно судить события и поступки; марксизм показывает путь к достижению этих целей, который составляет план спасения и указывает на зло, от которого необходимо спасти человечество или определенную избранную часть человечества” (см.: Schumpeter J. A. Capitalism, Socialism and Democracy. London: Unwin Paperbacks, 1987. P. 5).
(обратно)82
О взглядах К. Поппера на причины привлекательности марксизма см. его работу: Popper K. Unended Quest: An Intellectual Autobiography. London: Routledge, 1992. P. 34.
(обратно)83
К. Леонтьев писал: “Все эти нации, все эти государства, все эти общества (Европы. – Е. Г.) сделали за эти 30 лет огромные шаги на пути эгалитарного либерализма, демократизации, равноправности, на пути внутреннего смешения классов, властей, провинций, обычаев, законов и т. д. И в то же время они все много «преуспели» на пути большего сходства с другими государствами и другими обществами. Все общества Запада за эти 30 лет больше стали похожи друг на друга, чем были прежде… Все идет к одному – к какому-то среднеевропейскому типу общества и к господству какого-то среднего человека” (см.: Леонтьев К. Национальная политика как орудие всемирной революции: Письмо к О. Фуделю. М., 1889. C. 17, 22).
(обратно)84
Витте С. Записка о необходимости реформ, представленная императору Николаю II 9 октября 1905 года // Красный архив. 1925. № 4–5. С. 51–61.
(обратно)85
Рикардо Д. Начала политической экономии и податного обложения. М.; Л.: Госиздат, 1929. C. 294–304.
(обратно)86
В 1860 г. четверть населения Англии потребляла менее 3 тыс. калорий в день, еще четверть – менее 3,5 тыс. Через 20 лет потребление даже нижних 10 % доходных групп населения было немногим ниже 3,5 тыс. калорий (см.: Heclo H. Modern Social Politics in Britain and Sweden. From Relief to Income Maintenance. New Haven; London: Yale University Press, 1974. P. 27, 28). Данные об увеличении душевых доходов в середине – конце XIX в. в Западной Европе подтверждаются сведениями о среднем росте призывников. В 1851–1855 годах средний рост призывника в шведскую армию составлял 166,6 см, к 1911–1920 годам он увеличился до 172,7 см; в Норвегии соответствующее увеличение составило со 168,6 см в 1850 году до 170,7 см в 1905 году; в Дании – со 165,4 см в 1852–1856 годах до 169,1 см в 1904–1905 годах; в Нидерландах со 164,1 см в 1863 году до 167 см в 1902–1904 годах (см.: Россет Э. Продолжительность человеческой жизни. М.: Прогресс, 1981. С. 29).
(обратно)87
“…Пока существовала промышленная монополия Англии, английский рабочий класс в известной мере принимал участие в выгодах этой монополии. Выгоды эти распределялись среди рабочих весьма неравномерно: наибольшую часть забирало привилегированное меньшинство, но и широким массам изредка кое-что перепадало. Вот почему с тех пор, как умер оуэнизм, в Англии больше не было социализма. С крахом промышленной монополии Англии английский рабочий класс потеряет свое привилегированное положение, он весь, не исключая привилегированного и руководящего меньшинства, окажется на том же уровне, на каком находятся рабочие других стран. И вот почему социализм вновь появится в Англии” (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2‑е изд. М.: Госполитиздат, 1961. Т. 21. С. 204, 205).
(обратно)88
См.: Каутский К. О материалистическом понимании истории. Иваново-Вознесенск: Основа, 1923. C. 60.
(обратно)89
В XVIII в. свободно рожденные англичане, даже занятые на наемной работе в сельском хозяйстве, пытались всячески избежать положения наемного работника в промышленности (см.: Field A. J. The Future of Economic History. Boston; Pordrecht; Lancaster: Kluver, Nijhoff Publishing, 1987. P. 272).
(обратно)90
Maddison A. Dynamic Forces in Capitalist Development. Oxford; New York: Oxford University Press, 1991. P. 63.
(обратно)91
“Благодаря периоду коррупций, наступившему с 1848 года, английский рабочий класс был постепенно охвачен все более и более глубокой деморализацией и дошел наконец до того, что стал простым придатком «великой либеральной партии», т. е. партии своих собственных поработителей, капиталистов” (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Со ч. 2‑е изд. М.: Госполитиздат, 1964. Т. 34. С. 249).
(обратно)92
В 1883 году, разбирая рукописи умершего друга, Энгельс обнаруживает, что все материалы, имевшие отношение к “Капиталу”, т. е. черновики второго и третьего томов, написаны готическими буквами, тогда как начиная с 1873 года Маркс пользуется исключительно латинскими. Это дополнительный показатель того глубочайшего мировоззренческого кризиса, который Маркс переживает в это время (см.: Лобок А. Подсознательный Маркс. Екатеринбург: Сред. – Урал. кн. изд-во, 1993. С. 269; Гребнев Л. С. Мавр возвращается? А он и не приходил… // Вопросы экономики. 2004. № 8–9).
(обратно)93
В Предисловии ко 2-му русскому изданию “Манифеста” его авторы писали: “Первое русское издание «Манифеста Коммунистической партии» в переводе Бакунина появилось в начале 60‑х годов… В то время русское издание «Манифеста» могло казаться на Западе не более как литературным курьезом. В настоящее время такой взгляд был бы уже невозможен” (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2‑е изд. М.: Госполитиздат, 1961. Т. 19. С. 304).
(обратно)94
См., например, написанное Ф. Энгельсом в 1886 году “Приложение к американскому изданию «Положения рабочего класса в Англии»”. (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2‑е изд. М.: Госполитиздат, 1961. Т. 21. С. 263, 264).
(обратно)95
Там же. С. 351.
(обратно)96
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Со ч. 2‑е изд. М.: Госполитиздат, 1961. Т. 19. С. 120, 121.
(обратно)97
Там же. С. 401.
(обратно)98
Там же. С. 415. Несколько иная точка зрения излагается в Предисловии к “Манифесту Коммунистической партии”: возможность развития социализма из общины обусловливается синхронизацией русской революции с пролетарской революцией на Западе (там же. С. 305).
(обратно)99
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Со ч. 2‑е изд. М.: Госполитиздат, 1961. Т. 19. С. 419.
(обратно)100
Там же. С. 23, 24.
(обратно)101
На конфликт между марксизмом как научной доктриной и политической идеологией обратил внимание еще Э. Бернштейн. Он писал: “…Социализм как боевое движение не может оставаться свободным от всякой тенденции по отношению к науке. Это лежит в самой его природе, ибо его главная цель не в том, чтобы осуществлять постулаты науки” (см.: Бернштейн Э. Возможен ли научный социализм? / Пер. с нем. Ю. Райхесберга. Одесса: Буревестник, 1906. С. 24).
(обратно)102
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Со ч. 2‑е изд. М.: Госполитиздат, 1959. Т. 13. С. 8.
(обратно)103
Наиболее яркими примерами такого рода размышлений являются так и не отправленное письмо редактору “Отечественных записок”, а также письмо Вере Засулич в сравнении с тремя его черновыми набросками (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2‑е изд. М.: Госполитиздат, 1961. Т. 19. С. 116–121, 250, 251, 400–421). Стоит обратить внимание и на “Историю секретной дипломатии”, так никогда и не опубликованную на русском языке.
(обратно)104
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2‑е изд. М.: Госполитиздат, 1961. Т. 20. С. 286,
287, 296–298.
(обратно)105
Lipset S. M. The Third Century. America as a Post-Industrial Society. California: Stanford University, Hoover Institution Press, 1979. P. 4.
(обратно)106
Barkai A. Nazi Economics: Ideology, Theory and Policy. Oxford; New York; Munich: Berg, 1990. P. 98. Многие авторы отмечают также распространенные в США (особенно в левых кругах) представления о том, что экономический кризис означает смерть капитализма (см.: Ekirch A. Ideologies and Utopias: The Impact of the New Deal on American Thought. Chicago: Quadrangle books, 1969. P. 66, 179).
(обратно)107
Дж. Оруэлл вспоминал об этом времени: “Помнится, я как-то сказал Артуру Кестлеру: «История в 1936 году остановилась», – и он кивнул, сразу поняв, о чем речь. Оба мы подразумевали тоталитаризм” (см.: Оруэлл Дж. Мысли в пути. М.: АСТ – Ермак, 2003. С. 16).
(обратно)108
Разумеется, аргументы против представлений о закономерности исторического процесса приводились и раньше. В самом начале XX в. Э. Мейер писал: “Там, где действительность должна быть изучена в ее частностях, нелепо подводить ее под общие понятия, поэтому нелепо стремиться и к открытию исторических законов, так как законы являются не чем иным, как безусловно всеобщими и необходимыми формулами… Речь идет не о том, насколько трудно или легко открывать исторические законы, а о том, что самое понятие «исторический закон» заключает в себе внутреннее противоречие, логическую несообразность, contradictio in adjecto, так как понятия «историческая наука» и «наука о законах» совершенно несовместимы одно с другим и исключают друг друга. И действительно, в течение моих многолетних исторических исследований мне не удалось открыть ни одного исторического закона, да и в изучениях других историков мне до сих пор не попадались такие законы” (см.: Мейер Э. Теоретические и методологические вопросы истории: Философско-исторические исследования. М.: Типография И. Д. Сытина, 1904. C. 30).
(обратно)109
Popper K. R. The Poverty of Historicism. London: Routledge & Kegan Paul, 1957. P. 135.
(обратно)110
Berlin I. Historical Inevitability. London: Oxford University Press, 1954. P. 150. Еще одна известная работа, содержащая набор аргументов против возможности достоверного прогнозирования динамики социально-экономического развития: Aron R. Introduction to the Philosophy of History. London: Weidenfeld & Nicolson, 1961.
(обратно)111
Popper K. R. The Logic of Scientific, 6th Impression. London: Hutchinson, 1972. P. 136.
(обратно)112
Popper K. R. Unended Quest: An Intellectual Autobiography. London: Routledge, 1982. P. 135.
(обратно)113
Hayek F. A. Capitalism and the Historians. Chicago: The University of Chicago Press, 1954. P. 22.
(обратно)114
Snooks G. D. The Laws of History. London; New York: Routledge, 1998; Lazonick W. Theory and History in Marxian Economics // Field A. J. (ed.). The Future of Economic History. Boston; Dordrecht; Lancaster: Kluver, Nijhoff Publishing, 1987. P. 255–312.
(обратно)115
Rostow W. W. The Stages of Economic Growth: a Non-communist Manifesto. Cambridge: University Press, 1960.
(обратно)116
“Крах коммунизма в Восточной Европе стал последним гвоздем, вбитым в гроб Марксовых теорий экономического детерминизма. Термин «детерминизм» приобрел дурной запах из-за его связи с Марксом, и вполне заслуженно. Совершенно очевидно, что никакой отдельный фактор не в состоянии полностью объяснить или предсказать всевозможные вариации человеческого и общественного поведения и прогресса” (см.: Харрисон Л. Э. Кто процветает? Как культурные ценности способствуют успеху в экономике и политике. “Бейсик Букс”. Подразделение издательства “Харпер Коллинз”. Препринт. С. 20).
(обратно)117
Kornai J. The Socialist System: The Political Economy of Communism. Oxford: Clarendon Press, 1992. С. 10.
(обратно)118
Robinson J. Further Contributions to Modern Economics. Oxford: Basil Blackwell, 1980. P. 202.
(обратно)119
“К сожалению, большинство критических возражений по отношению к Марксу направлены на то, чтобы убедить не относиться к его работам серьезно, а не на то, чтобы учиться на его ошибках. С другой стороны, многие, если не большинство, современных марксистов защищают своего учителя, доказывая, что он никогда не совершал никаких ошибок” (Field A. J. The Future of Economic History. Boston; Dordrecht; Lancaster: Kluver, Nijhoff Publishing, 1987. P. 258). О трудности сохранения простоты мира, характерной для марксизма как светской религии, при необходимости учитывать реальное многообразие социальной организации на сходных уровнях экономического развития см.: Hall J. A. Power’s & Liberties: The Causes and Consequences of the Rise of the West. London: Penguin Books, 1985. Р. 12–13.
(обратно)120
Wallerstein I. The Rise and Future Demise of the World Capitalist System: Concepts for Comparative Analysis. Cambridge University Press: Comparative Studies in Society and History. 1974. Vol. 16. № 4. P. 390.
(обратно)121
Wallerstein I. World System Versus World-Systems / Frank A. G., Gills B. K. (eds.). The World System: Five Hundred Years or Five Thousand? -5000_intro.htm.
(обратно)122
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2‑е изд. М.: Госполитиздат, 1961. Т. 23. С. 9.
(обратно)123
“Легче всего делать весьма общие пророчества, к примеру, утверждать, что в разумный промежуток времени будет дождь. Поэтому не так уж много говорит пророчество, утверждающее, что в течение нескольких десятилетий где-нибудь произойдет революция. Однако, как мы видим, Маркс говорил несколько больше, чем это, и как раз достаточно для того, чтобы сказанное им могло быть фальсифицировано последующими событиями. Те, кто отказывается от возможности такой фальсификации, устраняют последнюю каплю эмпирического содержания из системы Маркса, которая в таком случае становится чисто метафизической” (см.: Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 2. Время лжепророков: Ге гель, Маркс и другие оракулы / Пер. с англ.; под ред. В. Н. Садовского. М.: Феникс, Международный фонд “Культурная инициатива”, 1992. С. 386).
(обратно)124
“Не стоит недооценивать потенциальное влияние целостной теории Маркса в эпоху, когда массы потерявших надежду людей начинают поиск единого мировоззрения, на которое можно опереться в борьбе за улучшение своих экономических перспектив. Периоды экономического подъема не способствуют серьезным размышлениям. Зато кризисы пробуждают мыслительные способности и плодят одержимость. В какой бы форме ни возродился марксизм – а этого не избежать, – он предложит гораздо более мощные объяснения политических проблем капитализма в развивающихся и бывших социалистических странах, чем капиталистические мыслители” (см.: Сото Эрнандо де. Загадки капитала. М.: ЗАО “Олимп-Бизнес”, 2001. С. 215–216).
(обратно)125
Для целей нашего анализа наиболее удобно использовать индикаторы среднедушевого ВВП, рассчитанные А. Мэддисоном за почти двухсотлетний период (см.: Maddison A. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OECD, 1995). Следует также учитывать, что и у лучшего показателя ВВП, как и у любого другого, есть недостатки и ограничения (см. об этом ниже, в гл. 9).
(обратно)126
DeLong J. B. The Shape of Twentieth Century Economic History // NBER. Working Paper 7569. 2000. P. 1.
(обратно)127
Kuznets S. Modern Economic Growth. Rate, Structure and Spread. New Haven; London: Yale University Press, 1966.
(обратно)128
Kuznets S. Modern Economic Growth. Rate, Structure and Spread; Maddison A. The World Economy: A Millennial Perspective. P.: OECD, 2001; Idem. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OESD, 1995; Abramovitz M. Thinking About Growth аnd Other Essays on Economic Growth and Welfare. Cambridge: Cambridge University Press, 1991; Barro R. J. Determinants of Economic Growth. A Cross-Country Empirical Study // NBER. Working Paper 5698.
(обратно)129
Lipset S. M. Political Man. The Social Basis of Politics. New York: Doubleday, 1960; Huntington S. The Third Wave. Democratization in the Twentieth Century. Norman; London: University of Oklahoma Press, 1993; Diamond L. Economic Development and Democracy Reconsidered // Marks G., Diamond L. (eds.) Reexamining Democracy. London: Sage Publications, 1992; Vanhanen T. Prospects for Democracy: A Study of 172 Countries. London; New York: Routledge, 1997.
(обратно)130
Chenery H., Robinson S., Syrquin M. Industrialization and Growth. A Comparative Study. Oxford: Oxford University Press, 1986; Chenery H., Syrquin M. Patterns of Development 1950–1970. Oxford: Oxford University Press, 1975.
(обратно)131
“Институты – правила игры в обществе, или, более формально, формы созданных людьми ограничений, которые формируют взаимодействие индивидуумов” (см.: North D. C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. P. 3).
(обратно)132
North D. C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. P. 132.
(обратно)133
North D. C. Structure and Change in Economic History. New York; London: W. W. Norton & Company, 1981. P. 61.
(обратно)134
На это обращает внимание Р. Камерон (см.: Камерон Р. Краткая экономическая история мира от палеолита до наших дней. М.: Росспэн, 2001. С. 23, 24).
(обратно)135
Braudel F. History and the Social Sciences. Economy Society in Early Modern Europe. London: Routledge and Kegan Paul, 1972. P. 38, 39.
(обратно)136
“Если бы Энгельс и Маркс подождали десять лет – до того времени, когда признаки экономического прогресса и существенного роста реальной заработной платы станут очевидны, трудно предположить, что «Положение рабочего класса в Англии» и «Манифест Коммунистической партии» были бы написаны” (см.: Hayek F. A. Capitalism and the Historians. The University of Chicago Press, 1954. P. 91).
(обратно)137
Schumpeter J. Economic Doctrine and Method. London: George & Unwin LTD, 1954. P. 57.
(обратно)138
Kuznets S. Economic Growth and Structure. New York: W. W. Norton & Company. Ink, 1965; Idem. Modern Economic Growth. Rate, Structure and Spread. New Haven; London: Yale University Press, 1966; Maddison A. Dynamic Forces in Capitalist Development. Oxford; New York: Oxford University Press, 1991; Idem. Phases of Capitalist Development. Oxford; New York: Oxford University Press, 1982; Idem. The World Economy: A Millennial Perspective. P.: OECD, 2001.
(обратно)139
Жак Ле Го ф ф (1927–2014) – французский историк, специалист по Средним векам. Исследует зарождение Европы и общей для европейцев идентичности в Средние века, придерживается концепции Средневековья как особой цивилизации, отличной как от античной, так и от новоевропейской.
(обратно)140
Фридрих Август фон Хайек (1899–1992) – австрийский экономист и философ, представитель новой австрийской школы, идеолог либерализма и свободного рынка. Лауреат Нобелевской премии по экономике (1974).
(обратно)141
См. одну из интересных работ, посвященных специфике траекторий экономического развития, их отклонению от траектории стран-лидеров: Morris C., Adelman I. Nineteenth-Century Development Experience and Lessons for Today // World Development. Vol. 17 (9). 1989. P. 1417, 1432.
(обратно)142
Chenery H., Robinson S., Syrquin M. Industrialization and Growth. A Comparative Study. Oxford: Oxford University Press, 1986; Chenery H., Syrquin M. Patterns of Development 1950–1970. Oxford: Oxford University Press, 1975.
(обратно)143
“Германия была первой крупной европейской страной, которая внесла серьезные
изменения в свою таможенную политику, введя новый тариф в июле 1879 года. Так же как англо-французский договор 1860 года был началом периода свободной торговли в Европе, новый германский тариф ознаменовал собой его завершение и постепенный возврат к протекционизму на континенте” (см.: Bairoch P. Economics & World History. Myths and Paradoxes. Chicago: University of Chicago Press, 1993. P. 24).
(обратно)144
Там же. P. 35, 40.
(обратно)145
Rawlinson H. G. The British Achievement in India. London; Edinburgh; Glasgow: William Hodge & Company, Limited, 1948; Gopal R. British Rule in India: An Assessment. London: Asia Publishing House, 1963.
(обратно)146
Леонтьев К. Восток, Россия и славянство: Сб. статей. Т. 1. М., 1885. С. 17, 28.
(обратно)147
Конфликты Англии с Францией и Россией в колониальных вопросах на протяжении конца XIX – начала XX в. были острее, чем ее же конфликты с Германией или Японией. Однако именно динамичный рост экономической, финансовой и военной мощи последних стал важнейшим фактором дестабилизации баланса сил в мире, проложившим дорогу кризису мирового развития 1914–1945 годов, двум мировым войнам.
(обратно)148
Friedman M., Schwartz A. J. A Monetary History of the United States 1867–1960. Princeton: Princeton University Press, 1963.
(обратно)149
Eichengreen B. Globalizing Capital a History of the International Monetary System. Princeton: Princeton University Press, 1996.
(обратно)150
Bairoch P. Economics & World History. Myths and Paradoxes. Chicago: University of Chicago Press, 1993. P. 3–15.
(обратно)151
Dornbusch R. A Century of Unrivalled Prosperity // MIT Working Paper. April 1999. P. 6.
(обратно)152
О влиянии доминирующих условий мирового развития, в частности свертывания международной торговли, волны протекционизма, характерных для конца 1930‑х годов, на выбор модели социалистической индустриализации см.: Davies R. W., Harrison M., Wheatcroft S. G. (eds.). The Economic Transformation of the Soviet Union, 1913–1945. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. P. 212–214.
(обратно)153
См.: Мельянцев В. А. Генезис современного (интенсивного) экономического роста и проблема догоняющего и перегоняющего развития в странах Запада, Востока и России. “Геном” Востока: опыты и междисциплинарные возможности. Научная конференция ИМЭМО РАН, ИСАА при МГУ, 12–14 апреля 2004 года. М.: Гуманитарий, 2004.
(обратно)154
Lucas R. Why Doesn’t Capital Flow from Rich to Poor Countries? // The American Economic Review. Vol. 80 (2). May 1990. P. 20.
(обратно)155
В данном контексте европейский денежный союз рассматривается в качестве единого целого.
(обратно)156
Diaz-Alejandro C. Goodbye Financial Repression, Hello Financial Crash // Journal of Development Economics. 1995. Vol. 19. P. 21; Bhagwati J. The Wind of the Hundred Days. How Washington Mismanaged Globalization. Cambridge; Massachusetts; London: The MIT Press, 2000. P. 45, 143, 348; Idem. A Model for Going Backwards // Times Literary Supplement. August 8. 1997. P. 11, 12.
(обратно)157
Keynes J. M. The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan and Co, 1936. P. 383.
(обратно)158
Jones E. L. The European Miracle. Environments, Economies and Geopolitics in the History of Europe and Asia. Cambridge; London; New York; New Rochelle; Melbourne; Sydney: Cambridge University Press, 1981. P. 5.
(обратно)159
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2‑е изд. М.: Госполитиздат, 1961. Т. 19. С. 250, 251.
(обратно)160
Яков I еще до вступления на английский трон написал (если быть точным – подписал; истинным автором текстов, по-видимому, был итальянец А. Джентели) два трактата – “Царский дар” и “Истинный закон свободной монархии”, в которых явно видно влияние превалирующих на континенте в то время абсолютистских идей. Эти трактаты неплохо продавались в континентальной Европе (см.: Sommerville J. P. Politics and Ideology in England 1603–1640. London; New York: Longman, 1995. P. 46, 47). Положение английского короля казалось ему странным: “Удивляюсь, – говорил он о парламенте испанскому послу Гондомару, – как мои предки допустили такое учреждение”. Он не понимал, почему короли Франции, Дании, Испании могут устанавливать налоги самостоятельно, а он – лишь с согласия парламента. Уже в его правление была заложена идейная база конфликта, впоследствии переросшего в Английскую революцию XVII в. В ответ на абсолютистские высказывания король в 1611 году получил “Апологию палаты общин”, где его информировали: “Великое заблуждение думать, что привилегии парламента, в частности привилегии общин Англии, принадлежат ему по королевской милости, а не по праву. Мы получили эту привилегию в наследство от наших предков…” (см.: Косминский Е. А., Левицкий Я. А. (ред.). Английская буржуазная революция XVII века. Ч. 1. М.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 84). О влиянии абсолютистских взглядов на организацию государства, на эволюцию политической системы в Англии см. также: Савин А. Н. Лекции по истории Английской революции. М.: Крафт+, 2000. С. 10, 19. Никогда точно не доказанная, но популярная в работах, посвященных Английской революции, версия, связавшая провал переговоров между Карлом I и Кромвелем по вопросу о возможности и об условиях реставрации с перехваченным Кромвелем письмом короля королеве Генриетте, в котором он заверяет ее в преданности идеалам абсолютизма и обещает, вернувшись к власти, повесить мятежников (см.: Young G. M. Charles I and Cromwell. An Essay. London: Rupert Hart-Davis, 1950). Хантингтон обращает внимание на роль противоречий между абсолютистскими тенденциями, характерными для континентальной Европы, и укоренившимися английскими традициями разделения властей в генезисе английской революции (см.: Huntington S. P. Political Order in Changing Societies. New Haven; London: Yale University Press, 1968. P. 123). О влиянии идеологической волны, связанной с представлением о том, что абсолютная монархия является наиболее совершенной формой правления, на развитие событий в Западной Европе в XVII в. см. также: Hatton R. Louis XIV and Europe. London; Basingstoke: Macmillan, 1976.
(обратно)161
В Европе среди тех представителей высшей знати, которые не пользуются королевским правом, нет никого, кто превосходит английских аристократов общественным влиянием, достоинством, богатством. Их владения вспахиваются свободными руками. Крестьянин, который владеет небольшим участком, берет в наем за деньги их обширные поля. Все обогащаются, но приличествующим образом: крестьянин, как того требует его скромное, но почтенное положение, дворянин, как подобает его достоинству. Между тем растут семьи крестьян, чрезвычайное изобилие числа пахарей, юноши спешат на военную службу” (см.: Вольтер (Мари Франсуа Аруэ). Рассуждения на тему, предложенную Экономическим обществом // Русско-французские культурные связи в эпоху Просвещения: Сб. М.: Институт всеобщей истории РАН, 2001. С. 82). То, что этот доклад, представленный на конкурс, объявленный Вольным экономическим обществом в 1766 году, принадлежит Вольтеру (Мари Франсуа Аруэ), никогда не было окончательно доказано. Конкурс (за исключением имени победителя) был анонимным. Сам Вольтер о своем участии в нем не упоминал. Но, исходя из очевидного сходства представленного текста с другими сочинениями Вольтера, в настоящее время историки практически не сомневаются в его авторстве. В. И. Семевский первым из историков установил, что авторство анонимного сочинения, посланного на конкурс под девизом “Si populus deves, Rex deves”, принадлежит Вольтеру (см.: Семевский В. И. Крестьянский вопрос при Екатерине II // Отечественные записки. 1879. № 10. Отд. 1. С. 349–400; № 11. Отд. 1. С. 201–260).
(обратно)162
О влиянии А. Смита и в целом либеральной идеологической волны в XVIII – первой половине XIX в. на торговую политику в Западной Европе см.: Bairoch P. Economics & World History. Myths and Paradoxes. Chicago: University of Chicago Press, 1993. P. 17–24.
(обратно)163
О влиянии либеральной идеологической волны на развитие событий в Европе см., например: MacFarlane A. David Hume and the Political Economy of Agrarian Civilization // Burrow J. W. (ed.) History of European Ideas. Pergamon. 27 (2001). P. 79.
(обратно)164
Влияние английского либерализма на торговую политику в Европе в 1830‑х – 1860‑х годах ощутимо. Пруссия, Бельгия, Голландия, Швейцария, Саксония снижают импортные тарифы. Даже Россия, где они были выше среднеевропейского уровня, идет на их уменьшение.
(обратно)165
См.: Милюков П. Очерки по истории русской культуры. Ч. 1: Население, экономический, государственный и сословный строй. СПб.: Типография И. Н. Скороходова, 1904. С. 84, 85.
(обратно)166
См.: Туган-Барановский М. Очерки из новейшей истории политической экономии и социализма. CПб.: Право, 1914.
(обратно)167
Идеи о необходимости защиты молодых отраслей промышленности на раннем этапе индустриализации отражены в работах немецкой экономической школы середины XIX в. (cм.: List F. Das Nationale System der Politischen Oekonomie. Erster Band. Der Internationale Handel, die Handelspolitik und der Deutsche Zollverein. Stuttgart, 1941).
(обратно)168
“…В конце XIX в. практически каждый мыслящий человек разделял убеждение Маркса в том, что капитализм – это общество неизбежных классовых конфликтов, и, в сущности, к 1910 году большинство «мыслящих людей», во всяком случае в Европе (а также в Японии), склонялись в пользу социализма. Величайший представитель партии консерваторов XIX в. Бенджамин Дизраэли (1804–1881) во многом разделял точку зрения Маркса на капиталистическое общество, так же как и его коллега в континентальной Европе Отто фон Бисмарк…” (см.: Дракер П. Посткапиталистическое общество. Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология / Под ред. В. Л. Иноземцева. М.: Academia, 1999. С. 84).
(обратно)169
Эта волна веры в благотворное влияние функций государства в экономике и обществе оказывает серьезное воздействие и на позицию Католической церкви. В 1891 году Папа Лев XIII публикует энциклику “Рэрум Новарум”, в которой объявляет себя “Папой рабочих”, утверждает, что на фоне волны индустриализации и технологических достижений необходима защита трудящихся от бесчеловечных условий и более равномерное распределение собственности (см.: 100 лет социального христианского учения. М.: МП “Останкино”, 1991. С. 6–24).
(обратно)170
О влиянии большой идеологической волны, порожденной современным экономическим ростом и связанной с дирижистскими и социалистическими идеалами, уверенностью во всевластии государства и пользе государственного активизма, на развитие событий в России в начале XX в. см.: Мау В. Реформы и догмы. 1914–1929. М.: Дело, 1993.
(обратно)171
“Наши либералы и прогрессисты в своем преобладающем большинстве суть отчасти культурные и государственно-просвещенные социалисты, т. е. выполняют в России – стране, почти лишенной соответствующих элементов в народных массах, функцию умеренных, западноевропейских социалистов, отчасти же – полусоциалисты, т. е. люди, усматривающие идеал в половине отрицательной программы социализма, но не согласные на полное его осуществление” (см.: Франк С. Л. DE PROFUNDIS // Из глубины: Сб. статей о русской революции. P.: Ymca-Press, 1967. С. 320–321).
(обратно)172
См.: Стародубровская И. В., Мау В. А. Великие революции: От Кромвеля до Путина. М.: Вагриус, 2001.
(обратно)173
“Идеи Юма, Вольтера, Смита и Канта создали либеральную традицию XIX в. Идеи Гегеля, Конта, Фейербаха и Маркса создали базу тоталитаризма XX в.” (см.: Hayek F. A. The Counter-Revolution of Science: Studies on the Abuse of Reason. Glencoe, Ill.: The Free Press, 1952. P. 206).
(обратно)174
О влиянии доминирующих в мире идеологических убеждений о разумном устройстве общества на рост доли государственных расходов в ВВП в XX в. см.: Tanzi V., Schuknecht L. Public Spending in the 20th Century. A Global Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 1, 2.
(обратно)175
Yergin D., Stanislaw J. The Commanding Heights. New York: Touchstone Books, 1998. P. 31. “Ни один упрек не был столь страшным и столь фатальным для перспектив академической карьеры, чем быть обвиненным в «апологии» капиталистической системы. Даже ученый, решавшийся спорить с доминирующим мнением по конкретным вопросам, вынужден был защитить себя от подобных обвинений, присоединившись к общему осуждению капиталистической системы” (см.: Hayek F. A. Capitalism and the Historians. Chicago: The University of Chicago Press, 1954. P. 23).
(обратно)176
В 1947 году программа ХДС в британской зоне Германии содержала требование национализировать горнодобывающую, сталелитейную и другие крупные отрасли промышленности (см.: Зиберт Х. Эффект кобры: Как можно избежать заблуждений в экономической политике / Пер. с нем. П. И. Гребенникова. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2003. С. 27, 28).
(обратно)177
Изменение темпов роста в странах-лидерах влияет на спрос, цены и соответственно на темпы экономического развития во всем мире. Снижение темпов роста в развитых странах на 1 % в год приводит к снижению темпов роста в развивающихся странах на 1–2 % (см.: Easterly W. The Elusive Quest for Growth. Economists Adventures and Misadventures in the Tropics. Cambridge; Massachusetts; London: The MIT Press, 2000. P. 211).
(обратно)178
М. Абрамович в 1986 году ввел понятие социального потенциала догоняющего развития (см.: Abramovitz M. Catching Up, Forging Ahead and Falling Behind // Journal of Economic History. Vol. 46 (2). June 1986. P. 385–406).
(обратно)179
Solow R. M. A Contribution to the Theory of Economic Growth // Quarterly Journal of Economics. February 1956. Vol. 70. P. 65–94.
(обратно)180
Baumol W. J. Productivity Growth, Convergence and Welfare: What the Long-Run Data Show // American Economic Review. 76 (5). December 1986. P. 1072–1085; De Long J. B. Productivity Growth, Convergence and Welfare: Comment // American Economic Review. 76 (5). December 1988. P. 1138–1154.
(обратно)181
De Long J. B. Productivity Growth, Convergence and Welfare: Comment // American Economic Review. 76 (5). December 1988. P. 1138–1154.
(обратно)182
Abramovitz M. Thinking about Growth, and other Essays on Economic Growth and Welfare. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P. 220–228.
(обратно)183
* В скобках указаны данные, рассчитанные на базе Великобритании (Великобритания = 100). ** В расчет взяты страны: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Швейцария, Великобритания и США. *** Отношение стандартного отклонения к среднему.
(обратно)184
О роли высокого уровня образования в экономическом подъеме Швеции перед Первой мировой войной см.: Sandberg L. G. The Case of the Impoverished Sophisticate: Human Capital and Swedish Economic Growth before World War 1 // Journal of Economic History. 1979. 39 (1). P. 225–241; Sandberg L. G. Ignorance Poverty and Economic Backwardness in the Early Stage of European Industrialization // Journal of European Economic History. 11 (3). 1982. Р. 675–697.
(обратно)185
О роли открытой внешнеэкономической политики в подъеме Швеции см.: O’Rourke K., Williamson J. G. Open Economy Forces and Late 19th Century Scandinavian Catch-up. Discussion Paper № 1709. Cambridge; Massachusetts: Harvard University, 1995. P. 1, 31, 32.
(обратно)186
О влиянии надельной системы, введенной в Китае в период династии Суй и Тан, на формирование институтов земельной собственности и налогообложения в Японии см.: Конрад Н. И. Избранные труды. История. М.: Наука, 1974. С. 75–161; Curtin P. D. The World & the West. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 156–192.
(обратно)187
Morishima M. Why Has Japan Succeeded? Cambridge; London; New York; New Rochelle; Melbourne; Sydney: Cambridge University Press, 1982. Р. 16–20, 24.
(обратно)188
Kawakatsu H. Asia Pacific Dynamism: 1550–2000. London; New York: Routledge, 2000. Р. 70–85.
(обратно)189
См.: Мельянцев В. А. “Восточноазиатская модель” экономического роста: важнейшие составляющие, достоинства и изъяны. М.: Изд. Центр ИСАА при МГУ им. М. В. Ломоносова, 1998. С. 5.
(обратно)190
См.: Мельянцев В. А. Экономический рост стран Востока и Запада в долгосрочной перспективе: Автореф. дис. д-ра экон. наук. М., 1995. С. 212.
(обратно)191
Gerschenkron A. Continuity in History and Other Essays. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1968.
(обратно)192
О связи между отставанием от лидера к моменту начала индустриализации и ее национальными путями, в частности, темпами роста, средним размером предприятий, долей тяжелой промышленности в структуре выпуска, опорой на технологические заимствования и финансовую помощь из-за рубежа, ролью государственного бюджета и т. д. см.: Gerschenkron A. Europe in the Russian Mirror. Cambridge: Cambridge University Press, 1970. P. 98, 99. О влиянии времени начала современного экономического роста на специфику национальных траекторий развития см. также: Kuznets S. Modern Economic Growth. Rate, Structure and Spread. New Haven and London: Yale University Press, 1966. P. 291, 292. С. Витте писал Николаю II: “В России по условиям жизни нашей страны потребовалось государственное вмешательство в самые разнообразные стороны общественной жизни, что коренным образом отличает ее от Англии, например, где все предоставлено частному почину и личной предприимчивости и где государство только регулирует частную деятельность” (см.: Власть и реформы: От самодержавной к советской России / Отв. ред. Б. В. Ананьич. СПб., 1996. С. 416).
(обратно)193
Последующие работы, посвященные догоняющей индустриализации в Европе, заставили многих исследователей усомниться в точности тезиса А. Гершенкрона о прямой зависимости масштабов участия государства в экономике на ранних этапах индустриализации с дистанцией от лидеров. Но в целом опыт XX в. скорее подтверждает, чем опровергает, его гипотезу (см.: Latham A. J. H., Kawakatsu H. Asia Pasific Dynamism: 1550–2000. London; New York: Routledge, 2000. Р. 86–103).
(обратно)194
Morris C., Adelman I. Nineteenth-Century Development Experience and Lessons for Today // World Development. Vol. 17 (9). 1989. P. 1421.
(обратно)195
Maddison A. Dynamic Forces in Capitalist Development. Oxford; New York: Oxford University Press, 1991. P. 37.
(обратно)196
Kuznets S. Economic Growth of Nations: Total Output and Production Structure. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
(обратно)197
О роли концентрации технических инноваций в развитых странах и их ориентации на потребности этих стран см.: Todaro M. Economic Development in the Third World. London; New York: Longman, 1977. P. 110.
(обратно)198
“В XIX в. в соответствии со стандартами эпохи от правительств ожидали немного. Отсюда большая стабильность власти. В XX в. изменившийся мир, опыт стран-лидеров задают повышенные требования к национальным правительствам, что и вызывает большую политическую нестабильность” (см.: Morris C., Adelman I. Nineteenth-Century Development Experience and Lessons for Today // World Development. Vol. 17. 1989. № 9. P. 1417–1432). О влиянии международного опыта формирования систем социальной поддержки в странах – лидерах современного экономического роста на распространение аналогичных институтов в странах догоняющего развития см. также: Heclo H. Modern Social Politics in Britain and Sweden. From Relief to Income Maintenance. New Haven; London: Yale University Press, 1974. P. 10, 11.
(обратно)199
О более высокой доле в ВВП доходов государственных бюджетов в странах, вступивших в процесс современного экономического роста и индустриализации с существенным отставанием от лидеров, см.: Reynolds L. G. Economic Growth in the Third World 1850–1980. New Haven; London: Yale University Press, 1985. P. 67.
(обратно)200
Дж. Темпл обращает внимание на то, что кризис 1990‑х годов в Японии стал примером долгосрочного влияния институтов, созданных для обеспечения догоняющего развития, и трудности их демонтажа в постиндустриальную эпоху (см.: Temple J. The New Growth Evidence // The Journal of Economic Literature. Vol. XXXVII. March 1999. P. 112–156). О том же пишет Г. Офер (см.: Ofer G. Switching Development Strategies and the Costs of Transition: the Case of the Soviet Union and Russia // Paper Presented at the AEA Meeting. San Diego. January 3–5. 2004. P. 1–7).
(обратно)201
У. Истерли отмечал, что во второй половине XX в. долгосрочные темпы экономического развития национальных экономик слабо коррелируют с темпами их развития в предшествующие десятилетия (см.: Easterly W. The Elusive Quest for Growth. Cambridge; Massachusetts; London, England: The MIT Press, 2001).
(обратно)202
О влиянии технологических достижений стран – лидеров современного экономического роста на увеличение продолжительности жизни и динамику мирового населения в XX и XXI вв. см.: Crafts N. Globalization and Growth in the Twentieth Century // IMF Working Paper, 2000.
(обратно)203
Knight M., Loayza N., Villanueva D. Testing the Neoclassical Theory of Economic Growth // IMF Staff Papers. Vol. 40 (3). September 1993. P. 534. С. Морис и И. Эйдельман выделяют три существенно различающиеся траектории индустриализации: страны-первопроходцы, страны импортозамещающей индустриализации XIX в. (Германия, Италия, Япония, Россия), страны поздней индустриализации с высокими темпами роста населения (см.: Morris C., Adelman I. Nineteenth-Century Development Experience and Lessons for Today // World Development. Vol. 17. 1989. № 9. P. 1419, 1420).
(обратно)204
Династия Мин – Великая Минская империя под властью династии Мин просуществовала после отделения Китая от Монгольской империи (под управлением монгольской династии Юань) с 1368 по 1644 год.
(обратно)205
“Зависимость от траектории предшествующего развития – это ключ к аналитическому пониманию долгосрочных экономических изменений” (см.: Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги “Начала”, 1997. С. 144). Эмпирические исследования показали, что установки на достижение жизненного успеха в различных странах тесно коррелируют с темпами экономического роста. Этот фактор, в свою очередь, связан с культурными традициями, унаследованными от аграрного общества (см.: Granato J., Inglehart R., Leblang D. The Effect of Cultural Values on Economic Development: Theory, Hypotheses and Some Empirical Tests // American Journal of Political Science. Vol. 40 (3). August 1996. P. 625). Некоторые исследователи доводят тезис о роли унаследованных от аграрного общества традиций в определении национальных траекторий в условиях современного экономического роста до крайности. Так, Д. Ландес пишет: “Если мы можем научиться чему-нибудь из истории экономического развития – это тому, что культура определяет все различия” (см.: Landes D. What Room for Aссident in History? Explaining Big Changes by Small Events // The Economic History Review. Vol. 47 (4). November 1994. P. 516).
(обратно)206
Barro R. J., McCleary R. M. Religion and Economic Growth. NBER // Working Paper 9682. May 2003. Р. 35, 36.
(обратно)207
Hume D. Of Superstition and Enthusiasm / Essays Moral, Political and Literary. London: Oxford University Press, 1963.
(обратно)208
Weber M. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. London; New York: Routledge, 1995. P. 38.
(обратно)209
О влиянии конфуцианских традиций на специфику эволюции стран, имеющих это историческое наследие, см.: Xinzhong Yao. An Introduction to Confucianism. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
(обратно)210
В работе “Konfuzionismus and Daosismus” М. Вебер подробно описывает то, как конфуцианская философия и даосизм служат препятствием развитию капитализма в Китае. Он же считал, что японцам создать основы капиталистической экономики будет еще сложнее, чем китайцам. Э. де Сото справедливо отмечает: “Предположение, что именно культура объясняет процветание столь разных Японии, Швейцарии или Калифорнии (штат США) и что в ней же кроется причина относительной бедности не менее разнящихся между собой Эстонии, Китая и Байя Калифорнии (штат Мексики), не только негуманно, оно неубедительно” (см.: Сото Э. де. Загадки капитала. М.: ЗАО “Олимп-Бизнес”, 2001. С. 16; Gesammelte Aufsatze zur Religionssoziologie. Bd I–III. Tubingen, 1920–1921).
(обратно)211
Inglehart R. The Silent Revolution. Changing Values and Political Styles Among Western Public. Princeton: Princeton University Press, 1977. P. 61, 62. Схожие выводы см.: Economic Growth: Theory and Evidence / Grossman G. M. (ed.). Vol. 1. Cheltenham, UK – Brookfield, US: An Elgar Reference Collection, 1996. P. 25.
(обратно)212
Lenski G. The Religions Factor. New York: Anchor-Doubleday, 1963; Alwin D. F. Religion and Parental Child-Rearing Orientations: Evidence of a Catholic-Protestant Convergence // American Journal of Sociology. 1986. 92. P. 412–440.
(обратно)213
Landes D. The Wealth and Poverty of Nations. Why Some Are So Rich and Some So Poor. New York; London: W. W. Norton & Company, 1999. P. 178.
(обратно)214
Сastles F. Economic Development and the Welfare State // Welfare State Futures. Leibfried S. (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 2001. P. 41–43.
(обратно)215
“У современных обществ… много общих черт. Но обязательно ли они стремятся к однородности? Аргумент, что это так и происходит, покоится на предположении, что современное общество должно приблизиться к единому, западному типу, что современная цивилизация – это западная цивилизация, а западная цивилизация – это современная цивилизация. Это, однако, в полной мере ложное тождество. Западная цивилизация родилась в VIII–IХ вв. и развивала свои специфические черты в последующие столетия. Ее модернизация началась не раньше XVII–XVIII вв. Запад был Западом задолго до того, как западная цивилизация стала современной. Основные характеристики Запада – те, которые отделяют его от других цивилизаций, – датируются более ранним сроком, чем модернизация Запада” (см.: Huntington S. P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Touchstone, 1996. P. 69). О влиянии традиций, унаследованных от аграрного общества, на набор эффективных стратегий адаптации национальных институтов к реалиям современного экономического роста см. также: Morishima M. Why Has Japan “Succeeded”? Cambridge; London; New York; New Rochelle; Melbourne; Sydney: Cambridge University Press, 1982. Р. 194–201.
(обратно)216
См., например: Huntington S. P. The Clash of Civilization and the Remaking of World Order. Р. 44–47.
(обратно)217
Тацит К. Со ч.: В 2 т. Анналы. Малые произведения. Т. 1. М.: Ладомир, 1993. С. 360.
(обратно)218
Adelman I. State and Market in Economic Development of Korea and Taiwan. Berkeley, California: University of California at Berkeley, 1996. P. 3, 4.
(обратно)219
Nair K. Blossoms in the Dust. New York: Frederick A. Praeger, 1962. P. 192–193; Anstey V. The Economic Development of India. London: Longmans Green and Company, 1936. P. 47. Д. Лал обращает внимание на то, что кастовая система в Индии, обеспечивавшая долгосрочную стабильность, оказалась серьезным препятствием на пути адаптации Индии к условиям современного экономического роста. Несмотря на то что Индия на протяжении многих веков была вовлечена в широкую международную торговлю, кастовая система исключала влияние тех, кто был связан с торговлей, на государственное управление. Представители правящих каст были слабо осведомлены обо всем, что связано с торговлей (см.: Lal D. Cultural Stability and Economic Stagnation: India. C. 1500 BC – 1980 AD. Oxford, 1988. P. 309–314). О связи кастовой системы с медленным распространением массового образования в Индии см.: Roy T. Economic History and Modern India: Redefining the Link // The Journal of Economic Perspectives. Vol. 16. 3. Summer 2002. Р. 109–130. Есть и исследователи, считающие, что представление о влиянии кастовой системы на социальную мобильность в индийском обществе преувеличено, на деле социальная структура является более гибкой, чем это следует из канонических текстов (см.: Morris M. D. Values as an Obstacle to Economic Growth in South Asia: An Historical Survey // The Journal of Economic History. Vol. 27. Issue 4. Dec. 1967. Р. 600–607).
(обратно)220
Hallpike C. R. The Principles of Social Evolution. Oxford: Clarendon Press, 1986. P. 293.
(обратно)221
“Страны, начавшие экономический рост в первое десятилетие XIX в., имели правительства, которые защищали частную собственность, гарантировали выполнение частных контрактов, были готовы устранять «узкие места» в развитии производства и рынка. Эти установления принципиально значимы для распространения промышленной революции и долгосрочного экономического роста, который она обеспечивала. Они составляли институциональное ядро современного капитализма” (см.: Adelman I. The Genesis of the Current Global Economic System // A. Levy-Livermore (ed.). Handbook of the Globalization of the World Economy. Cheltenham: Edward Elgar, 1998).
(обратно)222
Rodrik D. Institutions for High-Quality Growth: What They Are and How to Acquire Them // NBER. Working Paper 7540. P. 15.
(обратно)223
Alexander W. The History of Women From the Earliest Antiquity to the Present Time. Giving an Account of Almost Every Interesting Particular Concerning That Sex, Among All Nations, Ancient and Modern. Bristol: Thoemmes Press, 1995. Об ограниченной роли связей в рамках большой семьи в Северо-Западной Европе по сравнению с другими аграрными обществами см.: Macfarlane A. The Origins of English Individualism. New York: Cambridge University Press, 1979. Р. 3. Утверждение, что в Европе чем дальше мы продвигаемся на восток и юг от Северо-Западной Европы, тем более широкой является семья, – слишком сильное. Однако оно достаточно точно отражает общие тенденции доминирующих здесь взаимосвязей географического положения и структуры семьи (см.: Family Forms in Historic Europe / Wall R., Robin J., Laslett P. (eds.). Cambridge; London; New York; New Rochelle; Melbourne; Sydney: Cambridge University Press, 1983. Р. 51). О причинах такой эволюции семьи в Европе см. в гл. 10.
(обратно)224
Bede’s Ecclesiastical History of the English People. Oxford: Clarendon Press, 1969; Goody J. The Development of the Family and Marriage in Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. P. 34–47, 103–156.
(обратно)225
Тихоцкая И. С. Семья в Японии: традиции и современность // Япония 2000–2001. Ежегодник. М., 2001. С. 70–71, 184.
(обратно)226
Райсхауэр пишет: “Китайская семья была обширной, простираясь в каждом направлении вплоть до пятого поколения. В идеале предполагалось, что представители всех поколений совместно проживают в одном большом доме, разделенном внутренними двориками. В принципе это было доступно только богатым. Обычное домохозяйство насчитывало в среднем пять человек и на самом деле представляло собой семью скорее западного типа, а не идеал большой китайской семьи… Отец-патриарх был средоточием власти [в семье] и, по крайней мере теоретически, управлял семейной собственностью и организовывал браки своих детей и внуков” (см.: Reischauer E. O., Fairbank J. K. China: Tradition & Transformation. Boston: Houghton Mifflin, 1989. P. 15, 16).
(обратно)227
По вопросу о том, насколько на высоких уровнях развития устойчивы механизмы взаимопомощи в рамках широкой семьи, мнения специалистов расходятся (см.: Lal D. Unintended Consequences: the Impact of Factor Endowments, Culture and Politics on Long-Run Economic Performance. Cambridge; Massachusetts; London: The MIT Press, 1998; Jones E. The Record of Global Economic Development. Cheltenham-Northampton: Edward Elgar, 2002).
(обратно)228
Об аномально высокой норме сбережения в Юго-Восточной Азии см.: Bosworth B. P. Saving and Investment in a Global Economy. Washington: The Brookings Institution, 1993; Мельянцев В. А. “Восточноазиатская модель” экономического роста: важнейшие составляющие, достоинства и изъяны. М., 1998. С. 11, 12; Adelman I. State and Market in Economic Development of Korea and Taiwan. Berkley; California: University of California at Berkley, 1996. P. 47–50. При этом исследования норм сбережения иммигрантов в Северной Америке не подтверждают устойчивости влияния традиций на норму сбережения в условиях эмиграции (см.: Carroll C. D., Rhee B.-K., Rhee C. Are There Cultural Effects on Saving? Some Cross-Sectional Evidence // Quarterly Journal of Economics. Vol. CIX. № 3. 1994. Р. 698).
(обратно)229
* Показатель указан без учета населения России. С учетом доли России он составит 21,6 и 27,7 % для 1820 и 1913 годов соответственно.
(обратно)230
М. Вебер в работе “Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen. Band 1: Konfuzianismus und Taoismus” справедливо отмечал роль личных, в том числе семейных, отношений в функционировании китайского общества как существенно более важную, чем в Западной Европе (см.: Weber M. The Religion of China Confucianism and Taoism. London: Collier – Macmillan, 1964). О проблемах, возникающих при попытках ввести западные нормы поведения в отношения с членами широкой семьи, бороться в исламских странах с тем, что на Западе называют “капитализм по знакомству”, см.: Lewis B. Islam in History: Ideas, Men and Events in the Middle East. Bradford; London: Alcove Press, 1973. Р. 289–293.
(обратно)231
О роли отношений в широкой семье в развитии предпринимательства в Восточной Азии см.: Ethnic Business: Chinese capitalism in Southeast Asia / Jomo K. S., Folk Brian C. (eds.). London; New York: Routledge Curzon, 2003. P. 3, 9, 10, 15–17, 20, 21, 23, 32, 33, 52, 53, 71; Clayton D. W. Industrialization and Institutional Change in Hong Kong 1842–1960 // Latham A. J. H., Kawakatsu H. (eds.). Asia Pacific Dynamism: 1550–2000. London; New York: Routledge, 2000. Р. 149–168. “Гуаньси” (дословно – связи, отношения) – система неформальных социальных связей построена обычно по семейному, клановому принципу. Антрополог Э. Кипнис назвал их “отношениями социальной поддержки, укрепляемыми чувством взаимной приязни между участниками” (см.: Kipnis A. B. Producing Guanxi: Sentiment, Self and Subculture in a North China Village. Durham: Duke University Press, 1997; Адамс О. Коррупция в КНР сквозь призму китайской политической культуры. М.: МГУ, 2001. С. 5, 6). Другое название системы неформальных связей, основанной на взаимных обязательствах, описывает ее важность для китайца: “«бамбуковая сеть» должна быть надежной и одновременно гибкой. Только когда правильно скрепишь отдельные звенья воедино – не слишком сильно, чтобы не сломать бамбук, но не слишком слабо, чтобы не разрушить всю сеть, – она сослужит тебе хорошую службу” (см.: Rose-Ackerman S. Corruption and Government. Causes, Consequences and Reform. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 12).
(обратно)232
Видимо, в силу того что подобные традиции не чужды и России, этот укоренившийся в английском языке термин так и не получил адекватного перевода на русский язык. Crony capitalism буквально означает “капитализм по знакомству”, “приятельский капитализм”.
(обратно)233
“Это тотально объединенный стиль жизни, религиозный и светский; это набор верований и способ вести войну; это развернутая и целостная система законодательства; это культура и цивилизация; это экономическая система и способ предпринимательства; это политика и способ организации власти; это особый вид общества и способ руководства семьей; он регулирует наследование и разводы, одежду и этикет, еду и личную гигиену” (см.: Jansen G. H. Militant Islam. London: Pan Books, 1981. Р. 17).
(обратно)234
Gellner E. Muslim Society. Cambridge; London; New York; New Rochelle; Melbourne; Sydney: Cambridge University Press, 1981. Р. 2–3.
(обратно)235
“Коран – нечто большее, чем просто боговдохновенная книга (как Библия у христиан), это прямая речь Бога – предельно монолитная и однозначная” (см.: Тихонравов Ю. Опыт комплементарности // Отечественные записки. 2003. № 5 (14). С. 69).
(обратно)236
См.: Малашенко А. Мусульмане в начале века: надежды и угрозы. М.: Московский центр Карнеги, Рабочие материалы. 2002. № 7. С. 4.
(обратно)237
См.: Бартольд В. В. Культура мусульманства. М.: Леном, 1998. С. 205.
(обратно)238
Landes D. What Room for Accident in History? Explaining Big Changes by Small Events // The Economic History Review. Vol. 47 (4). November 1994.
(обратно)239
См.: Мирский Г. Цивилизация бедных // Отечественные записки. 2003. № 5 (14). С. 21.
(обратно)240
Lewis B. Islam in History: Ideas, Men and Events in the Middle East. Bradford, London: Alcove Press, 1973. Р. 300, 301.
(обратно)241
Сумма кредитов, выданных банками частному сектору в арабских и мусульманских странах по отношению к ВВП (46–48 % в 2001 г.), ниже, чем в среднем по развивающимся странам (52–54 %), и существенно ниже, чем в новых индустриальных странах Юго-Восточной Азии (120–130 %) (см.: World Development Indicators. 1998. P. 256–258; 2003. P. 258–260; Creane S., Goyal R., Mobarak M., Sab R. Banking on Development / Finance and Development. 2003. Vol. 40. № 1; Мельянцев В. Экономика полумесяца // Вестник Европы. 2004. Т. XII. С. 88–99).
(обратно)242
“Мужья стоят над женами за то, что Аллах дал одним преимущество перед другими, и за то, что они расходуют из своего имущества” (см.: Коран. Сура 4: Женщины. Стих 38 (34) / Пер. И. Ю. Крачковского. М., 1986. С. 85).
(обратно)243
См.: Мельянцев В. Экономика полумесяца / Вестник Европы. 2004. Т. XII. С. 89.
(обратно)244
Среднее число детей на одну женщину в возрасте от 15 до 49 лет.
(обратно)245
Moulasha K., Rao G. R. Religion-Specific Differentials in Fertility and Fa mily Planning // Economic and Political Weekly. Vol. 34 (42). 1999. P. 3047–3051.
(обратно)246
Jeffery R., Jeffery P. Religion and Fertility in India // Economic and Political Weekly. Vol. XXXV. 2000. № 35, 36. P. 3253, 3254.
(обратно)247
Число рождений на 1000 жителей.
(обратно)248
Дж. Даймонд в работе 1997 года показывает, как на протяжении последних двух веков время перехода к оседлому сельскому хозяйству повлияло на специфику национальной траектории развития (см.: Diamond J. Guns, Germs and Steel: The Fate of Human Societies. New York: W. W. Norton & Co., 1997). С. Сандэрсон обращает внимание на трудности адаптации к условиям индустриального общества тех стран, население которых не прошло стадию аграрных цивилизаций и не вышло к началу современного экономического роста за пределы уровня развития, для которого характерны охота, собирательство и раннее сельское хозяйство (см.: Sanderson S. Social Transformations: a General Theory of Historical Development. Oxford-Cambridge: Blackwell, 1995).
(обратно)249
Многие из тех, кто занимается долгосрочными перспективами экономического развития, считают, что увеличение доли Китая, Индии, Бразилии и России в мировой экономике станет одним из важнейших факторов долгосрочного развития в первой половине XXI в. (см.: Wilson D., Purushothaman R. Dreaming With BRICs: The Path to 2050 // Global Economics Paper No. 99. October 2003).
(обратно)250
О необходимости введения специального параметра, связанного с принадлежностью страны к региону Африки к югу от Сахары, для определения причин более медленных темпов экономического роста см.: Grossman G. M. (ed.). Economic Growth: Theory and Evidence. Vol. 1. Cheltenham, UK Brookfield, US: An Elgar Reference Collection. 1996. P. 435, 436.
(обратно)251
Anderson E., Anderson P. Political Institutions and Social Change in Continental Europe in the Nineteenth Century. Berkley Los Angeles: University of California Press, 1967.
(обратно)252
О формировании системы концентрированной земельной собственности в Латинской Америке и ее влиянии на проблемы последующего экономического развития, адаптацию к условиям современного экономического роста см.: Engerman S. L., Sokoloff K. L. Factor Endowments: Institutions and Differential Paths of Growth Among New World Economies: A View from Economic Historians of the United States // NBER. Working Paper No. H0066, December 1994; а также: Huber E., Safford F. (eds.). Agrarian Structure and Political Power. Pittsburgh; London: University of Pittsburgh Press, 1995; Moore B. Social Origins of Dictatorship and Democracy. Boston: Beacon Press, 1996. Возможно, в этом наследии причина того, что подавляющее большинство стран Латинской Америки в отличие, например, от Тайваня и Южной Кореи не смогли провести эффективные земельные реформы. Р. Барро отмечает необходимость учета принадлежности страны к региону Латинской Америки как фактора, негативно влияющего на темпы экономического роста (см.: Barro R. J. Economic Growth in a Cross Section of Countries // Quarterly Journal of Economics. CVI (2). May 1991. P. 407–443).
(обратно)253
Монте Пьер – французский египтолог.
(обратно)254
Дао Де Цзин – “Книга пути и благодати”, выдающийся памятник китайской мысли, оказавший большое влияние на китайскую и мировую культуру. Традиционно авторство приписывается Лао-цзы (VI–V век до н. э.), хотя это не бесспорно.
(обратно)255
Шварц Евгений Львович (1896–1958) – советский писатель, драматург.
(обратно)256
О влиянии на современную историческую науку представлений об общих закономерностях человеческого развития см.: Васильев Л. С. История Востока: В 2 т. Т. 2. М.: Высшая школа, 2003. C. 47.
(обратно)257
Понятие “неолитическая революция” ввел Г. Чайлд (см.: Childe V. G. Man Makes Himself. London: Watts & Co, 1941).
(обратно)258
Jones E. L. The Record of Global Economic Development. Cheltenham; Northampton: Edward Elgar, 2002; Idem. Growth Recurring: Economic Change in World History. Oxford: Clarendon Press, 1988. P. 69; Bairoch P. Cities and Economic Development: From the Dawn of History to the Present. Chicago: The University of Chicago Press, 1988.
(обратно)259
О замедлении процесса создания новых технологий после становления цивилизаций см.: McNeill W. H. The Rise of the West. A History of the Human Community with a Retrospective Essay. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1991. P. 40.
(обратно)260
О социальной организации охотников-собирателей см., например: Lee R. B., Daly R. The Cambridge Encyclopedia of Hunters and Gatherers. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
(обратно)261
Степень мобильности и стационарности поселений обществ охотников-собирателей менялась под влиянием динамики окружающей среды: их стоянки во времена массовой охоты на крупных животных (носорогов, овцебыков, мамонтов) были более стационарными. С переходом к охоте на мелкую дичь образ жизни становится мобильным (см.: История СССР. Первая серия. Т. I: С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции. М.: Наука, 1966. С. 34–37).
(обратно)262
О роли реципрокных отношений в доаграрном и раннеаграрном обществах см.: Thurnwald R. Banaro Society: Social Organization and Kinship System of a Tribe in the Interior of New Guinea // American Anthropological Association. Memoirs. Vol. 3. No. 4. 1916; Idem. Economics in Primitive Communities. London: Oxford University Press, 1932; Malinowski B. Crime and Custom in Savage Society. Paterson New Jersey: Littlefield, Adams and Co., 1959; Benedict R. Patterns of Culture. Boston: Houghton Mifflin Company, 1959; Mead M. (ed.) Cooperation and Competition among Primitive Peoples. New York; London: McGraw-Hill Book Co., 1937.
(обратно)263
Охотник, чья стрела первой попала в животное, получает половину шкуры и внутренности и сверх того имеет право любую половину шкуры отдать любому сотоварищу по охоте. Тот, чья стрела была второй, имеет право на пузырь. Мясо разделяется между всеми, принимавшими участие в охоте (см.: Островитянов К. В. Политическая экономия досоциалистических формаций: Избр. произв. Т. 1. М.: Наука, 1972. С. 161).
(обратно)264
“Всеобщая бедность утверждает и всеобщее равенство; превосходство возраста или личных качеств является слабым, но единственным основанием власти и подчинения” (см.: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Т. 2. М.; Л.: Соцэкгиз, 1931. С. 304–305).
(обратно)265
Herskovits M. J. Economic Anthropology. A Study in Comparative Economics. New York: Alfred A. Knopf, 1952. P. 319, 320, 322, 340, 341.
(обратно)266
См.: Шнирельман В. А. У истоков войны и мира // Першиц А. И., Семенов Ю. И., Шнирельман В. А. Война и мир в ранней истории человечества. Т.1. М.: РАН, Институт этнологии и антропологии, 1994. С. 99, 100.
(обратно)267
Дж. Бернал в своей классической работе “Наука в истории человечества” писал: “Почти каждое из ранних механических достижений человека… уже были предвосхищены отдельными видами животных, птиц или даже насекомых. Но одно изобретение – употребление огня… совершенно недостижимо для любого животного. Еще предстоит открыть, каким образом человек пришел к использованию огня и почему он решился обуздать и поддерживать его… Его сохранение и распространение в первую очередь должно было быть устрашающим, опасным и трудным делом, о чем свидетельствуют все мифы и легенды об огне” (см.: Бернал Д. Д. Наука в истории общества. М.: Изд-во иностранной литературы, 1956. С. 45).
(обратно)268
Россет Э. Продолжительность человеческой жизни. М.: Прогресс, 1981. С. 171–181.
(обратно)269
Луки и арбалеты / Под ред. Л. И. Рославлева. М.: Майор, 2002. С. 356.
(обратно)270
Термин “неолитическая революция” не должен вводить в заблуждение. Процесс перехода от присваивающего хозяйства к производящему был длительным, на Переднем Востоке он проходит в течение 2–3 тысячелетий, в Новом Свете – 3–4 тыс. лет (см.: Андрианов В. Б. Хозяйственно-культурные типы и исторические процессы // Советская этнография. 1968. № 2. С. 19). “Я использую термин «неолитическая, или сельскохозяйственная, революция» не в связи с темпами, но в связи с революционным характером изменения, которое, вне зависимости от ее темпов, превратило охотников и собирателей в пастухов и фермеров” (см.: Cipolla C. M. The Economic History of World Population. New York: Penguin Books, 1978. P. 34).
(обратно)271
Cipolla C. M. The Economic History of World Population. P. 44.
(обратно)272
См., например: Child V. G. The Dawn of European Civilization. New York: Knop, 1958. P. 1–13. Эту же точку зрения впоследствии отстаивали и другие авторы (см.: Heizer R. F. Primitive Man as an Ecologic Factor. Kroeber Anthropological Society Papers № 13 Berkley Univ. California Press, 1955; Martin P. S, Guilday J. E. A Bestiary for Pleistocene Biologists / Pleistocene Extinctions edited by P. S. Martin, H. E. Wright, Jr. New Haven, Conn., Yale University, 1967; Martin P. S. Prehistoric Overkill / Pleistocene Extinctions edited by P. S. Martin, H. E. Wright, Jr. New Haven, Conn., Yale University, 1967; Issar A. S. Climate Changes During the Holocene and Their Impact on Hydrological Systems. Cambridge: Cambridge University Press, 2003).
В своих работах 1968 года Л. Бинфорд и М. Коен продемонстрировали близость по времени трех протекавших процессов – исчезновения крупных животных – объекта охоты в эпоху мезолита, появления деревень, освоения навыков, связанных с земледелием и скотоводством (см.: Binford L. Post Pleistocene Adaptations / Leane M. (ed.). New Perspectives in Archeology. Chicago: Aldine Publishers, 1968. Ch. 21; Cohen M. The Food Crisis in Prehistory. New Haven: Yale University Press, 1977). О связи окончания ледникового периода (20–10‑е тысячелетие до н. э.) и неолитической революции см.: Mithen S. After the Ice: A Global Human History, 20,000–5000BC. London: Wiedenfeld & Nicolson, 2003.
(обратно)273
Л. Бинфорд и К. Фланери обращают внимание на рост плотности населения как важнейший фактор перехода к оседлому сельскому хозяйству (см.: Binford L. R. Post-Pleistocene Adaptations // Binford S. R., Binford L. R. (eds.). New Perspective in Archaeology. Chicago: Aldine Press, 1968; Flannery K. The Origins and Ecological Effects of Early Domestication in Iran and the Near East // Veko P. S., Dimbley G. W. (eds). The Domestication of Plants and Animals. Chicago: Aldine Press, 1969). О связи образования стратифицированного государства и перехода к оседлому образу жизни с плотностью населения см.: Carneiro R. L. Political Expansion as an Expression of the Principle of Competitive Exclusion // Cohen R., Service E. R. (eds.). Origins of the State: The Anthropology of Political Evolution. Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues. 1978. P. 205–208; Pryor F. L. The Adoption of Agriculture: Some Theoretical and Empirical Evidence // American Anthropologist. Vol. 88. № 4. December 1986. P. 879.
(обратно)274
Уже на ранних стадиях перехода к земледелию возникает тенденция перехода к оседлости, растет длительность проживания на базовых стоянках (см.: Шнирельман В. А. Возникновение производящего хозяйства. М.: Наука, 1989. С. 370).
(обратно)275
О связи перехода к оседлому земледелию с формированием упорядоченных отношений собственности см.: North D. C. Economic Growth: What Have We Learned from the Past? // Brunner K., Meltzer A. H. (eds.). International Organization, National Policies and Economic Development // Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy. Vol. 6. Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1977. P. 158, 159.
(обратно)276
“Возле больших рек контроль за средствами пропитания неизбежно переходит к тем, кто контролирует саму реку. Здесь централизованное правительство возникает рано, потому что контролирующий воду контролирует людей” (см.: Landes D. S. The Wealth and Poverty of Nations. Why Some Are So Rich and Some So Poor. New York; London: W. W. Norton & Company, 1999. P. 18).
(обратно)277
См., например: Wittfogel K. A. Oriental Despotism. A Comparative Study of To -tal Power. New Haven: Yale University Press, 1957. P. 2, 3.
(обратно)278
См.: Куббель Л. Е. Возникновение частной собственности, классов и государства. История первобытного общества. Эпоха классообразования / Отв. ред. Ю. В. Бромлей. М.: Наука, 1988. С. 140–146.
(обратно)279
См.: Service E. Origins of the State and Civilization. New York, 1975. P. 15, 16.
(обратно)280
Характерная черта протогосударства – отсутствие упорядоченной системы налогообложения (см.: Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайского государства. М.: Наука, 1983. С. 32–49). Некоторые исследователи определяют вождества как стратифицированные политические общности с численностью населения, исчисляемой тысячами человек (см.: Carneiro R. L. The Chiefdom as Precursor of the State // Jones G., Kautz R. (eds.). The Transition to statehood in the New World. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. P. 37–79). О дискуссии по вопросу о целесообразности выделения вождества в качестве государственного образования см.: Earle T. How Chiefs Come to Power. The Political Economy in Prehistory. Stanford: Stanford University Press, 1997.
(обратно)281
Лагаш – древний город‑государство шумеров на юго-востоке нынешнего Ирака. Поселение возникло, по-видимому, на рубеже 5–4 тысячелетий до н. э. Усиление и расцвет в 25–22 вв. до н. э. в период правления 1-й династии Лагаша.
(обратно)282
Китай периода Шань – государство Шан-Инь – первое государственное образование бронзового века в Китае, возникшее в конце 14 в. до н. э. на основе общины в среднем течении реки Хуанхэ в районе г. Аньян. Расцвет к 11 в. до н. э.
(обратно)283
Индия Ведического периода – Ведическая цивилизация в древней Индии связывается с Ведами – священным текстом индусов и самым древним источником по истории Индии. Западная наука датирует этот период между первой половиной 1 тысячелетия до н. э. и 7–6 вв. до н. э. Некоторые индийские ученые относят его начало к 7 тысячелетию до н. э.
(обратно)284
Об общественных работах как обряде в раннем Китае см.: Васильев Л. С. Древний Китай. Т. 1: Предыстория, Шан-Инь, Западное Чжоу (до VIII в. до н. э.). М.: Восточная литература РАН, 1995. С. 183–186.
(обратно)285
С. Сандерсон определяет государство как форму социально-политической организации, которая устанавливает монополию на средства принуждения в пределах определенной территории (см.: Sanderson S. K. Social Transformations: a General Theory of Historical Development. Oxford Cambridge: Blackwell, 1995. P. 56).
(обратно)286
У. Ньюком обращает внимание на то, что масштабные войны были следствием перехода от присваивающего хозяйства к производящему. Именно на этом этапе война становится способом приобретения экономических выгод (см.: New-c o m b W. W. Toward an Understanding of War // Dole G. E., Carneiro R. L. (eds.). Essays in the Science of Culture. In Honor of L. A. White. New York: Thomas Y. Cromwell Company, 1960. P. 329).
(обратно)287
“Если топор, одно из важнейших орудий подсечного земледелия, – обычная принадлежность мужских погребений, то столь же обычной принадлежностью женских погребений являются мотыга и серп” (см.: История первобытного общества. Ч. 2 / Под ред. В. И. Равдоникас. Л.: Изд-во ЛГУ, 1947. С. 79).
(обратно)288
“Земледелие даже на самой низкой ступени развития предполагает поселение, некоторый род постоянного обиталища, которое не может быть оставлено без большой потери” (см.: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Т. 2. М.; Л.: Соцэкгиз, 1931. С. 287).
(обратно)289
“Богатства соседей возбуждают жадность народов, у которых приобретение богатства оказывается уже одной из важнейших жизненных целей. Они варвары: грабеж им кажется более легким и даже более почетным, чем созидательный труд. Война, которую раньше вели только для того, чтобы отомстить за нападения, или для того, чтобы расширить территорию, ставшую недостаточной, ведется теперь только ради грабежа, становится постоянным промыслом” (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2‑е изд. М.: Госполитиздат, 1961. Т. 21. С. 164).
(обратно)290
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Со ч. Т. 21. С. 119.
(обратно)291
См.: Каутский К. О материалистическом понимании истории. Иваново-Вознесенск: Основа, 1923. С. 42.
(обратно)292
О путях образования стратифицированного государства в аграрных обществах см.: Douglas P., Feinman G. Foundations of Social Inequality. New York: Plenum Press, 1995; Johnson A., Earle T. The Evolution of Human Societies. Stanford: Stanford University Press, 1987.
(обратно)293
Е. Гелнер отмечает, что для населения всех оседлых аграрных цивилизаций характерно расслоение – на тех, кто сражается, тех, кто молится, и тех, кто работает (см.: Gelner E. P. Book and Sword: The Structure of Human History. London: Collins Harvill, 1988. P. 277). Дж. Хикс пишет: “Почему, спрашивается, невозможна самозащита на основе кооперации самих крестьян? Иногда возможна, но обычно неэффективна, потому что и здесь, как это часто бывает, преимущество дает разделение труда. Хотя бы зачатки постоянной армии в виде наемников делают оборону наиболее эффективной” (см.: Hicks J. A. Theory of Economic History. London etc.: Oxford University Press, 1969. P. 102). О попытках объединить функции крестьянина и воина в Китае времени династии Суй и в Византии периода Ираклейской династии см.: Elvin M. The Pattern of the Chinese Past. Stanford, California: Stanford University Press, 1973. P. 54.
(обратно)294
Об изъятии оружия см.: История древнего мира / Под ред. И. М. Дьяконова, В. Д. Нероновой, И. С. Свенцицкой. Т. 2: Расцвет древних обществ. М.: Главная редакция восточной литературы, 1983. С. 501.
(обратно)295
В. Алекшин связывает начало войн именно со скотоводческим хозяйством, поскольку у ранних земледельцев насилие встречалось крайне редко (см.: Алекшин В. А. Социальная структура и погребальный обряд древнеземледельческих обществ. Л.: Наука, 1986. С. 172).
(обратно)296
О роли пастушеских племен в формировании иерархии аграрных обществ см.: Thurnwald R. L ’ économie primitive. P.: Payot, 1937. P. 123, 124.
(обратно)297
Аккадская империя – древнее государство, существовавшее в 24–22 вв. до н. э. на территории нынешнего Ирака со столицей в г. Аккаде и ставшее предшественником более поздних империй Вавилонии и Ассирии. Саргон правил ориентировочно в период 2316–2261 гг. до н. э.
(обратно)298
История формирования централизованного государства в Египте известна нам по источникам гораздо хуже, чем история формирования подобного государства в Междуречье. И все же имеющиеся данные позволяют предположить, что этот процесс был связан с завоеванием страны кочевниками, пришедшими с юга (см.: McNeill W. H. The Rise of the West. A History of the Human Community with a Retrospective Essay. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1991. P. 32).
(обратно)299
Пример налоговой политики, проводимой иноэтнической элитой на завоеванных территориях, – дань, которой облагали покоренные народы монголы.
(обратно)300
В Хеттском царстве люди делятся на свободных – тех, кто не платит налоги, но несет воинскую службу, и несвободных – платящих налоги. В классических аграрных цивилизациях обязанность платить прямые налоги и неравноправный статус несвободного, как правило, взаимосвязаны. В хеттских памятниках “свободный” – это свободный от государственных повинностей в пользу царя и храмов. В Ассирии понятие “свободный” также предполагает освобождение от налогов и повинностей (см.: История Востока. Восток в древности. Т. 1 / Под ред. Р. Б. Рыбакова. М.: Издательская фирма “Восточная литература” РАН, 1997. С. 123, 124, 242). В древнеегипетском языке понятия “труд” и “налоги” – синонимы (см.: Webber C., Wildavsky A. A History of Taxation and Expenditure in the Western World. New York: Simon and Schuster, 1986. P. 68).
(обратно)301
Хеттское государство существовало на территории Малой Азии (Анатолии, в основном, нынешней Турции). Его историю принято делить на древнее (1650–1500 гг. до н. э.), среднее (1500–1400 гг. до н. э.) и новое (1400–1200 до н. э.) царства. При новом царстве завоевания обеспечили наибольшие масштабы государства.
(обратно)302
Энси – правитель в Шумере.
(обратно)303
“И мы будем, как прочие народы: будет судить царь наш, и ходить перед нами, и вести войны наши” (см.: Библия. Ветхий Завет. Первая книга Царств. Гл. 8. Ст. 20; “От мелкого скота вашего возьмет десятую часть; и сами вы будете ему рабами”; см. там же. С. 17).
(обратно)304
Sanderson S. K. Social Transformations: a General Theory of Historical Development. Oxford Cambridge: Blackwell, 1995. P. 96.
(обратно)305
О неразрывной связи крестьянских прав на землю, их повинностей, обязанностей перед правящей элитой, о совмещении в условиях аграрного общества прав на землю и обязанностей по уплате налогов, связанных с этой землей, говорится в первых дошедших до нас развернутых сводах законов аграрного общества – Законах Хаммурапи: “Если редум или баирум из-за бремени своей повинности бросит свое поле, сад и дом и будет отсутствовать и после него другой возьмет его поле, сад и дом и будет нести его повинность в течение трех лет, то, если он вернется и потребует свое поле, сад и дом, не должно отдавать их ему. Тот, кто взял их и нес его повинность, сам будет нести ее. Если же он будет отсутствовать только один год и вернется, то должно отдать ему его поле, сад и дом, и он сам будет нести свою повинность” (см.: Дьяконов И. М. Законы Хаммурапи, царя Вавилона // Вестник древней истории. 1952. № 3 (40). С. 231).
(обратно)306
Olson М. Power and Prosperity: Outgrowing Communism and Capitalist Dictatorships. New York: Basic books, 2000. P. 12, 13.
(обратно)307
Термин “феодализм” появился сравнительно поздно. Современникам Вильгельма Завоевателя он не сказал бы ничего. Это изобретение мыслителей XVIII в., пытавшихся осмыслить социально-политическую структуру, сложившуюся в Европе в первые века после краха Римской империи (см.: Coulborn R. (ed.). Feudalism in History. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1956. P. 3–7). Ф. Бродель пишет: “Могу ли я сразу же и до того, как двигаться далее, сказать, что я испытываю к столь часто употребляемому слову феодализм такую же аллергию, какую испытывали Марк Блок и Люсьен Февр? Этот неологизм, ведущий свое происхождение из вульгарной латыни (feodum – феод), для них, как и для меня, относится лишь к ленному владению и к тому, что от него зависит, – и ничего более. Помещать все общество Европы с XI по XV в. под этой вокабулой не более логично, чем обозначать словом капитализм всю совокупность этого же общества между XVI и XX вв. Но оставим этот спор. Согласимся даже, что так называемое феодальное общество – еще одна расхожая формула – могло бы обозначать большой этап социальной истории Европы” (см.: Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV–XVIII вв. Т. 2: Игры обмена. М.: Прогресс, 1988. С. 466).
(обратно)308
Ф. Энгельс, экстраполировавший в глубину истории европейские реалии XVII–XVIII вв., писал, что отделение крестьян от земли должно было стать предпосылкой феодализации. На деле события развивались иначе. После периода переселения народов быстро выясняется, что осевшим на землю переселенцам не удается сохранить одновременно функции крестьянина и воина. Начинается массовый переход под покровительство феодала, обмен собственных прав и привилегий на предоставляемую господином защиту.
(обратно)309
Эпоха троецарствия в Китае продолжалась с 220 по 280 г. (после правления династии Хань) и вошла в историю как период междоусобиц и борьбы между тремя государствами Китая Вэй, У и Шу. В 280 г. новой династии Цзинь (265–420) удалось объединить на некоторое время весь Китай.
(обратно)310
Фудзивара – могущественный придворный клан регентов в Японии в период Хейан (794–1185).
(обратно)311
Hicks J. A Theory of Economic History. London; Oxford; New-York: Oxford University Press, 1969. P. 101, 102.
(обратно)312
Р. Грабовски полемизирует с Д. Нортом, доказывавшим экономическую эффективность системы отношений “лорд – слуга” в условиях средневековой Европы. Он убедительно показывает, какие преграды создают такие отношения для повышения эффективности сельского хозяйства (см.: Grabowski R. Economic Development and Feudalism // The Journal of Developing Areas. Vol. 25. № 2. January 1991. P. 179–196).
(обратно)313
Империя Хаммурапи – первый дошедший до нас в документированных источниках пример хорошо организованной централизованной бюрократии, позволяющей мобилизовывать ресурсы для снабжения армии. История дает примеры совмещения двух моделей – централизованной империи и феодальной организации. Например, в Китае Ханьской династии центральные районы находятся под управлением имперской бюрократии. В отдаленных районах, которые трудно контролировать, действуют феодальные структуры.
(обратно)314
Дарий, реструктурировавший систему управления Персидской империей, не только вводит упорядоченную централизованную систему налогообложения, но и отделяет гражданскую службу (сатрапов) от военной организации.
(обратно)315
По древнеиндийскому трактату о государственном управлении половину доходов следует тратить на армию, по одной двенадцатой – на дары, оплату чиновников низших рангов и оплату чиновников высших рангов, одну двадцатую – на личные расходы монарха, шестую часть направлять в резерв, расходуемый при чрезвычайных обстоятельствах (см.: Webber C., Wildavsky A. A History of Taxation and Expenditure in the Western World. New York: Simon and Schuster, 1986. P. 80).
(обратно)316
Танская династия (618–907) – императорская династия, эпоха которой считается периодом наивысшего расцвета и могущества Китая, опережавшего в развитии все страны мира.
(обратно)317
По мнению блестящего знатока истории Востока Н. Конрада: “Нелепо предполагать, что Конфуция в древности прельщал родовой строй. Его прельщала та предполагаемая устойчивость, стабильность всех общественных отношений, обеспеченная непререкаемой по своей внутренней правоте и истине, по своему авторитету для всего населения властью государя. Коротко говоря, Конфуций мечтал не о родовом строе, а о централизованном государстве с твердой верховной властью. Объективно его обращение к древности имело именно этот смысл. Идеал для Конфуция воплощался в облике мудрого монарха, твердо ведущего народ по пути мира и благополучия. Конфуций затратил немало усилий, чтобы такой облик создать” (см.: Конрад Н. И. Избр. труды. История. М., 1974. С. 65).
(обратно)318
Вебер М. Аграрная история Древнего мира. М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1923. С. 94.
(обратно)319
“И сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем: пройди по всем коленам Израилевым от Дана до Вирсавии, и исчислите народ, чтобы мне знать число народа. И сказал Иоав царю: Господь, Бог твой, да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько, а очи господина моего царя да увидят это; но для чего господин мой царь желает этого дела? Но слово царя Иоаву и военачальникам превозмогло; и пошел Иоав с военачальниками от царя, считать народ Израильский” (см.: Библия. Ветхий Завет. Вторая книга Царств. Гл. 24. Ст. 2–4).
(обратно)320
Введенная в Китае в 485 г. система налогового администрирования предполагала, что каждые пять соседних дворов образуют первичную административную единицу – соседскую общину; каждые пять соседских общин образуют среднюю административную единицу – деревенскую общину; каждые пять деревенских общин образуют самую крупную крестьянскую административную единицу – сельскую общину. Во главе каждой из этих трех административных единиц ставили старосту, в обязанности которого входило не только общее управление делами своей общины, но и наделение землей, а также сбор налогов и податей, наблюдение за нравами и т. д. Иными словами, этот аппарат выполнял и контрольно-полицейские функции (см.: Конрад Н. И. Избр. труды. История. С. 132). В Японии контроль за налогообложением и сбором налогов в деревне осуществлялся в пятидворках – низшей административной единице. Это была система круговой ответственности за уплату налогов. Кроме того, члены пятидворок были обязаны следить друг за другом, не допуская бегства крестьян из деревни (см.: Подпалова Г. И. Крестьянское петиционное движение в Японии во второй половине XVII – начале XVIII в. М.: Изд-во восточной литературы, 1960. С. 57, 58).
(обратно)321
Шан Ян (390–338 до н. э.) – правитель области Шан, выдающийся государственный деятель, реформатор, мыслитель древнего Китая, один из основоположников легизма – учения о тоталитарном государстве, противоположного даосизму и конфуцианству.
(обратно)322
Лу – древнекитайское государство эпохи Чжоу 11–3 в. до н. э.; родина Конфуция.
(обратно)323
А. Смит о взимании налогов в развитой, по стандартам традиционного общества, аграрной Франции XVIII в.: “Пропорция, в которой эта сумма раскладывается между этими провинциями, изменяется из года в год в соответствии с отчетами, представляемыми королевскому совету о хорошем или плохом состоянии хлебов, также и о других обстоятельствах, которые могут увеличивать или уменьшать их платежеспособность. Каждый округ разделен на известное число участков, и разверстка между этими участками суммы, наложенной на весь округ, тоже изменяется из года в год в зависимости от отчетов, представляемых совету относительно платежеспособности каждого… Как утверждают, не только неведение и неправильная осведомленность, но и дружба, партийная вражда и личное неудовольствие часто ведут к неправильным действиям этих чиновников. Ни один человек, подлежащий налогу, никогда, очевидно, не может до получения раскладки точно знать, сколько ему придется уплатить. Он не может даже знать это и после получения раскладки… Подушные подати, если пытаются их устанавливать в соответствии с состоянием или доходом каждого плательщика, приобретают совершенно произвольный характер” (см.: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Т. 2. М.; Л.: Соцэкгиз, 1931. С. 447, 448, 462).
(обратно)324
Восхищение Вольтера опытом Китая, его социальными институтами некоторые исследователи связывают с характерным для него отрицанием культурного превосходства христианских стран над нехристианскими (см.: Levenson J. R. Confucian China and Its Modern Fate. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1958. Р. XIV–XV).
(обратно)325
О связи иероглифики с потребностями государственного управления и налогообложения в аграрных обществах см.: Петров М. К. Искусство и наука. Пираты Эгейского моря и личность. М.: РОССПЭН, 1995. С. 181.
(обратно)326
Джу Юань Джань, пришедший к власти в Китае на гребне крестьянского восстания против монгольской династии в 1380 году, казнил 15 тыс. крупных феодалов. В 1390 году было перебито вдвое больше. В 1393-м – еще 15 тыс. В числе казненных оказались многие сподвижники Джу Юань Джаня, те, кому он был обязан своим возвышением. Источники повествуют, что сановники, направляясь во дворец, прощались с семьями, не надеясь вернуться. Фактически император снял весь верхний слой китайской феодальной знати. Оставшиеся в живых превращались в холопов, которые падали перед ним ниц, как рабы (см.: Конрад Н. И. Избр. труды. История. М.: Наука, 1974. С. 432).
(обратно)327
Twitchett D., Loewe M. (eds.) The Cambridge History of China. V o l. 1: The China and Han Empires, 221 B. C. – A. D. 220. Cambridge; London; New York: Cambridge University Press, 1986. P. 625.
(обратно)328
“Поскольку земля считалась государственной, постольку по закону ее нельзя было ни продавать, ни закладывать. Но следить за соблюдением этого закона призваны были местные чиновники, они часто были заинтересованы как раз в том, чтобы этот запрет не действовал. Но самым эффективным был, по-видимому, упоминаемый в указе 752 года способ захвата земли путем сокрытия от государственного контроля государственных дворов и дальнейшего присвоения крестьянских участков” (см.: Конрад Н. И. Избр. труды. История. С. 381).
(обратно)329
См.: Меликсетов А. В. История Китая. М.: Изд-во МГУ, 1998. С. 280.
(обратно)330
Номарх – правитель нома (области), наместник фараона в древнем Египте, возглавлявший административный аппарат, суд, войско нома, ведавший ирригацией и сбором налогов.
(обратно)331
См.: Васильев Л. С. История Востока. Т. 1. М.: Высшая школа, 2003. C. 105, 106.
(обратно)332
История Востока. Т. 1: Восток в древности / Под ред. Р. Б. Рыбакова. М.: Восточная литература РАН, 1997. С. 163–166. В одном из китайских текстов XIV в. н. э. династический цикл описывается так: “Мир должен объединиться, когда он разделен. И должен разъединиться, когда он объединен” (см.: Twitchett D., Loewe M. (eds.). The Cambridge History of China. Vol. 1. The China and Han Empires, 221 BC – AD 220. P. 357).
(обратно)333
Хань Фэй. Древнекитайская философия / Сост. Ян Хин-Шун. Т. 2. М.: Мысль, 1973. С. 231.
(обратно)334
Роль прибавочного продукта – объема ресурсов, который превышает необходимый для удовлетворения минимальных потребностей основной массы сельского населения, – хорошо понимали французские физиократы, жившие в эпоху, когда аграрное общество уже шло к закату. Тюрго пишет: “То, что труд земледельца извлекает из земли сверх необходимого для удовлетворения его разумных потребностей, образует единый фонд, которым пользуются все другие члены общества в обмен на свой труд” (см.: Тюрго А. Р. Размышления о создании и распределении богатств. Ценности и деньги. Юрьев: Типография К. Маттисена, 1905. С. 4).
(обратно)335
О мотивах, побуждающих правящую элиту ограничивать масштабы налоговых изъятий, см., например: Boyle J. A. The Cambridge History of Iran. Vol. 5. The Saljuq and Mongol periods. Cambridge: Cambridge University Press, 1968. P. 494. О чрезмерном налоговом бремени, следствием которого становится бегство крестьян к сильному покровителю и дальнейшее снижение государственных доходов, см.: Elvin M. The Pattern of the Chinese Past. Stanford: Stanford University Press, 1973. P. 19, 20, 27, 28. В Китае позднего Ханьского периода число податного населения, платящего налоги казне, сокращается с 49,5 млн человек в середине II в. до 7,5 млн в середине III в. Целые общины переходят под покровительство “сильных домов” (см.: История Востока. Т. 1: Восток в древности / Под ред. Р. Б. Рыбакова. М.: Восточная литература РАН, 1997. С. 459). Об осознании государством рисков, связанных с переобложением крестьян в Древнем Египте, см. там же. Эдикты фараона Хармхаба (Harmhab) (18-я династия), направленные против избыточного изъятия ресурсов у крестьян, см.: Webber C., Wildavsky A. A History of Taxation and Expenditure in the Western World. New York: Simon and Schuster, 1986. P. 74, 75.
(обратно)336
Дао Дэ Цзин. Древнекитайская философия / Сост. Ян Хин-Шун. Т. 1. М.: Мысль, 1972. С. 136, 137.
(обратно)337
“Обычная дилемма для правителей аграрного государства: низкие налоги – бедное государство, высокие налоги – обнищание подданных” (см.: Webber C., Wildavsky A. A History of Taxation and Expenditure in the Western World. New York: Simon and Schuster, 1986. P. 76).
(обратно)338
Лещенко Н. Ф. Япония в эпоху Токугава. М.: Институт востоковедения РАН, 1999. С. 67.
(обратно)339
Twitchett D. (ed.). The Cambridge History of China. Vol.3. Sui and Tang China, 589–906. Cambridge; London; New York: Cambridge University Press, 1979. P. 166.
(обратно)340
Сборщики налогов в Японии говорили: “Крестьянин – что мокрое полотенце: чем больше жмешь, тем больше выжимаешь” (см.: Подпалова Г. И. Крестьянское петиционное движение в Японии во второй половине XVII – начале XVIII в. М.: Изд-во восточной литературы, 1960. C. 98).
(обратно)341
О стимулах к сохранению традиционного трехполья с разделением полей на полосы см.: Moon D. The Russian Peasantry 1600–1930: The World the Peasant Made. London; New York: Longman, 1999. P. 126–139.
(обратно)342
Бернье Ф. История последних политических переворотов в государстве Великого Могола / Под ред. А. Пронина; пер. с фр. М.; Л.: Соцэкгиз, 1936. С. 201. Ф. Бернье – один из первых европейских наблюдателей, имевший возможность с позиции реалий европейского общества ХVII в. подробно наблюдать механизм функционирования традиционных аграрных цивилизаций. Пытаясь понять причины их отсталости по сравнению с Западной Европой, он связывает это с отсутствием частной собственности на землю, ведущим к стагнации экономического развития.
(обратно)343
“Когда мы иной раз слышим о будто бы новых порядках в землевладении, то речь идет, несомненно, о новых порядках обложения повинностями” (см.: Вебер М. Аграрная история древнего мира. М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1923. С. 106).
(обратно)344
А. Смит пишет: “Налог с дохода (талья), как он до сих пор существует во Франции, может служить примером этой стрижки былых времен. Это налог с предполагаемого дохода арендатора, который исчисляется в соответствии с капиталом, вложенным им в свое хозяйство. Арендатор поэтому заинтересован представить себя малоимущим и, следовательно, затрачивать возможно меньше на обработку своего участка и совсем ничего не затрачивать на его улучшение. Если бы в руках французского крестьянина даже накоплялись какие-либо средства, «талья» почти равносильна полному запрету вложить их в землю. Помимо того налог этот считается обесчесчивающим того, кто подлежит ему, и ставящим его в более низкое положение сравнительно не только с дворянином, но и с мещанином, а всякий снимающий землю в аренду подлежит этому налогу. И ни один дворянин, ни один горожанин, обладающий капиталом, не захотят подвергнуться такому унижению” (см.: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Т. 1. М.; Л: Соцэкгиз, 1931. С. 405, 406).
(обратно)345
Бартольд В. В. Культура мусульманства. М.: Леном, 1998. С. 106.
(обратно)346
Недостаток пригодной для сельскохозяйственной обработки земли по отношению к численности аграрного населения – один из факторов отсутствия крепостничества в мусульманских странах. Проницательный исследователь истории Ближнего Востока В. Бартольд пишет: “Крепостного права, в смысле прикрепления крестьян к земле и ее владельцам, не было, по-видимому, ни в одной из мусульманских стран; никто не мешал земледельцам покидать возделывавшиеся ими участки, но никто не мешал и землевладельцам отнимать землю у одних крестьян и передавать ее другим, предлагавшим более высокую плату” (см.: Бартольд В. В. Культура мусульманства. С. 53).
(обратно)347
“В отличие от реципрокных отношений, где главное – социальный престиж, в торговле между племенами всегда есть подспудное чувство вражды и настороженности, хотя и прикрываемое внешним дружелюбием, молчаливой торговлей, исключающей встречи торгующих” (см.: Herskovits M. J. Economic Anthropology. A Study in Comparative Economics. New York: Alfred A. Knopf, 1952. P. 180). “Обмен товаров начинается там, где кончается община, в пунктах ее соприкосновения с чужими общинами или членами чужих общин” (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2‑е изд. М.: Госполитиздат, 1960. Т. 23. С. 97). О торговле как процессе, протекающем не в единой этнической группе, а между различными группами, см. также: Weber M. General Economic History. New Brunswick, London: Transaction Publishers, 1995. P. 195.
(обратно)348
О “молчаливой торговле” в доаграрных и аграрных обществах см.: Thurnwald R. C. Economics in Primitive Communities. London: Oxford University Press, 1932. P. 149.
(обратно)349
“Гений Аристотеля обнаруживается именно в том, что в выражении стоимости товаров он открывает отношение равенства” (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 70).
(обратно)350
У. Шмит, один из первых, кто посетил индейцев Рио-плато, писал, что мог бы выменять у туземцев побольше, но не рискнул, так как его отряд был слишком мал (см.: Hoyt E. E. Primitive Trade. Its Psychology and Economics. London: Paul Trench etc., 1926. P. 146).
(обратно)351
О влиянии интереса и страха на пропорции обмена см.: Herskovits M. J. Economic Anthropology. A Study in Comparative Economics. New York: Alfred A. Knopf, 1952. P. 206, 207.
(обратно)352
О преимуществах моноэтнических групп в соблюдении торговых контрактов см.: Hicks J. A. Theory of Economic History. London, Oxford; New York: Oxford University Press, 1969. P. 38.
(обратно)353
“В отличие от западноевропейских китайские цехи с самого начала оказались под жестким контролем государства и наряду с функциями защиты своих членов, взаимопомощи, определения цен на производимые изделия, организации различных торжеств и ритуалов были вынуждены заниматься организацией круговой поруки, раскладкой налогов и повинностей среди своих членов и следить за их своевременным исполнением. Через цехи производились также принудительные закупки властями у ремесленников части произведенной последними продукции по ценам ниже рыночных” (см.: Илюшечкин В. П. Сословно-классовое общество в истории Китая. М.: Наука, 1986. С. 200).
(обратно)354
Характерный пример – история семьи Тацугоро в Осаке. Она сыграла ключевую роль в превращении этого города в коммерческий центр Японии и разбогатела. Многие аристократы задолжали этой семье. Конфуцианская мораль требовала привести имущественное положение семьи в соответствие с ее статусом. В 1705 г. местный правитель конфисковал имение Тацугоро и отменил все его права на предоставленные в заем средства, сославшись на то, что он живет не по статусу (см.: Sakudo Y. The Management Practices of Family Business // Nakane C., Oishi S. (eds.). Tokugawa Japan: The Social and Economic Antecedents of Modern Japan. Tokyo: University of Tokyo Press, 1990. P. 150, 151, 154).
(обратно)355
У Конфуция торговля в иерархии профессий стояла на последнем месте. Она связана с наживой и рассматривается как малоприличное занятие.
(обратно)356
“Рыночная экономика была чем-то вроде выпущенного из бутылки джинна. С ней следовало держать ухо востро. Она грозила подрывом устоявшихся норм консервативной стабильности, а ведь именно стабильность является наибольшей гарантией существования традиционных восточных структур. Неудивительно поэтому, что повсюду, где товарно-денежные рыночные отношения и частнособственническая активность приобретали заметные размеры и начинали активно воздействовать на общество, государство рано или поздно вмешивалось в сложившуюся ситуацию и решительными административными мерами изменяло ее в свою пользу” (см.: Васильев Л. С. История Востока. Т. 1. М.: Высшая школа, 2003. С. 233).
(обратно)357
В Китае широко распространено, начиная с эпохи воюющих царств, жесткое ограничение статуса торговцев, их потребления и норм поведения. В период правления императора У-ди торговцам запретили носить шелк, ездить на лошади, а их потомкам – поступать на государственную службу. Торговцам также запрещалось владеть землей (см.: Twitchett D., Loewe M. (eds.) The Cambridge History of China. Vol. 1. The Chin and Han Empires, 221 B. C. – A. D. 220. Cambridge; London etc.: Cambridge University Press, 1986. P. 577).
(обратно)358
Впрочем, отсюда не следует, что аграрные государства не предпринимают таких попыток. Конфискация собственности и отказ платить долги евреям в Англии при Эдуарде I, во Франции при Филиппе I V, те же действия по отношению к тамплиерам во Франции Филиппа I V, конфискация имущества итальянских торговцев в Англии периода Эдуарда I, Эдуарда II и Эдуарда III – типичные примеры таких попыток, предпринимаемых властями аграрного общества (см.: Veith J. M. Repudiations and Confiscations by the Medieval State // The Journal of Economic History. Vol. XLVI. № 1. March 1986. P. 31–36).
(обратно)359
В Японии принцип круговой поруки распространяется и на городских жителей. “Жители каждого квартала в городе составляли общину во главе со старостой, отвечавшим за поведение и выполнение всех повинностей членами общины. Старостой являлся обыкновенно наиболее влиятельный и богатый купец, состояние которого было настолько значительно, что позволяло покрыть все недоимки. Однако ответственность общины за старосту также существовала, и в случае какой-нибудь провинности старосты отвечали перед бакуфу все члены общины” (см.: Жуков Е. М. История Японии: Краткий очерк. М.: Соцэкгиз, 1939. С. 67).
(обратно)360
О негативном влиянии изъятия прибавочного продукта на стимулы к повышению эффективности сельского хозяйства, инновациям, порожденным зависимостью основной массы населения аграрного мира, см.: Blum J. The End of the Old Order in Rural Europe. Princeton; New Jersey: Princeton University Press, 1978. P. 116, 117. Те, кто имел возможность наблюдать этот мир не через призму исторических текстов, а в реальности, считали, что труд наемных рабочих в 2–4 раза продуктивнее, чем труд тех, кто работает из-под палки (см.: Blum J. The End of the Old Order in Rural Europe. Princeton; New Jersey: Princeton University Press, 1978. P. 117). В относительно развитой, обладающей европейскими институтами Баварии XVIII в. крестьянин в ответ на вопрос инспектора: “Почему твой дом так убог?” – отвечает: “Зачем мне лучший дом? Чтобы мой сеньор мог набить свои карманы за счет большего платежа за передачу наследства моим детям?” (см.: LÜtge F. Die Bayerische Grundherrschaft. Stuttgart, 1949. S. 15).
(обратно)361
“В районе 2500 года до н. э. технологический прогресс почти остановился и в течение следующих 3 тыс. лет был крайне ограничен… Если сопоставить его с предшествующей революцией (неолитической. – Е. Г.), эти три тысячелетия являются технологической стагнацией” (см.: Lilley S. Technological Progress and Industrial Revolution in the Fontana Economic History of Europe. Vol. 3. London, 1973. Р. 188). О том же писал Гоулд (см.: Gould J. D. Economic Growth in History. London: Methuen, 1972. Р. 327).
(обратно)362
“Со времен перераспределительных обществ древнеегипетских династий через период рабства в Греции и Риме, переходя к миру средневековой маноральной системы, постоянно сохранялось противоречие между структурой собственности, ориентированной на максимизацию ренты, извлекаемой правителем (или правителями), и предпосылками создания эффективной системы, позволяющей сократить трансакционные издержки и стимулировать экономический рост. Это фундаментальная дихотомия – фундаментальная причина неспособности этих обществ обеспечить устойчивый экономический рост” (см.: North D. C. Structure and Change in Economic History. New York; London: W. W. Norton & Company, 1981. P. 25).
(обратно)363
Халифат Аббасидов – вторая (после Омейядов) династия арабских халифов (750–1258). В период расцвета была самой крупной империей своего времени, простиравшейся от Атлантического океана (по Северной Африке) до Китая.
(обратно)364
О примерах интенсивного роста в аграрных обществах см.: Anderson P. Lineages of the Absolutist State. London: New Left Books, 1974. P. 508, а также: North D. C. Structure and Change in Economic History. New York; London: W. W. Norton & Company, 1981. P. 22, 23.
(обратно)365
О стабильности уровня налогов в Японии в эпоху Токугава см.: Jones E. L. Growth Recurring: Economic Change in World History. Oxford Clarendon Press, 1988. P. 165.
(обратно)366
Kaempfer E. History of Japan. Vol. III. Glasgow, 1906. P. 20–24.
(обратно)367
См.: Гришелева Л. Д. Формирование японской национальной культуры. М.: Институт востоковедения, 1986. С. 143. Вероятно, эти оценки завышены. В противном случае разрыв между Японией и ведущими странами Западной Европы по показателям грамотности был бы нереалистично большим. Но само по себе широкое распространение навыков чтения и письма не вызывает сомнения.
(обратно)368
Японский поэт этого времени писал: “Не голландские ли вытянулись письмена? – в небе строй гусей” (см.: Завадская Е. В. Японское искусство книги. VII – XIX века. М.: Книга, 1986. С. 105).
(обратно)369
История Востока. Т. 2: Восток в Средние века / Под ред. Р. Б. Рыбакова. М.: Восточная литература РАН, 1995. С. 310.
(обратно)370
См.: Илюшечкин В. П. Сословно-классовое общество в истории Китая. М.: Наука, 1986. С. 204.
(обратно)371
Использование угля в китайской металлургии в это время происходит в масштабах, которых Европа достигла лишь в XVIII в. Выпуск железа растет с 32,5 тыс. т в год в 998 году до 125 тыс. т в 1078 году. О сопоставимости душевого производства железа в Китае в 1078 году с западноевропейским в 1700 г. см.: Hartwell R. Markets, Technology and the Structure of Enterprise in the Development of the Eleventh-century Chinese Iron and Steel Industries // Journal of Economic History. 1966. № 26. P. 29–58; Hartwell R. A Revolution in the Chinese Iron and Coal Industries During the Northern Sung 960–1126 A. D. // Journal of Asian Studies. 1962. № 21. P. 153–162.
(обратно)372
См.: Мельянцев В. Экономический рост стран Востока и Запада в долгосрочной ретроспективе: Автореф. дис. д-ра экон. наук. М., 1995. С. 101–104.
(обратно)373
Elvin M. The Pattern of the Chinese Past. Stanford, California: Stanford University Press, 1973. P. 167.
(обратно)374
Во времена режима эпохи Сун постоянная армия сокращается вдвое по сравнению с периодом Тан (см.: Haeger J. W. Introduction: Crisis and Prosperity in Sung China. Arizona: The University of Arizona Press, 1975. P. 3).
(обратно)375
Haeger J. W. Introduction: Crisis and Prosperity in Sung China. P. 6.
(обратно)376
Ibid. P. 12.
(обратно)377
Hymes R. P. Statesmen and Gentlemen. The Elite of Fu-Chou, Chiang-Hsi, in Northern and Southern Sung. Cambridge etc.: Cambridge University Press, 1986. P. 28.
(обратно)378
Династия Юань – монгольское государство, одной из частей которого был Китай (1271–1368). Основано внуком Чингисхана монгольским ханом Хубилаем, который завершил завоевание Китая в 1279 г.
(обратно)379
Staunton G. L. An Authentic Account of Embassy from the King of Great Britain to the Emperor of China (…). Including the Manners and Customs of the Inhabitants and preceded by An Account of the Causes of the Embassy and Voyage to China. Abridged Principally from the Papers of Earl Macartney. London: J. Stockdale, 1797. XVI, 475.
(обратно)380
Сулейменов Олжас Омарович (род. в 1936) – поэт, писатель, общественно-политический деятель Казахстана, дипломат. Пишет на русском языке.
(обратно)381
В горных районах охота вытесняется не столько земледелием, сколько перегонным скотоводством (см.: Северный Кавказ в древности и в Средние века / Ред. В. И. Марковин. М.: Наука, 1980. С. 12). Преобладание скотоводства над другими видами хозяйства отмечалось, например, всеми наблюдателями, побывавшими в горном Карачае. “Они большей частью занимаются скотоводством, имеют значительные табуны превосходной породы лошадей. Хлебопашество у них неважно, но достаточно для их нужд”, – свидетельствует П. Зубов. “Но зато скотоводство развито довольно хорошо и составляет все их богатство”, – сообщалось о карачаевцах в Военно-статистическом описании Ставропольской губернии (см.: Невская В. П. Социально-экономическое развитие Карачая в XIX веке (дореформенный период). Черкесск: Карачаево-Черкесское книжное изд-во, 1960. С. 24).
(обратно)382
“Кочевники после зимы, проведенной в… степях, где в это время года их стада находят себе пропитание в изобилии, в первые дни мая поднимаются в горы и взбираются выше и выше в зависимости от увеличения летней температуры. Они находят в горах свежую траву для своих стад, прозрачную воду для питья и наслаждаются приятным климатом. К концу августа, когда в высокогорных долинах начинает чувствоваться холод, кочевники начинают движение назад, они начинают спускаться вниз, чтобы к октябрю, когда горы покрываются снегом, вернуться в свои степи, где они зимуют. Эти наблюдения показывают, что закавказских кочевников невозможно приучить к оседлой жизни и что местные условия заставляют их жить в горах летом, когда невозможно жить на равнине, а зимой, когда равнины превращаются в отличные пастбища, они занимают берега Куры и западное побережье Каспийского моря. Кроме того, в этих местах слишком мало пахотных земель для того, чтобы прокормить то количество кочевников, которое здесь обитает” (см.: Бларамберг И. Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа. Нальчик, 1999. С. 25).
(обратно)383
О сочетании оседлой жизни большей части населения с сезонной миграцией пастухов см.: История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. / Под ред. Б. Б. Пиотровского. М.: Наука, 1988. С. 158–159. Эти формы производственной подвижности пастушеских групп сохраняются и теперь среди обитателей многих горных областей (на Пиренейском полуострове, в Альпах, в Карпатах, на Кавказе) (см.: Чебоксаров Н. Н. Традиционные культуры народов мира. Страны и народы, Земля и человечество: Общий обзор. М., 1978. С. 289).
(обратно)384
О преобладании вольных крестьян‑горцев в составе населения Черкесии см. свидетельство Хан-Гирея 40‑х годов XIX в. (см.: Покровский М. В. Адыгейские племена в конце XVIII – первой половине XIX в. // Кавказский этнографический сборник II. М.: Изд-во восточной литературы, 1958. С. 140). Об отсутствии сословной стратификации в горных районах Чечни в середине XIX в. см.: Ипполитов А. П. Этнографические очерки Аргунского округа (с тремя рисунками): Сборник сведений о кавказских горцах. Вып. 1. Тифлис, 1869. С. 5, 43, 44.
(обратно)385
О роли грабежей в качестве источника дополнительных доходов афганских горцев см.: Logan J. The Scottish Gael, or Celtic Manners, as Preserved Among the Highlanders. Vol. 2. Edinburgh: John Donald Publishers Ltd., 1976. P. 48–50; О широком распространении грабежа как источника доходов у швейцарских горцев см.: Vincent J. M. Switzerland: At the Beginning of the Sixteenth Century. New York: AMS Press, 1971. P. 16, 17.
(обратно)386
О связи традиций воинственных пастухов‑горцев с успешным сопротивлением басков арабским завоеваниям см.: Goody J. The Development of the Family and Marriage in Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. P. 15, 16.
(обратно)387
Швейцарская конфедерация возникает как содружество трех кантонов, населенных горцами-полукочевниками. Здесь сохраняется малостратифицированное демократическое общество со значительной ролью народного собрания (см.: Vincent J. M. Switzerland: At the Beginning of the Sixteenth Century. New York: AMS Press, 1971. P. 7, 8; Sauter M. R. Switzerland from Earliest Times to the Roman Conquest. London: Thames and Hudson, 1976). Об отсутствии развитой иерархии у горских народов разных регионов мира см.: Массон В. М., Ромодин В. А. История Афганистана. Т. 1. М.: Наука, 1964. С. 19.
(обратно)388
Яйлажное скотоводство – полукочевое отгонное скотоводство со сменой летних и зимних пастбищ. В горных районах летние пастбища высокогорные, зимние – долинные.
(обратно)389
О характерных чертах социально-экономической организации черногорского общества см.: История южных и западных славян. М., 1979. С. 130, 131, 240, 241; Петрович Р. Племя кучи 1684–1796. Белград, 1981. С. 32–37.
П. Ровинский, автор фундаментальной работы по истории Черногории, цитирует один из дошедших до нас документов, характеризующий отношение черногорцев к свободе: “Мы не желаем поступать в подданнические отношения и будем защищать свободу, завещанную нам в наследство нашими предками, до последней крайности, готовые скорее умереть с саблею в руке, чем сделаться низкими рабами какого бы то ни было государства…” Он же обращает внимание на сходство борьбы за независимость черногорцев и швейцарских горцев (см.: Ровинский П. Черногория в ее прошлом и настоящем. СПб., 1888. С. 333). Наблюдатели обращали внимание на отсутствие государственности на Северном Кавказе, привычку северокавказских народов к свободе, необычную для аграрного мира (см.: Бэрзэдж Н. Изгнания черкесов (причины и последствия). Майкоп, 1996. С. 84–86).
О пастушеском полукочевом образе жизни горных племен Афганистана, их свободолюбии и воинской доблести см.: Wilber D. N. Afghanistan: Its People, Its Society, Its Culture. New Hawen: Hraf Press, 1962.
(обратно)390
“…Горные хребты – это естественные крепости, каменистая почва которых дает мало средств к существованию, но которые взамен предоставляют все возможности для сокрытия добычи и спасения от преследователей, всегда были и будут пристанищем воинственных племен… Горец отправляется в поход, как на охоту, и добыча, которую он захватывает с риском для жизни, есть плата за его усилия и является предметом его гордости и стимулом к дальнейшим действиям. Намерение убедить горца, который наподобие орла видит в девственной природе лишь добычу и врагов, что разбой – это постыдный порок, равноценно желанию укусить Луну” (см.: Бларамберг И. Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа. С. 27, 28).
(обратно)391
Еще ученый античного периода Страбон обращал внимание на полиэтничность горцев Кавказа: “Все они говорят на разных языках, так как живут врозь и замкнуто в силу своей гордости и дикости” (см.: Страбон. География. М.: Ладомир, 1994. С. 472 (XI. Гл. II, 16)). Султан Бабур, сообщающий о своих впечатлениях от общения с афганскими горцами, говорит, что “такого разнообразия племен и различия языков не известно ни в одном другом вилайете” (см.: Бабернамэ, или Записки Султана Бабера. Казань, 1857. С. 161). (Вилайет – основная административно-территориальная единица в некоторых странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока. – Прим. ред.)
(обратно)392
О набегах кочевников‑горцев в истории Ближнего Востока см.: Першиц А. И., Шнирельман В. А. Война и мир в ранней истории человечества. Т. 2. М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 1994. С. 152; Twitchett D., Loewe M. (eds.). The Cambridge History of China. Vol. 1. The Chin and Han Empires, 221 B. C. – A. D. 220. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. P. 335. О грабителях по призванию – горцах острова Хайнань см.: Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 3: Время мира. М.: Прогресс, 1992. С. 34.
(обратно)393
Впрочем, горский уклад жизни и степное, кочевое скотоводство иногда тесно переплетались. В отличие от арабов, которые не сумели освоить яйлажное скотоводство и потому не освоили предгорья и горы, тюрки сумели сочетать скотоводство в степях и полупустынях с горским образом жизни (см.: Holt P. M., col1_1, Lewis B. (eds.). The Cambridge History of Islam. Vol. 2B. Islamic Society and Civilization. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 448–452).
(обратно)394
Diamond J. M. Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societies. New York; London: W. W. Norton & Company, 1997.
(обратно)395
Cohen M. N., Armelagos G. I. (eds.). Paleopathology at the Origins of Agriculture. New York: Academic Press, 1984.
(обратно)396
См.: Шнирельман В. А. Возникновение производящего хозяйства. М.: Наука, 1989. С. 395.
(обратно)397
Слово “конь” индоевропейского происхождения. Это относится к древнеиндийскому, древнеиранскому, греческому, фракийскому, латинскому, кельтскому и другим индоевропейским языкам. Среди всех индоариев был распространен культ коня (см.: Ковалевская В. Б. Конь и всадник. Пути и судьбы. М.: Наука, 1977. С. 29; Абаев В. И. К вопросу о прародине и древнейших миграциях индоиранских народов // Древний Восток и античный мир. М., 1972; Бонгард-Левин Г. М., Грантовский Э. А. От Скифии до Индии. М., 1974). Связь передвижения индоариев с навыками управления лошадьми и колесницами впервые была отмечена Б. Грозны в работе: Hrozny B. L’entrainement des chevaux chez les anciens Indo-Européens d’aprés un texte mitannien-hittite provenants du 14 siécle av. I. Ch. // Archiv orientalni, Journal of the Czechoslovak Oriental Institute. Prague. Vol. III. № 2. 1931.
(обратно)398
См.: Варрон, Катон, Колумелла, Плиний. О сельском хозяйстве. М.; Л.: Сельхозиздат, 1957. С. 120–125.
(обратно)399
См.: Жданко Г. А. Проблемы полуоседлого населения в истории Средней Азии и Казахстана // Советская этнография. 1961. № 2; Шнирельман В. А. Происхождение скотоводства (культурно-историческая проблема). М.: Наука, 1980. С. 216.
(обратно)400
В целом в Евразии переход к производящему хозяйству шел через создание комплексных сообществ, включающих земледелие и разведение скота и оседлый образ жизни. Лишь постепенно в ряде приспособленных для интенсивного образа жизни регионов усиливается специализация на скотоводстве, происходит переход к кочевничеству (см.: Cosmo N. Ancient China and its Enemies. The Rise of Nomadic Power in East Asian History. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. P. 22–24).
(обратно)401
См.: Марков Г. Е. Кочевники Азии. Структура хозяйства и общественная организация. М., 1976. С. 14–18, 30.
(обратно)402
Андрианов Б. В. Неоседлое население мира. М., 1985. С. 15. О процессе дифференциации производящего хозяйства на оседлые группы, специализирующиеся на земледелии, и подвижные, специализирующиеся на скотоводстве, см. также: Массон В. М. Экономика и социальный строй древних обществ (в свете данных археологии). Л., 1976. С. 61.
(обратно)403
Наиболее ранние документы, сообщающие о верховой езде на лошадях, происходят из Передней Азии и относятся к первой половине 2‑го тысячелетия н. э. (см.: Ковалевская В. Конь и всадник. Пути и судьбы. М., 1977. С. 35, 36). Классические работы, посвященные истории одомашнивания лошади, принадлежат перу В. О. Ковалевского (см.: Ковалевский В. О. Палеонтология лошадей. М., 1948; Он же. Собрание научных трудов. Т. 1. М., 1950; Т. 2. М., 1956). Транспортное использование верблюдов, по дошедшим до нас данным, начинается с конца 3‑го тысячелетия до н. э. (см.: Bulliet R. W. The Camel and the Wheel. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1975. P. 66, 67).
(обратно)404
О распространении кочевой животноводческой культуры в Евразии от Маньчжурии до Дуная со 2‑го тысячелетия н. э. см.: Cosmo N. Ancient China and its Enemies. The Rise of Nomadic Power in East Asian History. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. P. 14. Историки делают различие между народами, ведущими собственно кочевое хозяйство, где со стадами мигрирует все население, и пастушескими народами, в которых со стадами мигрируют пастухи, а остальная часть сообщества живет оседло. С точки зрения характеристик кочевого общества это различие не имеет принципиального значения. И там, и там основные производственные и военные функции слиты воедино (см.: Першиц А. И. Война и мир в ранней истории человечества. Т. 2. М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 1994. C. 132).
(обратно)405
“Свинья никогда и ни при каких обстоятельствах не была животным, разводимым кочевником. Последнее объясняется неспособностью к передвижению поросят в течение долгого времени после появления их на свет” (см.: Руденко С. И. Материалы по отделению этнографии. Ч. 1: Доклады за 1958–1961 гг. Л., 1961. С. 4). Возможно, в этом основа жесткого табуирования потребления мяса свиньи в пищу у пастушеских народов.
(обратно)406
См.: Руденко С. И. Материалы по отделению этнографии. Ч. 1: Доклады за 1958–1961 гг. С. 5, 10.
(обратно)407
Еще А. Марцеллин, последний из классических историков Рима, отмечает, что гунны не занимаются хлебопашеством. Он пишет: “Никто из них не пашет и никогда не коснулся сохи” (см.: Марцеллин А. Римская история. СПб.: Алетейя, 2000. С. 492). Представление о занятии земледелием как признаке несвободы, рабства – база распространения во многих кочевых обществах табуирования занятия растениеводством. Следы этого влияния мы видим в России на Дону в ранний период его освоения русскими переселенцами. Занятие земледелием считалось несовместимым со статусом казака. “Казаки брались за плуг лишь в том случае, когда хозяйство лишалось скота. Полученный урожай немедленно выменивался на скот, а земледелие забрасывалось” (см.: Марков Г. Кочевники Азии. Структура хозяйства и общественной организации. М.: Изд-во МГУ, 1976. С. 139, 140). Важнейшими направлениями хозяйственной деятельности казаков было рыболовство и коневодство (см.: Вернадский Г. В. Московское царство. Ч. 1. М.; Тверь: Леан Аграф, 1997. С. 15, 16).
(обратно)408
Плата за охрану караванов была элементом системы доходов горских народов (см.: Искандаров Б. И. Социально-экономические и политические аспекты истории памирских княжеств (X – первая половина XIX в.). Душанбе: Дониш, 1983. С. 156). Но роль ее была существенно меньше, чем у степных кочевников.
(обратно)409
О сочетании широкого развития торговли на дальние расстояния, кочевого скотоводства и пренебрежения к оседлому земледелию см.: Holt P. M., Lambton A. K. S., Lewis B. (eds.). The Cambridge History of Islam. Vol. 2B. Islamic Society and Civilization. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 445–447.
(обратно)410
Термин “шелковый путь” был введен в научный оборот немецким географом Фердинандом фон Рихтгофеном в его работе, опубликованной в 1877 году. Так автор назвал связи Востока и Запада, шедшие через степи Евразии (см.: Richthofen F. von. China. Ergebnisse Eigener Reisen Und Darauf Gegründeter Studien. Bd 1–5. Berlin, 1877–1912). Современные исследователи время начала торговли по “шелковому пути” относят к 1-му тысячелетию до н. э. (см.: Лубо-Лесниченко Е. Китай на “шелковом пути”. М., 1994. С. 5).
(обратно)411
“О, вы, которые уверовали! Не указать ли вам мне на торговлю, которая спасет вас от мучительного наказания?” (см.: Ко ра н / Пер. с араб. акад. И. Ю. Крачковского. М.: Раритет, 1990. Сура 61. Стих 10. С. 444). Сура 83 специально посвящена торговцам, обвешивающим покупателей, и вредоносности такой практики (см.: Коран / Пер. с араб. акад. И. Ю. Крачковского. Сура 83. C. 480–482). Мухаммед, уже выступая вероучителем, продолжает заниматься торговлей. “Курейшиты, подвергая сомнению его пророческую миссию, с насмешкой говорили ему: «Какой же ты пророк! Ты ходишь по рынкам, как самый последний из нас»”. Как полагают, ответом на это является стих Корана, в котором Аллах говорит: “И до тебя мы не посылали посланников, которые бы не ели пищи и не ходили по рынкам” (см.: Беляев Е. А. Арабы, ислам и Арабский халифат в раннее Средневековье. М.: Наука, 1966. С. 106). “Некоторые взгляды Пророка на экономические проблемы… позволили бы ему стать членом общества Монпелерин. Когда его попросили в трудные времена зафиксировать цены на зерно, он ответил: «Только Бог может фиксировать цены»” (см.: Hicks J. A Theory of Economic History. London; Oxford; New York: Oxford University Press, 1969. P. 72). 60 % мусульманских теологов были купцами. Треть из них специализировалась на торговле текстильными изделиями (см.: Lal D. Unintended Consequences: the Impact of Factor Endowments, Culture and Politics on Long-Run Economic Performance. Cambridge, Massachusetts; London: The MIT Press, 1998. P. 56).
(обратно)412
Lewis B. The Arabs in History. London: Hutchinson’s University Library, 1950. P. 34–35.
(обратно)413
После монгольских завоеваний в Китае, Средней Азии, на Ближнем Востоке, в России караванная торговля между Передней Азией и Китаем получила развитие, которого никогда не имела – ни раньше, ни после этого периода (см.: Бартольд В. В. Культура мусульманства. М.: Леном, 1998. С. 90).
(обратно)414
Беляев Е. А. Арабы, ислам и Арабский халифат в раннее Средневековье. М., 1966. С. 6–9. О роли Мекки в системе караванной торговли на Ближнем Востоке и специфике ее политической организации как аристократической торговли республики см.: Simonsen J. B. Mecca and Medina City-State or Arab Caravan-Cities? / M. H. Hansen (ed.). A Comparative Study of Thirty City-State Cultures. Copenhagen: The Royal Danish Academy of Sciences and Letters, 2000. P. 241–249.
(обратно)415
Бартольд В. В. Культура мусульманства. М.: Леном, 1998. С. 31.
(обратно)416
Kwanten L. A History of Central Asia, 500–1500. Imperial Nomads. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 1979. P. 186–188.
(обратно)417
Weber M. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. London; New York: Routledge, 1995. P. 71.
(обратно)418
Кочевники не любят стационарности. Они считают ее признаком уязвимости, потенциального рабства. У татар существует поговорка “Чтоб тебе, как христианину, оставаться всегда на одном месте” (см.: Меховский М. Трактат о двух сарматиях. М., 1973. С. 213).
(обратно)419
О связи специфики социальной организации кочевого скотоводства с большей мобильностью, меньшей уязвимостью тех, кто им занимается, по сравнению с жителями аграрных цивилизаций см.: Gelner E. Muslim Society. Cambridge; London; New York; New Rochelle; Melbourne; Sydney: Cambridge University Press, 1981. Р. 20. Г. Марков обращает внимание на то, что в отличие от аграрных обществ, где формирование государственных институтов является неизбежным феноменом, для пастухов-кочевников периоды “общинно-кочевого” и “военно-кочевого” строя, формирования и распада государственных образований регулярно сменяют друг друга (см.: Марков Г. Е. Кочевники Азии. Структура хозяйства и общественной организации. М., 1976).
(обратно)420
Khaldun Ibn. The Muqaddiman. An Introduction to History. In Three Volumes. London: Routledge & Kegan Paul. Vol. I. 1958. P. 250, 257, 258, 282, 306.
(обратно)421
“Вмешательство предводителей кочевых обществ во внутреннюю экономическую жизнь было очень незначительным и не могло идти ни в какое сравнение с многочисленными управленческими обязанностями правителей оседло-земледельческих обществ. В силу этого власть предводителей степных обществ не могла развиваться до формализованного уровня на основе регулярного налогообложения скотоводов” (см.: Крадин Н. Н. Имперская конфедерация хунну: Социальная организация суперсложного вождества. СПб., 2000. С. 199). Об отсутствии упорядоченных налогов в кочевых обществах, зависимости доходов их правителей от дани с оседлых народов или подарков см.: Марков Г. Е. Кочевники Азии. Структура хозяйства и общественной организации. С. 304, 305.
(обратно)422
Об отсутствии развитой социальной иерархии у арабов до возникновения ислама и арабских завоеваний на Ближнем Востоке, в Северной Африке см.: Crone P. The Rise of Islam in the World. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. Р. 2. Описание того, почему кочевое скотоводство делает трудной организацию иерархизованного общества, разделенного на привилегированную знать и бесправное большинство, можно найти в классической работе Ибн Халдуна (см.: Khaldun Ibn. The Muqaddiman. An Introduction to History. In Three Volumes. Vol. I. London: Routledge & Kegan Paul, 1958). Об ухуаньцских кочевниках китайские хроники сообщают, что “от старейшины до последнего подчиненного каждый сам пасет свой скот и печется о своем имуществе, а не употребляют друг друга в услужение” (см.: Руденко С. И. Материалы по отделению этнографии. Ч. 1: Доклады за 1958–1961 гг. С. 14).
(обратно)423
Характерный пример – Иран после монгольского завоевания при Ильханидах. Здесь грабежи, чрезмерные налоги приводят в XIII в. к массовому разорению крестьян и эрозии доходов казны. К началу XIV в. они сокращаются до 1/5 от того, что собиралось до монгольского завоевания (см.: Boyle J. A. (ed.). The History of Iran. Vol. 5. The Socio-Economic Condition of Iran Under the Il-Khans. Cambridge: Cambridge University Press, 1968. P. 490, 491).
(обратно)424
Jones E. L. The Real Question about China: Why Was the Song Economic Achievement not Repeated? // Australian Economic History Review. 1990. 30/2. P. 5–7.
(обратно)425
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 2: Игры обмена. М.: Прогресс, 1988. С. 610.
(обратно)426
Типичный пример такого развития событий в ханстве У. Чагатая в XIII в. н. э. Здесь и после завоевания степняки вместо введения регулярной системы налогообложения нередко взимали с покоренных среднеазиатских городов единовременные выкупы за отказ от осады городов и грабежей сельского населения (см.: Kwanten L. A. History of Central Asia 500–1500. Imperial Nomads. University of Pennsylvania Press, 1979. P. 172).
(обратно)427
Конрад Н. И. Избр. труды. История. С. 424.
(обратно)428
Узун-Хасан правил в 1453–1478 гг. государством Ак-Коюнлу, включавшим в период расцвета Западный Иран, Ирак, Армению, Иранский Азербайджан и некоторые другие земли. В результате его налоговой реформы был упорядочен свод налоговых податей и установлены четкие фиксированные ставки всех податей и налогов.
(обратно)429
Подобный конфликт интересов – сохранять кочевые традиции при максимальной эксплуатации покоренного населения или восстанавливать централизованное государство в соответствии с традициями, существовавшими в земледельческом государстве до его завоевания, – характерен, например, для Ирана периода Ильханидов (см.: Boyle J. A. (ed.). The History of Iran. Vol. 5. The Socio-Economic Condition of Iran Under the Il-Khans. Cambridge: Cambridge University Press, 1968. P. 492, 493).
(обратно)430
О роли Эгейского моря и его многочисленных островов в создании широких возможностей для мореплавания на ранних стадиях развития см.: Лурье С. Я. История Греции: Курс лекций. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1993. С. 30. В греческий и римский периоды античности не было городов, находящихся на расстоянии более одного дня пути от морского побережья (см.: Weber M. General Economic History. New Brunswick (U. S. A.) and London (U. K.): Transaction Publishers, 1995. P. 56).
(обратно)431
Хопкинс отмечает, что объем торговли в Средиземноморье между II в. до н. э. и II в. н. э. не был превзойден в течение следующего тысячелетия. В 400–650‑х годах н. э. он составлял примерно пятую часть объема торговли римского периода (см.: Hopkins K. Taxes and Trade in the Roman Empire 200 B. C. – 400 A. D // Journal of Roman Studies. Vol. LXX. 1980. P. 101–106).
(обратно)432
О специализации торговли по Великому шелковому пути на предметах роскоши и ее ограниченном влиянии на потребление основной массы населения см.: Гумилев Л. Н. Древние тюрки. М.: Товарищество “Клышников – Комаров и К°”, 1993. С. 42.
(обратно)433
“Ловля рыбы, которую греки очень любили, была обычным занятием всех жителей прибрежных поселений. Рыболовство и экспорт рыбы имели большое экономическое значение. Не случайно на монетах многих греческих государств изображалась рыба” (см.: Античная цивилизация / Отв. ред. В. Д. Блаватский. М.: Наука, 1973. С. 33).
О широком распространении рыболовства как источнике продуктов питания в Греции см. также: Perles C. The Early Neolithic in Greece. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. P. 171.
(обратно)434
О средиземноморской триаде см.: Renfrew C. Before Civilization. The Radiocarbon Revolution and Prehistoric Europe. London: Penguin Books, 1990. P. 229. О связи ее возникновения со спецификой климатических условий Греции см.: Sealey R. A History of the Greek City States ca. 700–338 B. C. Berkley; Los Angeles; London: University of California Press, 1976. P. 11, 27.
(обратно)435
Runnels C., Murray P. Greece before History: An Archaeological Companion and Guide. Stanford, California: Stanford University Press, 2001. P. 88.
(обратно)436
Davies J. K. Democracy and Classical Greece. Sussex: The Harvester Press; New Jersey: Humanities Press, 1978. P. 29.
(обратно)437
“Разбросанность греческих полисов и различные естественно-географические условия их местоположения способствовали специализации отдельных районов на производстве тех или иных сельскохозяйственных культур. Так, каменистая поч ва, горный ландшафт и сухой климат большей части материковой и островной Греции были малопригодны для зерновых культур, но чрезвычайно благоприятны для оливководства, виноградарства и скотоводства. Зато земли Фессалии, Северного Причерноморья и Сицилии давали прекрасные урожаи пшеницы и других зерновых злаков” (см.: Античная цивилизация / Отв. ред. В. Д. Блаватский. М.: Наука, 1973. С. 23).
(обратно)438
“Морская торговля повсеместно первоначально неотделима от пиратства; военный корабль, пиратский корабль и торговый корабль вначале неотделимы друг от друга” (см.: Weber M. General Economic History. New Brunswick and London: Transaction Publishers, 1995. P. 202). Аристотель подразумевал под словом “мореплавание” рыболовство и пиратство, которые должны были служить источником пропитания. Словом “пейратес” греки обычно называли мужчин, которые в поисках приключений и добычи отправляются в далекие странствия по морю; эти странствия чаще всего превращались в грабеж чужого побережья. Позднее слово “пираты” вошло в языки всех народов, населяющих побережье (см.: Нойкирхен Х. Пираты. Морской разбой на всех морях. М.: Прогресс, 1980. С. 19). В “Сказании об аргонавтах”, где переплелись многие морские легенды, хорошо видно, что Ясон и его спутники без малейших колебаний грабят население прибрежных городов (см.: Аполлоний Родосский. Аргонавтика / Под ред. М. Л. Гаспарова. М., 2001).
(обратно)439
“Большое число фактов, указывающих на синтез морского дела и земледелия, позволяет выделить на правах рабочей гипотезы представление о возможности “тройного синтеза” (земледелие – государственность – пиратство) как о наиболее устойчивом продукте эгейской социальной кухни…” (см.: Петров М. К. Искусство и наука. Пираты Эгейского моря и личность. М.: РОССПЭН, 1995. С. 211, 212). О слитности торговли и пиратства в ранней Греции см. также: Starr C. G. The Economic and Social Growth of Early Greece 800–500 B. C. New York: Oxford University Press, 1977. P. 51.
(обратно)440
Гёте И. В. Собр. соч.: В 13 т. Т. 5: Фауст / Пер. Н. А. Холодковского. М.: Гослитиздат, 1947. С. 520.
(обратно)441
Нойкирхен Х. Пираты. Морской разбой на всех морях. С. 33.
(обратно)442
О подрыве базы изъятия доходов у оседлого населения в результате частых набегов пиратов см.: Маховский Я. История морского пиратства. Тула, 1993. С. 40.
(обратно)443
Ксенофонт отмечал, что “властители моря” могут делать то, что лишь иногда удается “властителям суши”: опустошать земли более сильных, чем они; подходить на кораблях туда, где нет врагов или их немного, а если они появятся, немедленно уйти морем (см.: Ксенофонт. Афинская полития (II, 4–5). Цит. по: Аристотель. Политика. Афинская полития. М.: Мысль, 1997. С. 414).
(обратно)444
“В древнем Ближнем Востоке, особенно в Малой Азии, Сирии, Палестине, мы находим две разные этнические группы: прибрежные и континентальные. Ограниченность прибрежной полосы делает их существование почти парадоксальным. Тем не менее немногочисленные греки были способны обеспечить свой контроль над самыми важными со стратегической и экономической точек зрения частями Средиземноморья и Черного моря. Они сохраняли независимость в течение сотен лет, несмотря на существование рядом крупных империй” (см.: Polanyi K., Arensberg C. M., Pearson H. W. Trade and Market in the Early Empires: Economies in History and Theory. Glencoe Illinois: The Free Press & The Falcons Press, 1957. P. 38).
(обратно)445
О связи специфики греческого ландшафта, поощрявшего партикуляризацию, автономное существование отдельных общин, см.: Фролов Э. Д. Рождение греческого полиса. Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. С. 64, 65; Андреев Ю. В. Раннегреческий полис (гомеровский период). Л.: Изд-во ЛГУ, 1976. С. 18–29.
(обратно)446
Фукидид. История. М.: Ладомир; АСТ, 1999. С. 8.
(обратно)447
О сходстве установлений “народов моря” и горских народов писал один из самых проницательных исследователей быта Кавказа – К. Ф. Сталь. По его словам, “Одиссея, прочитанная на Кавказе, лицом к лицу с горскими народами, делается вполне понятною…” (см.: Сталь К. Ф. Этнографический очерк черкесского народа // Кавказский сборник. Т. XXI. Тифлис, 1900. С. 101). О связи специфики ландшафта Греции архаического и классического периодов, специфики ее экономики и об отсутствии здесь предпосылок к созданию авторитарных аграрных государств см.: Андреев Ю. В. Раннегреческий полис (гомеровский период). С. 14, 15.
(обратно)448
Та же способность к совместным действиям, проявлению инициативы и самоорганизации впоследствии проявится у других пиратов-торговцев теперь уже северных морей – викингов в VIII–XII вв. (см.: Lindsay J. The Normans and Their World. London: Hart-Davies and MacGibbon, 1974).
(обратно)449
См.: Петров М. К. Искусство и наука. Пираты Эгейского моря и личность. М.: РОССПЭН, 1995. С. 208–210.
(обратно)450
Алфавит, заимствованный у древних финикийцев, появляется у греков в VIII в. до н. э. (см.: Sealey R. A History of the Greek City States 700–338 B. C. Berkley; Los Angeles; London: University of California Press, 1976. P. 15). Иероглифическая письменность меньше алфавита пригодна для описания новых понятий и явлений. Дальняя торговля, которой столь активно занимались финикийцы, объективно сталкивала их с новыми понятиями, реальностями, требовала гибких способов восприятия и воспроизведения поступающей к ним информации. О влиянии алфавитного письма на торговлю см.: Шифман И. Финикийские мореходы. М.: Наука, 1965. С. 20; Harden D. The Proenicians. London: Thames and Hudson, 1962. P. 115–123.
(обратно)451
О влиянии финикийского опыта на формирование античных структур см.: Яйленко В. П. Архаическая Греция и Ближний Восток. М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1990. С. 132–135.
(обратно)452
См.: Гельцер М. Л. Очерки социальной и экономической истории Финикии во II тысячелетии до н. э. Автореф. дис. д-ра филос. наук. Л., 1954. С. 6.
(обратно)453
“Как нам известно из предания, Минос первым из властителей построил флот и приобрел господство над большей частью нынешнего Эллинского моря. Он стал владыкой Кикладских островов и первым основателем колоний на большинстве из них и изгнал карийцев, поставил там правителями своих сыновей. Он же начал и истреблять морских разбойников, чтобы увеличить свои доходы, насколько это было в его силах. Ведь уже с древнего времени, когда морская торговля стала более оживленной, и эллины, и варвары на побережье и на островах обратились к морскому разбою. Возглавляли такие предприятия не лишенные средств люди, искавшие и собственную выгоду, и пропитание для неимущих. Они нападали на не защищенные стенами селения и грабили их, добывая этим большую часть средств к жизни, причем такое занятие вовсе не считалось тогда постыдным, но, напротив, даже славным делом” (см.: Фукидид. История. М.: Ладомир; АСТ, 1999. С. 6, 7). Характерный факт, демонстрирующий господство критского флота на Средиземном море в этот период, – отсутствие в Кноссе городских стен. Это всегда признак того, что жители чувствуют себя в безопасности, что они гарантированы от нападений с моря (см.: Лурье С. Я. История Греции: Курс лекций. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1993. С. 67).
(обратно)454
“Полис является государством совершенно особого рода, ибо здесь нет власти и войска, отделенных от народа: народ сам есть и власть, и войско. Это община равноправных граждан, и эксплуатировать здесь можно только чужаков – в качестве рабов или илотов. Отсюда четкое противопоставление свободы и несвободы, нашедшее свое многообразное выражение в различных явлениях культуры и даже в лексике” (см.: История Востока. Т. 1: Восток в древности / Под ред. Р. Б. Рыбакова. М.: Восточная литература РАН, 1997. С. 24).
(обратно)455
Sealey R. A History of the Greek City States ca. 700–338 B. C. Berkley; Los Angeles; London: University of California Press, 1976. P. 19.
(обратно)456
Jeffery L. H. Archaic Greece. The City-States C. 700–500 B. C. London: Methuen & CO LTD, 1978. P. 39.
(обратно)457
Meyer E. Geschichte des Altertums. Bd 2. Stuttgart, 1893. P. 335.
(обратно)458
См.: Андреев Ю. В. Раннегреческий полис (гомеровский период). С. 41.
(обратно)459
Античная Греция. Т. 1: Становление и развитие полиса / Отв. ред. Е. С. Голубцова. М.: Наука, 1983; Comparative Studies in Society and History. London, 1969. P. 50–52.
(обратно)460
См.: Нойкирхен Х. Пираты. Морской разбой на всех морях. М.: Прогресс, 1980.
(обратно)461
“Корабль – жилище скандинава”. Это выражение франкского поэта очень верно передает отношение норвежцев и датчан к своим кораблям. О широком распространении рыболовства в Скандинавии см.: Гуревич А. Я. Походы викингов. М., 1966. С. 37. О роли рыболовства в хозяйственной деятельности скандинавских народов как предпосылке их широкого вовлечения в морской разбой и морскую торговлю см. также: Архенгольц Ф. История морских разбойников Средиземного моря и океана. М.: Новелла, 1991. С. 306–307. Тацит писал о древних жителя Швеции: “Помимо воинов и оружия они сильны также флотом” (см.: Тацит К. Соч. Т. 1: Анналы. Малые произведения. М.: Ладомир, 1993. С. 371).
(обратно)462
На старонорвежском слово “викинг” означает “пират” (см.: Graham-Campbell J. The Viking World. Frances Lincoln: Weidenfeld & Nicolson, 1980. P. 10). Пропорции сочетания пиратства и морской торговли объяснялись обстоятельствами, сравнительными преимуществами. Так, норвежцы и датчане в эпоху викингов, сочетая эти занятия, вместе с тем больший акцент делают на морском разбое, шведы – на морской торговле (см.: Lindsay J. The Normans and Their World. New York: St. Martin’s Press, 1975. С. 34–36).
(обратно)463
Славою светлый Атрид, повелитель мужей Агамемнон! Хочешь ли мне дары примиренья, как должно, доставить Или удержать их, – ты властен… Гомер. Илиада. М., 2000. С. 357–369 (XIX, 40–237)
(обратно)464
В Скандинавии в период викингов, как и в Греции античного периода, ключевым элементом системы власти было народное собрание (тинг) – регулярный сбор мужчин региона, обсуждавший и принимавший решения по важнейшим вопросам организации общественной жизни. Хотя в Скандинавии (кроме Исландии) существовали королевские династии и наследственные права имели значение, вступление в права нового правителя было обусловлено согласием тинга (см.: Graham-Campbell J. The Viking World. Frances Lincoln: Weidenfeld & Nicolson, 1980. P. 196). “Когда… в конце X в. представитель французского короля спросил датских викингов, отряд которых грабил Северную Францию, об имени их господина, они отвечали: «Нет над нами господина, ибо все мы равны»” (см.: Гуревич А. Я. Походы викингов. С. 26).
(обратно)465
Jones G. A History of the Vikings. New York; Toronto: Oxford University Press, 1968. P. 154.
(обратно)466
Carruthers B. G. Politics, Popery and Property: A Comment on North and Weingast // The Journal of Economic History. № 3. September 1990. P. 69–71.
(обратно)467
В скандинавских памятниках можно обнаружить указания на стадию развития общества, когда бонды (свободные крестьяне-воины. – Е. Г.) не платили податей и их сознанию была чужда сама мысль об обязательных платежах в пользу короля. Дань взималась с покоренного населения, с тех, кому приходилось откупаться от викингов. Об эволюции в Скандинавии системы добровольных пожертвований для организации совместных пиров в упорядоченную систему налогообложения и ленных пожалований см.: Гуревич А. Я. Свободное крестьянство феодальной Норвегии. М., 1967. С. 30, 31.
(обратно)468
Историческая статистика не дает надежных источников, позволяющих точно оценить долю населения греческого мира, связанного с сельским хозяйством. Большинство специалистов предполагает, что она составляла не менее 80 % (см.: Starr C. G. The Economic and Social Growth of Early Greece 800–500 B. C. New York: Oxford University Press, 1977. P. 41). По оценкам Р. Голдсмита, 75–80 % рабочей силы Римской империи было занято в сельском хозяйстве. Он же оценивает долю городского населения Римской империи в 10 % – показатель, высокий для аграрного общества (см.: Goldsmith R. W. An Estimate of the Size and Structure of the National Product of the Early Roman Empire // Income and Wealth. Series 30 (3). September 1984. P. 282, 283).
(обратно)469
См.: Андреев Ю. В. История Древнего мира. Расцвет древних обществ. Греция в архаический период и создание классического греческого полиса / Под ред. И. М. Дьяконова, В. Д. Нероновой, И. С. Свенцицкой. М.: Главная редакция восточной литературы, 1982. С. 79. О радикальных переменах в использовании письменности, вызванных формированием античной цивилизации, см.: Петров М. К. Искусство и наука. Пираты Эгейского моря и личность. М.: РОССПЭН, 1995.
(обратно)470
О том, как внешние угрозы и необходимость мобилизовать ресурсы для их отражения привели к подрыву демократии, укоренению тирании и введению прямых налогов в Сиракузах, см.: Finley M. I. The Ancient Greeks. London: Penguin Books, 1991. P. 140.
(обратно)471
В Афинах прямые налоги платили только проститутки и иностранцы (см.: col1_0 The Roman Economy. Studies in Ancient Economy and Administrative History. Oxford: Basil Blackwell, 1974. P. 153, 155, 156).
(обратно)472
Brunt P. A. Social Conflicts in the Roman Republic. New York: W. W. Norton & Company Inc., 1971. P. 107–110.
(обратно)473
Об изъятии оружия у народа и прямых налогах как характерной черте тирании см.: Аристотель. Со ч.: В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 553. “В виды тирана входит также разорять своих подданных, чтобы, с одной стороны, иметь возможность содержать свою охрану и чтобы, с другой стороны, подданные, занятые ежедневными заботами, не имели досуга составлять против него заговоры… Сюда же относится и уплата податей, вроде того, как она была установлена в Сиракузах, где, как оказалось, в течение пяти лет в правление Дионисия вся собственность подданных ушла на уплату податей” (см.: Там же. С. 560).
(обратно)474
“…Еще одна характерная особенность гражданской общины – совпадение более или менее полное политической и военной организации полиса… Характер военной организации как гаранта собственности и тем самым самого существования общины определяет не только связь, но в принципе и однозначность военного ополчения граждан с народным собранием как основой политической организации полиса. Гражданин-собственник одновременно является и воином, обеспечивающим неприкосновенность собственности полиса и тем самым своей личной собственности. Армия полиса в принципе являлась всенародным ополчением, служить в котором было долгом и привилегией гражданина. Общая структура полиса и формы его военной организации развивались в теснейшей связи друг с другом…
В сущности, в это время народное ополчение представляло собой вооруженное народное собрание. Строй фаланги самим способом сражения, когда воин прикрывал щитом себя и соседа, а победа обеспечивалась только монолитностью строя, способствовал выработке чувства полисного единства. Фаланга была не только военным строем, не только проекцией в военную сферу социальной структуры полиса, но и социально-психологическим фактором огромного значения. И не случайно в теоретических построениях афинских идеологов времени кризиса полиса «счастливое прошлое» представало в облике «мужей-марафономахов», мужественных воинов‑гоплитов и суровых афинских крестьян” (см.: Античная Греция. Т. 1: Становление и развитие полиса. М.: Наука, 1983. С. 24, 25).
(обратно)475
См.: Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. М.: Государственное военное изд-во, 1936. P. 73–76.
(обратно)476
Возникновение фаланги обычно относят к середине VII в. до н. э (см.: Нефедкин А. К. Основные этапы формирования фаланги гоплитов: Военный аспект проблемы // Вестник древней истории. 2002. № 1. С. 90–96).
(обратно)477
О влиянии широкого применения железа в военном деле на демократизацию войны и возможность формировать армии крестьян-ополченцев, а также в связи с этим на развитие политического процесса в античности см.: Фролов Э. Д. Рождение греческого полиса. Л.: Изд-во ЛГУ. 1988. С. 116–118. “Трансформация греческого города‑государства Афин из монархии в олигархию и из олигархии в демократию была следствием изменения военной технологии – развития фаланги, которую могла выставить лишь армия граждан; цена, которую заплатили за это правители, – ограничение их власти” (см.: North D. C. Structure and Change in Economic History. New York; London: W. W. Norton & Company, 1981. P. 30). О роли фаланги в развитии полисной демократии см.: Detienne M. La phalange: Problèmes et Controversies. Problèmes de la Guerre en Grèce Ancienne, 1968. P. 138; Starr C. G. The Economic and Social Growth of Early Greece 800–500 B. C. New York: Oxford University Press, 1977. P. 33.
(обратно)478
В чрезвычайных условиях применялся 1–2 %-й налог на имущество, который нельзя было продавать откупщикам (см.: Jones A. H. M. The Roman Economy. Studies in Ancient Economic and Administrative History. Oxford: Basil Blackwell, 1974. P. 161).
(обратно)479
Реформы Солона, предоставившие каждому (с определенными оговорками) право при отсутствии наследников завещать имущество по своему усмотрению, были важным шагом к укоренению в античности полноценной частной собственности на землю. По словам Плутарха, реформы Солона, разрешившие свободное распоряжение землей, “превратили владение в собственность” (см.: Плутарх. Сравнительные жизнеописания: В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. С. С. Аверинцев. М.: Наука, 1994. С. 105). (Солон (около 640 – около 559 гг. до н. э.) – афинский политический деятель, реформатор, поэт – Прим. ред.)
(обратно)480
Угроза волнений под лозунгом прощения долгов и передела земли – постоянная тема греческой истории. В 335 году до н. э. была сформирована Коринфская лига для защиты от подобных беспорядков. Тогда же клятва граждан города Итана на Крите включала формулу, которая запрещала такие выступления (см.: Rostovtzeff M. The Social & Economic History of the Roman Empire. Oxford: Clarendon Press, 1926. P. 2).
(обратно)481
См.: Аристотель. Политика. Афинская полития. М.: Мысль, 1997. С. 293, 294.
(обратно)482
Шарль Луи де Монтескье (1689–1755) – французский писатель, правовед и философ, автор романа “Персидские письма”, а также статей в “Энциклопедию, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел”.
(обратно)483
См.: Монтескье Ш. Л. Персидские письма: Размышления о причинах величия и падения римлян. М.: Канон-пресс-Ц: Кучково Поле, 2002. С. 111.
(обратно)484
То обстоятельство, что объектами изучения Маркса и Энгельса были именно европейские общества, привело их к представлению о необходимости имущественного расслоения для формирования государства и государственной иерархии (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2‑е изд. Т. 21. М.: Госполитиздат, 1961).
(обратно)485
В восточных языках трудно подобрать аналоги слова “свобода” в греческом его понимании.
(обратно)486
Morris I. Burial and Ancient Society: The Rise of the Greek City-State. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
(обратно)487
Объем морской торговли в Средиземноморье II в. н. э. был достигнут лишь в середине 2‑го тысячелетия н. э.
(обратно)488
Лурье С. Я. История Греции: Курс лекций. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1993. С. 205.
(обратно)489
О влиянии Греции на эволюцию римских институтов см.: Heurgon J. The Rise of Rome to 264 B. C. London: B. T. Batsford Ltd., 1973. P. 43, 75–98; Frank T. (ed.). An Economic Survey of Ancient Rome. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1933. P. 3; Walbank F. W. The Hellenistic World. Sussex: The Harvester Press; New Jersey: Humanities Press, 1981. P. 228. О влиянии традиций греческого законодательства, в том числе законов Солона, на римское законодательство (Закон 12 таблиц) см.: Stein P. Roman Law in European History. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. P. 34.
(обратно)490
Bloch R. The Origins of Rome. New York: Frederick A. Praeger, Publishers, 1960. P. 15.
(обратно)491
Cornell T. J. The City-States in Latium // Hansen M. H. (ed.). A Comparative Study of Thirty City-State Cultures. Copenhagen: The Royal Danish Academy of Sciences and Letters, 2000. P. 211.
(обратно)492
О сходстве, органическом единстве римского и греческого полиса см.: Удченко С. Политические учения Древнего Рима. М., 1977; Шпайерман Е. Древний Рим. Проблемы экономического развития. М., 1978.
(обратно)493
Finley M. I. Ancient Slavery and Modern Ideology. London: Penguin Books, 1992. P. 80.
(обратно)494
Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. C. 377.
(обратно)495
См.: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Т. 1. М.: Соцэкгиз, 1931. С. 400.
(обратно)496
Гоплит – древнегреческий тяжеловооруженный пеший воин.
(обратно)497
Ferguson Y. Chiefdoms to City-States: The Greek Experience / Earle T. (ed.). Chiefdoms: Power, Economy and Ideology. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P. 186.
(обратно)498
Davies J. K. Democracy and Classical Greece. Sussex: The Harvester Press; New Jersey: Humanities Press, 1978. P. 48, 49.
(обратно)499
Античная цивилизация / Отв. ред. В. Д. Блаватский. М.: Наука, 1973. C. 68–69.
(обратно)500
О нарастающих имперских тенденциях в отношении афинян к своим союзникам см.: Sealey R. A History of the Greek City States ca. 700–338 B. C. Berkley; Los Angeles; London: University of California Press, 1976. P. 304–308.
(обратно)501
Bullock C. J. Politics, Finance and Consequences. Cambridge; Massachusetts: Harvard University Press, 1939. P. 111.
(обратно)502
Rhodes P. J. The Athenian Empire. Oxford: Clarendon Press, 1985. P. 22–28.
(обратно)503
Davies J. K. Democracy and Classical Greece. Sussex: The Harvester Press; New Jersey: Humanities Press, 1978. P. 76.
(обратно)504
См.: Платон. Государство. Законы. Политика. М.: Мысль, 1998. С. 493.
(обратно)505
См.: Аристотель. Со ч.: В 4 т. Т. 4. С. 598.
(обратно)506
Исследователи до сих пор спорят о численности населения в крупнейшем греческом полисе – Афинах. Однако большинство сходится в том, что с учетом рабов она вряд ли превышала 250–270 тыс. человек (см.: Gomme A. W. The Population of Athens in the Fifth and Fourth Centuries B. C. Westport, Connecticut: Greenwood Press, Publisher, 1986. P. 4–6; Finley M. I. The Ancient Greeks. London: Penguin Books, 1991. P. 72).
(обратно)507
Ferguson Y. Chiefdoms to City-States: The Greek Experience // Earle T. (ed.). Chiefdoms: Power, Economy, and Ideology. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P. 178.
(обратно)508
По социальным установлениям и стилю жизни македонцы были горцами. Отсюда естественность для них сочетания функций сельскохозяйственной деятельности и военного дела. Близость к греческой цивилизации, возможность заимствования лучших образцов вооружения и способов организации военного дела в сочетании с отсутствием ограничений размеров государства, характерного для греческого полиса, дали Македонскому царству важнейшие козыри в борьбе за доминирование в Греции, а затем в Передней Азии (см.: Anderson P. Passages from Antiquity to Feudalism. London: NLB, 1975. P. 45–49; Walbank F. W. The Hellenistic World. Sussex: The Harvester Press; New Jersey: Humanities Press, 1981. P. 13).
(обратно)509
О сочетании авторитарного режима центральной власти в Римской империи и широкого самоуправления городов, выполнении ими функций центров управления имперскими регионами см.: Garnsey P., Salle R. The Roman Empire. Economy, Society and Culture. London: Gerald Duckworth & Co. Ltd., 1987. P. 26–40.
(обратно)510
Jones A. H. M. The Greek City from Alexander to Justinian. Oxford: At The Clarendon Press, 1940. P. 27, 60.
(обратно)511
Гай Марий (ок. 157–86 до н. э.) – римский полководец и политический деятель, семь раз избирался консулом Римской империи, провел реорганизацию римской армии.
(обратно)512
Rostovtzeff M. The Social & Economic History of the Roman Empire. Oxford: Clarendon Press, 1926. P. 25–27.
(обратно)513
Октавиан Август (при рождении Гай Октавий Фурин; 63 до н. э. – 14 н. э.) – внучатый племянник Гая Юлия Цезаря, усыновленный им по завещанию. Победой над римским полководцем Марком Антонием и египетской царицей Клеопатрой завершил гражданские войны, начатые после смерти Цезаря. Основатель принципата – своеобразной формы монархии, сочетавшей единоличную власть с традиционными республиканскими учреждениями.
(обратно)514
См.: Моммзен Т. История римских императоров. Т. I V. СПб.: Ювента, 2002. C. 260.
(обратно)515
П. Брант оценивает численность свободных римских граждан во время правления Августа в 4–5 млн человек (см.: Brunt P. A. Social Conflicts in the Roman Republic. New York: W. W. Norton & Company Inc., 1971. P. 1–19).
(обратно)516
Jones A. H. M. The Roman Economy. Studies in Ancient Economic and Administrative History. Oxford: Basil Blackwell, 1974. P. 164.
(обратно)517
Johnson A. C. Egypt and the Roman Empire. Ann Arbor: University of Michigan, 1951. P. 48; Hopkins K. Taxes and Trade in the Roman Empire // Journal of Roman Studies. Vol. LXX. 1980. P. 116, 117.
(обратно)518
Уже со времен Августа римская элита, осознав, что возможности рентабельных войн исчерпаны, сформировала концепцию естественных границ империи, за пределами которых экспансия нецелесообразна: это Окса на западе, Рейн и Дунай на севере, пустыни на востоке и юге (см.: col1_0 A History of Rome To 565 A. D. New York: The Macmillan Company, 1943. P. 350).
(обратно)519
Луций Септимий Север (146–211) – римский император в 193–211 гг.
(обратно)520
McMullen R. How Big Was the Roman Imperial Army? // Klio. Beitrage Zur Alten Geschichte. Heft 2. Bd 62. 1980. P. 451–460.
(обратно)521
См.: Грант М. Крушение Римской империи. М.: Терра-Книжный клуб, 1998.
(обратно)522
См.: Там же. С. 45, 46.
(обратно)523
Russel J. C. The Control of Late Ancient and Medieval Population. Philadelphia: The American Philosophical Society, 1985. P. 222.
(обратно)524
“Со II в. армию нельзя было увеличить до необходимых размеров, потому что сельское хозяйство не могло ее содержать. Ситуация на селе ухудшалась из-за высоких налогов и литургий, а налоговое бремя было непомерным как раз из-за слишком высоких военных расходов. Складывался порочный круг, выход из которого в рамках античного мира был невозможен” (см.: Finley M. I. The Ancient Economy. London: Penguin Books, 1992. P. 176).
(обратно)525
Марк Аврелий Антонин (121–180) – римский император в 161–180 гг.
(обратно)526
Марк Аврелий: “Все, что вы получаете сверх вашего регулярного жалованья, должно быть добыто на крови ваших родителей и родственников” (см.: Rostovtzeff M. The Social and Economic History of the Roman Empire. P. 326).
(обратно)527
О конфискациях при Коммоде и Севере см.: Rostovtzeff M. The Social and Economic History of the Roman Empire. P. 272–274; Garnsey P., Salle R. The Roman Empire. Economy, Society and Culture. London: Gerald Duckworth & Co. Ltd, 1987. P. 94. Об увеличении налогов при Диоклетиане в связи с ростом затрат на армию см.: Моммзен Т. История римских императоров. Т. I V. СПб.: Ювента, 2002. C. 435.
(обратно)528
Наставляя сыновей, император Север говорил: “Будьте вместе, хорошо платите солдатам и забудьте об остальных” (см.: Rostovtzeff M. The Social and Economic History of the Roman Empire. P. 354).
(обратно)529
Гай Аврелий Валерий Диоклетиан (245–313) – римский император в 284–305 гг.
(обратно)530
“Редко когда в истории можно найти случаи более громких и постоянных жалоб на налоги, чем в поздней Римской империи. Уже при Диоклетиане Лактанций пишет о невыносимом бремени налогов. Тимистиус в 364 году говорит о примерном удвоении налогов за предшествующие сорок лет” (см.: Jones A. H. M. The Roman Economy. Studies in Ancient Economic and Administrative History. Oxford: Basil Blackwell, 1974. P. 199). О тяжести налогообложения, бегстве крестьян с земли, их готовности вернуться под власть варваров, лишь бы не оставаться под владычеством римлян, см.: Salvianus. The Writings of Salvian, the Presbyter. Washington: The Catholic University of America Press, 1962. P. 138–141. О невыносимом налоговом бремени при Диоклетиане и его наследниках см. также: О смертях преследователей. СПб.: Алетейя, 1998. С. 132–137.
(обратно)531
“Общее направление развития города IV–VI вв. от самоуправляющегося коллектива граждан (права и обязанности которых связаны с владением землей в городе и его административном округе) к политически аморфной административно-податной единице, управляемой государством посредством бюрократического аппарата, не вызывает сомнения.…Византийский город к моменту арабского завоевания был почти полностью подчинен государственной администрации. Остатки традиционных полисных учреждений сохранялись в той мере, в какой были удобны государству” (см.: Большаков О. Г. Средневековый город Ближнего Востока. М., 2001. С. 17, 19).
(обратно)532
Диоклетиан ввел обычай коленопреклонения перед императором.
(обратно)533
Флавий Валерий Аврелий Константин (Константин Великий; 272–337) – римский император, единолично правил в 324–337 гг. Организовал новое государственное устройство. Перенес столицу в Византию (Константинополь). Перед смертью принял христианство.
(обратно)534
Этот закон был принят при императоре Валентиниане I.
(обратно)535
Луций Септимий Север (146–211) – римский император в 193–211 гг. Единолично правил с 197 г.
(обратно)536
Rostovtzeff M. The Social and Economic History of the Roman Empire. P. 363.
(обратно)537
Bernardi A. The Economic Problems of the Rome Empire at the Time of Decline // Cipolla C. M. (ed.). The Economic Decline of Empires. London: Methuen & Co. Ltd., 1970. P. 55, 73.
(обратно)538
Кавафис Константинос (1863–1933) – греческий поэт. Цитируется в переводе Г. Шмакова.
(обратно)539
Гердер Иоганн Готфрид (1744–1803) – немецкий историк культуры, философ, критик, поэт.
(обратно)540
Цезарь считает скотоводство преобладающим видом сельскохозяйственной деятельности у германцев. Он пишет: “Но земля у них не разделена и не находится в частной собственности, и им нельзя более года оставаться на одном и том же месте для возделывания земли” (см.: Гай Юлий Цезарь. Записки о Галльской войне. Кн. 4. Гл. 1 // Граков Б. Н., Моравский С. П., Неусыхин А. И. Древние германцы: Сб. документов. М.: Соцэкгиз, 1937. С. 19).
(обратно)541
См.: Тацит К. Со ч. Т. 1: Анналы. Малые произведения. М.: Ладомир, 1993. С. 355.
(обратно)542
Weber M. General Economic History. New Brunswick and London: Transaction Publishers, 1995. P. 3, 6, 7, 16, 17.
(обратно)543
Rostovtzeff M. The Social and Economic History of the Roman Empire. Oxford: At the Clarendon Press, 1926. P. 440–443.
(обратно)544
Ориентализация – уподобление Востоку, усиление восточного влияния на политику и культуру.
(обратно)545
В королевстве вандалов в Африке римские земли были полностью конфискованы. Завоеватели относились к римлянам как к покоренному народу. Остготы в Италии сохранили контуры римской структуры власти и право римлян на военную службу. Победители захватили треть государственных земель. Частные земли для своего расселения они не конфисковали (см.: Boak A. E. A History of Rome to 565 A. D. New York: The Macmillan Company, 1943. P. 473–476).
(обратно)546
Остготы – восточная ветвь германских племен готов, пришедших из Скандинавии в Восточную Европу примерно в конце 2 – начале 3 в. н. э. и захвативших территории вплоть до побережья Черного моря на юге, низовьев Дона на востоке и Дуная на западе. Разделение на остготов и вестготов произошло в 3–4 вв. н. э. Теодорих Великий (451–526, год рождения ориентировочный) – король остготов с 474 по 526 г. Завоевал Италию и был во главе ее с 493 по 526 г.
(обратно)547
Лангобарды (буквальный перевод – длиннобородые) – германское племя, жившее на нижней Эльбе, потом – на Дунае. В 568 г. вторглись в Северную Италию, где образовали лангобардское королевство (отсюда название Ломбардии). Королевство прекратило существование после завоевания Карлом Великим в 774 г.
(обратно)548
Возможно, здесь сказались традиции индоариев, у которых налогообложение свободных людей всегда считалось недопустимым. Живший в VI в. епископ Григорий Турский приводит эпизод, характеризующий отношение германских королей к римской налоговой системе. У короля Хилперика заболели дети, и королева, считая болезнь местью богов, умоляла мужа “сжечь проклятые налоговые книги” в надежде, что это может отвести божественное проклятие (см.: Tierney B., Painter S. Western Europe in the Middle Ages. New York: Knopf, 1970. P. 73; Cambridge Medieval History. V. III. Germany and the Western Empire // Gwatkin H. M., Whitney J. P., Tanner J. R. (eds.). New York: Macmillan, 1913. P. 140).
(обратно)549
“Обширное централизованное государство не соответствовало эпохе натурального хозяйства, которое препятствовало централизации, связности частей, разрывая области на множество самодовлеющих хозяйственных мирков… Обширная каролингская монархия возникла слишком рано, когда господствовало всецело натуральное хозяйство, которое не связывало, а, наоборот, разобщало отдельные районы страны как самодовлеющие хозяйственные мирки. Отсутствие экономической связности частей, отсутствие культурного единства, недостаток денежных средств и географическая разрозненность различных местностей вследствие недостатка путей сообщения совершенно обессиливали централизованное государственное управление. Слабость же этого управления, недостаток государственной защиты вызывали частные союзы защиты, господский и мирской самосуд; политическая власть разъединялась соответственно разъединению хозяйственному” (см.: Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в России. М.: Наука, 1988. С. 92).
(обратно)550
Каролинги (751–987) – королевская и императорская династия в государстве франков. Основана отцом Карла Великого Пепином Коротким.
(обратно)551
Марк Блок рассматривал удаленность Европы от основного массива евразийских степей, относительную изолированность от центра крупных степных завоеваний как важнейший фактор, обусловивший специфику европейской институциональной эволюции (см.: Bloch M. Feudal Society. London, 1961. P. 56).
(обратно)552
Об ограниченности размеров Паннонской равнины для масштабного кочевого скотоводства как факторе, обеспечившем возможность устойчивого подъема Западной Европы в условиях относительно слабой государственной власти, см.: Sinor D. Horse and Pasture in Inner Asian History // Oriens Extremis. 1972. Vol. 19 (102). P. 171–183. О переходе венгров к оседлой жизни после миграции в Европу см.: Bartha A. Hungarian Society in the 9th and 10th Centuries. Budapest, 1975.
(обратно)553
В 947 г., единственный раз после лангобардского завоевания, в Италии (вне подконтрольной Византии территории) взимался подушевой налог для выплаты дани венграм. Формирование деспотического режима в Венеции в конце IX в. н. э. также было связано с угрозой венгерского вторжения. В Англии прямой налог вводится для откупа от набегов датчан. Во Франции элементы прямого налогообложения вводятся в IX в. также для выплаты дани датчанам.
(обратно)554
О хозяйственной деятельности и быте викингов см.: Гуревич А. Я. Походы викингов. М.: Наука, 1966.
(обратно)555
“Далекий король был плохой защитой против мобильных шаек грабителей. Реальной мерой против их набегов был укрепленный замок и тяжеловооруженный рыцарь” (см.: North D. C. Structure and Change in Economic History. New York; London: W. W. Norton & Company, 1981. P. 136, 137).
(обратно)556
См.: Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М.: Искусство, 1990. С. 38.
(обратно)557
Cassiodori Senatoris Variae Monumenta Germaniae Historica, Auctorum Antiquissimorum Tomus XII. Berlin: Weidmann, 1894. P. 364.
(обратно)558
Основа отношений господина и крестьянина в Англии этого времени – маноральная система. Манор делится на две основные части: домен, составляющий чаще всего 1/2–1/3 территории манора и земли крестьян (крепостных – виланов и свободных – фригольдеров) (см.: Косминский Е. А., Лавровский В. М. История манора Брамптона в XI – ХVIII вв. // СВ. 1946. Вып. 2. С. 190–221).
(обратно)559
Russel J. C. The Control of Late Ancient and Medieval Population. Philadelphia: The American Philosophical Society, 1985. P. 223.
(обратно)560
См.: Мельянцев В. А. Экономический рост стран Востока и Запада в долгосрочной перспективе: Автореф. дис. д-ра экон. наук. М., 1995. C. 138.
(обратно)561
“Десятина, например, является настоящим поземельным налогом, который лишает землевладельцев возможности так широко содействовать своими взносами защите государства, как они могли бы делать это при отсутствии десятины” (см.: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Т. 2. М.; Л.: Соцэкгиз, 1931. С. 403).
(обратно)562
К концу VII в. треть продуктивной земли во Франции принадлежала Католической церкви (см.: Lal D. Unintended Consequences: the Impact of Factor Endowments, Culture and Politics on Long-Run Economic Performance. Cambridge, Massachusetts; London: The MIT Press, 1998. P. 85).
(обратно)563
О роли Католической церкви в сохранении римских традиций, римского законодательства и установлений в период после краха Римской империи см.: Anderson P. Passages from Antiquity to Feudalism. London: NLB, 1975. P. 131–132. Об использовании Католической церковью традиций римского права в своих интересах см.: McNeill W. H. The Rise of the West: A History of the Human Community with a Retrospective Essay. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1991. P. 552, 553. О заинтересованности церкви укоренить в Западной Европе римскую традицию неограниченной частной собственности на землю см.: Гуревич А. Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. М.: Высшая школа, 1970. C. 40, 41; Он же. Норвежское общество в раннее Средневековье. Проблема социального строя и культуры. М.: Наука, 1977. C. 77, 78.
(обратно)564
О влиянии римской правовой традиции на формирование правовых установлений в варварских государствах, пришедших на смену Римской империи, см.: Stein P. Roman Law in European History. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. P. 24, 43, 61–67.
(обратно)565
Wickham C. Early Medieval Italy. Central Power and Local Society 400–1000. London; Basingstoke: The Macmillan Press LTD, 1981. P. 142.
(обратно)566
Weber M. General Economic History. New Brunswick (U. S. A.) and London (U. K.): Transaction Publishers, 1995. P. 340.
(обратно)567
Longworth P. The Rise and Fall of Venice. London: Constable, 1974. P. 1–3.
(обратно)568
О связи римских традиций и установлений в городах‑государствах, их влиянии на формирование в Западной Европе концепции полноценной частной собственности, в том числе частной собственности на землю, см.: Kiernan V. G. Private Property in History // Goody J., Thirsk J., Thompson E. P. (eds.) Family and Inheritance. Cambridge: Cambridge University Press, 1976. P. 361–398.
(обратно)569
Авторы эпохи Возрождения прямо проводят линию от античности к итальянским городам‑государствам. Все, что между этими периодами, для них – эпоха германского варварства (см.: Waley D. The Italian City-Republics. London: Weidenfeld and Nicolson, 1969; Ястребицкая А. Л. Средневековая Европа глазами современников и историков. Ч. 4: От Средневековья к Новому времени. Новый человек. М.: Интерпракс, 1994. С. 84, 86).
(обратно)570
В Северной Италии и Тоскане во времена империи было около сотни муниципалитетов. К 1000 году 3/4 из них сохранились. О преемственности итальянских городов‑государств по отношению к городам античного периода см.: Wickham C. Early Medieval Italy. Central Power and Local Society 400–1000. London; Basingstoke: The Macmillan Press LTD, 1981. P. 80. А. Сванидзе справедливо отмечает: “Это были социально другие города, но традиции городского образа жизни впитались средневековым обществом на этих территориях вместе с воздухом античной культуры, с античным наследием вообще” (см.: Сванидзе А. А. Го род в средневековой цивилизации Западной Европы. Т. 1: Феномен средневекового урбанизма. М.: Наука, 1999. С. 10).
(обратно)571
О взаимосвязи традиций муниципальной организации римских городов и формировании институтов, обеспечивающих автономию или независимость города в Западной Европе, см.: Кулишер И. М. История экономического быта Западной Европы. Т. 2. М.; Л., 1931. С. 321.
(обратно)572
О сохранении традиций жизни в городах после лангобардского завоевания см.: Wickham C. Early Medieval Italy. Central Power and Local Society 400–1000. London; Basingstoke: The Macmillan Press LTD, 1981. P. 74.
(обратно)573
Гофф Ж. Л. Цивилизация средневекового Запада. Сретенск: МЦИФИ, 2000. С. 276. М. Постан отмечал, что средневековые города были “внефеодальными островами в феодальном море” (см.: Postan M. M. The Medieval Economy and Society. An Economic History of Britain in the Middle Ages. Harmondsworth: Penguin Books, 1975. P. 212).
(обратно)574
Дживелегов А. К. Средневековые города в Западной Европе. СПб.: Типография А. О. Брокгауз – Ефрон, 1902. С. 234.
(обратно)575
Такие попытки предпринимались. Некоторые исследователи связывали разное развитие событий с тем, что Эльба разделяет районы, традиционно заселенные германскими и славянскими племенами (см.: Knapp J. F. Über Leibeigenschaft // Gesammelte Beiträge zur Rechts und Wirtschaftgeschichte des Wüürtembergischen Bauernlandes. Tübingen, 1902). В научной полемике вряд ли имеет смысл ссылаться на очевидно расистский характер подобных построений. Но они просто не соответствуют исторической действительности. Территория Восточной Германии, Венгрия, Трансильвания не были заселены славянами.
(обратно)576
Сказкин С. Д. Основные проблемы так называемого “второго издания крепостничества” в Средней и Восточной Европе. М., 1958. С. 96–119; Кулишер И. М. История экономического быта Западной Европы. Т. 2. М.; Л., 1931. С. 105–106; История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. Т. II: Крестьянство Европы в период развитого феодализма. М., 1986. С. 512–514; Blum J. Lord and Peasant in Russia. From the Ninth to the Nineteenth Century. Some Conclusions and Generalizations. Princeton; New Jersey: Princeton University Press, 1961. P. 609–610.
(обратно)577
“Западный город подарил средневековой монархической эпохе демократические, республиканские формы правления… По преимуществу из городов исходили импульсы и новации, преобразовавшие Cредневековье” (см.: Сванидзе А. А. Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т. 1: Феномен средневекового урбанизма. М.: Наука, 1999. С. 11).
(обратно)578
“Решающим фактом было то, что с самого начала западный город был способен защитить себя… Он состоял из горожан-солдат, которые не идентифицировали себя ни с каким политическим сообществом, не связанным с городом” (см.: Baechler J. The Origins of Capitalism. Oxford: Basil Blackwell, 1975. Р. 67).
(обратно)579
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 1: Структуры повседневности: возможное и невозможное. М.: Прогресс, 1986. С. 544.
(обратно)580
Подобно тому как у многих кочевых племен существовал запрет на занятие земледелием, в некоторых итальянских городах, например в Пизе, действовал прямой запрет для горожан заниматься сельским хозяйством (см.: Waley D. The Italian City-Republics. London: Weidenfeld and Nicolson, 1969. P. 106).
(обратно)581
“Позднеантичная цивилизация не признавала высокого достоинства физического труда. Термин «negotium» («дело», «занятие», «труд») имел также значение «досада», «неприятность». К концу античной эпохи занятие земледелием уже не относили к числу гражданских добродетелей, как это было в более патриархальный период” (см.: Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М.: Искусство, 1990. С. 36).
(обратно)582
Библия. Новый Завет. Второе послание к фессалоникийцам Святого Апостола Павла. Гл. 3. Ст. 10.
(обратно)583
О Флоренции XIII в. как о капиталистическом городе см.: Зомбарт В. Буржуа. Этюды по истории духовного развития современного экономического человека. М.: Наука, 1994. С. 105, 106. О капиталистической организации венецианского хозяйства см.: Cox O. C. Foundation of Capitalism. New York, 1959. Р. 62. Л. Васильев прав, утверждая, что “капитализм… детище европейского города и эпохи Возрождения, прямой наследник античности (а не феодализма, как это подчас по инерции кое-кто себе представляет)” (см.: Васильев Л. С. История Востока: В 2 т. Т. 1. М.: Высшая школа. 2003. С. 16).
(обратно)584
Waley D. The Italian City-Republics. London: Weidenfeld and Nicolson,1969. P. 78, 79.
(обратно)585
Everett N. Literacy in Lombard Italy. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. P. 568–774.
(обратно)586
Waley D. Op. cit. P. 101.
(обратно)587
Сказкин С. Д. О методологии истории Возрождения и гуманизма // Средние века. Т. XI. М., 1958. С. 134.
(обратно)588
О связи специфики институтов городов‑государств Северо-Западной России с заимствованием европейского опыта институционального развития см.: Birnbaum Н. Lord Novgorod the Great: Essays in the History and Culture of a Medieval CityState. Columbus, 1981; Idem. Novgorod and Dubrovnik: Two Slavic City Republic and Their Civilization. Zagreb. 1989; Blockmans W. P. Voracious States and Obstructing Cities: An Aspect of State Formation in Preindustrial Europe // Tilly C., Blockmans W. (eds.). Cities and the Rise of States in Europe, A. D. 1000 to 1800. Boulder: Westview, 1994. P. 218–250; O ’ B r i e n P. (ed.). Urban Achie vement in Early Modern Europe: Golden Ages in Antwerp, Amsterdam and London. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. P. 40–52.
(обратно)589
Интенсивный торговый обмен и институционная близость с городами Балтики у Новгорода и Пскова сложились задолго до формального образования Ганзейского союза. Создание Ганзы лишь закрепило эти связи (см.: Раушник Г. П. История немецкой Ганзы. Ч. 1. М., 1849. С. 5–10).
(обратно)590
“Роль, которую сыграла Северная Италия в развитии капиталистических институтов, была критической. Так, многие кажущиеся нововведения в коммерческой организации Северной и Западной Европы были на деле распространением того, что давно было практикой, получившей распространение в Северной Италии. Это распространение можно вспомнить по названию Ломбардской улицы в Лондоне” (см.: Rosenberg N., Birdzell E. L. How the West Grew Rich. New York: Basic Books Inc., Publishers, 1986. Р. 76).
(обратно)591
В 1242 г. в Венеции был принят пятитомный свод законов, три тома из которого посвящены регулированию коммерческой деятельности – заключению контрактов, залогу, вексельному праву и т. д. (см.: Longworth P. The Rise and Fall of Venice. London: Constable, 1974. P. 65).
(обратно)592
“Контраст между самоуправляющимися купеческими городами-республиками и мусульманскими городами, полностью подчиненными государству, не имеющими никакого правового оформления, настолько велик, что в появлении самоуправления, естественно, видится та черта, за которой быстро развивающаяся Западная Европа начинает обгонять Ближний Восток…. Ни в одном социологическом, юридическом или этико-правовом сочинении средневековых мусульманских авторов не высказывается мысль о необходимости городского самоуправления и особой юрисдикции, никто из них, говоря о притеснениях и злоупотреблениях власть имущих, не сетует на отсутствие особых прав горожан, словно мысль об этом им вообще не приходит в голову” (см.: Большаков О. Г. Средневековый город Ближнего Востока VII – сер. XIII в. М.: ИФ РАН “Восточная литература”, 2001. С. 288, 289).
(обратно)593
О зачатках капиталистического производства в городах Средиземноморья XIV в. (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Со ч. 2‑е изд. Т. 23. М.: Госполитиздат, 1960. С. 728, 729).
(обратно)594
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2‑е изд. Т. 26. Ч. II. М.: Госполитиздат, 1963. С. 328.
(обратно)595
О связи широкого распространения рыболовства в Португалии с ее ролью в Великих географических открытиях см.: Можейко И. В. Пираты, корсары, рейдеры. СПб., 1994. С. 16, 17.
(обратно)596
На это обратил внимание Э. Джонс. В. Каспер назвал такое институциональное соревнование эффектом Э. Джонса (см.: Jones E. The Record of Global Economic Development. Cheltenham Northampton: Edward Elgar Publishing Inc., 2002. P. 38–40; Kasper W. The Open Economy and the National Interest // Policy. Winter 1998. P. 22).
(обратно)597
См., например: Shennan M. The European Dynamic: Aspects of European Expansion, 1450–1715. London: Adam & Charles Black, 1976. С. 24.
(обратно)598
С середины XVI в. представление о превосходстве Европы над другими мировыми цивилизациями по уровню технического развития, военной мощи, развитию культуры становится доминирующим среди европейской элиты (см.: Shennan M. The European Dynamic: Aspects of European Expansion, 1450–1715. С. 24).
(обратно)599
О связи отклонения проекта Х. Колумба с накопленным португальскими властями опытом дальних путешествий к западному побережью Африки см.: Chaunu P. European Expansion in the Later Middle Ages // Vaughan R. (ed.). Europe in the Middle Ages. Selected Studies. Vol. 10. Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1979. С. 149, 150.
(обратно)600
Об истории обсуждения проекта Х. Колумба см.: Магидович И. П., Магидович В. И. Очерки по истории географических открытий. Т. 2: Великие географические открытия (конец XV – середина XVII в.). М., 1983. С. 14–16. В морском деле Испания в конце XV в. по отношению к Португалии была страной “догоняющего развития”. Экспедиция Х. Колумба и открытие Америки – масштабный, хотя и своеобразный пример использования того, что А. Гершенкрон называл “преимуществом отсталости”.
(обратно)601
О дискуссии по вопросу о непосредственных поводах к началу Великих географических открытий в XV в. см.: Shennan M. The European Dynamic: Aspects of European Expansion, 1450–1715.; Chaunu P. European Expansion in the Later Middle Ages // Vaughan R. (ed.). Europe in the Middle Ages Selected Studies. Vol. 10.
(обратно)602
О разнице мотивов к дальним морским экспедициям в Китае и Европе см.: Needham J. Science and Civilisation in China. Vol. 3. Mathematics and the Sciences of the Heavens and the Earth. Cambridge: Cambridge University Press, 1959.
(обратно)603
Васко да Гама по прибытии в Калькутту разъяснил индийцам, что он прибыл сюда в поисках христиан и специй (см.: Parry J. H. The Age of Reconnaissance: Discovery, Exploration and Settlement, 1450–1650. London: Cardinal, 1973. С. 35); Б. Лас Касас, автор “Кратчайшей истории разрушения Индий”, написал о конкистадорах:
“Они шли с крестом в руке и с ненасытной жаждой золота в сердце” (см.: Путешествия Христофора Колумба: Дневники, письма, документы / И. П. Магидович (ред.). М.: Географгиз, 1961. С. 9).
(обратно)604
Cipolla C. M. Guns and Sails in the Early Phase of European Expansion, 1400–1700. London, 1965.
(обратно)605
О том, как предоставленное в 1273 г. гильдии овцеводов право на беспрепятственное перемещение скота было связано с финансовыми проблемами испанской короны, см.: North D. C. Structure and Change in Economic History. New York; London: W. W. North & Company, 1981. P. 150.
(обратно)606
О влиянии войн и военных расходов на различные траектории эволюции ведущих западноевропейских государств см.: Ames E., Rapp R. T. The Birth and Death of Taxes: A Hypothesis // The Journal of Economic History. The Tasks of Economic History. Vol. XXXVII. № 1. March 1977. P. 161–178; Strayer J. R., Taylor C. H. Studies in Early French Taxation. Cambridge, Massachusetts, 1939. P. 3–105; Ozcariz E. T. Las Cortes de Castillia 1188–1833. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1964; Burke U. R. History of Spain. From the Earliest Times to the Death of Ferdinand the Catholic. London; New York; Bombay: Longmans, Green and Co., Paternoster Row, 1900.
(обратно)607
Ames E., Rapp R. T. The Birth and Death of Taxes: A Hypothesis // The Journal of Economic History. The Tasks of Economic History. Vol. XXXVII. № 1. March 1977. P. 170.
(обратно)608
См.: Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 3: Время мира. М.: Прогресс, 1992. С. 60, 61.
(обратно)609
О борьбе городов за собственную независимость и автономию см. также: Mundy J. H., Riesenberg P. The Medieval Town. Princeton, 1916; Waley D. The Italian City Republics. London: Weidenfeld and Nicolson, 1969. О торге между городами и государствами как элементе формирования европейской системы финансов и налогообложения см.: Tilly C., Blockmans W. (eds.). Cities and the Rise of States in Europe, AD 1000 to 1800. Boulder: Westview, 1994; Epstein S. R. Introduction. Town and Country in Europe, 1300–1800 // Epstein S. R. (ed.). Town and Country in Europe, 1300–1800. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. P. 16.
(обратно)610
См.: Фортинский О. Приморские Вендские города и их влияние на образование Ганзейского союза до 1370 года. Киев, 1877. С. 74–75.
(обратно)611
“Обычно они в то же время соединялись в общину или корпорацию, получившую право иметь собственных судей и городской совет, издавать законы для регулирования жизни города, возводить стены для его защиты и подчинять всех своих жителей известного рода военной дисциплине, обязывая их нести сторожевую службу, т. е., как это понималось в минувшие времена, охранять и защищать эти стены днем и ночью от возможных нападений. В Англии жители таких городов были обычно изъяты из подсудности судам сотен и графств, и все тяжбы, которые возникали между ними, за исключением исков короны, решались их собственными судьями. В других странах им часто предоставлялась гораздо более значительная и более обширная юрисдикция” (см.: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Т. 1. М.; Л.: Соцэкгиз, 1931. C. 410, 411).
(обратно)612
См.: Гутнова Е. В. Возникновение английского парламента. М., 1960. С. 388–389. Обычно города в английском парламенте представляли люди, связанные с торговлей (см.: McKizack M. The Parliamentary Representation of the English Boroughs During the Middle Ages. London, 1936. P. 106).
(обратно)613
Подписанный Генрихом I в 1100 г. при вступлении на престол документ осуждает практику произвольных налогов и конфискаций и содержит обещание проявить умеренность в налоговой политике.
(обратно)614
В булле Папы Иннокентия III от 24 августа 1215 г. Великая хартия вольностей названа “соглашением подлым, постылым” (см.: Пти-Дютайи Ш. Феодальная монархия во Франции и в Англии X–XIII вв. / Пер. С. П. Моравского. СПб.: Евразия, 2001. С. 322).
(обратно)615
См. классическую работу, посвященную истории возникновения английского парламента, его связи с предшествующими установлениями англосаксов, унаследованными от доцивилизационного периода: Stubbs W. The Constitutional History of England. Vol. 1–3. Oxford, 1874. Впоследствии, как всякую фундаментальную работу, ее много раз критиковали за упрощенное изложение исторических процессов и идеализацию английской парламентской системы. Но и сегодня, если не входить в дискуссию по деталям, она остается самым авторитетным источником по истории взаимосвязи социально-политических установлений и развития парламентаризма в Англии.
(обратно)616
“Города, представленные в Штатах Голландии, были основным источником политической власти в провинции, так же как на протяжении всей истории Голландской Республики: с первых дней восстания до французской оккупации в 1795 году” (см.: Price J. L. Holland and the Dutch Republic in the Seventeenth Century. Oxford: Clarendon Press, 1994. P. 11). О роли городов в Голландии см. также: Israel D. The Dutch Republic. Its Rise, Greatness and Fall 1477–1806. Oxford: Oxford University Press, 1995. О том же в Бельгии см.: Пириенн А. Средневековые города Бельгии / Пер. с фр. СПб.: Евразия, 2001. О влиянии институционального опыта итальянских городов‑государств на развитие социально-экономических и политических институтов Голландии см.: Barbour V. Capitalism in Amsterdam in the Seventeenth Century. The Johns Hopkins Studies in Historical and Political Science. Series LXVII. 1950. № 1. P. 142. Если относить к городским поселениям те, которые сами себя считали таковыми, доля городского населения в Голландии XVII в. составляет уже 40 % общей численности населения (см.: Wrigley E. A. Poverty, Progress and Population. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. P. 2, 3; Epstein S. R. (ed.) Town and Country in Europe, 1300–1800. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. P. 56).
(обратно)617
Israel D. The Dutch Republic: Its Rise, Greatness and Fall 1477–1806. Oxford: Oxford University Press, 1995. P. 27–28.
(обратно)618
Преимущества косвенных налогов были хорошо понятны современникам. В XVII в. н. э. премьер Швеции Оксенштерна выразил это так: “Они угодны Господу, не наносят ущерба ни одному из людей и не провоцируют бунта” (см.: Aston T. Crisis in Europe 1560–1660. New York: Basic Books, 1965. P. 200).
(обратно)619
Israel D. The Dutch Republic: Its Rise, Greatness and Fall 1477–1806. Oxford: Oxford University Press, 1995. P. 1–4.
(обратно)620
Cox O. C. The Foundations of Capitalism. New York: Philosophical Library, 1959. Р. 293.
(обратно)621
Hobbes T. Behemoth: the History of the Causes of the Civil Wars of England / Sir W. Molesworth (ed.). The English Works of Thomas Hobbes. Vol. VI. London, 1839–1845.
(обратно)622
Еще со времен Плантагенетов, вовлеченных в постоянные войны за их владения на материке, в Англии укореняется представление об опасности предоставлять королю избыточные налоговые доходы (см.: Петти В. Экономические и статистические работы. М.: Соцэкгиз, 1940. С. 17).
(обратно)623
Савин А. Н. Лекции по истории Английской революции. М.: Крафт+, 2000. С. 149, 162.
(обратно)624
Cox O. C. The Foundations of Capitalism. New York: Philosophical Library, 1959. Р. 299.
(обратно)625
По оценкам Г. Кинга, в конце XVII в. подушевой доход в Голландии был наполовину выше, чем в Англии, норма сбережений составляла примерно 11 % национального дохода, в то время как в Англии и во Франции – 4 %. Вместе с тем ведущая торговая держава не стала родиной промышленной революции (см.: Maddison A. Dynamic Forces in Capitalist Development. Oxford, New York: Oxford University Press, 1991. P. 45).
(обратно)626
North D. C. Structure and Change in Economic History. New York; London: W. W. Norton & Company, 1981. P. 146, 147.
(обратно)627
“Люди республиканских убеждений относятся недоверчиво к постоянной армии как к опасной для свободы” (см.: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Т. 2. М.; Л.: Соцэкгиз, 1931. С. 300).
(обратно)628
Наказы депутатам Генеральных штатов 1789 г. – яркое выражение ненависти буржуазии к налоговым привилегиям старой, утратившей свои военные функции элиты (см.: Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 2: Игры обмена. М.: Прогресс, 1988. С. 509).
(обратно)629
О борьбе вокруг распределения земельных прав между привилегированным сословием и крестьянством в Европе, связанной с ликвидацией феодальных институтов, см.: Blum J. The End of the Old Order in Rural Europe. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1978. P. 357, 400.
(обратно)630
“Во время реставрации Стюартов земельные собственники провели в законодательном порядке ту узурпацию, которая на континенте совершилась везде без всяких законодательных околичностей. Они уничтожили феодальный строй поземельных отношений, т. е. сбросили с себя всякие повинности по отношению к государству, «компенсировали» государство при помощи налогов на крестьянство и остальную народную массу, присвоили себе современное право частной собственности на поместья, на которые они имели лишь феодальное право…” (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Со ч. 2‑е изд. Т. 23. М.: Госполитиздат, 1960. С. 734).
(обратно)631
В “Записках” Ф. Бернье, одном из важнейших источников знаний европейцев XVII в. об обычаях стран Востока, хорошо видно, как его изумляет отсутствие там четко определенных прав собственности (см.: Бернье Ф. История последних политических переворотов в государстве Великого Могола / Под ред. А. Пронина; пер. с фр. М.; Л., 1936. С. 156, 157, 184, 185).
(обратно)632
См. известную работу, подтверждающую этот тезис на материалах, доступных к началу XX в.: Hammond J. L., Hammond B. The Town Labourer 1760–1832. Stroud: Allan Satton, 1995 (оriginally published 1911).
(обратно)633
Shaw-Taylor L. Parliamentary Enclosure and the Emergence of an English Agricultural Proletariat // The Journal of Economic History. Vol. 61 (3). 2001. P. 640, 662; McCloskey D. N. The Enclosure of Open Fields: Preface to a Study of Its Impact on the Efficiency of English Agriculture in the Eighteenth Century // The Journal of Economic History. Vol. 32 (1). March 1972. P. 15, 35.
(обратно)634
Наиболее авторитетные работы, в которых обосновывается тезис о близости уровня экономического развития (измеренного как душевой ВВП в паритетах покупательной способности) Западной Европы и других центров аграрных цивилизаций в середине – конце XVIII в., принадлежат перу П. Байроша (см.: Bairoch P. Economics & World History. Myths and Paradoxes. Chicago: University of Chicago Press, 1993. P. 101–106). Учитывая несовершенство экономической статистики XVIII в., дискуссия по этому вопросу принадлежит к числу тех, которые будут длиться бесконечно. Впрочем, применительно к теме данной работы то, как соотносился душевой ВВП Западной Европы и Китая в XVIII в., малозначимо. Нас интересуют в первую очередь связи специфики западноевропейских институтов, сложившихся ко второй половине XVIII в., с созданием предпосылок современного экономического роста и влиянием этого роста в странах-лидерах на страны догоняющего развития.
(обратно)635
Т. Джайергард оценивает рост числа экземпляров книг, посвященных правильному ведению сельского хозяйства, в Европе с 1470 по 1814 год, в 20 тыс. раз (с 10 тыс. в 1470 году до 200 млн в 1814 году). Эти расчеты включают немало произвольных гипотез, но сам факт бурного роста спроса на технологическую информацию об эффективных способах организации аграрного дела накануне начала современного экономического роста, после формирования капиталистической системы производственных отношений не вызывает сомнения (см.: Kjaergaard Thorkild. Origins of Economic Growth in European Societies the XVIth Century: The Case of Agriculture // The Journal of European Economic History. Vol. 15 (3). Winter 1986. P. 293–296); С. фон Бат на основе данных об урожайности (соотношении урожая и посевов) в Западной Европе, прежде всего в Англии, пришел к выводу о его заметном росте между началом XIII в. и концом XVII в. В Англии это соотношение увеличилось с 3,7 в 1200–1249 годах до 7 в 1500–1699 годах (см.: Slicher van Bath B. H. Accounts and Diaries of Farmers before 1800 // Afdeling Agrarische Geschiedenis Bijdragen. Vol. 8. 1962. P. 22).
(обратно)636
Coleman D. C. The Economy of England 1450–1750. Oxford: Oxford University Press, 1977. Р. 61.
(обратно)637
Лангедок – территориальная область на юге Франции с главным городом Тулузой. Стала так называться в XIII в. после присоединения в 1271 г. графства Тулузского к французской короне. В буквальном переводе означает “язык ок”, поскольку население говорило на окситанском языке.
(обратно)638
Le Roy L. E. The Peasants of Languedoc. Urbana; Chicago; London: University of Illinois Press, 1976. Р. 305–307.
(обратно)639
Кулишер И. М. История экономического быта Западной Европы. Т. 2. М.; Л., 1931. С. 35–37.
(обратно)640
См.: Гиббинс Г. Промышленная история Англии. СПб.: Типография О. Н. Поповой, 1898. С. 101–104.
(обратно)641
Положение оказывается еще более запутанным, если вспомнить о том, что уже в XIV в., с появлением королевских армий, утратой значения феодальной конницы и фактической ликвидацией крепостничества, а также с широким развитием торговли, феодализм явно идет к закату. На это неоднократно указывали исследователи, не связанные догматическим марксизмом (см.: Wallerstein I. The Rise and Future Demise of the World Capitalist System: Concept for Comparative Analysis // Comparative Studies in Society and History. Cambridge: Cambridge University Press, 1974. Vol. 16. № 4. P. 487, 415; Dobb M. Studies in the Development of the Capitalism. London: George Routledge and Kegan Paul, 1946; Sweezu P. Criticized Dobb in The Transition from Feudalism to Capitalism // Science and Society. Vol. XIV. № 2. Spring 1950. P. 134–157; Rosenberg N., Birdzell E. L. How the West Grew Rich. New York: Basic Books Inc., Publishers, 1986. Р. 103–105).
(обратно)642
Малиновский Василий Федорович (1765–1814) – русский просветитель, публицист, теоретик международного права, с 1811 г. – первый директор Царскосельского лицея. Автор одного из первых проектов отмены крепостного права (1802), сторонник государственных преобразований М. М. Сперанского.
(обратно)643
Как указывалось выше, ускорение экономического роста в Китае эпохи Сун в XI–XIII вв., по всей видимости, было более значительным, чем в Европе того же времени. См. также: Jones E. L. Growth Recurring. Economic Change in World History. Oxford: Clarendon Press, 1988. P. 75, 76, 80.
(обратно)644
“Ареал распространения монет и предметов ремесла, находимых на Руси, фактически охватывает все страны Европы” (см.: Пашуто В. Т. Место Древней Руси в истории Европы // Феодальная Россия во всемирном историческом процессе. М.: Наука, 1972. С. 191).
(обратно)645
Гудзь-Марков А. В. История славян. М.: ВИНИТИ, 1977. С. 57. Для всех славянских языков характерны общие индоевропейские термины, обозначающие главнейшие земледельческие операции: “пахать”, “сеять”, общее индоевропейское название плуга – “орало” (см.: Покровский М. Н. Очерк истории русской культуры. 2‑е изд. Ч. 1. М.: Мир, 1917. С. 42).
(обратно)646
Гуревич А. Я. Походы викингов. М.: Наука, 1966. С. 85–87.
(обратно)647
Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в Древней Руси. 2‑е изд. М.; Пг.: Госиздат, 1923. С. 52–58.
(обратно)648
Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. С. 104–110. Константин Багрянородный сообщает, что в ноябре князья выходят со своими русами из Киева и отправляются в полюдье, т. е. круговой объезд… славян, платящих дань русам. Прокармливаясь там в течение целой зимы, они в апреле, когда растает лед на реке Днепре, снова возвращаются в Киев. О полюдье как обычае у восточных славян отправляться в конце осени – начале зимы на постой к подчиненным племенам, содержать там дружину см.: Соловьев С. М. Соч. Кн. 1: История России с древнейших времен. Т. 1–2. М.: Мысль, 1988. С. 139, 140, 215, 216.
(обратно)649
В киевский период дань взимается с покоренных племен. Со своего населения князья получают добровольные приношения – дары, подобные вайцилле в Скандинавии (см.: Кулишер И. М. История русского народного хозяйства. Т. 2. М.: Мир, 1925. С. 400, 401).
(обратно)650
Плодородные почвы степной и лесостепной полосы до XVI в. были недоступны для земледельческого освоения из-за опасного соседства со скотоводами-кочевниками.
(обратно)651
О трудности ведения сельскохозяйственного производства в России, его влиянии на специфику эволюции российских социально-экономических институтов см.: Pipes R. Russia under the Old Regime. London: Weidenfeld and Nicolson, 1974. Р. 4–6.
(обратно)652
Прокопий Кесарийский пишет: “Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве (демократии), и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается делом общим… Живут они в жалких хижинах, на большом расстоянии друг от друга, и все они часто меняют места жительства” (см.: Прокопий Кесарийский. Война с готами. О постройках. М.: Арктос, 1996. С. 250, 251).
(обратно)653
В Западной Европе нет ни одного города, который находился бы дальше чем на 300 километров от моря. Расстояние от Москвы до моря – 650 километров. Для значительной части России оно больше.
(обратно)654
О связи взятия крестоносцами Константинополя, открытия прямой морской коммуникации по Средиземному морю, закате торгового пути “из варяг в греки” и кризисе российской государственности см.: Pipes R. Russia under the Old Regime. London: Weidenfeld and Nicolson, 1974. Р. 35, 36. Впрочем, есть исследователи, считающие представление об упадке Киева после крестовых походов и прекращении торговли по пути “из варяг в греки” преувеличением (см.: Новосельцев А. П, Пашуто В. Т. Внешняя торговля Древней Руси // История СССР. 1968. № 3. С. 103, 104).
(обратно)655
Pipes R. Russia under the Old Regime. London: Weidenfeld and Nicolson, 1974. Р. 8.
(обратно)656
О тенденциях к феодализации в Древней Руси, подобных тем же тенденциям, характерным для Западной Европы, но разворачивающимся на два-три века позже, см.: Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в России. М.: Наука, 1988.
(обратно)657
Феннел Д. Кризис средневековой Руси 1200–1304. М.: Прогресс, 1989. С. 55, 56.
(обратно)658
Florinsky M. T. Russia: A History and an Interpretation. Vol. 1. New York: The Macmillan Company, 1953. P. 116–118.
(обратно)659
О связи широкого вовлечения Новгорода во внешнюю торговлю и укрепления в нем демократических институтов см.: Там же. С. 110–120.
(обратно)660
В новгородской традиции купец принимает образ эпического богатыря (см.: Костомаров Н. И. Русская республика. Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада (История Новгорода, Пскова и Вятки). М.: Чарли; Смоленск: Смядынь, 1994. С. 312, 411).
(обратно)661
“Достаточно взглянуть на рисунки московских улиц XVII в. с деревянными избами, отделенными друг от друга длинными заборами, без мостовых или, еще хуже, с тряскими мостовыми из бревен, с базарной толкотнею и вонью на главных площадях, достаточно этих иллюстраций к Олеарию или Мейербергу, чтобы прийти к заключению, что Москва, вопреки присутствию двора, оставалась огромных размеров деревней” (см.: Милюков П. Очерки по истории русской культуры. Ч. 1: Население, экономический, государственный и сословный строй. СПб.: Типография И. Н. Скороходова, 1904. С. 227).
(обратно)662
К. Леонтьев пишет: “Я хочу сказать, что Царизм наш, столь для нас плодотворный и спасительный, окреп под влиянием Православия, под влиянием Византийских идей, Византийской культуры” (см.: Леонтьев К. Восток, Россия и славянство: Сб. статей. Т. 1. М., 1885. С. 98). О влиянии идущей от Византии традиции подчинения церкви государству на эволюцию российских государственных институтов, например, см.: Florinsky M. T. Russia: A History and an Interpretation. Vol. 1. New York: The Macmillan Company, 1953. P. 126–151.
(обратно)663
В. К. Кантор отметил: “П. Я. Чаадаев писал, что беда России в принятии христианства от всеми презираемой Византии. Г. Г. Шпет поправляет Чаадаева: «От Византии было бы и неплохо, но беда не в Византии, а в провинциальном болгаро-македонском языке, на котором не было великой самобытной, тем более античной культуры»” (см.: Вестник Европы. 2004. № 14). “Нас крестили по-гречески, но язык нам дали болгарский” (Шпет Г. Г. Соч. Очерк о развитии русской философии. М.: Правда, 1989. С. 28).
(обратно)664
См.: История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма / Под ред. З. В. Удальцовой. Т. 1: Формирование феодально-зависимого крестьянства. М.: Наука, 1985. С. 328–338.
(обратно)665
Разумеется, круговая порука за уголовные преступления была хорошо известна и в Западной Европе, и на Руси до монгольского нашествия (см.: История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма / Под ред. З. В. Удальцовой. Т. 1: Формирование феодально-зависимого крестьянства. С. 451).
(обратно)666
О переписи населения татарами как предпосылке формирования упорядоченной системы налогообложения на Руси см.: Милюков П. Очерки по истории русской культуры. Ч. 1: Население, экономический, государственный и сословный строй. С. 160, 161. Монгольские представления о налогообложении всегда предполагали, что у подданных надо изымать максимум возможного. Они имеют право на жизнь лишь в том случае, если создают доходы для правителей (см.: Hartog Leo de. Russia and Mongol Yoke. London; New York: British Academic Press, 1996. Р. 55, 56, 164–166). Данные о первой татарской переписи населения российских княжеств, относящиеся к середине 40‑х годов XIII в., носят отрывочный характер. Проведенная в 1257–1259 годах перепись была частью общей программы административного упорядочения покоренных территорий. Хан Менгу велел провести поголовную перепись населения подчиненных монгольскому государству стран. В 1252 году перепись была проведена в Китае, в следующем году – в Иране. В русскую землю монгольские писцы-“численники” прибыли в 1257 году и переписали население Суздальского, Рязанского и Муромского княжеств. Не подлежало податному окладу только духовенство. В 1259 году на перепись согласился ранее сопротивлявшийся ей Новгород. О второй татарской переписи на Руси, проведенной в рамках кампаний общей переписи покоренных народов для упорядоченного обложения, см.: Соловьев С. М. Соч. Кн. 2: История России с древнейших времен. Т. 1, 2. С. 154, 155; История СССР. Первая серия. Т. I–VI. С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции. М.: Наука, 1966. С. 58, 59; Blum J. Lord and Peasant in Russia. From the Ninth to the Nineteenth Century. Some Conclusions and Generalizations. Princeton; New Jersey: Princeton University Press, 1961. P. 230–232.
(обратно)667
См.: Милюков П. Очерки по истории русской культуры. Ч. 1: Население, экономический, государственный и сословный строй. С. 142; Данилова Л. В. Сельская община в средневековой Руси. М.: Наука, 1994. С. 249, 250.
(обратно)668
Соловьев С. М. Соч. Кн. 2: История России с древнейших времен. Т. 1–2. С. 480.
(обратно)669
Каштанов С. М. Финансы средневековой Руси. М.: Наука, 1988. С. 46.
(обратно)670
Halperin Ch. G. Russia and the Golden Horde: The Mongol Impact on Medieval Russian History. Bloomington: Indiana University Press, 1985. Р. 84–90.
(обратно)671
О связи налоговых установлений Новгорода, Пскова и Вятки с традициями, перешедшими от античного полиса через северо-итальянские города, см.: Вернадский Г. В. Россия в Cредние века. М.; Тверь: Леан Аграф, 1997. С. 13–15. О влиянии германского городского права на формирование установлений в славянских городах, близких к Балтике, см.: Epstein S. R. (ed.). Town and Country in Europe, 1300–1800. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. P. 161, 162.
(обратно)672
Вряд ли к таковым можно отнести земские соборы. Это были в первую очередь совещания власти со своими представителями (см.: Ключевский В. О. Соч.: В 9 т. Т. 2: Курс русской истории. Ч. 2. М.: Мысль, 1987–1990. С. 358).
(обратно)673
“Все исследователи пореформенной сельской общины в качестве ее специфической черты отмечают наличие жесткой круговой поруки. Корни этой черты обнаруживаются уже в Средние века. Причина этого явления заключена в коллективной ответственности общины перед государством за уплату налогов и выполнение повинностей и в гарантировании каждой семье возможности вести хозяйство… Община несла коллективную ответственность за уплату налогов, отбывание повинностей, поставку рекрутов. Крестьяне сами производили раскладку оброка и разных повинностей по тяглам, мужским душам или по иным местным обычаям” (см.: Данилова Л. В. Сельская община в средневековой Руси. С. 310, 313). О монгольских переписях как основе функционирования налоговой системы Московского государства, предполагающей круговую поруку членов крестьянской общины, см.: Хромов П. А. Очерки экономики феодализма в России. М.: Госполитиздат, 1957. С. 313–321, 349.
(обратно)674
В результате возник мир, “который, в силу круговой поруки, был заинтересован в том, чтобы каждый облагался по силе и никто в «избылых» не был…А у кого в дому или в дороге в животе стали прибыли, и на того человека… дани прибавить, а у кого убыли, и с того человека убавить” (см.: Кулишер И. М. История русского народного хозяйства. Т. 2. М.: Мир, 1925. С. 410).
(обратно)675
Переделы земли в общине появляются в России впервые под влиянием налогового (тяглового) бремени и помещичьих притязаний (см.: Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в древней Руси. 2‑е изд. М.; Пг.: Госиздат, 1923. С. 49–51). Переделы земли не были исключительно российским установлением. Источники позволяют отследить переделы земли в средневековой Дании, переделы лугов в Англии XI – XII вв. Но в России они сохраняются на многие века, становятся одним из важнейших элементов организации сельского хозяйства (см.: История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма / Под ред. З. В. Удальцовой. Т. 1: Формирование феодально-зависимого крестьянства. С. 104; Т. 2: Крестьянство Европы в период развитого феодализма. М.: Наука, 1985. С. 481).
(обратно)676
Милюков П. Очерки по истории русской культуры. Ч. 1: Население, экономический, государственный и сословный строй. С. 160–162.
(обратно)677
См.: Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи. Т. 1. 3‑е изд. СПб.: Изд-во “Дмитрий Буланин”, 2003. С. 424–429, 447, 448, 461–467.
(обратно)678
Барон фон Герберштейн, посол Священной Римской империи в России во времена правления Василия III, отмечает, что власть правителя Московского государства превышает власть любых других правителей в мире, что он имеет неограниченный контроль над жизнью и собственностью всех своих подданных (см.: Herberstein S. Notes Upon Russia. Vol. 1. London: The Hakluyt Society, 1851–1852. P. 30, 32).
(обратно)679
Об аномально высокой по европейским стандартам роли государства в регулировании общественной жизни в России см.: Kahan A. The Plow, the Hammer and the Knout: An Economic History of Eighteenth Century Russia. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1985.
(обратно)680
О масштабах финансовых и экономических проблем, порожденных массовой эмиграцией на юго-восток, о запустении традиционных русских земель см.: Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в древней Руси. 2‑е изд. М.; Пг.: Госиздат, 1923. С. 40; Blum J. Lord and Peasant in Russia. From the Ninth to the Nineteenth Century. Some Conclusions and Generalizations. Princeton: Princeton University Press, 1961. P. 151–158.
(обратно)681
См.: Кулишер И. М. История русского народного хозяйства. Т. 2. М.: Мир, 1925. С. 12.
(обратно)682
История СССР. Первая серия. Т. I–VI. С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции. М.: Наука, 1966. С. 210.
(обратно)683
Кулишер И. М. История русского народного хозяйства. Т. 2. С. 10, 11.
(обратно)684
North D. C., Thomas R. P. The Rise of the Western World. Cambridge: Cambridge University Press, 1973. P. 77–79.
(обратно)685
О влиянии свободных городов в Западной Европе на разную эволюцию обложения крестьянства и об их отсутствии или слабости в Bосточной Европе начиная с XIV–XVI вв. см.: Blum J. Lord and Peasant in Russia. From the Ninth to the Nineteenth Century. Some Conclusions and Generalizations. Princeton; New Jersey: Princeton University Press, 1961. P. 270–275.
(обратно)686
В Великом княжестве Литовском указ 1447 года запретил перемещение крестьян с частных земель на государственные. Это был первый шаг к закрепощению (см.: Вернадский Г. В. Россия в Cредние века. С. 16, 17).
(обратно)687
См.: Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Время мира. Т. 3. М.: Прогресс, 1992. С. 459, 460.
(обратно)688
Иван IV хорошо представлял себе уровень технического отставания России от Западной Европы, необходимость привлечения технических специалистов всех типов: инженеров, мастеров горного дела, врачей, архитекторов, ювелиров. Ганзейская лига с настороженностью воспринимала подобные инициативы, она потребовала от властей Любека запрета на отправку технических специалистов в Москву. В основе этого решения был страх, что распространение технических знаний в России усилит это царство в экономическом и военном отношении. Польское правительство также направило в 1553 году специальных посланников к императору и Папе Римскому, с тем чтобы предотвратить возможность использования Москвой западных инноваций (см.: Вернадский Г. В. Московское царство. Ч. 1. М.; Тверь: Леан Аграф, 1997. С. 64, 65).
(обратно)689
С одной стороны, приходилось приглашать иностранных мастеров, зодчих, переводчиков, всячески развивать экономические и политические связи с близи далеколежащими странами. С другой – всеми мерами оберегать крепнущее российское самодержавие и православие от «реформ» и влияния западной цивилизационной политической и религиозной «скверны» в лице представительных органов, церковной и реформационных идей и т. д.” (см.: Россия в начале XX века / Под ред. А. Н. Яковлева. М.: Новый хронограф, 2002. С. 14).
(обратно)690
Об отличии российских городов от западноевропейских представлений, о том, что такое город, см.: Ключевский В. О. Сказание иностранцев о Московском государстве. Пг., 1918. С. 8, 212–252; White C. Russia and America: The Roots of Economic Divergence. London; New York; Sydney: Croom Helm, 1987. P. 33, 34.
(обратно)691
Один из великих ученых Европы – Лейбниц – полагал, что будущее России – превращение ее в колонию Швеции (см.: Молчанов Н. Н. Дипломатия Петра Первого. М.: Международные отношения, 1986. С. 428).
(обратно)692
См.: Россия и мировая цивилизация. К 70-летию члена-корреспондента РАН А. Н. Сахарова. М.: Институт российской истории, 2000. С. 169.
(обратно)693
См.: Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи. Т. 2. СПб.: Изд-во “Дмитрий Буланин”, 2003. С. 301.
(обратно)694
См.: Там же. С. 316.
(обратно)695
О влиянии политических катаклизмов, в первую очередь Великой французской революции, на внутреннюю политику России, растущую подозрительность к приходящим из Европы идеям, институтам и образованию см.: Скабичевский А. М. Очерки истории русской цензуры (1700–1893 гг.). СПб., 1892.
(обратно)696
О политике Николая I Ф. Тютчев писал: “Для того, чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость этого злосчастного человека, который в течение своего тридцатилетнего царствования, находясь постоянно в самых выгодных условиях, ничем не воспользовался и все упустил, умудрившись завязать борьбу при самых невозможных обстоятельствах” (см.: Тютчев Ф. И. Собр. соч.: В 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 176).
(обратно)697
По расчетам Д. Муна, переобложение крестьян после реформы 1861 года, в результате включения в выкупные платежи фактора личной свободы, не связанного с качеством земли, составляло 90 % в нечерноземных губерниях России и 20 % в черноземных (см.: Moon D. The Russian Peasantry, 1600–1930: The World the Peasant Made. London; New York: Longman, 1999. P. 111, 112). И. Ковальченко и Л. Милов показывают, что к 1879 году цены на землю выросли до уровня более высокого, чем тот, на котором основывались выкупные платежи (см.: Ковальченко И. Д., Милов Л. В. Всероссийский аграрный рынок XVIII – начала XIX в. М.: Наука, 1974. С. 257, 258). Однако это один из примеров того, что восприятие происходившего обществом, в том числе крестьянством, нередко оказывается намного важнее, чем реальное развитие событий.
(обратно)698
Реальные возможности общины удерживать своих членов от миграции в город были ниже тех, которые определялись формально действующим законодательством (см.: Gatrell P. The Tsarist Economy 1850–1917. New York: St. Martin’s Press, 1986; Kahan A. The Plow, the Hammer and the Knout: An Economic History of Eighteenth Century Russia. Chicago: Chicago University Press, 1985).
(обратно)699
Timasheff N. The Great Retreat: The Growth and Decline of Communism in Russia. New York: Dutton & Co., 1946. P. 29.
(обратно)700
См.: Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX – начало XX в.): Новые подсчеты и оценки / Пер. с англ. И. Кузнецова, А. и Н. Тихоновых. М.: РОССПЭН, 2003.
(обратно)701
Автор одного из интересных исследований, посвященных ревизии укоренившихся представлений о кризисе дворянского хозяйства в конце XIX – начале XX в., С. Беккер пишет: “Не только русские писатели и драматурги описывали трансформацию дворянства в терминах упадка, происходящего от неадекватности дворянства новым условиям. Экономисты, политические обозреватели и публицисты того времени независимо от своих одобрительных или отрицательных оценок этого процесса описывали его совершенно так же” (см.: Беккер С. Миф о русском дворянстве: Дворянство и привилегии последнего периода императорской России / Пер. с англ. Б. Пинскера. М.: Новое литературное обозрение, 2004. C. 13).
(обратно)702
Volin L. A Century of Russian Agriculture: From Alexander II to Khrushchev. Cambridge: Harvard University Press, 1970. P. 58.
(обратно)703
О сходстве структурных изменений в России в 1870–1913 годы, предшествовавших началу Первой мировой войны, с тенденциями, характерными для индустриально развитых стран, с отставанием на несколько десятилетий, см.: Gregory P. R. Russian National Income, 1885–1913. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. P. 193.
(обратно)704
О начале нового типа экономического роста см.: Gerschenkron A. Economic Backwardness in Historical Perspective. A Book of Essays. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1962. источник: Расчет по: Maddison A. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OECD, 1995.
(обратно)705
В экономической политике России с середины – конца XIX в. видны следы борьбы либерально-идеологической волны, характерной для первой половины века, и постепенного усиления протекционистских тенденций. Средний тариф сокращается с 17,6 % в 1857–1868 годах до 12,8 % в 1869–1876 годах. Но затем происходит перелом. К 1891–1900 годам средний тариф возрастает до 33 % (см.: Сборник сведений по истории и статистике внешней торговли России / Под ред. B. И. Покровского. Т. 1. СПб., 1902. С. XXXIII; Хромов П. А. Экономическое развитие России в XIX–XX веках. 1800–1917. М.: Госполитиздат, 1950. С. 427).
(обратно)706
См.: Хромов П. А. Экономическое развитие России в XIX–XX веках. 1800–1917. C. 163, 179. О темпах экономического роста России между началом 1880 и 1914 годом см. также: Goldsmith R. The Economic Growth of Tsarist Russia, 1860–1913 // Economic Development and Cultural Change. 1961. Vol. 9 (3). P. 443; Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX – начало XX в.): Новые подсчеты и оценки / Пер. с англ. И. Кузнецова, А. и Н. Тихоновых. М.: РОССПЭН, 2003. С. 23, 24.
(обратно)707
См.: Прокопович С. Н. Опыт исчисления народного дохода 50 губерний Европейской России в 1900–1913 гг. М., 1918. C. 67, 68.
(обратно)708
“С 1887 по 1914 г. городское население России увеличилось почти на 10 млн человек, в основном это было пришлое крестьянство. Начался исход многомиллионного крестьянского российского населения в города. Следствием этого было не только изменение соотношения городского и сельского населения, но и прежде всего превращение на десятилетия жителей городов в носителей деревенских культурных традиций…” (см.: Россия в начале XX века / Под ред. А. Н. Яковлева. М.: Новый хронограф, 2002. С. 22). В России, как и в других странах, проходящих ранний этап индустриализации, уровень преступности после освобождения крестьян и начала современного экономического роста возрастает. Среднегодовое число совершенных преступлений в 1911–1913 годах примерно в 3 раза превышает уровень 1851–1860 годов (см.: Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи. Т. 2. СПб.: Изд-во “Дмитрий Буланин”, 2003. С. 84).
(обратно)709
Как справедливо писал А. Гершенкрон: “Индустриализация, издержки которой ложились в первую очередь на крестьянство, сама по себе была угрозой политической стабильности и в связи с этим продолжению политики индустриализации” (см.: Gerschenkron A. Economic Backwardness in History Perspective. Cambridge, 1962. P. 130).
(обратно)710
“Но в условиях традиционного доминирования социалистической идеи в умах радикальной оппозиции борьба за «европеизацию» России была воспринята ею главным образом как марксистское учение. В немалой степени этому способствовали успехи международного социал-демократического движения, в котором русские радикалы видели доказательство правоты марксизма. Социал-демократизм привлекал не только надеждой на победу идеала социальной справедливости в будущем, но и его реальными достижениями в борьбе с социальным эгоизмом буржуазного общества, за гражданское равенство в Западной Европе (трудовое законодательство, профсоюзы, социальные и политические права для широких трудящихся масс). Социал-демократическое движение стало существенным фактором дальнейшей демократизации западноевропейского общества, и это не могло пройти мимо внимания нового поколения российской радикальной интеллигенции” (см.: Драма российской истории: большевики и революция / Под ред. А. Н. Яковлева. М.: Новый хронограф, 2002. С. 33, 34).
(обратно)711
“Возникали новые города, пусть и не сразу признаваемые властями и статистикой. Развивалась промышленность, на место ярмарок приходили товарные и фондовые биржи, рос банковский капитал. Увеличивалось и связанное с новыми видами деятельности городское население” (см.: Вишневский А. Г. Серп и рубль: консервативная модернизация в СССР. М.: ОГИ, 1998. С. 84).
(обратно)712
См.: Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX – начало XX в.): Новые подсчеты и оценки / Пер. с англ. И. Кузнецова, А. и Н. Тихоновых. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003. С. 148, 149; Струмилин Г. С. Очерки экономической истории России и СССР. М., 1966. С. 91–94.
(обратно)713
За годы столыпинских реформ было организовано около 1,6 млн хуторов, сокращена чересполосица (см.: Першин Н. П. Участковое землепользование в России. Хутора и отруба, их распространение за десятилетие 1907–1916 гг. и судьба во время революции (1917–1920 гг.). М., 1922. С. 46, 47).
(обратно)714
См.: Мау В. Посткоммунистическая Россия в постиндустриальном мире // Вопросы экономики. 2002. № 7.
(обратно)715
В. И. Ленин накануне февральских событий 1917 года говорил: “Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции” (см.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5‑е изд. Т. 30. М.: Госполитиздат, 1969. С. 328).
(обратно)716
В этой работе пытаюсь уйти от того, что связано с собственной политической деятельностью. Но в данном случае, как активный участник событий 1991–1993 годов в России, убежден в справедливости сказанного выше. – Е. Г.
(обратно)717
“Охрана личности исчезла вовсе… Грабежи сделались бытовым явлением… Личной неприкосновенности в смысле права граждан и ограничения для власти нет и следа. Жандармские обыски и охранные аресты былого времени – верх правомерных действий, сравнительно с обысками, проводимыми по ордерам советской власти” (см.: Вестник Европы. 1918. Январь – апрель. С. 380).
(обратно)718
“Практическая мудрость народа состоит именно в том, чтобы не искать политической власти, чтобы как можно меньше мешаться в общегосударственные дела. Чем ограниченнее круг людей, мешающихся в политику, тем эта политика тверже, толковее, тем самые люди даже всегда приятнее, умнее” (см.: Леонтьев К. Восток, Россия и славянство: Сб. статей. Т. 1. М., 1885. С. 104).
(обратно)719
Письмо Ф. Энгельса А. Бебелю // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 34. М.: Госполитиздат, 1964. С. 130.
(обратно)720
“Вся современная материальная и духовная культура тесно связана с капитализмом: она выросла или вместе с ним или на его почве. Мы же, ослепленные каким-то непомерным национальным тщеславием, мним заменить трудную культурную работу целых поколений, суровую борьбу общественных классов, экономических сил и интересов построениями нашей собственной «критической мысли», которая открыла трогательное совпадение народно-бытовых форм со своими собственными идеалами” (см.: Струве П. Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России. СПб.: Типография И. Н. Скороходова, 1894. С. 288).
(обратно)721
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 19. М.: Госполитиздат, 1961. С. 250, 251.
(обратно)722
Там же. С. 119–121.
(обратно)723
“Община спасла русский народ от монгольского варварства и от императорской цивилизации, от выкрашенных по-европейски помещиков и от немецкой бюрократии. Общинная организация, хоть и сильно потрясенная, устояла против вмешательств власти; она благополучно дожила до развития социализма в Европе. Это обстоятельство бесконечно важно для России” (Герцен А. И. Соч. Т. 2. М.: Мысль, 1986. С. 168).
(обратно)724
“С того момента, что обнаружилось превосходство железных дорог, в качестве фактора социально-экономической эволюции, над критически мыслящей интеллигенцией и даже – увы! – над общиной, – с этих пор продолжать спор об экономическом развитии России, опираясь на письмо Маркса, не имеет ни малейшего смысла” (см.: Струве П. Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России. С. 180). О дебатах между народниками и марксистами по вопросу о стратегии социально-экономического развития России и ее роли в стимулировании модернизационных усилий правительства см.: Gerschenkron A. Europe in the Russian Mirror. Cambridge: Cambridge University Press, 1970. P. 2–5.
(обратно)725
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 22. М.: Госполитиздат, 1962. С. 445.
(обратно)726
“Предоставленный своим собственным силам рабочий класс России будет неизбежно раздавлен контрреволюцией в тот момент, когда крестьянство отвернется от него. Ему ничего другого не останется, как связать судьбу своего политического господства и, следовательно, судьбу всей российской революции с судьбой социалистической революции в Европе” (см.: Троцкий Л. Д. Итоги и перспективы // Троцкий Л. Д. Перманентная революция. Cambridge, MA: Iskra Research, 1995. Р. 176). А. А. Иоффе в своем предсмертном письме Л. Д. Троцкому пишет:
“Вы политически всегда были правы начиная с 1905 года, и я неоднократно Вам заявлял, что собственными ушами слышал, как Ленин признавал, что и в 1905 году не он, а Вы были правы. Перед смертью не лгут, и я еще раз повторяю Вам это теперь” (см.: Иоффе А. А. Предсмертное письмо Л. Д. Троцкому от 16 ноября 1927 г. // Иоффе Н. Мой отец А. А. Иоффе: Воспоминания, документы и материалы. С. 111). Концепция Троцкого формировалась под сильным влиянием Парвуса (см.: Парвус. Россия и революция. СПб.: Изд-во Н. Глаголева, 1910). Л. Троцкий говорил, что работы Парвуса превратили для него “завоевание власти пролетариатом из астрономической (конечной) цели в практическую задачу нашего времени” (см.: Троцкий Л. Д. Моя жизнь. Т. 1. М., 1990. С. 193).
(обратно)727
Троцкий Л. Д. Перманентная революция. C. 300; Люксембург Р. О социализме и русской революции: избранные статьи, речи, письма. М: Политиздат, 1991. P. 92, 134, 135. Выступая на IV съезде РСДРП, Ленин утверждает, что в случае победы революции в России “единственная гарантия от реставрации – социалистический переворот на Западе” (см.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 10. М.: Госполитиздат, 1967. С. 362).
(обратно)728
См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 36. М.: Госполитиздат, 1962. С. 10, 97, 252; Т. 38. С. 306; Т. 41. С. 47, 48.
(обратно)729
Кубинская революция 1959 года первоначально не была социалистической по содержанию, ее лидеры не ставили задачи демонтажа капитализма и построения социализма. Речь шла о свержении коррумпированного авторитарного режима и земельной реформе. Лишь впоследствии под влиянием нарастающей конфронтации с США и вынужденного сближения с СССР политическая риторика и практика стали социалистическими. Разумеется, и по этому вопросу в литературе существует дискуссия. Есть авторы, доказывающие, что, хотя Ф. Кастро не высказывал открыто в 1950‑х годах марксистских взглядов, его целью с самого начала было построение социализма на Кубе. Однако в таких построениях слишком много произвольных допущений, чтобы они могли быть убедительны. Подробное изучение доступных и достоверных источников по этому вопросу такие гипотезы не подтверждает (см.: Cordova E. Castro and the Cuban Labor Movement. Lanham; New York; London: University Press of America, 1987).
(обратно)730
* По России данные за 1913 год.
(обратно)731
Буржен Ж. История коммуны. Л.: Прибой, 1926; Браславский И. История Парижской коммуны 1871 г. М.: Новая Москва, 1925; Mitchell A. Revolution in Bavaria 1918–1919. The Eisner Regime and the Soviet Republic. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1965; Немеш Д. Венгрия в годы контрреволюции 1919–1921. М.: Прогресс, 1964; Buckley H. Life and Death of the Spanish Republic. London: Hamish Hamilton, 1940.
(обратно)732
Пример событий, в ходе которых разделяющие марксистскую идеологию и ориентированные на построение социализма политические силы были близки к захвату власти в условиях, не соответствующих этим критериям, – революция 1974–1976 годов в Португалии (душевой ВВП в международных долларах 1990 года – 7324, доля занятых в сельском хозяйстве – 30 %). То, что, несмотря на дезорганизацию, связанную с крахом авторитарного режима, им это не удалось сделать, – подтверждение того, что время подобных экспериментов прошло. О революции в Португалии cм.: Ferreira H. G., Marshall M. W. Portugal’s Revolution: Te n Years On. Cambridge: Cambridge University Press, 1986; Rady D. L. Fascism and Resistance in Portugal: Communists, Liberals and Military Dissidents in the Opposition to Salazar, 1941–1974. Manchester: Manchester University Press, 1988; Porch D. The Portuguese Armed Forces and the Revolution. London; Stanford: Croom Helm / Hoover Institution Press, 1977.
(обратно)733
* Данные по Германии.
(обратно)734
Куба и здесь очевидное исключение.
(обратно)735
К. Маркс хорошо понимал значение позиции крестьянства для судьбы Парижской коммуны, необходимость учета интересов крестьян для обеспечения ее победы (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 17. М.: Госполитиздат, 1960. С. 348, 359, 555, 557, 565). Но его надеждам не суждено было сбыться. А. Молок, один из советских исследователей Парижской коммуны, писал: “Парижская коммуна 1871 года, эта первая революция, совершенная пролетариатом, погибла именно потому, что не смогла привлечь на свою сторону крестьянские массы Франции, которые позволили и помогли буржуазии задушить восставший город”. И далее:
“Деревня послала в Собрание заведомых монархистов (легитимистов, орлеанистов и даже бонапартистов), прикрывавших свои реакционные вожделения столь приятным крестьянскому сердцу лозунгом «мира во что бы то ни стало». В Национальном собрании на 750 депутатов оказалось 450 монархистов, из них два принца орлеанского дома. Нетрудно было предвидеть, на чью сторону станет крестьянство в назревающем конфликте между пролетарским Парижем и буржуазно-помещичьей палатой в Версале” (см.: Молок А. Парижская коммуна и крестьянство: проб лема смычки города и деревни в революцию 1871 года. М.; Л.: Госиздат, 1925. С. 5, 24, 25).
Еще один из советских исследователей истории Парижской коммуны, И. Браславский, с нескрываемым раздражением пишет о неготовности французских крестьян, получивших после революции 1789 года землю, поддержать коммунаров в их социалистических экспериментах. “Крестьянство, протоптавшее дорогу империи, давшее Наполеону III большинство во время знаменитого плебисцита, пославшее затем, после переворота 4 сентября 1870 г., 400 монархистов, было совершенно далеко от мысли поддержать Парижскую коммуну и ее программу подлинной демократической и социальной республики. Получив после революции 1789 года землю, крестьянство крепко держалось за нее. Отныне революции, восстания и мятежи были для мелко-собственнического французского крестьянина страшным признаком нарушения его прав на свою собственность, и он их боялся” (см.: Браславский И. История Парижской коммуны 1871 г. М.: Новая Москва, 1925. С. 76, 77).
(обратно)736
См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. М.: Госполитиздат, 1968. Т. 20. С. 219; Т. 35. С. 261.
(обратно)737
В. Ленин давно оценил революционный потенциал антипомещичьих настроений крестьянства. В 1905 году он выразил сожаление, что “крестьяне уничтожили тогда только пятнадцатую долю общего количества дворянских усадеб, только пятнадцатую часть того, что они должны были уничтожить, чтобы до конца стереть с лица русской земли позор феодального крупного землевладения” (см.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. М.: Госполитиздат, 1969. Т. 30. С. 322).
(обратно)738
Г. Зиновьев писал о том, что “важнейшим вкладом В. Ленина в революционную теорию и практику было его отношение к крестьянству”. Он считал, что это было величайшим открытием Ленина: союз рабочей революции и крестьянской войны (см.: Зиновьев Г. В. И. Ульянов. Очерк жизни и деятельности. П., 1918. С. 56–57).
(обратно)739
Как писал один из большевистских интеллектуалов, Л. Крицман, “в дни октябрьского переворота русский пролетариат выступил не с пролетарской, а с крестьянской аграрной программой – в сельском хозяйстве произошла не пролетарская, а крестьянская экспроприация экспроприаторов, раздел не только земли феодалов, но и капиталистического некрестьянского сельского хозяйства (хотя и не в собственность, а в пользование крестьянской мелкой буржуазии)” (см.: Крицман Л. Героический период Великой русской революции. М.: Госиздат, 1924. С. 43). Крестьянство получило более 150 млн га новых земель, принадлежавших ранее помещикам, буржуазии, царской семье, монастырям, церквам. В дальнейшем в силу уравнительного передела крестьянским беднякам отошло 50 млн га земель зажиточных крестьян (см.: Малафеев А. Н. История ценообразования в СССР (1917–1963 гг.). М.: Мысль, 1964. С. 22). “Главные социальные лозунги революции есть не что иное, как призыв к «черному переделу». В них нашел свое выражение традиционный крестьянский принцип – «земля принадлежит тем, кто ее обрабатывает», видоизмененный в новых условиях в «собственность принадлежит трудящимся»” (см.: Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи. Т. 2. СПб.: Изд-во “Дмитрий Буланин”, 2000. С. 297).
(обратно)740
В. Ленин, хорошо знавший историю Парижской коммуны, не собирался повторить опыт ее руководителей, подорвать возможный союз с крестьянством, желавшим, как и во Франции в 1871 году, мира на любых условиях. Он решительно и последовательно принял крестьянскую программу, включавшую мир любой ценой.
(обратно)741
И после революции в России Л. Троцкий продолжает отстаивать сформулированную им в 1905 году позицию о российской революции как детонаторе общеевропейской. Он пишет, что социализм в производственно-техническом отношении должен представлять собой более высокую по сравнению с капитализмом стадию развития. Стремиться построить национально замкнутое социалистическое общество – значит тянуть производительные силы назад, в докапиталистическую эпоху. Отсюда вывод: если построить социализм в отдельно взятой стране невозможно, а попытки сделать это неизбежно приведут к нарастающему отставанию от капиталистических стран и краху социалистического эксперимента, значит, единственная осмысленная стратегия – ждать революции на Западе и всячески ей способствовать (см.: Троцкий Л. Д. Перманентная революция. Cambridge: Iskra Research, 1995. P. 216, 217). На все эти аргументы не слишком искушенный в марксистской ортодоксии, но хорошо понимающий логику практической политики И. Сталин отвечает: “А как быть, если международной революции суждено прийти с опозданием? Есть ли какой-либо просвет для нашей революции? Троцкий не дает никакого просвета, ибо «противоречия в положении рабочего правительства… смогут найти свое разрешение только… на арене мировой революции пролетариата». По этому плану для нашей революции остается лишь одна перспектива: прозябать в своих собственных противоречиях и гнить на корню в ожидании мировой революции” (см.: Сталин И. В. Соч. Т. 6. М.: Госполитиздат, 1954. С. 368).
(обратно)742
См.: Собрание узаконений и распоряжений, издаваемых при правительствующем Сенате. 1916. № 250. Ст. 1952.
(обратно)743
См.: Черноморец С. А. Организация продовольственного снабжения в 1917–1920 годы. Саратов, 1986. С. 36.
(обратно)744
См.: Собрание узаконений и распоряжений, издаваемых при правительствующем Сенате. 1916. № 338. Ст. 2696.
(обратно)745
Гимпельсон Е. Г. “Военный коммунизм”: политика, практика, идеология. М.: Мысль, 1973. С. 56. О неэффективности усилий Временного правительства наладить изъятие продовольствия у крестьян см. также: Лозинский З. Экономическая политика Временного правительства. Пг., 1928.
(обратно)746
См.: Центральный Государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР). Ф. 130. Оп. 2. Д. 268. Л. 105.
(обратно)747
Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам. Т. 1. М., 1957. С. 52–54.
(обратно)748
Лященко П. История народного хозяйства СССР. Т. 3. М., 1956. С. 115; Малафеев А. Н. История ценообразования в СССР (1917–1963 гг.). М.: Мысль, 1964. С. 22.
(обратно)749
Известия ЦК ВКП (б). 1920. № 21; Гимпельсон Е. Г. “Военный коммунизм”: политика, практика, идеология. С. 58, 59.
(обратно)750
О формировании и функционировании системы продразверстки во время Гражданской войны см.: Шлихтер А. Г. Задачи советской продовольственной политики. Киев, 1919; Свидерский А. И. К продовольственным итогам // Экономическая жизнь. 1919. № 250; Якубов А. С. Продовольственный вопрос в Советской России // Известия Саратовского губернского продовольственного комитета. 1918. № 24; Орлов Н. Система продовольственных заготовок. Тамбов, 1920. Из более поздних работ, уже не принадлежащих непосредственным участникам событий, одной из наиболее развернутых является работа: Давыдов М. И. Борьба за хлеб. М., 1971. Разумеется, идеологическая направленность подобных публикаций, изданных в СССР, была жестко заданной.
(обратно)751
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 39. М.: Госполитиздат, 1970. С. 357.
(обратно)752
Съезды Советов в документах. 1917–1936. Т. 1. М., 1959. С. 136.
(обратно)753
Красная газета. 1921. 10 авг.
(обратно)754
IХ Всероссийский съезд Советов: Стенографический отчет. 1921. C. 4.
(обратно)755
Назаров О. Г. Сталин и борьба за лидерство в большевистской партии в условиях нэпа. М., 2000. С. 10.
(обратно)756
См. в гл. 5 о реформах Хасана в Иране.
(обратно)757
Н. Федоренко указывал: “По данным ЦСУ, в результате голода 1921–1922 гг. Россия потеряла 5053 тыс. человеческих жизней” (см.: Федоренко Н. Россия на рубеже веков. М., 2003. С. 178).
(обратно)758
Доля поземельного налога и платежей за землю в доходе крестьянских хозяйств сократилась с 9,5 % в 1913 году до 4,9 % в 1926–1927 годах (см.: Davis R. (ed.) From Tsarism to the New Economic Policy. New York: Cornell University Press, 1990).
(обратно)759
В 1913 году из деревни уходило 22–25 % производимого в ней продовольствия, в середине 1920‑х годов – 16–17 %.
(обратно)760
См.: Lewin M. Russian Peasants and Soviet Power. London: Allen & Unwin, 1968.
(обратно)761
В 1928 году 5,5 млн крестьянских хозяйств по-прежнему использовали соху. Половину урожая убирали серпом или косой (см.: Nove A. An Economic History of the USSR, 1917–1991. London: Penguin Books, 1992. P. 102).
(обратно)762
Из выступления А. Микояна: “В частности, у Бухарина в 1925 году были опасные шатания в крестьянском вопросе и грубые ошибки. Тогда мы уговорили Бухарина исправить свои ошибки, в частности, в отношении его лозунга «Обогащайтесь!». Относительно этого лозунга у него было специальное заявление, где он признал свою ошибку” (см.: Как ломали НЭП: Стенограммы пленумов ЦК ВКП (б) 1928–1929 гг. / Под ред. А. Н. Яковлева. Т. 4. М.: МФД, 2000. С. 240, 241).
(обратно)763
“Важнейшим моментом в предвыборной кампании текущего года явилась работа избиркомов по составлению списков лиц, лишенных избирательных прав… Увеличение числа лишенцев. Применение новой инструкции по перевыборам дало повсеместно значительное увеличение числа лиц, лишенных избирательных прав, по сравнению с прошлым годом в два и более раз. Так, по 8 уездам Воронежской губ. лишено избирательных прав 34 247 человек против 11 644 в прошлом году, по Самарской губ. увеличение по волостям составляет… Лишение избирательных прав части середняков. Наибольшее число ошибок в работе избиркомов в деревне связано с неправильным толкованием тех пунктов инструкции, которые говорят о лишении избирательных прав лиц, имеющих основной источник дохода от эксплуатации наемной рабсилы, эксплуатации сельхозмашин в чужом хозяйстве на кабальных условиях, от торговли и аренды на кабальных условиях земли. Под эту категорию по многим губерниям и округам Союза нередко попадали крестьяне-середняки. Так, в с. Ровное-Владимирское Самарской губ. сельизбирком, состоящий из бедноты, лишил прав всех, «кто имел наемную силу, хотя бы и временную», «как эксплуататоров». Во Владимирской губ. во Второвской вол. сельизбиркомы получили разъяснение от представителя уизбиркома о том, что все крестьяне и члены их семей, имеющие сельхозмашины, лишаются избирательных прав. Во многих случаях лишались избирательных прав бедняки и середняки, занимавшиеся кратковременно торговлей в ничтожных размерах и ввиду крайней нужды… Лишение избирательных прав части интеллигенции. В ряде случаев отмечалось массовое лишение избирательных прав сельской интеллигенции. Так, в Рязанской губ. отмечен ряд случаев лишения избирательных прав сельских учителей; в Раненбургском у. член уизбиркома (член ВКП) издал «практическое руководство сельуполномоченным» по применению инструкции, в котором указывает, что «учителей – детей попов надо лишать избирательных прав…»” (см.: Фрагмент обзора политического состояния СССР за январь 1927 г. (по данным Объединенного государственного политического управления)). Выборы сельсоветов (см.: “Совершенно секретно”: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 гг.). Т. 5. 1927 г. М., 2003. С. 31–33).
(обратно)764
“Теперь посмотрим, как должен рассуждать крестьянин, который не из любви к социализму заключает с нами блок. Мы говорим ему: расширяй яровой клин, а он говорит: знаю я, я расширю, а придет время – будут введены чрезвычайные меры и все у меня отберут. Вы говорите о повышении техники, об очистке семян и т. д., а он говорит: прекрасно, я буду расширять, очищать, а вы придете и отберете” (см.: Как ломали НЭП: Стенограммы пленумов ЦК ВКП (б) 1928–1929 гг. / Под ред. А. Н. Яковлева. Т. 4. С. 179). Из письма Н. Фрумкина в ЦК КПСС от 15 июня 1928 года: “Всякий стимул улучшения живого и мертвого инвентаря, продуктивного скота парализуется опасением быть зачисленным в кулаки. В деревне царит подавленность, которая не может не отразиться на развитии хозяйства” (см.: Там же. Т. 2. С. 11).
(обратно)765
Выступая на 14-й конференции ВКП (б), один из партийных интеллектуалов – Ю. Ларин говорит: “Тов. Бухарин… требует от нас признания, что мы никогда, т. е. ни через 15, ни через 20 лет, не конфискуем, не экспроприируем кулаков, полупомещиков, буржуазные верхи, которые начинают в деревне образовываться и образуются и у которых насчитывается 4–5–10 и больше рабочих… Но можно ли дать присягу, что через 15–20 лет мы никоим образом не экспроприируем кулаков в деревне? Такую присягу дать мы можем так же мало, как мы можем дать ее и частному капиталисту в городе. Мы разрешили фабриканту иметь фабрику, но и мы, и он великолепно знаем, что со временем будет социалистический строй до конца и мы его фабрику конфискуем” (см.: Четырнадцатая конференция Российской Коммунистической партии (большевиков). М.: Госиздат, 1925. С. 141, 142).
(обратно)766
“Частник шел в торговлю потому, что минимальные размеры капитала, который может быть приложен в торговле, особенно розничной, весьма невелики и для него вполне доступны, оборачиваемость капитала в торговле весьма высока, прибыли большие, а коммерческий и иного рода риск наименьший” (см.: Малафеев А. Н. История ценообразования в СССР (1917–1963 гг.). С. 85).
(обратно)767
“Зачастую выступления по вопросу о «ножницах» отражали антагонизм к городу, выливаясь в жалобы на лучшее экономическое положение рабочих. «Рабочие живут гораздо лучше, чем крестьяне. Придет время, когда мы, крестьяне, пойдем разбивать сундуки у рабочих, так как они живут лучше крестьян». «Рабочие ходят чисто и власть в своих руках держат, а наш брат работай день и ночь – хлебушко заготавливай, да за бесценок его государству отдавай». «Рабочий – барин, мужик – рабочий» и т. д.”: Фрагмент обзора политического состояния СССР за февраль 1927 г. (по данным Объединенного государственного политического управления) (см.: “Совершенно секретно”. Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 гг.). Т. 5. 1927 г. С. 146).
(обратно)768
См.: Юровский Л. Н. Денежная политика Советской власти (1917–1927): Избр. статьи. М.: Начала-Пресс, 1996. История конфликта Наркомфина и Госплана подробно описана в работе: May В. А. Реформы и догмы (1914–1929). М.: Дело, 1993. С. 137–152.
(обратно)769
“Завоз хлебопродуктов по ряду промышленных районов совершенно недостаточен. План урезывают на 50 и более процентов… Хлеб выдается только на один день, вследствие чего рабочим приходится ежедневно стоять в очереди. Были случаи, когда черный и белый хлеб выдавался в разные часы и приходилось поэтому стоять в очереди по два раза (Ярославская губ.)… Перебои в снабжении продуктами по ряду рабочих районов (Москва, Иваново-Вознесенская, Владимирская, Костромская губернии, Урал) носят затяжной характер. Недостаточен завоз муки, сахара, масла, а также товаров: мануфактуры, обуви и т. п. (по Москве отмечается недостаток муки, мыла, чая). В некоторых районах снабжение хлебопродуктами совершенно неудовлетворительно (Иваново-Вознесенская, Владимирская губернии). В Иваново-Вознесенской губ. в г. Тейкове (более 8000 рабочих) хлеб не выдавался в течение 11 дней. В г. Кохме ржаная мука выдавалась только по особому разрешению правления, по 1 ½ кг на едока… В декабре были серьезные перебои с хлебом по ряду крупнейших промышленных центров: в Москве, Баку, Харькове, Днепропетровске, Брянске. В Москве к 15 декабря очереди за хлебом выросли до 400–500 человек. Вследствие значительного перерасхода муки в ноябре месяце план хлебоснабжения Москвы на декабрь был незначительно сокращен… Серьезные конфликты на почве продзатруднений были в ряде небольших городов, получающих хлебопродукты в последнюю очередь. Особенно крупные конфликты были среди групп населения, снятых с планового снабжения (служащие, кустари, обыватели)” (см.: “Совершенно секретно”: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 гг.). Т. 6. 1928. С. 40, 460, 461, 614, 615).
(обратно)770
Вайнштейн А. Л. К критике пятилетнего перспективного плана развертывания народного хозяйства СССР // Экономическое обозрение. 1927. № 7. С. 64, 65.
(обратно)771
Из выступления заместителя наркома РКИ Я. А. Яковлева на пленуме ЦК ВКП (б) 4–12 июля 1928 года: “Если же рассматривать предложения тов. Осинского в целом как взаимно увязанную программу действий, то придется признать, что у тов. Осинского получилась программа, чересчур похожая, весьма подозрительно похожая на то, что мы недавно читали в кондратьевском ежегоднике Конъюнктурного института Наркомфина, теперь закрытого. В самом деле, возьмите его программу в целом. Из чего она складывается: во-первых, решительно сократить перекачку средств из текстильной промышленности на нужды тяжелой индустрии, т. е. отказаться от форсирования развития тяжелой индустрии; во-вторых, решительное сокращение санаториев – под этим «скромным» предложением скрыто изложенное в ежегоднике кондратьевского института предложение о сокращении заработной платы; в-третьих, привлечение иностранного капитала; в-четвертых, более решительное, чем это предполагается Центральным Комитетом, повышение цен на продукты сельского хозяйства (что означает также в конечном счете ослабление одного из имеющих пока что огромное значение источников финансирования промышленности) и, в-пятых, намеки насчет того, что не надо преувеличивать значения классового момента в наших затруднениях… Вы найдете в кондратьевском ежегоднике каждое предложение тов. Осинского и всю систему этих предложений в целом” (см.: Как ломали НЭП: Стенограммы пленумов ЦК ВКП (б) 1928–1929 гг. / Под ред. А. Н. Яковлева. Т. 2: Пленум ЦК ВКП (б) 4–12 июля 1928 г. М.: МФД, 2000. С. 320).
(обратно)772
“«Лишенцы» в текущую кампанию проявили большую активность в стремлении восстановиться в избирательных правах. Многие из кулаков занимались подкупом и подпаиванием членов избиркомов, апеллировали к бедноте, старались всячески доказать, что они являются «трудовыми хозяевами». С этой целью кулаки производили фиктивные разделы имущества, маскируясь под середняка. Характерно, что местами кулаки-«лишенцы», ранее занимавшиеся систематической антисоветской деятельностью, накануне рассмотрения списков избирателей старались показать себя ярыми сторонниками советских мероприятий, одновременно подавая в качестве «общественников» заявления о восстановлении в избирправах” (см.: “Совершенно секретно”: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 гг.). Т. 6. 1928 г. С. 628). О противоречиях политической линии, направленной на ущемление политических прав зажиточных крестьян, и задачи финансирования развития народного хозяйства из частных источников см.: Nove A. An Economic History of the USSR, 1917–1991. London: Penguin Books, 1992. P. 119–124.
(обратно)773
И. Сталин: “План тов. Бухарина: 1) «нормализация» рынка, допущение свободной игры цен и повышение цен на хлеб, не останавливаясь перед тем, что это может повести к вздорожанию промтоваров, сырья, хлеба; 2) всемерное развитие индивидуального крестьянского хозяйства при известном сокращении темпа развития колхозов и совхозов (тезисы тов. Бухарина в июле, речь Бухарина на июльском пленуме); 3) заготовки путем самотека, исключающие всегда и при всяких условиях даже частичное применение чрезвычайных мер против кулачества, если даже эти меры поддерживаются середняцко-бедняцкой массой; 4) в случае недостачи хлеба – ввоз хлеба миллионов на 100 рублей; 5) а если валюты не хватит на то, чтобы покрыть и ввоз хлеба, и ввоз оборудования для промышленности, то надо сократить ввоз оборудования, а значит, и темп развития нашей индустрии, – иначе у нас будет «топтание на месте», а то и «прямое падение вниз»
(обратно)774
Н. Бухарин говорил: “При противоречивости нашего положения рост производительных сил тащит за собой рост кулака, а между тем мы без роста производительных сил обойтись не можем” (см.: Как ломали НЭП: Стенограммы пленумов ЦК ВКП (б) 1928–1929 гг. / Под ред. А. Н. Яковлева. Т. 2. С. 388). Но он же впоследствии отказывается от этого тезиса: “Не вспомните ли вы, как на XV съезде Молотов критиковал меня справа за лозунг «форсированного наступления на кулака»? Где я отказывался от этого лозунга?” А. Микоян: “Тов. Бухарин не осмеливается прямо говорить о сокращении пятилетки или против пятилетки вообще. Он, видите ли, за пятилетку, но против соотношения рыночных цен”. И. Сталин: “План тов. Бухарина есть план снижения темпа развития индустрии…” (см.: Как ломали НЭП: Стенограммы пленумов ЦК ВКП (б) 1928–1929 гг. / Под ред. А. Н. Яковлева. Т. 4. С. 166, 253, 254, 480).
(обратно)775
См.: Россия и мировая цивилизация: К 70-летию члена-корреспондента РАН А. Н. Сахарова. М.: Институт российской истории, 2000. С. 331.
(обратно)776
Sutela P. The Russian Market Economy. Helsinki: Kikimora Publications, 2003. P. 14.
(обратно)777
О влиянии обстоятельств времени, связанных с революцией, и идеологических убеждений, характерных для соответствующих периодов мировой истории, на развитие событий в России в 1917–1931 годах см.: Wiles P. Political Economy of Communism. Oxford: Basic Blackwell, 1964; Roberts P. C. Alienation and the Soviet Economy. New York: Holmes and Mayer, 1991; Szamuely L. First Models of Socialist Economic Systems. Budapest, 1974; Гимпельсон Е. Г. “Военный коммунизм”: политика, практика, идеология. М., 1973; Malle S. The Economic Organization of War-Communism, 1918–1921. Cambridge: Cambridge University Press, 1985; Nove A. An Economic History of the USSR, 1917–1991. London: Penguin Books, 1992. P. 74–76; Sutela P. The Russian Market Economy. Helsinki: Kikimora Publications, 2003. P. 16, 17.
(обратно)778
Расхождения между практически неизменным уровнем оптовых цен, по которым сельскохозяйственная продукция закупалась у колхозов и крестьянединоличников, и возросшим уровнем розничных цен сделали налог с оборота на продовольственные товары важнейшим источником финансирования индустриализации. В ценах на рожь, пшеницу, овес, просо, пшеничную муку доля налога с оборота колебалась в пределах от 78 до 91 % (см.: Бюллетень по хлебному делу. 1935. № 5. С. 12; Малафеев А. Н. История ценообразования в СССР (1917–1963 гг.). С. 181, 182).
(обратно)779
См., например: Новожилов В. Недостаток товаров // Вестник финансов. 1926. № 2; Charlesworth H. K. The Economics of Repressed Inflation. London: George Allen and Unwin, 1956; Kale M. Inflation, Wages and Rationing. Studies in War Economics. Blackpool, 1947; Lerner A. The Economics of Control. London, 1944.
(обратно)780
Galbraith J. Reflections on Price Control // Quarterly Journal of Economics. 1946. August.
(обратно)781
С начала 1929 года по решению правительства во всех городах Советского Союза был установлен нормированный отпуск хлеба населению по карточкам. Карточным снабжением в централизованном порядке к 1934 году было охвачено примерно 40 млн человек. Кроме этого около 10 млн человек снабжалось из местных фондов (см.: Малафеев А. Н. История ценообразования в СССР (1917–1963 гг.). С. 138).
(обратно)782
“Предлагаю: а) потребовать от кулаков немедленной сдачи всех излишков хлеба по государственным ценам; б) в случае отказа кулаков подчиниться закону привлечь их к судебной ответственности по 107 статье Уголовного кодекса РСФСР и конфисковать у них хлебные излишки в пользу государства с тем, чтобы 25 процентов конфискованного хлеба было распределено среди бедноты и маломощных середняков по низким государственным ценам или в порядке долгосрочного кредита… Вы увидите скоро, что эти меры дадут великолепные результаты и вам удастся не только выполнить, но и перевыполнить план хлебозаготовок” (см.: Сталин И. В. Со ч. Т. 11. М.: Госполитиздат, 1955. С. 4).
(обратно)783
“Совершенно секретно”: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 гг.). Т. 6. 1928 г. С. 9–11.
(обратно)784
107-я статья Уголовного кодекса РСФСР предусматривала за “злостное повышение цен на товары путем скупки, сокрытия или невыпуска таковых на рынок – лишение свободы на срок до одного года с конфискацией всего или части имущества или без таковой. Те же действия при установлении наличия сговора торговцев – лишение свободы на срок до трех лет с конфискацией всего имущества” (см.: Уголовный кодекс РСФСР. М.: Юридическое изд-во НКЮ РСФСР, 1928. С. 154).
(обратно)785
См.: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 8‑е изд. Т. 2. М., 1970. С. 374.
(обратно)786
Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание: Документы и материалы, 1927–1939: В 5 т. / Отв. ред. В. Данилов. Т. 1. Май 1927 – ноябрь 1929. М.: РОССПЭН, 1999. С. 228, 314, 316. О бойкоте как способе мобилизации зерна государством: “Что такое бойкот, один работник вразумительно на активе в Нижне-Увельске разъяснил это: «Из школы гнать, не разговаривать, не прикуривать, из сельсовета гнать, с медицинского пункта гнать, дров не давать, товара не давать, земли лишать и т. д.»” (см.: Как ломали НЭП: Стенограммы пленумов ЦК ВКП (б) 1928–1929 гг. / Под ред. А. Н. Яковлева. Т. 4. С. 331). “…Органы ОГПУ ориентировались на то, чтобы при арестах крупных частных заготовителей, кулаков и наиболее прижимистых хлеботорговцев привлекать их к уголовной ответственности как через судебные, так и внесудебные органы (Коллегия ОГПУ, Особое совещание, тройки при ПП ОГПУ). Об этих мерах они обязаны были предоставлять сведения в Центр в виде телеграфных сообщений, сводок, справок и донесений” (см.: “Совершенно секретно”: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 гг.). Т. 6. 1928 г. С. 20).
(обратно)787
Письма И. В. Сталина В. М. Молотову. 1925–1936 гг.: Сб. документов. М., 1995. С. 141–143.
(обратно)788
См.: Как ломали НЭП: Стенограммы пленумов ЦК ВКП (б) 1928–1929 гг. / Под ред. А. Н. Яковлева. Т. 2. С. 18.
(обратно)789
Там же. Т. 4. С. 8.
(обратно)790
Об отмене права свободы миграции и права на получение паспортов для работников колхозов в 1932 году см.: Боффа Д. История Советского Союза. Т. 2: От Отечественной войны до положения второй мировой державы. Сталин и Хрущев. 1941–1964 гг. М.: Международные отношения, 1994. С. 491. Еще в 1953 году постоянные жители сельской местности (за исключением тех, кто проживает на территории Литовской, Латвийской, Эстонской ССР, Московской области, Всеволжского, Гатчинского, Кингисеппского, Красносельского, Ломоносовского, Мгинского, Парголовского, Приморского, Рощинского и Тосненского районов Ленинградской области) паспортов не имели (см.: Положение о паспортах. Утверждено постановлением Совета Министров СССР от 21 октября 1953 года).
(обратно)791
См.: Сельское хозяйство СССР: Статистический сборник. М., 1960. С. 79.
(обратно)792
См.: Ивницкий Н. А. Голод 1932–1933 годов: Кто виноват? // Голод 1932–1933 годов / Отв. ред. Ю. Н. Афанасьев. М.: РГГУ, 1995. С. 44.
(обратно)793
Выдержки из писем. Кремлевский архив Политбюро ЦК КПСС (см.: Ивницкий Н. А. Голод 1932–1933 годов: Кто виноват? // Голод 1932–1933 годов / Отв. ред. Ю. Н. Афанасьев. С. 45).
(обратно)794
Постановление “О ходе хлебозаготовок и сева на Кубани” от 4 ноября 1932 года (см.: Ивницкий Н. А. Голод 1932–1933 годов: Кто виноват? // Голод 1932–1933 годов / Отв. ред. Ю. Н. Афанасьев. С. 49).
(обратно)795
Выдержки из документов. Кремлевский архив Политбюро ЦК КПСС (см.: Ивницкий Н. А. Голод 1932–1933 годов: Кто виноват? // Голод 1932–1933 годов / Отв. ред. Ю. Н. Афанасьев. С. 52).
(обратно)796
Ивницкий Н. А. Голод 1932–1933 годов: Кто виноват? Голод 1932–1933 годов / Отв. ред. Ю. Н. Афанасьев. С. 57.
(обратно)797
Куртуа С., Верт Н. и др. Черная книга коммунизма. Преступления, террор, репрессии. М.: Три века истории, 1999. С. 156. “К половине апреля (по справке краевых организаций) всего в Северный край прибыло до 75 тысяч кулацких семейств. (Около 375 тыс. чел.) В настоящее время они размещены в городах, при железнодорожной полосе, во временных бараках, и только незначительная часть отправлена к месту поселения. Размещенные кулацкие семейства в церквах и бараках живут весьма скученно, на каждого человека приходится примерно 1 кв. метр площади. Санитарное состояние бараков и церквей далеко не удовлетворительное, поэтому сейчас увеличивается среди них смертность и в первую очередь среди детей. Медицинская помощь оказывается самая минимальная ввиду отсутствия медперсонала и медикаментов… При таких условиях совершенно реальной становится опасность эпидемии… Северный край еще до сих пор не подготовлен к размещению кулаков. Своевременно подготовиться к разрешению этой огромной задачи не было возможности, следовательно, строго продуманного плана мероприятий и материальных предпосылок и сейчас нет” (из записки инструктора НКЗ СССР Снеткова “О размещении и устройстве кулаков, высланных в пределы Северного края”. См.: Дети ГУЛАГа. 1918–1956 / Под ред. А. Н. Яковлева. С. 85).
(обратно)798
Материалы Объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП (б) 7–12 января 1933 г. М., 1933. С. 148.
(обратно)799
Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г. // СЗ СССР. 1932. № 62. Ст. 360.
(обратно)800
Как ломали НЭП: Стенограммы пленумов ЦК ВКП (б) 1928–1929 гг. / Под ред. А. Н. Яковлева. Т. 2. С. 363.
(обратно)801
См.: Загоровский П. В. Социально-экономические последствия голода в Центральном Черноземье в первой половине 1930‑х годов. Воронеж: ВГПУ, 1998. С. 19.
(обратно)802
Там же. С. 20.
(обратно)803
Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории. Ф. 17. Оп. 2. Д. 536. Л. 9; Ивницкий Н. А. Голод 1932–1933 годов: Кто виноват? // Голод 1932–1933 годов / Отв. ред. Ю. Н. Афанасьев. С. 59.
(обратно)804
См.: Итоговый отчет Международной комиссии по расследованию голода 1932–
1933 годов на Украине // Родина. 1994. № 10. С. 50.
(обратно)805
См.: Там же.
(обратно)806
См.: Ивницкий Н. А. Голод 1932–1933 годов: Кто виноват? // Голод 1932–1933 годов / Отв. ред. Ю. Н. Афанасьев. С. 64. О числе жертв голода 1932–1933 годов см. также: Геллер М. Я., Некрич А. М. Утопия у власти. М.: МИК, 2000. С. 111, 114, 231, 235.
(обратно)807
См.: Итоговый отчет Международной комиссии по расследованию голода 1932–1933 годов на Украине // Родина. 1994. № 10. С. 51.
(обратно)808
См.: Голод 1932–1933 годов / Отв. ред. Ю. Н. Афанасьев.
(обратно)809
Загоровский П. В. Социально-экономические последствия голода в Центральном Черноземье в первой половине 1930‑х годов. Воронеж: ВГПУ, 1998. С. 23, 24.
(обратно)810
См.: На фронте сельскохозяйственных заготовок. 1934. № 6. С. 1.
(обратно)811
State Statistical Bureau. Chinese Statistical Yearbook, 1983. P. 393.
(обратно)812
Coale A. Rapid Population Change in China 1952–1982. Washington: National Academy of Sciences Press, 1984. P. 70.
(обратно)813
См.: Куртуа С., Верт Н. и др. Черная книга коммунизма. Преступления, террор, репрессии. М.: Три века истории, 1999. С. 433.
(обратно)814
“На протяжении 1920–1950‑х годов заключенные строили каналы, шоссейные и железные дороги, аэродромы, хранилища для неприкосновенного запаса зерна (хлебогородки), оборонительные сооружения, объекты атомной промышленности, объекты противовоздушной обороны вокруг Москвы (система «Беркут»), горно-металлургические предприятия. Они были заняты в лесной и добывающей промышленности (на добыче угля, нефти, слюды, асбеста, урана, золота, олова, железа и других полезных ископаемых) … Среди объектов, построенных руками заключенных, числятся наряду с каналами Москва – Волга, Беломоро-Балтийским и Волго-Донским и такие объекты, как здание Московского государственного университета, высотное здание на Котельнической набережной в Москве”. “Объем капитальных работ, выполняемых ГУЛАГом, достигает по плану на 1940 г. суммы в 1 846 015 тыс. руб., а с учетом работ, выполняемых за счет лимитов других наркоматов и ведомств, вырастает до суммы в 1 880 375 тыс. руб. и составляет 5,8 % ко всему объему капитальных работ по СССР. Таким образом, ГУЛАГ как хозяйственная система Наркомвнудела не только производит товарные ценности в организованной им промышленности на сумму 1145,7 тыс. руб. (в неизменных ценах), но и создает в процессе строительства материальные ценности, исчисляемые по сметной стоимости на 1940 год в сумме 1880,4 , причем эти средства направляются на следующие виды строительства: гидротехническое строительство – 654 ; строительство морских сооружений и судостроительных заводов – 447,2 ; строительство предприятий металлургической промышленности – 371,0 ; строительство предприятий целлюлозно-бумажной промышленности – 120,0 ” (см.: ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1917–1960 / Под ред. А. Н. Яковлева. М.: МФД, 2000. С. 7, 778).
(обратно)815
Nove A. An Economic History of the USSR, 1917–1991. London; New York: Penguin Books, 1992. P. 238, 239.
(обратно)816
Один из бывших руководящих работников НКВД СССР, Г. И. Лулов, впоследствии показал: “Если говорить о «лимитах» в узком смысле, т. е. утверждаемая наркомом разверстка количества лиц, подлежащих репрессированию и осуждению внесудебным порядком в краях и областях, то я точно знаю, что эти лимиты служили предметом своеобразного соревнования между многими начальниками УНКВД. Вокруг этих лимитов была в наркомате создана такая атмосфера: тот из начальников УНКВД, кто, скорее реализовав данный ему лимит в столько-то тысяч человек, получил от наркома новый, дополнительный лимит, тот рассматривался как лучший работник, лучше и быстрее других выполняющий и перевыполняющий директивы Н. И. Ежова по «разгрому» контрреволюции. Я очень хорошо помню, как такие начальники УНКВД, как Радзивиловский (Иваново) и Симановский (Орел), заходя ко мне после того, как их принимал Н. И. Ежов, с гордостью рассказывали мне, что Н[иколай] И[ванович] похвалил их работу и дал им новый, дополнительный лимит. В связи с этим я вспомнил, как однажды, после моего очередного доклада, на вопрос Н. И. Ежова: «Что вообще нового?» – я сказал: «Заходил ко мне Радзивиловский. Он выполнил старый лимит. Просит дополнительный». Н[иколай] И[ванович] ответил: «Молодец Радзивиловский. Он был у меня. Я ему дал новый лимит»”. Эпизод с Радзивиловским и Симановским не исключение. Он типичен для всей “лимитной практики” (см.: Дело Лулова. Т. 1. Л.д. 189–190). “Выполнив установленный лимит, начальники органов НКВД возбуждали ходатайства о даче им дополнительных лимитов, которые, как правило, удовлетворялись Ежовым по согласованию с ЦК ВКП (б) (И. В. Сталиным)” (см.: Доклад Н. С. Хрущева о культе личности Сталина на XX съезде КПСС: Документы / Отв. ред. К. Аймермахер. М: РОССПЭН, 2002. С. 188).
Классической работой, посвященной террору 1930‑х – начала 1950‑х годов, является монография Р. Конквеста (см.: Conquest R. The Great Terror: Stalin’s Purge of the Thirties. London: Macmillan, 1968).
(обратно)817
Выписка из протокола № 51 заседания Политбюро ЦК ВКП (б) от 5 июля 1937 года: “Установить впредь порядок, по которому все жены изобличенных изменников Родины, право-троцкистских шпионов подлежат заключению в лагеря не менее как на 5–8 лет… Предложить Наркомвнуделу разместить детей в существующей сети детских домов и закрытых интернатах наркомпросов республик. Все дети подлежат размещению в городах вне Москвы, Ленинграда, Киева, Тифлиса, Минска, приморских городов, приграничных городов” (см.: Дети ГУЛАГа. 1918–1956 / Под ред. А. Н. Яковлева. М.: МФД, 2002. С. 229, 230).
(обратно)818
Характерная черта социализма в том виде, в котором он сформировался в СССР, – организация пограничной службы. Она была ориентирована в первую очередь не на предотвращение проникновения иностранцев в СССР (эта задача имела второстепенное значение), а на то, чтобы не допустить бегства советских граждан за рубеж. Подавляющее большинство задержаний приходилось именно на такие случаи. По существу, это была система внешней охраны “социалистического лагеря”, механизм закрепощения, но построенный с использованием технологических возможностей индустриального общества.
(обратно)819
В. Кудров – автор одного из лучших исследований, посвященных экономике СССР, так описывает основные идеологические принципы, лежавшие в ее основе: не частная, а государственная собственность; не рынок, а план; не нормальная конкуренция, а социалистическое соревнование; не фермы и крестьянские хозяйства, а колхозы и совхозы; не производство благ вообще, т. е. товаров и услуг, а прежде всего материальное производство; не промышленность вообще во всем ее комплексе, а в первую очередь тяжелая промышленность; не прибыль как конкурентный ориентир хозяйствования, а абстрактное удовлетворение постоянно растущих материальных потребностей народа; не деньги, а бартер без денег как инструмент распределения; не многопартийная, а однопартийная система (см.: Кудров В. М. Советская экономика в ретроспективе. М.: Наука, 2003. С. 6, 7).
(обратно)820
Развернутый анализ институциональной структуры социалистической экономики см.: Kornai J. The Socialist System. The Political Economy of Communism. Oxford: Clarendon Press, 1992. О взглядах автора этих строк на внутренние механизмы функционирования социалистической экономики см.: Гайдар Е. Т. Экономические реформы и иерархические структуры. М.: Наука, 1990. С. 3–5, 73–78. В дальнейшем мы попытаемся, не повторяя сказанное в предшествующих работах, сконцентрировать внимание на связи этих механизмов с пределами социалистического роста и природой постсоциалистического кризиса.
(обратно)821
Г. Кржижановский: “Я сказал, что в нашем финансовом плане мы, поднявшись до мобилизации 17 млрд рублей, посягнули на более чем 50 % народного дохода. Это, товарищи, в жизни других стран бывает только тогда, когда имеет место наличие военной боевой обстановки” (см.: Как ломали НЭП: Стенограммы пленумов ЦК ВКП (б) 1928–1929 / Под ред. А. Н. Яковлева. Т. 5. С. 37).
(обратно)822
Об аномально высокой для рыночных экономик соответствующего уровня развития государственной нагрузке на экономику в социалистических странах см.: Pryor F. L. Public Expenditures in Communist and Capitalist Nations. London: George Allen and Unwin Ltd., 1968; Tanzi V., Schuknecht L. Public Spending in the 20th Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
(обратно)823
О механизмах, обусловивших устойчивое замедление темпов экономического роста в социалистических странах, см.: Harrison M. Trends in Soviet Labour Productivity, 1928–1985: War, Postwar Recovery and Slowdown // European Review of Economic History. 1998. Vol. 2 (2). P. 171–200.
(обратно)824
А. Микоян: “В довоенном импорте ввоз средств производства составлял 60 % всего импорта. Теперь же производственный импорт составляет 90 % всего импортного плана… Анализируя наш экспортный план, надо в первую очередь обратить внимание на то обстоятельство, что 50 % всего экспортного плана ложится на три группы экспортных товаров – лес, нефть и пушнина” (см.: Как ломали НЭП: Стенограммы пленумов ЦК ВКП (б) 1928–1929 гг. / Под ред. А. Н. Яковлева. Т. 5. С. 88). В 1932 году импортные поставки обеспечили 80 % новых машин и оборудования, установленных на советских заводах (см.: Кудров В. М. Советская экономика в ретроспективе. М.: Наука, 2003. С. 49). В выступлении на сессии ВС СССР 8 августа 1953 года председатель Совета Министров СССР Г. Маленков обращает внимание на низкое качество советских товаров как на серьезную проблему. Он говорит: “Нельзя, однако, удовлетвориться одним количественным ростом производства предметов потребления. Не менее важное значение имеет вопрос о качестве всех промышленных товаров народного потребления. Надо признать, что мы отстали с качеством товаров широкого потребления и должны серьезно поправить это дело”. Там же он отмечает проблему недостаточности производства животноводческой продукции для адекватного снабжения населения как ключевую для страны: “Надо признать, что с развитием животноводства дело обстоит неблагополучно и в связи с этим мы еще далеко не достаточно удовлетворяем растущие потребности населения в мясе, молоке, яйцах и других продуктах животноводства” (см.: Стенограмма заседания Верховного Совета СССР 8 августа 1953 года. С. 265, 266, 267).
(обратно)825
* Для 1986–1990 годов.
(обратно)826
Cipolla C. M. (series ed.). The Fontana Economic History of Europe. 3. The Industrial Revolution. London, 1978. P. 466.
(обратно)827
По расчетам В. Мельянцева, соотношение темпов роста сельскохозяйственной и промышленной продукции для стран Запада и Японии в период промышленного рывка составило приблизительно 0,784 (см.: Мельянцев В. А. Экономический рост стран Востока и Запада в долгосрочной ретроспективе: Автореф. д-ра экон. наук. М., 1995. С. 197). В тех случаях, когда в силу институциональных факторов (в первую очередь структуры земельной собственности и землепользования) аграрное развитие тормозилось, это порождало серьезные проблемы платежного баланса и в целом сдерживало экономический рост. О роли аграрного развития в индустриализационных процессах XIX в. (см.: Morris C. T., Adelman I. Comparative Patterns of Economic Development, 1850–1914. London: The Johns Hopkins University Press, 1988. P. 125–155).
(обратно)828
С 1928 по 1938 год факторная производительность в сельском хозяйстве сократилась, по разным расчетам, на 13–26 % (см.: Johnson D. C. Agricultural Performance and Potential in the Planned Economies: Historical Perspective. Office of Agricultural Economic Research. The University of Chicago. Paper No. 97.1. March 21, 1997).
(обратно)829
* В данном случае взят год, наиболее близкий к 50-летнему лагу из имеющихся данных.
(обратно)830
О причинах расходящихся траекторий развития аграрных социалистических стран и развитых индустриальных стран в процессе восстановления рыночных отношений см.: Bruno M. Our Assistance Includes Ideas As Well As Money // Transition. World Bank. 1994. Vol. 5 (1). January. P. 1–4; Gang Pan. Incremental Changes and Dual Track Transition: Understanding the Case of China // Economic Policy. Vol. 19 Supplement. December. 1994. P. 99–122; Sachs J. D., Woo W. T. Understanding China’s Economic Performance // NBER. Working Paper 5935, 1997; Geng Xiao. Property Rights and Economic Reforms in China. China Social Science Press. Beijing, 1997.
(обратно)831
* 1928–1940 годы.
(обратно)832
Классическая работа, посвященная анализу статистики советского экономического роста, корректировке данных официальной статистики, принадлежит перу А. Бергсона (см.: Bergson A. The Real National Income of Soviet Russia Since 1928. Harvard University Press, 1961).
(обратно)833
По разным оценкам, Япония в эти годы опережала СССР по душевому ВВП
на 10–30 %.
(обратно)834
Kuznets S. Economic Growth and Structure. New York: W. W. Norton & Company Ink., 1965. P. 312, 313.
(обратно)835
См.: Малафеев А. Н. История ценообразования в СССР (1917–1963 гг.). С. 284–296.
(обратно)836
Заключительное слово Н. С. Хрущева на заседании сентябрьского Пленума ЦК КПСС 1953 г.: Стенограмма сентябрьского Пленума ЦК КПСС 1953 г. (из материалов РГАНИ).
(обратно)837
См.: Соколов М. Экономика социалистического сельского хозяйства. М.: МГУ 1970. С. 194.
(обратно)838
Zeimetz K. A. USSR Agricultural Trade. Washington: United State Department of Agriculture, 1991. P. 4, 5.
(обратно)839
См.: Маневич Е. Заработная плата в условиях рыночной экономики // Вопросы экономики. 1991. № 7. С. 134–144.
(обратно)840
Пенсионное обеспечение колхозников было введено лишь с начала 1965 года (см.: Закон Союза Советских Социалистических Республик “О пенсиях и пособиях членам колхозов” от 15 июля 1964 г. // Пенсионное обеспечение в СССР: Сб. законодательных актов по состоянию на 1 октября 1976 г. М., 1976. С. 89–96).
(обратно)841
О противоречии уровня производительных сил и сложившихся производственных отношений как о естественном для марксистов объяснении краха социализма в СССР см.: Nove A. An Economic History of the USSR, 1917–1991. London; New York: Penguin Books, 1992. P. 427.
(обратно)842
Инвентаризация основных фондов промышленности, проведенная в 1986 году, показала, что лишь 16 % из них соответствует мировому уровню (см.: Материально-техническое обеспечение народного хозяйства СССР. М., 1989. С. 218, 219).
(обратно)843
О специфике траектории социалистического развития в СССР – необычно высокой доле военных расходов, незначительности экспорта обрабатывающих отраслей, зависимости внешней торговли от экспорта топлива и иного сырья, глубоком сельскохозяйственном кризисе, проявившемся в массовых закупках продовольствия, о связи этой специфики с избранной социалистической моделью индустриализации см.: Ofer G. Soviet Economic Growth: 1928–1985 // The Journal of Economic Literature. Vol. 25. December 1987. P. 1768–1825.
(обратно)844
Линия на деинтеллектуализацию политической элиты последовательно проводилась коммунистическим руководством. В 1966 году в системе номенклатуры 70 % были выходцами из семей крестьян и неквалифицированных рабочих. К концу правления Л. Брежнева, в 1981 году, 80 % номенклатуры были выходцами из семей крестьян и неквалифицированных рабочих. Среди руководителей коммунистической партии выходцы из университетских центров в последнее десятилетие существования СССР были редкостью. Выходцы из среды интеллигенции, дети из семей высококвалифицированных работников умственного труда в 1986 году составляли лишь 6 % (см.: Коржихина Т. П., Фигатнер Ю. Ю. Советская номенклатура: становление, механизмы действия // Вопросы истории. 1993. № 7. С. 32). О крайне ограниченном количестве выходцев из университетских городов, постоянном сокращении их доли в советском руководстве см.: Вишневский А. Г. Серп и рубль: консервативная модернизация в СССР. М.: ОГИ, 1998. С. 98–99, 190–192. К тому же в СССР с течением времени все больше укоренялась геронтократия. Е. Лигачев пишет: “Еще при Брежневе, когда Леонид Ильич заболел, Политбюро приняло решение ограничить продолжительность его рабочего дня. Затем эти послабления были распространены на других членов Политбюро: пятница считалась днем работы с документами на даче, суббота и воскресенье – днями отдыха. Кроме того, сократили и рабочие часы” (см.: Лигачев Е. Тбилисское дело. М.: Кодекс, 1991. С. 4, 5). А. Амальрик был одним из немногих, кто точно предсказал не только неизбежность крушения советского режима, но и его время. Основанием его выводов было точное представление о негативном отборе кадров в рамках социалистической системы, когда приоритет при выдвижении на руководящие должности отдавался лояльности начальству (см.: Amalrik A. Will the Soviet Union Survive Until 1984? London: Harper Collins, 1980).
(обратно)845
В 1953 году по письму Л. Берии правительство СССР приостанавливает финансирование длинного перечня крупномасштабных инвестиционных проектов, на которые уже были затрачены крупные средства (начатых по указанию И. Сталина) и не имевших какого бы то ни было экономического обоснования. Преемники Н. Хрущева будут долго смеяться над его кампаниями, направленными на то, чтобы догнать США за несколько лет по производству мяса и в массовых масштабах насадить кукурузу в СССР. Но все это происходило после того, как инициаторы этих проектов уходили или были устранены от власти. До этого обсуждение, полемика были невозможны. Это одна из форм платы общества за выбор социалистической модели общественного устройства.
(обратно)846
Китайское руководство с 1992 года говорит о социалистической рыночной экономике, вьетнамское в последние годы – о социалистически ориентированной рыночной экономике, но это детали идеологической стилистики.
(обратно)847
О связи успешного развития Китая на протяжении последних десятилетий с использованием того, что А. Гершенкрон называл “преимуществом отсталости”, см.: Dabrowski M., Gomulka S., Rostowski J. Whence Reform? A Critique of the Stiglitz Perspective. . 2000. P. 6, 7. Об экономических реформах, ориентированных на восстановление рыночных механизмов при сохранении жесткого политического контроля коммунистических режимов в 50–60‑х годах в Венгрии и Югославии, см.: Rusinow D. The Yugoslav Experiment 1948–1974. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1977; Berend I. T. The Hungarian Economic Reforms 1953–1988. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
(обратно)848
Подробнее см.: Гайдар Е. Т. Аномалии экономического роста: Соч. Т. 2. М.: Евразия, 1997. С. 278–525.
(обратно)849
Riedel J., Comer B. Transition to Market Economy in Vietnam // Woo W. T., Parker S., Sachs J. (eds.). Economies in Transition: Comparing Asia and Europe. Cambridge: MIT Press, 1999. P. 7, 8; Le Dang Doanh, McCarty A. Economic Reform in Vietnam: Achievements and Prospects // Naya S. F., col1_0 (eds.). Asian Transitional Economies: Challenges and Prospects for Reform and Transformation. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1995. P. 99–154.
(обратно)850
World Agriculture. Trends and Indicators 1970–1989. Washington: United State Department of Agriculture, 1990. P. 164, 165.
(обратно)851
World Agriculture. Trends and Indicators 1970–1989. Washington: United State Department of Agriculture, 1990. P. 164, 522.
(обратно)852
Как свидетельствуют опубликованные документы, относящиеся к 1953 году, Л. Берия в это время рассматривал возможность проведения активных либерализационных мероприятий в СССР и в странах социалистической Восточной Европы. Однако вопрос о роспуске колхозов никогда не стоял в политической повестке дня (см.: Распоряжение Совета Министров СССР “О мерах по оздоровлению политической обстановки в ГДР” от 2 июня 1953 г. (Берия Лаврентий. Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие документы / Под ред. А. Н. Яковлева. М.: МФД, 1999. С. 55–59); приказ министра внутренних дел Л. П. Берии “О запрещении применения к арестованным каких-либо мер принуждения и физического воздействия” от 4 апреля 1953 г. (Берия Лаврентий. Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие документы / Под ред. А. Н. Яковлева С. 28, 29). Одной из самых радикальных мер, принятых советским руководством в 1950‑х годах для исправления положения в сельском хозяйстве, стала отмена с 1 января 1958 года обязательных поставок государству сельскохозяйственных продуктов хозяйствами колхозников (см.: Соколов М. Экономика социалистического сельского хозяйства. М.: МГУ, 1970. С. 188). Но по масштабам и влиянию на дальнейшее развитие экономики между таким решением и роспуском коммун в Китае – пропасть. В радикально изменившихся условиях, столкнувшись с проблемами продовольственного снабжения, коммунистическое руководство по-прежнему прибегает к старым, проверенным временем мерам, таким как ограничение личного подсобного хозяйства (см.: Постановление бюро ЦК КПСС по РСФСР, принятое 20 августа 1958 г., “О запрещении содержания скота в личной собственности граждан, проживающих в городах и рабочих поселках” // Международный исторический журнал. 2000. № 8. Март – апрель).
(обратно)853
Постановление Пленума ЦК КПСС от 29 сентября 1965 г. “Об улучшении управления промышленностью, совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства” (см.: Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 5. М., 1968. С. 640–645).
(обратно)854
См.: Гельбрас В. Г. Экономическая реформа в КНР: Очерки, наблюдения, размышления. М.: Международные отношения, 1990. С. 260.
(обратно)855
По ежегодному производству оружия всех видов (кроме кораблей) СССР превосходил 16 государств Североатлантического союза (НАТО), вместе взятых, и оказывал щедрую военную помощь более чем 30 развивающимся странам (см.: Казаков А. В., Сазонов О. Н. Военная история (факты, события, процессы). СПб.: Нестор, 1999. С. 28, 29). Вопрос о доле военных расходов в структуре советского ВВП из-за деформации советской статистики, сознательных искажений, секретности никогда не был ясен даже советскому руководству. Он являлся предметом дискуссий специалистов по экономической истории. В. Кудров оценивает их в 20 % ВВП (см.: Кудров В. М. Советская экономика в ретроспективе. М.: Наука, 2003. С. 31). Г. Офер оценивает долю военных расходов в советском ВВП в начале 1980‑х годов в 15–17 % (см.: Ofer G. Soviet Economic Growth: 1928–1985 // The Journal of Economic Literature. Vol. 25. December 1987. P. 1794–1795). А. Ослунд в своей работе 1990 года оценивал долю совокупных военных расходов в ВВП Советского Союза в 25 % (см.: Aslund A. How Small is the Soviet National Income? // Rowen H. S., Wolf Ch. Jr. (eds.). The Impoverished Superpower: Perestroika and the Soviet Military Burden. San Francisco: Institute for Contemporary Studies, 1990. P. 13–61, 288–305).
(обратно)856
Из записки В. Кириллина в правительство СССР: “В 1977 г. отрицательное внешнеторговое сальдо для машин, оборудования и транспортных средств достигло 7,5 На его покрытие уходит почти 2/3 поступлений от экспорта нефти, нефтепродуктов и газа” (см.: Доклад комиссии, возглавляемой заместителем председателя Совета Министров СССР В. Кириллиным, председателю Совета Министров СССР Н. Тихонову от 11.12.79 г. “О комплексных мероприятиях по повышению эффективности народного хозяйства, дальнейшему улучшению планирования и ускорению научно-технического прогресса”).
(обратно)857
Как справедливо пишет Н. Федоренко, “ко второй половине 80‑х годов наша страна вышла на самые передовые позиции в мире по объемам производства низкокачественной техники. Отставая от США по производству зерна в 1,4 раза, мы опередили их по выпуску тракторов в 6,4 раза, по зерноуборочным комбайнам – в 16 (!) раз. Чтобы произвести столько зерноуборочных комбайнов, сколько их стояло в наших хозяйствах на ремонте в 1987 г., американской промышленности пришлось бы работать 70 лет. Это была экономика планового абсурда, которая не лопнуть не могла. Вот она и лопнула” (см.: Федоренко Н. Россия на рубеже веков. М.: Экономика, 2003. С. 402, 403).
(обратно)858
Ellman M., Kontorovich V. The Collapse of the Soviet System and the Memoir Literature // Europe-Asia Studies. Vol. 49 (2). March 1997. P. 260.
(обратно)859
Хорошая характеристика представлений об устойчивости советского политического режима – цитата из работы квалифицированного исследователя истории России в XX в. Дж. Боффа, изданной впервые в 1978 году: “То, что партия провозгласила (в Конституции 1977 г.) нерушимым законом свое право управлять государством, не должно скрывать от нас действительный источник ее силы, а также силы правящего слоя, волю которого выражает партия. КПСС, состоящая из 15 млн человек, представляет все социальные слои и национальные группы советского общества. Такое количество членов не просто формальность. Партия глубоко связана с основными слоями общества благодаря как социалистическим, так и националистическим мотивам, лежащим в основе ее деятельности. Она окрепла во время трагических событий (важнейшее из них – война), которые затронули судьбы каждого. Ее идеология (хотя партия и видит, что сейчас к ее догмам относятся скептически и безразлично) десятки раз просто и доступно объясняла ужасные испытания, пережитые страной” (см.: Боффа Д. История Советского Союза. Т. 2: От Отечественной войны до положения второй мировой державы. Сталин и Хрущев. 1941–1964 гг. М.: Международные отношения, 1994. С. 542). Такое не раз случалось и в истории несоциалистических авторитарных режимов. В начале мая 1998 года почти никто не предполагал, что через месяц режим Сухарто рухнет (см.: Siegel J. T. Thoughts on the Violence of May 13 and 14, 1998, in Jakarta // Anderson B. R. O’G. (ed.). Violence and the State in Suharto’s Indonesia. Ithaca; New York: Cornell Southeast Asia Program, 2001. P. 90, 91). Впрочем, есть и более ранние прецеденты. Лорд Стаффорд накануне начала Английской революции XVII в. в своей переписке выражает уверенность, что все обстоит благополучно и везде царит полное довольство: “Народ совершенно спокоен и, если только я не делаю очень грубой ошибки, совершенно доволен, если только не упоен, милостивым правлением и покровительством его величества” (см.: Савин А. Н. Лекции по истории Английской революции. М.: Крафт+, 2000. С. 11).
(обратно)860
Непонимание масштабов проблем, с которыми столкнулся СССР в середине 1980‑х годов, хорошо иллюстрирует цитата из книги М. Горбачева, написанной в 1986 году: “Если бы у нас в стране не был решен в принципе национальный вопрос, то не было бы Советского Союза, каким он сейчас предстает в социальном, культурном, экономическом, оборонном отношениях. Наше государство не удержалось бы, если бы не произошло фактическое выравнивание республик, если бы не возникло сообщество на основе братства и сотрудничества, уважения и взаимопомощи” (см.: Горбачев М. С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. М.: Политиздат, 1987. С. 118). Это пишет руководитель империи, которая через три года после написания этих строк де-факто, а через пять де-юре распадется.
(обратно)861
Главное направление перестройки хозяйственного управления нам в принципе ясно. Оно – в более глубоком и всестороннем использовании преимуществ социалистического хозяйства. Мы должны идти по линии дальнейшего укрепления и развития демократического централизма” (см.: Доклад Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева на совещании в ЦК КПСС по вопросам ускорения научно-технического прогресса. 11 июля 1985 года). Об отсутствии готовности руководства страны в 1985 году к глубоким экономическим и политическим реформам, убежденности в стабильном и прогрессивном характере социалистической системы как таковой cм.: Яковлев А. Горькая чаша. Ярославль, 1994. С. 213, 239.
(обратно)862
О влиянии опыта китайских реформ на экономическую политику Горбачева с середины 1980‑х годов, см: Woo W. T. Recent Claims of China’s Economic Exceptionalism: Reflections Inspired by WTO Accession // China Economic Review. 2001. Vol. 12. P. 107–136; Aslund A. Gorbachev’s Struggle for Economic Reforms. London: Pinter Publishers, 1991.
(обратно)863
В настоящее время многие политики левого толка взяли на вооружение лозунг: “Вернем стране продовольственную независимость!” Вернуть можно только то, что некогда было. Как можно говорить о продовольственной независимости, импортируя 45 млн т зерна в год?
(обратно)864
В Мексике, где доля топливно-энергетических ресурсов в экспорте в начале 80‑х годов была сопоставимой с советской, а президент Л. Партильо также был убежден, что высокие цены на нефть будут существовать вечно из-за открытости рынка капитала, кризис, связанный с изменением конъюнктуры рынка энергоносителей, развивался быстрее. Уже в 1982 году страна объявила о неспособности обслуживать свой долг. После этого пришлось отказаться от многих начатых амбициозных проектов, смириться с резким замедлением темпов экономического роста. Но все это не привело к крушению режима, подрыву политической стабильности (Looney R. E. Economic Policymaking in Mexico: Factors Underlying the 1982 Crisis. Durham: Duke University Press, 1985).
(обратно)865
В постоянных ценах 2000 года.
(обратно)866
* В постоянных ценах 2000 года.
(обратно)867
* Показатели ВВП до 1990 года рассчитаны исходя из данных о национальном доходе СССР.
(обратно)868
Без учета задолженности странам Восточной Европы.
(обратно)869
Анализ инфляционных процессов в СССР. Госкомстат СССР. М., 1989. С. 49.
(обратно)870
См.: Анализ инфляционных процессов в СССР. Госкомстат СССР. М., 1989. С. 47, 50; расчеты ИЭПП по: Народное хозяйство РСФСР в 1990 г.: Статистический ежегодник. М.: Госкомстат РСФСР, 1991. С. 11, 14.
(обратно)871
Доклад премьер-министра СССР В. С. Павлова на V сессии Верховного Совета СССР от 22 апреля 1991 г. С. 84.
(обратно)872
Кризис в Индонезии 1997–1998 годов был связан как с общим финансовым кризисом в Юго-Восточной Азии, так и с падением цен на важнейший продукт индонезийского экспорта – нефть. Авторитарный, но уже слабый, не воспринимаемый как легитимный обществом и элитами режим Сухарто пытается реализовать стабилизационные мероприятия, но он оказался политически неустойчивым и рушится (см.: Hill H. Indonesia: The Strange and Sudden Death of a Tiger Economy // UPSE Discussion Paper. 1999. № 9913. P. 13–20). Сильный авторитарный режим А. Пиночета в Чили, столкнувшийся с подобным сочетанием неблагоприятных факторов в конце 1970‑х – начале 1980‑х годов (роль важнейшего экспортного товара здесь играла медь), оказался способным реализовать программу стабилизационных мер, сохранив политическую стабильность (см.: Harberger A. C. Chile’s Devaluation Crisis of 1982 // Cuadernos de Economia. № 63. August 1984. P. 123–136). О реакции на финансовый кризис сильных и слабых демократических режимов в Южной Корее и Аргентине см.: Krueger A. O., Yoo J. Chaebol Capitalism and the Currency-Financial Crisis in Korea. NBER Reporter: Spring 2001. Currency Crisis Prevention; Eichengreen B. Crisis Prevention and Management: Any New Lessons from Argentina and Turkey? World Bank’s Global Development Finance 2002; Desai Padma. Financial Crisis, Contagion and Containment: From Asia to Argentina. Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2003).
(обратно)873
См.: Малафеев А. Н. История ценообразования в СССР (1917–1963 гг.). С. 404.
(обратно)874
С 1 июня 1962 года розничные цены на мясо и молочные продукты были повышены в среднем на 30 % (см.: Собрание постановлений Правительства СССР. 1962. № 8. Ст. 66; Малафеев А. Н. История ценообразования в СССР (1917–1963 гг.). С. 299, 300).
(обратно)875
“К концу рабочего дня на площадь около заводоуправления прибыли первые отряды воинских подразделений новочеркасского гарнизона. Они были без оружия. Приблизившись, солдатские колонны моментально поглощались массой людей. Забастовщики и солдаты братались, обнимались, целовались. Да, да, именно целовались. Офицерам с трудом удавалось извлекать солдат из массы людей, собирать их и уводить от забастовщиков” (см.: Мандель Д. Новочеркасск 1–3 июня 1962 года. Забастовка и расстрел // Россия. 1998. № 11–12. С. 160).
(обратно)876
См.: Мардарь И. Хроника необъявленного убийства. Новочеркасск: Пресс-Сервис, 1992. С. 38.
(обратно)877
См.: Записка заведующего Отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС по РСФСР В. И. Степакова в ЦК КПСС о судебном процессе в г. Новочеркасске. № 33953 от 24 августа 1962 г. // Исторический архив. 1993. № 4. С. 175, 176.
(обратно)878
4 июня 1989 года коммунистическое руководство Китая, используя танки, подавило студенческие демонстрации протеста в Пекине. В тот же день в Польше, первой из стран социалистического лагеря, прошли полудемократические выборы, в результате которых антикоммунистические силы одержали решительную победу. Именно с этого времени начинается расходящаяся траектория развития событий на постсоциалистическом пространстве Центральной и Восточной Европы, СССР и в Восточной Азии. Дэн Сяопин по поводу массового избиения на площади Тяньаньмынь в июне 1989 года, когда погибло около тысячи человек, сказал: “Разве это резня? Это мелочь по сравнению с тем, что видел Китай совсем недавно!” (см.: Куртуа С., Верт Н. и др. Черная книга коммунизма. Преступления, террор, репрессии. М.: Три века истории, 1999. С. 433). О событиях июня 1989 года в Пекине см. также: Death at the Gate of Heavenly Peace: the Democracy Movement in Beijing, April-June 1989 // Chinese Law and Government. Vol. 23. № 1. Armonk: Shape, 1990; col1_0 The Legacy of Tiananmen: China in Disarray. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996; Weller R. P. Resistance, Chaos and Control in China. Taiping Rebels, Taiwanese Ghosts and Tiananmen. Seattle: University of Washington Press, 1994. Правда, нельзя не признать: трагедия на Тяньаньмынь произошла на фоне роспуска коммун и прекращения “культурной революции”, радикально изменивших условия повседневной жизни миллиарда китайцев.
(обратно)879
“Многие помнят: когда мы намеревались в 1988 г. провести реформу цен, общественное мнение воспротивилось, некоторые ученые поддержали его. Мы тоже не проявили нужной твердости. Было решено отложить осуществление этой меры и найти способ сбалансирования роста доходов и расходов населения. Однако надо признать – добиться этого не удалось. И вопрос не только в нашей нерешительности. Есть объективные трудности, которые не позволили сдержать рост доходов, найти подходящие для этого рычаги. Попытка, сделанная в сентябре 1989 г., использовать для этого прогрессивный налог на рост заработной платы, так болезненно воспринятый в стране, не дала желаемого результата. Более того, при падении производства доходы выросли в этом году более чем на 13 %” (см.: Выступление председателя Совета Министров СССР Н. Рыжкова на III сессии ВС СССР “Об экономическом положении страны и концепции перехода к регулируемой рыночной экономике”: Стенограмма заседания Верховного Совета СССР. 24 мая 1990 г.). “Мы… стали печатать в несколько раз больше денег, чем в предыдущие годы, утратили контроль над финансовой ситуацией в стране. И развал потребительского рынка не удастся ликвидировать до тех пор, пока печатный станок Монетного двора будет работать быстрее, чем станки, выпускающие обувь, ткани и другие товары. Обеспечение сбалансированности государственного бюджета – это сегодня задача первая и самая главная. Лишь решив ее, сможем овладеть рычагами государственного управления экономикой, обретем возможность проводить осмысленную финансовую политику” (см.: Выступление Президента СССР М. Горбачева на заседании Верховного Совета СССР от 19 октября 1990 г.). Один из лучших зарубежных специалистов по экономической истории СССР профессор А. Ноув поражался отсутствию какой-либо осмысленной финансово-денежной политики в последние годы существования СССР (см.: Nove A. An Economic History of the USSR, 1917–1991. London; New York: Penguin Books, 1992. P. 418, 419).
(обратно)880
Витте С. Ю. Избранные воспоминания. 1849–1911. М.: Мысль, 1991. С. 524.
(обратно)881
О социально-политических механизмах крахов авторитарных режимов на высоких уровнях индустриального развития см.: Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions About Uncertain Democracies / O’Donnell G., Schmitter P. C., Whitehead L. (eds.). Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1986; Carothers T. The End of the Transition Paradigm // Journal of Democracy. Vol. 13 (1). January 2002. P. 5–21.
(обратно)882
* Международные доллары 1990 года. ** В том числе занятые в рыбном и лесном хозяйстве.
(обратно)883
Неспособность властей СССР принимать решения, необходимые для стабилизации экономики после десятилетий масштабных репрессий, вызывает ассоциации с эволюцией Древнего Рима, где необычная для аграрных обществ традиционная воинственность оседлого крестьянства, позволившая создать империю, с течением времени сменилась крайней миролюбивостью, неспособностью к противостоянию насилию завоевателя – характерными чертами крестьянского населения Римской империи последних веков ее существования.
(обратно)884
“Первое, на чем считаю необходимым остановиться и о чем спрашивают практически все: «Что же произошло в стране?» Ответ однозначен – ситуация сегодня может быть охарактеризована только как всеобщий кризис” (см.: Доклад премьер-министра СССР В. С. Павлова на V сессии Верховного Совета СССР 22 апреля 1991 г.).
(обратно)885
“У нас есть статистика по 1101 наименованию товаров, продаваемых в 150 городах. Сейчас в наличии около 100 товаров……” (см.: Выступление А. Аганбегяна, ректора Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР, на заседании Палаты Верховного Совета СССР 17 сентября 1990 г. Четвертая сессия Верховного Совета СССР: Стен. отчет. Ч. 1. С. 184).
(обратно)886
О механизме распада системы политической власти в СССР см.: Dobbs M. Down with Big Brother? The End of the Soviet Empire. New York: Knopf, 1997; Dunlop J. The Rise of Russia and the Fall of the Soviet Empire. Princeton: Princeton University Press, 1993.
(обратно)887
Указ Президента СССР № УП-1380 от 26 января 1991 г. “О мерах по обеспечению борьбы с экономическим саботажем и другими преступлениями в сфере экономики”.
(обратно)888
“Обеспечить в 1991 году осуществление в централизованном порядке принятых мероприятий по социальной поддержке населения за счет союзного бюджета и других источников в размере 47,6 , в том числе: …2500 – на повышение до уровня минимальной заработной платы размера пособия-по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет; …8214 – на выплату ежемесячного пособия в размере 50 % минимальной заработной платы на каждого ребенка в возрасте от полутора до 6 лет, находящегося на иждивении семьи, если средний совокупный доход на члена семьи не превышает двукратной величины минимальной заработной платы; 687 – на выплату единовременного пособия при рождении ребенка в трехкратном размере минимальной заработной платы; …19 700 – на осуществление мер, предусмотренных новым пенсионным законодательством; …2050 – на увеличение норм расходов на медикаменты и другие нужды в учреждениях здравоохранения; 2621 – на осуществление дополнительных мер по усилению охраны здоровья и улучшению материального положения населения, проживающего на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС, а также по улучшению медицинского обслуживания и социального обеспечения лиц, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС; …1600 – на введение стипендиального обеспечения всех успевающих студентов высших учебных заведений и учащихся средних специальных учебных заведений;…2200 – рост доходов населения за счет отмены и снижения подоходного налога с граждан в связи с повышением не облагаемого налогом минимума заработной платы; …2530 – на введение новых условий оплаты труда для работников культуры, здравоохранения, социального обеспечения и народного образования; 1650 – на установление новых тарифных ставок, окладов и других условий оплаты труда для работников тех отраслей непроизводственной сферы, для которых до настоящего времени они не введены…” (см.: Постановление Верховного Совета СССР “Об Общесоюзном прогнозе Правительства СССР о функционировании экономики страны в 1991 году и о Государственном плане на 1991 год по сферам ведения Союза ССР” от 12 января 1991 г.). Наглядное свидетельство стремления властей в это время принимать исключительно популярные меры – от решения о либерализации банковского сектора до формирования рыночной экономики, товарных рынков и либерализации цен. Принятый в мае 1988 года Закон “О кооперативах” открыл дорогу массовому формированию коммерческих банков, практически не регулируемых государством. В 1990 году в СССР существуют 1400 коммерческих и кооперативных банков. Требования к минимальному капиталу банков ничтожны. Сформировать в столь короткие сроки действенные инструменты банковского надзора невозможно. Отсюда долгосрочные проблемы устойчивости банковской системы, использования формально банковских институтов для уклонения от уплаты налогов, отмывания грязных денег (см.: Экономика СССР в 1990 году. Сообщение Госкомстата СССР // Экономика и жизнь. 1991. Январь. № 5. С. 9). В этом отношении Советский Союз был не уникален. В Польше в 1987–1989 годах правительство, не решавшееся либерализовать цены, провело радикальную либерализацию банковского сектора (см.: Kolodko G. W. Reform, Stabilization Policies and Economic Adjustment in Poland // WIDER Working Papers, WP 51. Helsinki: UNU/WIDER, 1989; Idem. Economic Reforms and Inflation in Socialism: Determinants, Mutual Relationships and Prospects // Communist Economies. 1989. Vol. 1 (2). P. 167–182).
(обратно)889
Из записки председателя правления Внешэкономбанка СССР Ю. С. Московского Президенту СССР М. С. Горбачеву: “Валютное положение страны к началу мая с. г. стало угрожающим. Резко возрастает нехватка валютных ресурсов как для обслуживания внешнего долга, что поставило страну на грань неплатежеспособности, так и для оплаты даже минимальных объемов импорта… Для покрытия дефицита валютных ресурсов осуществлялись краткосрочные финансовые операции, однако в силу возрастающего недоверия к платежеспособности Советского Союза западные банки в настоящее время почти полностью прекратили предоставление СССР краткосрочных финансовых ресурсов. В этих условиях остатки ликвидных валютных средств на счетах Внешэкономбанка СССР за границей, которые могут быть использованы для ежедневных платежей, сократились в начале мая до крайне низкого уровня – порядка 100 , а к концу мая, по имеющимся расчетам, в случае отсутствия дополнительных источников валюты возникнет нехватка ликвидных средств даже для выполнения имеющихся платежных обязательств государства… Главной проблемой становится резкий рост внешнего долга, обусловленного привлечением все новых и новых кредитов без учета реальных источников и конкретного механизма их погашения.…Особую тревогу, высказываемую все чаще и нашими иностранными партнерами, вызывает отсутствие конкретной программы на ближайшую перспективу стабилизации валютного положения страны” (см.: Записка председателя правления Внешэкономбанка СССР Ю. С. Московского Президенту СССР товарищу М. С. Горбачеву “О валютном положении” от 8 мая 1991 г. // Известия. 1996. 17 мая. С. 5).
(обратно)890
Об этом, в частности, свидетельствовало нежелание кого бы то ни было из руководителей страны принимать на себя ответственность за применение силы даже в тех случаях, когда она фактически применялась. О дискуссии о том, кто принимал решение о применении силы в Тбилиси, и о взаимных обвинениях членов руководства страны, их попытках доказать, что они здесь ни при чем, см.: Собчак А. Тбилисский излом, или Кровавое воскресенье 1989 года. М., 1993. С. 155–159. Когда в начале января в Вильнюсе были использованы войска против демонстрантов и для захвата телецентра, советское руководство немедленно открестилось от ответственности за эти действия. Выступая на заседании Верховного Совета СССР 14 января, министр внутренних дел Б. Пуго сказал, что ни президент СССР, ни кто-либо из центра руководства страны не давал распоряжения о применении армейских подразделений в Вильнюсе. По его словам, это была инициатива начальника гарнизона (см.: Степовой А., Чугаев С. Вопрос вне повестки дня: ситуация в Литве // Известия. 1991. 14 янв.). Нежелание руководства страны принимать на себя ответственность за применение силы с неизбежностью приводило к тому, что и армия не хотела принимать на себя такую ответственность. Массовые погромы в Фергане стали тому наглядным свидетельством.
(обратно)891
“Экономика республики все ближе подходит к той грани, за которой нужно будет говорить уже не об экономическом кризисе, а о катастрофе… Степень неуправляемости экономикой достигла катастрофических размеров. Структуры планового управления деморализованы неопределенностью своего нынешнего положения и тем более – будущего. Достоверной информации с мест нет. Команды союзных, республиканских и региональных органов управления противоречат друг другу, что немало способствует росту социальной и политической напряженности в обществе” (см.: Программа правительства РСФСР по стабилизации экономики и переходу к рыночным отношениям // Из тупика? Комсомольская правда. 1991. 23 апр.).
(обратно)892
О вторжении войск Варшавского Договора и последующих контрреформах в Чехословакии см.: Mlynar Z. Night Frost in Prague: The End of Humane Socialism. London: Hurst & Company, 1980. О введении военного положения в Польше, ставшего ответом властей на выступления рабочих, см.: Ash T. G. The Polish Revolution: Solidarity 1980–1982. London: Jonathan Cape, 1983.
(обратно)893
Куронь Яцек (1934–2004) – польский политик и государственный деятель, один из лидеров антикоммунистической оппозиции.
(обратно)894
Potel J.-Y. The Summer Before the Frost: Solidarity in Poland / Trans. P. Markham. London: Pluto Press, 1982. P. 42.
(обратно)895
По данным официальной статистики, за один лишь 1991 год национальный доход снизился более чем на 11 %, валовой внутренний продукт – на 13, промышленное производство – на 2,8, сельскохозяйственное – на 4,5, добыча нефти и угля – на 11, выплавка чугуна – на 17, производство пищевой продукции – более чем на 10 %. Валовой сбор зерна сократился на 24 %. Особенно сильно сократился внешнеторговый оборот – на 37 %, причем объем экспорта сократился на 35, а импорта – на 46 %. Все это, кстати, доказывает, что катастрофический спад производства в России начался до рыночных реформ, а не вследствие реформ, как часто утверждают политики левого толка.
(обратно)896
Некоторые показатели функционирования зернопродуктового подкомплекса агропромышленного комплекса Российской Федерации в 1991 г.: Статистический бюллетень. М.: Госкомстат России, 1992. С. 3.
(обратно)897
Лацис О. В 92-м Россию ожидал голод // Известия. 1995. 4 нояб. С. 5.
(обратно)898
Некоторые показатели функционирования зернопродуктового подкомплекса агропромышленного комплекса Российской Федерации в 1991 г.: Статистический бюллетень. С. 38.
(обратно)899
Валютные резервы Российской Федерации по состоянию на 1 января 1992 года, по данным Центрального банка, составили 16
(обратно)900
Уже в декабре 1989 года в стране начались продовольственные беспорядки (в Свердловске). Первый секретарь горкома КПСС попытался объяснить взбешенной толпе, что практически каждый регион, который должен был поставлять продукты питания в Свердловск, сорвал поставки (см.: Foreign Broadcast Information Service (FBIS). 8 January 1990. P. 97).
(обратно)901
Об истории этого выступления Л. Абалкина, опубликованного 25 сентября 1991 года в газете “Деловой мир”, см.: Лопатников Л. Экономика двоевластия: Беседы об истории рыночных реформ в России. СПб.: Норма, 2000. С. 39, 40.
(обратно)902
Черняев А. С. 1991 год: Дневник помощника Президента СССР. М.: ТЕРРА, Республика, 1997. С. 45–48.
(обратно)903
Гайдар Е. Т. Дни поражений и побед. М.: Евразия, 1997. С. 308, 309.
(обратно)904
“Так, в январе 1992 года ресурсы продовольственного зерна (без импорта) составили около 3 млн т, в то время как продовольственные потребности страны – свыше 5 млн т в месяц. Более чем в 60 из 89 российских регионов не было вообще запасов продовольственного зерна, и выработку муки можно было осуществлять только «с колес», т. е. за счет немедленной переработки поступающего по импорту зерна” (см.: Лопатников Л. И. Экономика двоевластия: Беседы об истории рыночных реформ в России. М.; СПб.: Норма, 2000. С. 43).
(обратно)905
Лацис О. В 92-м Россию ожидал голод // Известия. 1995. 4 нояб.
(обратно)906
О сходстве ситуации, сложившейся в 1991 и 1917 год, наглядно говорит и стилистика документов времени. Вот название одного из постановлений Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 января 1991 года “Об утверждении Положения “О чрезвычайной комиссии Съезда народных депутатов РСФСР по продовольствию”». Указ Президента СССР от 12 апреля 1991 г. № УП-1807 называется “О чрезвычайных мерах по обеспечению материальными ресурсами предприятий, объединений и организаций”. Помощник президента М. Горбачева в это время пишет в своем дневнике: “В стране развал и паника. Все газеты предрекают бунт, гражданскую войну, переворот” (см.: Черняев А. С. 1991 год: Дневник помощника Президента СССР. М.: ТЕРРА, Республика, 1997. С. 56). В это же время, по словам посла США в СССР Дж. Мэтлока, М. Горбачев сказал: “Попробуйте помочь вашему президенту понять, что мы на грани гражданской войны” (см.: Matlock J. F. Autopsy on an Empire. New York: Random House, 1995. Р. 471).
(обратно)907
Бакланов Григорий Яковлевич (1923–2009) – русский советский писатель, участник Великой Отечественной войны.
(обратно)908
О проблемах приватизации в постсоциалистических странах см.: Радыгин А. Реформа собственности в России: на пути из прошлого в будущее. М.: Республика, 1994; Blaszczyk B., Woodward R. (eds.). Privatization in Post-Communist Countries. Warsaw: CASE, 1996; Boyko M., Shleifer A., Vishny R. Privatizing Russia. Cambridge, MA: The MIT Press, 1995; Earl J., Frydman R., Rapaczynski A. (еds.). Privatization in the Transition to a Market Economy. London: Pinter Publishers, 1993; Radygin A. Privatisation in Russia: Hard Choice, First Results, New Targets. London: CRCE-The Jarvis Print Group, 1995.
(обратно)909
Общепринятого определения социализма, как известно, не существует. Поэтому автор везде, где употребляется этот термин, имеет в виду общественный строй, существовавший в России в 1917–1991 годах, в Восточной Европе с конца 1940‑х до конца 1980‑х годов, существующий в Китае, КНДР, во Вьетнаме и на Кубе до настоящего времени.
(обратно)910
Havrylyshyn O. Transformation of Post-Communist Societies: What Happened, Why it Happened and What Next? Данные любезно предоставлены О. Гаврилишиным.
(обратно)911
О факторах, определяющих радикальное различие в развитии реформ в условиях аграрного общества при сохранении авторитарного режима и в высокоиндустриальных странах, переживающих крушение существовавших ранее политических институтов, см.: Sachs J., Woo W. T. Reform in China and Russia // Economic Policy. April 1994.
(обратно)912
Подробнее см.: Гайдар Е. Т. Аномалии экономического роста. М.: Евразия, 1997.
(обратно)913
Бывший помощник М. Горбачева А. Черняев так пересказывает рассказ Г. Явлинского об итогах переговоров с главой английского правительства, относящихся к периоду краха коммунистического режима в СССР: “У нас пусты все активы – это действительно катастрофа, т. е. Внешэкономбанк на счетах не имеет ни сантима, ни цента. Рыжков и Павлов все растратили. Мы совершенные банкроты. И я сказал об этом Мэйджору. Мэйджор реагировал: если бы Англия узнала про себя такое, на другой день произошла бы революция!” У него же: “Явлинский сообщает, что с 4 ноября Внешэкономбанк объявит себя банкротом: ему нечем оплачивать пребывание за границей наших посольств, торгпредств и прочих представителей – домой не на что будет вернуться…” (см.: Черняев А. С. 1991 год: Дневник помощника Президента СССР. М.: ТЕРРА; Республика, 1997. С. 221, 260). Из мемуаров посла Великобритании в СССР Р. Брейтвейта: “Долговые обязательства Советского Союза в оставшиеся месяцы 1991 года составляли 17 млрд долларов. Экспорт за это время должен был принести 7,5 млрд. Еще 2 млрд можно было мобилизовать за счет существующих кредитных линий. Разрыв составлял 7,5 млрд. Горбачев сказал: «Запад заплатил 100 млрд долларов, чтобы профинансировать войну в заливе. Разумеется, он может помочь с финансированием стабилизации демократии в России?» Я обещал доложить, без большой надежды, что запрос будет удовлетворен” (см.: Braithwaite R. Across the Moscow River. The World Turned Upside Down. New Haven; London: Yale University Press, 2002. Р. 248).
(обратно)914
Дж. Мэтлок, посол США в СССР, пишет в своих мемуарах, что во время встречи с главой Кабинета министров СССР В. Павловым накануне попытки переворота 19 августа 1991 года последний говорил ему о том, что страна близка к катастрофе, приближается голод, нет никакой дисциплины и никакого желания выполнять поступающие сверху указания (см.: Matlock J. F. Autopsy on an Empire. New York: Random House, 1995. Р. 580).
(обратно)915
См.: Стародубровская И. В., Мау В. А. Великие революции: От Кромвеля до Путина. М.: Вагриус, 2001. Как справедливо пишут М. Домбровски, С. Гомулка и Я. Ростовски, “правительства столкнулись не столько с проблемой трансформации существующих норм социалистической экономики, сколько с анемией государства, отсутствием каких бы то ни было норм, регулирующих экономическую деятельность” (см.: Dabrowski M., Gomulka S., Rostowski J. Whence Reform? A Critique of the Stiglitz Perspective. 0471. pdf. 2000. P. 13).
(обратно)916
О революционном характере процессов, протекавших в России в начале 1990‑х годов, см. также: McFaul M. Evaluating Yeltsin and His Revolution / Kuchins A. C. (ed.). Russia After the Fall. Washington, D. C.: Carnegie Endowment for International Peace; [distributor] Brookings Institution Press, 2002. P. 21–38.
(обратно)917
North D. C. Economic Performance Through Time // The American Economic Review. 1994. Vol. 84 (3). P. 359–368.
(обратно)918
O’Donnell G., Schmitter Ph. C. Tentative Conclusions about Uncertain Democracies // O’Donnell G., Schmitter Ph. C., Whitehead L. (eds.). Transitions from Authoritarian Rule. Vol. 4. Baltimore; London: The Johns Hopkins University Press, 1986. P. 69; Prozeworski A. Some Problems in the study of Transition to Democracy // Transitions from Authoritarian Rule. Baltimore; London: The Johns Hopkins University Press, 1986. P. 63.
(обратно)919
О проблемах, порождаемых сочетанием этих задач, об их влиянии на трансформационные процессы см.: McFaul M. Russia’s Unfinished Revolution. Political Change from Gorbachev to Putin. Ithaca London: Cornell University Press, 2001; McFaul M. Evaluating Yeltsin and His Revolution / Kuchins A. C. (ed.). Russia After the Fall. Washington, D. C.: Carnegie Endowment for International Peace; [distributor] Brookings Institution Press, 2002. P. 36.
(обратно)920
Александр II, самый либеральный царь в русской истории, в 1865 году писал сыну, что следствием демократизации России будет развал империи на куски (см.: Государственный архив Российской Федерации. Запись 665-1-13. 30 января 1865 года). После провала попытки переворота 19–21 августа 1991 года череда провозглашений независимости бывшими союзными республиками стала непрерывной. Украина провозгласила независимость 24 августа, Белоруссия – 25 августа, Молдавия – 27 августа, Азербайджан – 30 августа, Узбекистан и Киргизия – 31 августа. Грузия провозгласила независимость еще в апреле 1991 года. 6 сентября грузинские власти заявили о том, что они прерывают все связи с СССР. Созданный по решению Съезда народных депутатов СССР после августовских событий 1991 года Государственный совет СССР 6 сентября единогласно проголосовал за предоставление независимости Эстонии, Латвии и Литве. Таджикистан провозгласил независимость 9 сентября. Армения отсрочила эту декларацию о независимости до референдума, проведенного 21 сентября, на котором подавляющее большинство населения высказалось за независимость. Туркменистан провозгласил независимость в октябре.
(обратно)921
На проведенном 1 декабря 1991 года на Украине референдуме 90 % принявших участие в голосовании отдали голоса за независимость. При этом по состоянию на 1991 год количество ядерных боезарядов, размещенных на территории Российской Федерации, составляло примерно 7,5 тыс., на территории Украины – 1400, в Казахстане – примерно 1400, в Белоруссии – менее 100. Только размещенное на Украине ядерное оружие по численности боезарядов намного превышало совместный ядерный потенциал Англии и Франции. Эвакуация ядерного оружия из постсоветских государств в Россию была завершена лишь в 1995–1996 годах (см.: Апикаев А., Савельев А. Ядерная мощь СССР: на земле, на море и в воздухе // Независимая газета. 1991. 2 нояб. С. 1, 4). О составе и размещении ядерных сил на территории республик бывшего СССР см.: Локвуд Д. Ядерное вооружение // Мировая экономика и международные отношения. Приложение к журналу. Ежегодник СИПРИ, 1994. Международная безопасность и разоружение. С. 146–171; The Military Balance 1995–1996. L.: International Institute for Strategic Studies, 1995. P. 107, 108.
(обратно)922
О влиянии дезорганизации хозяйственных связей, связанной с крахом предшествующей экономической системы, и о необходимости времени для создания новых механизмов экономической координации см.: Blanshard O. Assessment of the Economic Transition in Central and Eastern Europe // AEA Papers and Proceedings. May 1996; Blanchard O., Kremer M. Disorganization // Quarterly Journal of Economics. 1997. Vol. 112 (4). P. 1091–1126; Roland G., Verdier T. Transition and Output Fall // Economics of Transition. 1999. Vol. 7 (1). P. 1–28.
(обратно)923
См.: Stiglitz J. E. Globalization and Its Discontents. New York; London: W. W. Norton & Company, 2002. Ch. 5. Один из известнейших экономистов, бывший главный экономист Мирового банка Дж. Стиглиц пишет: “Провал реформ в России отражает непонимание основ рыночной экономики, как и непонимание фундаментальных проблем процесса реформ. По крайней мере, частично проблема была связана с избыточной опорой на экономические модели, представленные в учебниках. Такие модели хороши для того, чтобы учить студентов, но не для того, чтобы советовать правительствам, как вновь создать рыночную экономику, – особенно потому, что типичные, выполненные в американском стиле учебники в столь большой степени опираются на интеллектуальную традицию, восходящую к неоклассической модели, оставляя другие традиции (такие, как те, которые развивали Шумпетер и Хайек), которые могли в большей степени быть адекватны проблемам экономики переходного периода” (см.: The New Russia: Transition Gone Awry / Klein L. R., Pomer M. (eds.). Stanford: Stanford University Press, 2001. P. XX). В данном случае вынужден еще раз сделать исключение из правила не ссылаться в этой работе на личный опыт. Могу засвидетельствовать, что в сложившемся в начале 1980‑х годов кругу экономистов, впоследствии на практике разрабатывавших и реализовывавших реформу в России, Л. Хайек и Й. Шумпетер наряду с Я. Корнаи были, пожалуй, самыми авторитетными авторами, к работам которых обращались при обсуждении проблем реформирования советской экономики.
(обратно)924
Сегодня и те, кто критиковал польскую политику “шоковой терапии”, согласны в том, что радикальный подход к решению проблем либерализации экономики, макроэкономической стабилизации имеет основание. О том же, что институциональные преобразования требуют времени, вряд ли стоит спорить (см.: Колодко Г. В. От шока к терапии: Политическая экономия постсоциалистических преобразований. М.: ЗАО “Журнал Эксперт”, 2000. С. 45, 89). За десятилетие постсоциалистической трансформации в проходящих ее странах было приватизировано примерно в 10 раз больше предприятий, чем за всю предшествующую историю мира (см.: Ослунд А. Строительство капитализма: Рыночная трансформация стран бывшего советского блока / Под ред. И. М. Осадчей. М.: Логос, 2003. С. 436, 437; Nellis J. Privatization in Transition Economies: An Update / Broadman H. G. (ed.). Case-by-Case Privatization in the Russian Federation. World Bank Discussion Paper. 1998. No. 385. P. 13–22).
(обратно)925
ГДР, получившая значительную часть управленческой элиты из Западной Германии, – очевидное исключение, лишь подтверждающее правило.
(обратно)926
Balcerowicz L. Socialism, Capitalism, Transformation. Budapest, 1995.
(обратно)927
Данные по Польше, Венгрии и Румынии см.: IMF International Financial Statistics. 2004; по Чехословакии: World Development Indicators. 2003.
(обратно)928
“…Женский труд, применяемый на фабрике или дома, учитывается в дивиденде, когда за него платят, но не учитывается, когда жены и матери трудятся бескорыстно в своих собственных семьях. Например, если мужчина женится на своей экономке или поварихе, то национальный дивиденд уменьшается” (см.: Пигу А. Экономическая теория благосостояния. Т. 1. М.: Прогресс, 1985. С. 100).
(обратно)929
Kuznets S. Modern Economic Growth. Rate, Structure and Spread. New Haven; London: Yale University Press, 1966. P. 23, 24.
(обратно)930
Малопонятная тем, кто занимался экономикой авторитарных режимов и знаком с характерными для них искажениями экономической статистики, уверенность в том, что на нее можно полагаться, отражается в публикациях, описывающих успехи экономической политики, проводимой в Белоруссии и Узбекистане (см., например: Yudaeva K., Gorban M., Popov V., Volchkova N. Down and Up the Stairs: Paradoxes of Russian Economic Growth // Gur O., Pomfred R. (eds.). The Economic Prospects of the CIS: Sources of Long Term Growth. Oxford: Oxford University Press, 2004. P. 45, 52). От высококвалифицированных экономистов, хорошо знающих, что такое статистика авторитарных режимов, ждать рассуждений об успехах экономической политики в Белоруссии и Узбекистане труднее. Впрочем, и это случается (см.: Полтерович В. М. Трансплантация экономических институтов // Экономическая наука современной России. 2001. № 3).
(обратно)931
Р. Маккиннон обратил внимание на то, что значительная часть хозяйственной деятельности в СССР была направлена на разрушение стоимости (см.: McKinnon R. I. Liberalizing Foreign Trade in a Socialist Economy / Williamson J. (ed.). Currency Convertibility in Eastern Europe. Washington, D. C.: Institute for International Economic, 1991. P. 96–115).
(обратно)932
Hill F., Gaddy C. G. The Siberian Curse: How Communist Planners Left Russia
Out in the Cold. Washington: Brookings Institution Press, 2003. P. 38.
(обратно)933
За последние 10 лет из территорий, находящихся за Уралом, приехало около полутора миллионов человек // Московские новости. 2002. № 16. О тенденции переселения с Севера после краха СССР см.: Heleniak T. Migration from the Russian North During the Transition Period // Social Protection Discussion Paper. № 9925. The World Bank. September 1999.
(обратно)934
“В пересчете на цены мирового рынка продукция нашего машиностроения (по данным за 1988 год) распределяется так: 32 % – инвестиционное оборудование (т. е. станки, оборудование и т. п. – Е. Г.), 62–63 % – вооружение и военная техника, 5–6 % – потребительские товары” (см.: Лацис О. Что с нами было, что с нами будет. М., 1995. С. 70).
(обратно)935
Цензовая промышленность – предприятия, которые насчитывали не менее 16 рабочих при наличии механического двигателя и более 30 рабочих при отсутствии двигателя.
(обратно)936
О масштабах падения производства в России в период 1913–1920 годов см.: Струмилин С. Г. Очерки экономической истории России и СССР. М.: Наука, 1966. С. 490. Его оценки масштабов падения производства выше, чем у Громана. Он считает, что промышленное производство между 1913 и 1920 годами сократилось до 1/7 довоенного уровня.
(обратно)937
L. Bethell (ed.). The Cambridge History of Latin America. Vol. V. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. P. 86–88; Далин С. А. Инфляция в эпохи социальных революций. М.: Наука, 1983; Добролюбский К. П. Экономическая политика термидорианской реакции. М.; Л.: Госиздат, 1930; Стародубровская И. В., Мау В. А. Великие революции: От Кромвеля до Путина. М.: Вагриус, 2001. С. 216–238.
(обратно)938
Из мемуаров помощника М. Горбачева А. Черняева: “Вчера был Совет безопасности. Проблема продовольствия… Но теперь уже конкретнее – хлеб. Не хватает 6 млн тонн до средней нормы. В Москве, по городам уже очереди такие, как года два назад за колбасой. Если не добыть где-то, то к июню может наступить голод. Из республик только Казахстан и Украина (едва-едва) сами себя кормят. Что в стране есть хлеб, оказалось мифом. Скребли по сусекам, чтоб достать валюту и кредиты и закупить за границей. Но мы уже неплатежеспособны… Поехал к Н. Н. Она еще болеет. Просила купить хлеба. Объехал с Михаилом Михайловичем всю Москву, начиная с Марьиной Рощи: на булочных либо замки, либо ужасающая абсолютная пустота. Такого Москва не видела, наверное, за всю свою историю – даже в самые голодные годы” (см.: Черняев А. С. 1991 год: Дневник помощника Президента СССР. М.: ТЕРРА; Республика, 1997. С. 126).
(обратно)939
Даже квалифицированные экономисты, изучающие постсоциалистическую трансформацию, но слабо представляющие себе, в какой степени политика и экономика были переплетены в рамках социалистической системы, иногда позволяют себе поразительные по наивности суждения. Например, о возможности и целесообразности сохранения торговли в рамках СЭВа на принципах, близких к тем, на которых она была организована в рамках советской империи при роспуске самой империи (см.: Roland G. Transition and Economics: Politics, Markets and Firms. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2000. P. 240, 241).
(обратно)940
О связи трансформационной рецессии с перераспределением ресурсов из старых видов экономической деятельности в новые и реструктуризацией существующих предприятий см.: Blanchard O. The Economic of Post-Communist Transition. Oxford: Clarendon Press, 1998.
(обратно)941
Dabrowski M., Gomulka S., Rostowski J. Whence Reform? A Critique of the Stiglitz Perspective. . 2000. P. 13.
(обратно)942
О роли разницы начальных условий в развертывании постсоциалистической рецессии см. также: De Melo M., Denizer C., Gelb A., Tenev S. Circumstance and Choice: The Role of Initial Conditions and Policies in Transition Economies // World Bank Policy Research Working Paper No. 1866, 1997; JaroŠŠ J. Decade in Transition Economies – Comparative Growth // Prague Economic Papers No. 3. Sept. 2001. Сегодня для характеристики первоначальных условий, влияющих на развертывание трансформационной рецессии, обычно используют такие параметры, как зависимость национальной экономики от торговли в рамках СЭВ, размеры подавленной инфляции, избыточной индустриализации, бремя “черного рынка” по отношению к официальному курсу валюты, доля населения, живущего в городах, первоначальный уровень доходов, число лет, проведенных в рамках коммунистического режима, расстояние от Дюссельдорфа (аппроксимация отдаленности от европейского рынка) (см.: Campos N., Coricelli F. Growth in Transition: What We Know, What We Don’t and What We Should // Journal of Economic Literature. Vol. 40. September 2002). Разумеется, это не означает, что качество проводимой экономической политики не имело значения. Если на первых этапах постсоциалистической трансформации первоначальные условия стали определяющим фактором экономической динамики, то по мере ее развития роль экономической политики, ее влияние на динамику производства возрастает (см.: Berg A., Borensztein E., Sahay R., Zettelmeyer J. The Evolution of Output in Transition Economies: Explaining the Differences // IMF Working Paper. 1999. 99/73).
(обратно)943
О связи временнóй протяженности социалистического периода и протяженности постсоциалистической рецессии см.: Fischer S., Sahay R., Vegh C. A. Economies in Transition: The Beginnings of Growth // American Economic Review. Papers and Proceedings. Vol. 86 (2). May 1996. P. 229–233; Adelman I., Vujovic D. Historical, Institutional and Policy Aspects of Transition: An Empirical Analysis / Levy-Livermore A. (ed.). Handbook on the Globalization of the World Economy. Northhampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing, Inc., 1998; Fischer S., Sahay R. The Transition Economies after Te n Years // NBER. Working Paper. 7664. April 2000.
(обратно)944
Первая имеющая шансы на практическую реализацию последовательная программа реформ, ориентированных на формирование рыночной экономики в бывших социалистических странах, была сформулирована в Польше в 1989 году (см.: Dabrowski M., Swiecicki M., Kawalec S., Lewandowski J., Stromburg J., Beksiak J., Bugaj R. Propozycie Przeksztatcenie Polskiej Gospodarki (Proposals for the Transformation of the Polish Economy). Warsaw: PTE, 1989). Л. Балцерович хорошо понимал, что различные процессы экономического реформирования имеют различную максимально возможную скорость (см.: Balcerowicz L. Understanding Postcommunist Transition // Journal of Democracy. Vol. 5 (4). October 1994. P. 75–89). О понимании теми, кто работал в международных финансовых организациях во время начала постсоциалистического перехода, значимости проблем создания институтов, необходимых для эффективного функционирования рыночной экономики, см.: Fischer S., Gelb A. The Process of Socialist Economic Transformation // Journal of Economic Perspectives. 1991. Vol. 5 (4). P. 91–105.
(обратно)945
В Польше в январе 1990 года цены возросли на 70 % (прогнозы правительства предполагали рост лишь на 35 %). Для России прогноз МВФ на январь 1992 года составлял 50 % инфляции, реально цены увеличились примерно на 350 %. Адекватно оценить масштабы накопленного в постсоциалистический период денежного навеса и соответственно точно предсказать темпы инфляции, связанные с ее переводом из подавленной в открытую форму, при либерализации цен не удалось ни одному из постсоциалистических правительств (см.: Boone P., HØrder J. Inflation: Causes, Consequence, Cures // Boone P., Gomulka S., Layard R. (eds.). Emerging from Communism: Lesson from Russia, China and Eastern Europe. Cambridge: MIT Press, 1998. P. 43–71). Польское правительство, начиная реформы, предполагало, что падение ВВП будет продолжаться один год и не превысит 3,1 %. На деле оно продолжалось 3 года и было в 6 раз более масштабным. Аналогичные ошибки были характерны для прогнозов масштабов падения производства после начала реформ в Чехословакии, Венгрии, Румынии (см.: Kolodko G. W. Globalization and Catching-Up: From Recession to Growth in Transition Economies // IMF Working Paper WP/00/100. June 2000. P. 11, 12).
(обратно)946
О влиянии опыта стабилизационных программ, проведенных в Латинской Америке, на разработку мер, направленных на постсоциалистическую трансформацию экономик, выходящих из социалистических систем, см.: Ослунд А. Строительство капитализма: Рыночная трансформация стран бывшего советского блока / Под ред. И. М. Осадчей. М.: Логос, 2003. С. 124.
(обратно)947
Квалифицированное выражение этой широко распространенной в начале трансформационной рецессии точки зрения см.: Calvo G., Coricelli F. Output Collapse in Eastern Europe: The Role of Credit – The Macroeconomic Situation in Eastern Europe. World Bank and IMF, 1992.
(обратно)948
О связи высокой инфляции в переходных экономиках со снижением спроса на деньги и соответственно доли денег в ВВП см.: De Melo M., Denizer C. Monetary Policy During Transition: An Overview // Blejer M. I., Skreb M. (eds.). Financial Sector Transformation: Lessons from Economies in Transition. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 19–92; Boone P., HØrder J. Inflation: Causes, Consequence and Cures // Boone P., Gomulka S., Layard R. (eds.). Emerging from Communism: Lesson from Russia, China and Eastern Europe. Cambridge: MIT Press, 1998. P. 43–71.
(обратно)949
* Для отдельных лет по Венгрии – доля М3 в ВВП, иначе – доля М2 в ВВП.
(обратно)950
* Доля М3 в ВВП, по России – доля М2 в ВВП.
(обратно)951
“Мягкость или жесткость бюджетных ограничений… связана с внешними условиями, в которых находится фирма.…Одно из проявлений мягкости ограничений – то, что выживание, развитие фирмы не зависит от рынка, оно определяется бюрократической координацией или финансовым торгом с властями.… Жесткие бюджетные ограничения, сильные мотивы получения прибыли принуждают фирму использовать наиболее эффективные технологии. Когда это принуждение ослаблено, руководство фирмы способно выжить даже в ситуации, когда расходы фирмы выше, чем в других фирмах, производящих сходные товары” (см.: Kornai J. The Socialist System: The Political Economy of Communism. Oxford: Clarendon Press, 1992. С. 144, 146).
(обратно)952
Krueger A. J. The Political Economy of the Rent-Seeking Society // American Economic Review. 1974. Vol. 64 (3). P. 291–303; Kornai J. The Socialist System: The Political Economy of Communism. Oxford: Clarendon Press, 1992. С. 140–142.
(обратно)953
См.: Корнаи Я. “Путь к свободной экономике”: десять лет спустя (переосмысливая пройденное) // Вопросы экономики. 2000. № 12. О том же писал Ч. Виплош (см.: Wyplosz Ch. Te n Years of Transformation: Macroeconomic Lessons. World Bank Conference on Development Economics. W ashington. 1999. April 28–30).
(обратно)954
Представления о разрушительных последствиях “шоковой терапии”, характерные для начала 90‑х годов, хорошо отражены в работах: Kolodko G. W. Polish Hyperinflation and Stabilization 1989–1990. Most 1: 9–36. 1991; Idem. Transformacia Polskiej gospodarki: Sukces czy porazka? (The Transformation of the Polish Economy: Success or Failure?). Warsaw: BGW, 1992; Idem. Hyperinflation and Stabilization in Postsocialist Economies // IF Working Papers. Warszawa, 1990. № 16; Portes R. From Central Planning to a Market Economy // Islam Shafiqul and Mandelbaum Michael (eds.). Marking Markets. New York: Council on Foreign Relations, 1993. P. 16–52; Nuti D. M. Comment // Williamson J. (ed.). Currency Convertibility in Eastern Europe. Washington, D. C.: Institute for International Economics, 1991. P. 48–55; Idem. Inf lation, Interest and Exchange Rates in the Transition // Economics of Transition 4 (1): 137–58. 1996; Nuti D. M., Portes R. Central Europe: The Way Forward // Portes R. (ed.). Economic Transformation in Central Europe. A Progress Report. London: Center for Economic Policy Research, 1993. P. 1–20.
(обратно)955
Работы: Lipton D., Sachs J. D. Privatization in Eastern Europe: The Case of Poland // Brookings Paper on Economic Activity. 1990. Vol. 20 (1). P. 293–361; Berg A., Sachs J. Structural Adjustment and International Trade in Eastern Europe: The Case of Poland // Economic Policy. 1992. Vol. 14. P. 117–174; Aslund A. Principles of Privatization // Csaba L. (ed.). Systemic Change and Stabilization in Eastern Europe. Aldershot: Dartmouth, 1991. P. 17–31 – дают представление об основных аргументах сторонников быстрого проведении радикальных реформ. В работах: Portes R. The Path of Reform in Central and Eastern Europe: An Introduction // European Economy. Special Issue. 1991. Vol. 2. P. 3–15; Ronald G. Political Economy of Sequencing Tactics in the Transition Period // Csaba L. (ed.). Systemic Change and Stabilization in Eastern Europe. Aldershot: Dartmouth, 1991. P. 47–64 – представлена аргументация сторонников градуализма, используемая ими в тот же период.
(обратно)956
В 1990 году в Польше, первой стране, начавшей радикальные рыночные реформы после краха социализма, падение производства составило 11,5 %; в Венгрии, где к этому времени в большей степени были сформированы элементы функционирующей рыночной экономики, – лишь 3,5 %. Это стало весомым аргументом в пользу градуалистского подхода к проведению реформ. В 1991 году показатели экономической динамики этих стран сблизились, а затем темпы роста польской экономики превысили темпы роста экономики Венгрии. Через 3–4 года те же авторы, которые писали о крахе “шоковой терапии” в Польше, стали говорить об успехе постепенных экономических преобразований в этой стране. Описание краха польской стратегии “шоковой терапии” на фоне удовлетворительного хода градуалистских реформ в Венгрии, характерных для этого периода, и пересмотр отношения к итогам польских реформ после 1992 года, см.: Murrell P. The Transition According to Cambridge, Massachusetts // Journal of Economic Literature. 1995. Vol. 33 (1). P. 164–178; Idem. What is Shock Therapy? What Did It Do in Poland and Russia? // Post-Soviet Affairs. 1993. Vol. 9 (2). P. 111–140.
(обратно)957
Некоторые польские экономисты считают, что именно это стало одной из причин резкого замедления роста польской экономики в 2001–2003 годах (см.: Antczak M. Koszty spowolnienia prywatyzacji // Zeszyty BRE Bank – CASE. 2004. № 70. С. 87–109).
(обратно)958
В статье середины 1990‑х годов С. Фишер, Р. Сахаи и К. Вейт на основе опыта стран, в которых уже начался экономический рост, оценивают среднюю протяженность постсоциалистической рецессии в 3,6 года (см.: Fischer S., Sahay R., Vegh C. A. Economies in Transition: The Beginnings of Growth // American Economic Review. Papers and Proceedings. Vol. 86 (2). May 1996. P. 229; Wyplosz Ch. Te n Years of Transformation: Macroeconomic Lessons. World Bank Conference on Development Economics. Washington. 1999. April 28–30. P. 12).
(обратно)959
См. ранние работы, посвященные анализу постсоциалистической рецессии, факторов, определяющих ее масштабы и протяженность: Gomulka S. The Causes of Recession Following Stabilization // Comparative Economic Studies. 1992. Vol. 33 (2). P. 71–89; Kornai J. Transformational Recession: A General Phenomenon Examined Through the Example of Hungary is Development // Economie Appliquée. 1993. Vol. 46 (2). P. 181–227. В последней из них Я. Корнаи ввел сам термин “трансформационная рецессия”.
(обратно)960
Работа Г. Колодко, написанная в 1998 году, хорошо отражает господствовавшее в то время представление о навсегда разошедшихся траекториях развития постсоциалистических стран Восточной и Центральной Европы и стран СНГ. В это время Г. Колодко представляет себе состояние и перспективы развития России следующим образом: “По уровню жизни населения Россия сходна с Африкой, по уровню коррупции – с Пакистаном, капризным парламентом напоминает Бразилию, сепаратизмом – Канаду. От переходных стран Россия взяла стабилизацию по-болгарски, фискальную политику по-румынски, монетаристскую политику Польши, приватизацию Чехии, реструктуризацию Словакии, обслуживание внешнего долга, как в Венгрии, межреспубликанские отношения, схожие с Югославией, и контроль за банками по типу Албании” (см.: Колодко Г. В. От шока к терапии: Политическая экономия постсоциалистических преобразований. М.: ЗАО “Журнал Эксперт”, 2000. С. 115). В 1999 году тезис о крахе рыночных реформ в России воспринимается как бесспорный, дискуссия идет лишь о его причинах (см.: Stiglitz J. Whither Reform? // Annual Bank Conference on Development Economics, Washington D. C. April, 1999; Aslund A. Why has Russia’s Economic Transformation been so Arduous? World Bank, ABCDE Conference 1999, Washington D. C.; Шмелев Н. П. О консенсусе в российской экономической и социальной политике // Вопросы экономики. 1999. № 8). И. Сегвари пишет в это время: “Да, рыночные реформы, бесспорно, провалились. Однако провалились не рыночные реформы как таковые, а та конкретная модель рыночных реформ и капитализма, которой следовала Россия” (см.: Сегвари И. Семь расхожих тезисов о российских реформах: верны ли они? // Вопросы экономики. 1999. № 9). Все это было опубликовано как раз тогда, когда Россия уже вступила в период динамичного экономического роста. Это еще один пример того, сколь осторожным нужно быть в оценках и прогнозах, когда речь идет о столь необычном в мировой экономической истории беспрецедентном явлении, как постсоциалистический переход.
(обратно)961
См.: Домбровский М. Фискальный кризис в период трансформации. Варшава, 1996; Hemmins R., Cheasry A., Lahiri A. The Revenue Decline – Policy Experiences and Issues in the Baltic. Russia and Other Countries of the Former Soviet Union. Washington, 1997; Гайдар Е. Т. Детские болезни постсоциализма (К вопросу о природе бюджетных процессов этапа финансовой стабилизации) // Вопросы экономики. 1997. № 4. С. 4–25.
(обратно)962
Такие страны, как Польша и Венгрия, принадлежавшие к кругу тех, которым удалось добиться быстрого восстановления экономического роста, были пионерами и по массовому применению процедуры банкротства (см.: Гайдар Е. Наследие социалистической экономики: макро– и микроэкономические последствия мягких бюджетных ограничений: Научные труды ИЭПП. № 13. Р. М., 1999. С. 15). О связи действенности процедур банкротства, ужесточения бюджетных ограничений и соответственно ускорения процесса реструктуризации экономики см.: Kornai J. Hardening the Budget Constraint: The Experience of Post-Socialist Countries. Collegium Budapest Discussion Paper Series 59, 1999.
(обратно)963
О широком распространении неплатежей как характерном проявлении мягкости бюджетных ограничений в системах рыночного социализма см.: Kornai J. The Socialist System: The Political Economy of Communism. Oxford: Clarendon Press, 1992. С. 501, 502.
(обратно)964
В числе работ западных авторов, связывавших проблемы неплатежей с недостатком ликвидности, низкой монетизацией ВВП уже в то время, когда под влиянием массового распространения процедуры банкротства неплатежи, например, в России резко сократились и в реальном исчислении, и в долях ВВП, можно назвать, например: Gros D., Steinherr A. Economic Transition in Central and Eastern Europe: Planting the Seeds. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. P. 150, 151.
(обратно)965
“Финансовая стабилизация не может ни предшествовать стабилизации производства…, ни следовать за ней. До тех пор пока спад производства не сменится устойчивым ростом, придется оставить любые попытки составления бездефицитного государственного бюджета. При снижении объемов производства в стране бездефицитный бюджет может быть получен только ценой гиперинфляции. Не говоря уже о том, что нет бездефицитных бюджетов даже и в благоприятных рыночных странах…” (см.: Федоренко Н., Петраков Н., Перламутров В., Дадаян В., Львов Д. Штурм рыночных редутов пока не удался // Известия. 1992. 18 марта. С. 3).
(обратно)966
Академик РАН О. Богомолов: “Одна из существенных черт проводившейся в течение десятилетия экономической политики – реализация оголтелого монетаризма. Между тем даже из уст авторитетных западных экономистов, в том числе лауреатов Нобелевской премии Джозефа Стиглица и Лоренса Кляйна, мы слышим: если экономика находится в трудном положении, задача государства не сокращать до предела денежную и кредитную эмиссию, порождая тем самым безработицу, свертывание инвестиций и потребительского спроса, а, наоборот, проводить активную эмиссионную политику. Так поступали на Западе, в том числе в США” (см.: Реформационное десятилетие: итоги и проблемы (по материалам заседания за “круглым столом”, проведенного ИМЭПИ РАН) // Российский экономический журнал. 2002. № 5–6. С. 5.) Академик Д. Львов: “Макроэкономические вычисления показывают, что сокращение инфляции на 1 % приводит к падению объема выпуска на 3–5 %… Для того чтобы “урезать” уровень инфляции с 10 до 0 % в месяц, необходимо снизить производство практически до нуля. Но если мы решим увеличить инфляцию до, скажем, 15 % в месяц, получается возможным, как свидетельствуют вычисления, достичь объема выпуска порядка 70 % уровня 1991 года” (см.: Львов Д. Обновленные ориентиры экономической политики // Реформы глазами американских, российских ученых / Под ред. О. Богомолова. М., 1996. С. 163–184). На фоне опыта последних 15 лет постсоциалистического перехода идея, что можно наращивать объемы производства, разгоняя инфляцию до уровня 535 % в год, выглядит впечатляюще.
(обратно)967
О связи сохранения мягких бюджетных ограничений, финансовой нестабильности и слабости стимулов к перераспределению ресурсов в пользу экономически эффективных предприятий и видов деятельности в России в первые годы реформ см.: Litwack J., Qian Y. Balanced or Unbalanced Development: Special Economic Zones as Catalysts for Transition // Journal of Comparative Economics. 1998. Vol. 26 (1). P. 117–141; Roland G. Transition and Economics: Politics, Markets and Firms. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2000. P. 213–215.
(обратно)968
* Предварительная оценка.
(обратно)969
* По данным ВВП за 2003 год. ** До 1997 года включительно по четырем отраслям.
(обратно)970
В июне 1992 года Верховный Совет России в течение нескольких минут проголосовал за удвоение расходов федерального бюджета. “Принято предложение постоянных комиссий палат комитетов Верховного Совета России об увеличении расходов республиканского бюджета Российской Федерации на 1992 год в сумме 334,2 , в том числе по бюджету текущих расходов – 130,3 , бюджету развития – 203,9 за счет дополнительной мобилизации доходов в бюджетную систему Российской Федерации…” (см.: Российская газета. 1992. 18 июля). О механизме развития финансового кризиса в Болгарии см.: Economic Surveys of Bulgaria. P.: OECD, 1999.
(обратно)971
Schumpeter J. A. Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper & Brothers Publishers, 1950. P. 81.
(обратно)972
Я. Корнаи, описывая специфику трансформационной рецессии по отношению к обычным рецессиям в рыночных экономиках, обращает внимание на две ее специфические характеристики: необходимость перехода от рынка продавца к рынку покупателя и внедрение жестких бюджетных ограничений (см.: Kornai J. Transformational Recession: The Main Causes // Journal of Comparative Economics. 1994. Vol. 19. P. 39–63). О. Бланшар определяет ключевые процессы постсоциалистического перехода как сочетание двух элементов: перераспределения ресурсов со старых на новые виды экономической деятельности (закрытие предприятий, их банкротство, сочетаемое с созданием новых предприятий) и реструктуризации выживающих фирм (рационализация, изменение структуры производства и новые инвестиции) (см.: Blanchard O. The Economics of Transition in Eastern Europe. Oxford: Clarendon Press, 1997). О факторах, обусловливающих падение производства на ранних стадиях постсоциалистического перехода, их связи с необходимостью изменения структуры производства, укоренением жестких бюджетных ограничений, ориентацией производства на платежеспособный спрос, см.: Havrylyshyn O., Izvorski I., Rooden R. V. Recovery and Growth in Transition Economies 1990–1997: A Stylized Regression Analysis // IMF Working Paper. WP 98/141. September 1998. P. 10–13.
(обратно)973
О комплиментарных для действующей власти объяснениях причин восстановления экономического роста в России см.: Федоренко Н. Россия на рубеже веков. М.: Экономика, 2003. С. 54–57.
(обратно)974
Berglof E., Kunov A., Shvets J., Yudaeva K. The New Political Economy of Russia. London: The MIT Press, 2003; Gaddy C. G. Has Russia Entered a Period of Sustainable Economic Growth? // Kuchins A. C. (ed.). Russia After the Fall. Washington, D. C.: Carnegie Endowment for International Peace; [distributor] Brookings Institution Press, 2002. P. 125–144; Ellman M. The Russian Economy under El’tsin // Europe – Asia Studies. 2000. Vol. 52 (8). P. 1421; Ослунд А. Строительство капитализма: Рыночная трансформация стран бывшего советского блока / Под ред. И. М. Осадчей. С. 37. Надо заметить, что сама ссылка на девальвацию рубля как на фактор экономического роста предполагает, что рыночные стимулы в российской экономике начали работать.
(обратно)975
Л. Арон обратил внимание на то, что процессы постсоциалистического перехода в подавляющем большинстве стран Восточной Европы и на постсоветском пространстве обычно изучаются в сравнительном контексте, на фоне событий, протекающих в других постсоциалистических странах. Россия же из-за ее размеров чаще всего рассматривается отдельно (см.: Aron L. Structure and Context in the Study of Post-Soviet Russia: Several Empirical Generalizations in Search of a Theory // Russian outlook. January 1. 2001). Об этом же пишет П. Сутела (см.: Sutela P. The Russian Market Economy. Helsinki: Kikimora Publications, 2003. P. 7, 8).
(обратно)976
Разумеется, можно попытаться связать рост ВВП на всем постсоветском пространстве в 1999–2003 годах с растущими ценами на российскую, казахстанскую и азербайджанскую нефть, стимулировавшими увеличение экспорта в эти страны из других государств СНГ, но это противоречит фактам – продолжающемуся снижению доли России и других нефтедобывающих стран во внешней торговле стран Содружества, не являющихся экспортерами нефти (см.: Havrylyshyn O. Transformation of Post-Communist Societies: What Happened Why it Happened and What Next? Неопубликованная рукопись, любезно предоставленная автором).
(обратно)977
Исключением была приостановка роста производства в Киргизии в 2002 году. Природная катастрофа на несколько месяцев парализовала работу крупнейшего золотодобывающего предприятия. В 2003 году экономический рост восстановился.
(обратно)978
Долларов США за единицу национальной валюты.
(обратно)979
К наиболее интересным работам, посвященным анализу постсоциалистического спада производства и последующего восстановления роста, можно отнести: De Melo M., Denizer C., Gelb A. From Plan to Market: Patterns of Transition // Blejer M. I., Skreb M. (eds.). Macroeconomic Stabilization in Transition Economies. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. P. 17–72; Berg A., Borensztein E., Sahay R., Zettelmeyer J. The Evolution of Output in Transition Economies: Explaining the Differences // IMF Working Paper. WP 99/73. 1999; Havrylyshyn O., Wolf T. Growth in Transition Countries. 1991–1998. The Main Lessons. Paper Presented at the Conference “A Decade of Transition”, International Monetary Fund. Washington, D. C. February 1–3, 1999; Ослунд А. Строительство капитализма: Рыночная трансформация стран бывшего советского блока / Под ред. И. М. Осадчей. М.: Логос, 2003.
(обратно)980
Понятие совокупной факторной продуктивности (англ. – Total Factor Productivity) определяется как отношение совокупного выпуска к совокупным затратам. Рост совокупной факторной продуктивности (или выпуска на единицу затрат) связывают с ростом эффективности, обусловленным техническим прогрессом и лучшей организацией производства.
(обратно)981
Факторы экономического роста российской экономики: Научные труды. № 70Р. М.: ИЭПП, 2003. С. 66, 138.
(обратно)982
Громан В. О некоторых закономерностях, эмпирически обнаруживаемых в нашем народном хозяйстве // Плановое хозяйство. 1925. № 1, 2. Ту же проблему активно разрабатывал В. Базаров (см.: Базаров В. О “восстановительных процессах” вообще и об “эмиссионных возможностях” в частности // Экономическое обозрение. 1925. № 1; Он же. Перспективы нашего народнохозяйственного развития на 1925/26 год). К дискуссии этих авторов о восстановительном росте возвращается в своей работе В. Мау (см.: Мау В. Реформы и догмы: 1914–1929. М.: Дело, 1993).
(обратно)983
См.: Громан В. О некоторых закономерностях, эмпирически обнаруживаемых в нашем народном хозяйстве. С. 101.
(обратно)984
В. Молотов: “Базаров признает, что действительность опровергает его теорию «затухающей кривой»”. И. Сталин: “Вот как!” В. Молотов: “А ведь всего года два тому назад Базаров выпустил ученую книгу с большим количеством таблиц и диаграмм, доказывавшую противоположное. Теперь ему приходится от своих «ученых трудов» открещиваться” (см.: Как ломали НЭП: Стенограммы пленумов ЦК ВКП (б) 1928–1929 гг. / Под ред. А. Н. Яковлева. Т. 5. М.: Россия XX век; Материк, 2000. С. 219).
(обратно)985
Контрольные цифры народного хозяйства на 1925–1926 годы. Утвержденный Президиумом Госплана СССР доклад комиссии по контрольным цифрам. М.; Л.: Плановое хозяйство, 1925.
(обратно)986
См.: Громан В. Конъюнктурный обзор народного хозяйства СССР за первое полугодие 1924 и 1925 года // Плановое хозяйство. 1925. № 6.
(обратно)987
Davies R. W, Harrison M., Wheatcroft S. G. (eds.). The Economic Transformation of the Soviet Union, 1913–1945. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
(обратно)988
О различных оценках соотношения ВВП Советского Союза и России в 1913–1928 годах см.: Кафенгауз Л. Б. Эволюция промышленного производства в России (последняя треть XIX – 30‑е годы XX в.). М., 1994. С. 172–197; Народное хозяйство РСФСР за 60 лет. М., 1977. С. 23, 46–48; Федоренко Н. Россия на рубеже веков. М., 2003. С. 121, 122.
(обратно)989
World Economic Outlook. Focus on Transition Economies. International Monetary Fund, October 2000.
(обратно)990
“Каков темп роста общей суммы товарной массы, если измерить его в процентном отношении товарной массы данного года к его предшествующему? Для 1922/23 г. он равен 28 %, в следующем году – 25, а в последнем из исследуемых лет – 17 %. Мы видим совершенно определенный закон замедления темпа роста” (см.: Громан В. О некоторых закономерностях, эмпирически обнаруживаемых в нашем народном хозяйстве. С. 113).
(обратно)991
Капитальные вложения в 1924–1925 годах (385 ) не намного превышали амортизационные отчисления (277 ) (см.: Квиринг Э. И., Кржижановский Г. Основные проблемы контрольных цифр народного хозяйства на 1928–1929 гг. М.: Плановое хозяйство, 1929. С. 129).
(обратно)992
См.: Юровский Л. Денежная политика Советской власти (1917–1927). М.: Начала-Пресс, 1996.
(обратно)993
Свидетельство исчерпания резервов восстановительного роста в 1925–1926 годах – начало повышения себестоимости продукции. Это было связано с быстрым увеличением заработной платы, исчерпанием ранее созданных производственно-технических резервов (см.: Малафеев А. Н. История ценообразования в СССР (1917–1963 гг.). М.: Мысль, 1964. С. 101).
(обратно)994
Изданные в 2000 году ранее секретные материалы ЦК ВКП (б) хорошо иллюстрируют, как решение задачи сохранения высоких темпов роста было связано с демонтажом нэпа (см.: Как ломали НЭП: Стенограммы пленумов ЦК ВКП (б) 1928–1929 гг. М.: Россия XX век; Материк, 2000. Т. 1–5). Из выступления председателя Совнаркома А. Рыкова: “В этот период темп роста вложений в промышленность может замедлиться. Создавать же фетиш из темпа ни в коем случае невозможно. И теперь нам нужно обеспечить такое “питание” промышленности средствами, при котором она на протяжении минимального исторического срока смогла бы занять решающие позиции во всей системе хозяйства, чтобы мы не ощущали в деле рационализации и реконструкции хозяйства стеснения от того, что у нас машин нет, тракторов нет, нет химических удобрений, нет специалистов, нет тех кадров, которые могут осуществить эту реконструкцию” (см.: Как ломали НЭП: Стенограммы пленумов ЦК ВКП (б) 1928–1929 гг. / Под ред. А. Н. Яковлева. Т. 3. Пленум ЦК ВКП (б) 16–24 ноября 1928 г. М.: МФД, 2000. С. 38). Из его же выступления на ноябрьском пленуме ЦК ВКП (б) 1928 года: “При обсуждении вопроса о темпе роста нельзя думать так, что каким-то законом всего переходного периода является постоянное возрастание темпа или даже удержание из года в год одного и того же темпа”. Из выступлений И. Сталина на апрельском пленуме ЦК ВКП (б) 1929 г.: “Вопрос о темпе развития индустрии и о новых формах смычки между городом и деревней. Этот вопрос является одним из важных вопросов наших разногласий.…План тов. Бухарина есть план снижения темпов развития индустриализации и подрыва новых форм смычки” (Там же. Т. 3. С. 37–38; Т. 4. С. 477–480).
(обратно)995
См.: Там же. Т. 1. С. 18.
(обратно)996
Мау В. Альтернатива Струмилина // Ведомости. 2002. 27 марта.
(обратно)997
Громан В. О некоторых закономерностях, эмпирически обнаруживаемых в нашем народном хозяйстве. С. 32.
(обратно)998
Об ограниченной роли новых инвестиций в процессе восстановительного роста во время постсоциалистического перехода см.: Wolf H. C. Transition Strategies: Choices and Outcomes. New York: Stern Business School, 1997. О специфике восстановительного роста, при котором увеличение инвестиций не является локомотивом роста, а следует за ним см.: De Melo M., Denizer C., Gelb A. From Plan to Market: Patterns of Transition // Blejer M. I., Skreb M. (eds.). Macroeconomic Stabilization in Transition Economies. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. P. 17–72; Havrylyshyn O., Wolf T. Growth in Transition Countries. 1991–1998. The Main Lessons. Paper Presented at the Conference “A Decade of Transition”, International Monetary Fund. Washington, D. C., February 1–3, 1999; Ослунд А. Строительство капитализма: Рыночная трансформация стран бывшего советского блока / Под ред. И. М. Осадчей. М.: Логос, 2003.
(обратно)999
Dornbusch R., Edwards S. The Macroeconomics of Populism in Latin America. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1991. Р. 200.
(обратно)1000
См.: Факторы экономического роста российской экономики: Научные труды № 70. ИЭПП, 2003. С. 186, 187, 194, 195.
(обратно)1001
Европейский Союз и США признали Россию страной с рыночной экономикой в июне 2002 года (см.: (USA Dept. of Commerce)). Из выступления Б. Маршалла, вице-президента Российско-Американского совета по деловому сотрудничеству, на слушаниях в Министерстве торговли США от 27 марта 2002 года: “Отрицать официальное признание России как страны с рыночной экономикой – значит отрицать сегодняшнюю реальность” (см.: -Summaries-testimonies/2002/Commerce%20Hearing%20march%2027.htm).
(обратно)1002
* Соответствует уровню ВВП на душу в 5437 долл. для России, 5459 долл. для Бразилии, 5582 долл. для Мексики, 5538 долл. для Испании.
** Число занятых в промышленности, включая строительство.
(обратно)1003
Фрэнсис Бэкон (1561–1626) – английский философ, историк, политический деятель, предвестник научной революции.
(обратно)1004
Возникновение концепции демографического перехода относится к началу XX в., когда французский демограф А. Ландри (1874–1956), пытаясь теоретически обобщить данные о зависимости роста населения от социально-экономических условий, сформулировал в 1909 году концепцию “демографической революции”, получившую впоследствии (1945 год) по предложению американского демографа Ф. Ноутстайна наименование “демографический переход”, объясняющую причины изменения типов воспроизводства населения (см.: Landry A. La Révolution Démographique. P., 1934. P. 54).
(обратно)1005
Плотность населения в районах присваивающего хозяйства колебалась от 0,01 до 1,0 человека на 1 км2. Численность групп охотников-собирателей обычно составляла 20–50 человек (см.: Martin J. F. On the Estimation of the Sizes of Local Groups in a Hunting-Gathering Environment // American Anthropologist. 1973. Vol. 75 (5). P. 1448–1468).
(обратно)1006
По оценкам Дж. Бердселла, от 15 до 50 % детей, родившихся в период раннего палеолита, становились жертвами инфантицида (см.: Birdsel J. B. Some Predictions for the Pleistocene Based on Equilibrium Systems Among Recent Hunter-gatherers // Lee R. B., Vore. I. de (eds.). Man the Hunter. Chicago, 1968. P. 239). (Инфантицид – детоубийство. – Прим. ред.).
(обратно)1007
Cipolla C. M. The Economic History of World Population. Harmondsworth: Penguin Books, 1978. P. 113.
(обратно)1008
Hassan Fekri A. On Mechanisms of Population Growth During the Neolithic // Current Anthropology. 1973. 14 (5). P. 535–542; Deevey E. S. The Human Population // Scientific American. 1960. September. P. 195.
(обратно)1009
Ammerman A., Cavall-Sforza L. A Population Model for the Diffusion of Early Forming in Europe // Renfrew C. (ed.). The Explanation of Culture Change: Models in Prehistory. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1973.
(обратно)1010
В 1000–1855 годах в Европе зарегистрировано 450 случаев голода (см.: The Determinants and Consequences of Population Trends. New York, 1950. P. 51).
(обратно)1011
Durand J. D. The Viewpoint of Historical Demography // Population Growth: Anthropological Implications / Spooner B. (ed.). Cambridge, MA: MIT Press, 1972. P. 373; Sauvy A. Les Limites de la vie Humaine. P.: Hachette, 1961; Pearson Ch. On the Change in Expectation of Life in Man During a Period of Circa 2000 Years // Biometrika. 1901–1902. Vol. 1.; Macdonell W. R. On the Expectation of Life in Ancient Rome and in the Provinces of Hispania and Lusitania and Africa // Biometrika. 1913. Vol. IX. Р. 366–380; Durand J. D. Mortality Estimates from Roman Tombstone Inscriptions // American Journal of Sociology. 1959/60. № 65. P. 365–373; Onlin G. No Safety in Numbers: Some Pitfalls in Historical Statistics // Rosovsky H. (ed.). Industrialization in Tw o Systems: Essays in Honor of Alexander Gerschenkron. New York: John Wiley & Sons, 1966; Russel J. C. The Control of Late Ancient and Medieval Population. Philadelphia: The American Philosophical Society, 1985. P. 12, 13, 35; Россет Э. Продолжительность человеческой жизни. М.: Прогресс, 1981. С. 187–197.
(обратно)1012
Мальтус Т. Опыт о законе народонаселения. Петрозаводск: Петроком, 1993. С. 25.
(обратно)1013
Об эволюции европейской семьи cм.: Changing Patterns of European Family Life // K. Boh, M. Bak et. al. (eds.). London; New York: Routledge, 1989.
(обратно)1014
О необычно позднем для всех аграрных обществ среднем времени вступления в брак в Западной Европе cм.: Stone L. The Family, Sex and Marriage. London: Weidenfeld and Nicolson, 1979. P. 652.
(обратно)1015
Классическая работа, посвященная специфике европейских норм формирования семьи (относительно поздний брак, широкое распространение безбрачия, низкие по стандартам аграрного общества показатели рождаемости), принадлежит перу Дж. Хиджнала (см.: Hajnal J. European Marriage Patterns in Perspective // Glass D. V., col1_1 (eds.). Population in History: Essays in Historical Demography. London, 1965). На широкое распространение среди современников представления о принципиальном отличии характерной для Северо-Западной Европы “узкой” семьи от семейных установлений в других регионах мира обращают внимание и те авторы, которые сегодня доказывают, что такие отличия были ограниченными (см.: Harris C. C. The Family and Industrial Society. London: George Allen & Unwin, 1965).
(обратно)1016
Hajnal J. Tw o kinds of pre-industrial household formation system // Wall R., Robin J., Laslett P. (eds.). Family Forms in Historic Europe. Cambridge; London: Cambridge, University Press, 1983. Р. 66–69.
(обратно)1017
Г. Кинг считал, что средняя численность “семьи”, или “очага”, в Англии ХVII в. колеблется в пределах от 4 до 5,5 человека обоего пола в зависимости от района. Во Франции Вобан считал ее равной 4–4,5 человека, для Испании Хендрикс принимал ее за 5 человек, Белох – за 4,5 человека. Для Италии, Щвеции и Финляндии Белох определял ее равной приблизительно 5 (см.: Водарский Я. Е. Переписи населения в XVII в. в России и других странах Европы // Феодальная Россия во всемирном историческом процессе. М.: Наука, 1972. С. 67).
(обратно)1018
Д. Лал связывает укоренение в Западной Европе традиций малой семьи и регулирования рождаемости с влиянием Католической церкви. Церковь, заинтересованная в концентрации в своих руках собственности, в первую очередь земельной, поощряет формирование норм семейного поведения, увеличивающих шансы на пожертвование в ее пользу (см.: Lal D. Unintended Consequences: the Impact of Factor Endowments, Culture and Politics on Long-Run Economic Performance. Cambridge; Massachusetts; London: The MIT Press, 1998. Р. 83–85). О рекомендациях Папы Григория об организации семейных отношений в христианской Англии см.: Беда Достопочтенный. Церковная история народа ангелов / Пер. с лат. В. В. Эрлихмана. СПб.: Алетейя, 2003. C. 302.
(обратно)1019
Об аномально высокой продолжительности жизни для условий аграрного общества в Японии см.: MacFarlane A. The Savage Wars of Peace: England, Japan and the Malthusian Trap. Oxford: Blackwell, 1997.
(обратно)1020
Maddison A. The World Economy: A Millennial Perspective. P.: OECD, 2001. Р. 40, 41; Jones E. L. Growth Recurring. Economic Change in World History. Oxford: Clarendon Press, 1988.
(обратно)1021
Мельянцев В. А. Экономический рост стран Востока и Запада в долгосрочной перспективе. Автореф. дис. д-ра экон. наук. М., 1995; Lal D. Unintended Consequences: the Impact of Factor Endowments, Culture and Politics on Long-Ran Economic Performance. Cambridge; Massachusetts; London: The MIT Press, 1998. То, что темпы роста душевого ВВП Японии в XVII–XVIII вв. заметно превышают среднемировые, придает этой гипотезе дополнительную убедительность. Душевой ВВП стран Азии (без Японии) в 1500–1820 годах не имел выраженной тенденции к росту, тогда как в Японии ежегодный рост в это время оценивается примерно в 0,1 %, в Западной Европе – в 0,15 %.
(обратно)1022
Эпидемии чумы в Западной Европе с середины XVII в. носят эпизодический характер. В это же время замедляется распространение тифа. В Южной Англии последний случай катастрофического голода относится к 1597 году, в Северной Англии – к 1644 году. В начале XVIII в. голод в Западной Европе, за редкими исключениями, перестает быть причиной резких всплесков смертности. Массовый голод в Ирландии в середине XIX в. для Западной Европы – уже исключительный случай (см.: Appleby A. B. Epidemics and Famine in the Little Ice Age // Climate and History. Studies in Interdisciplinary History, 1980. Р. 63).
(обратно)1023
Riley J. C. Rising Life Expectancy. A Global History. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. P. 8. Ш. Хориучи выделяет пять этапов эпидемиологического перехода: 1 – от внешних причин смертности к инфекционным заболеваниям; 2 – от инфекционных заболеваний к дегенеративным и профессиональным заболеваниям; 3 – снижение смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы; 4 – снижение смертности от новообразований; 5 – замедление старения (Horiuchi S. Epidemiological Transition in Developed Countries: Past, Present and Future. Symposium on Health and Mortality Brussels. Belgium, 19–22 Nov. 1997. Population Division UN (N. Y.) P. 237–254).
(обратно)1024
Именно с этим связано существенное сокращение доли Франции в населении Европы в XIX в. Существует гипотеза, связывающая форсированное сокращение рождаемости во Франции с влиянием революции на традиционный уклад жизни (см.: Вишневский А. Г. Демографическая политика в современном мире. М.: Наука, 1989. С. 96).
(обратно)1025
В конце первой четверти XIX в. начинается снижение показателей рождаемости в Швеции, Норвегии, Финляндии, в 70‑х годах – в Англии, затем – в Германии, Польше, Италии.
(обратно)1026
Известен пример Цейлона, где истребление малярийного москита с помощью ДДТ привело к падению смертности в течение года с 20 до 14 случаев на 1000 жителей. Для такого снижения смертности Европе потребовалось 100 лет (см.: Cipolla C. M. The Economic History of World Population. London: Penguin Books, 1978. Р. 104). С 1970 по 1997 год средняя продолжительность жизни при рождении в Гондурасе увеличилась на 17 лет (с 52 до 69 лет), в Омане – на 24 года (с 46 до 70 лет) (см.: The World Ageing Situation. Exploring a Society for All Ages // United Nations. Statistics. Economic & Social Affairs 271. New York, 2001. P. 2).
(обратно)1027
Wiesner M. Women and Gender in Early Modern Europe. New Approaches to European History. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. С. 102–142.
(обратно)1028
* Число смертей на 1000 человек в год.
(обратно)1029
* Показатель рассчитан без учета населения России. С учетом доли России он составит 21,6 и 27,7 % для 1820 и 1913 годов соответственно.
(обратно)1030
Stone L. The Family, Sex and Marriage. London: Weidenfeld and Nicolson, 1979. P. 658–687.
(обратно)1031
Abramovitz M. Thinking about Growth, and other Essays on Economic Growth and Welfare. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P. 317, 318.
(обратно)1032
Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books Inc. Publishers, 1973. О переходе к постиндустриальной стадии развития, расширении занятости в сфере услуг, дающей женщинам широкие возможности работы в образовании, здравоохранении, как факторе роста доли женщин в числе занятых во второй половине XX в. см. также: Handbook of Gender and Work / Powell G. N. (ed.). Thousand Oaks, CA: Sage, 1999. P. 13; Drew E., Emerek R., Mahon E. (eds.). Women, Work and the Family in Europe. London; New York: Routledge, 1998. P. 4.
(обратно)1033
См.: Зидер Р. Социальная история семьи в Западной и Центральной Европе (конец XVIII–XX в.). М.: Владос, 1997. С. 244.
(обратно)1034
Parsons T. The American Family: Its Relations to Personality and the Social Structure // Parsons T., Bales R. F. (eds.). Family Socialization and Interaction Process. Glencoe, Illinois: The Free Press, 1955.
(обратно)1035
Для второго демографического перехода характерны распространение длительных добрачных союзов, пробных, нерегистрируемых браков, уменьшение доли вынужденных браков, стимулируемых добрачной беременностью; рост доли внебрачных рождений, увеличение среднего возраста матери при рождении ребенка, рост возраста вступлений в регистрируемый брак, возраста рождения первого ребенка, возраста материнства; перемещения модального возраста рождения из возрастной группы 20–24 года в возрастную группу 25–29 лет, уменьшение вклада рождаемости самой молодой возрастной группы 15–19-летних и повышение вклада старших возрастных групп (старше 30 лет). До начала 90‑х годов XX в. эти проблемы слабо затрагивали Россию. С середины 80‑х годов в России увеличивается доля внебрачных рождений. С этого же времени снижение рождаемости сопровождается сокращением числа абортов. Второй демографический переход приводит не только к изменению возрастной кривой, но и к снижению уровня рождаемости. Некоторые исследователи именно этим объясняют сходство динамики рождаемости в России, в странах Центральной и Южной Европы, а также ее отличие от стран Северной и Западной Европы, где переход начался раньше и в меньшей степени был затруднен препятствиями идеологического и религиозного характера (см.: Пенсионная реформа в России: причины, содержание, перспективы / Под ред. М. Э. Дмитриева, Д. Я. Травина. СПб.: Норма, 1998. С. 15–17).
(обратно)1036
См.: Зидер Р. Социальная история семьи в Западной и Центральной Европе (конец XVIII–XX в.). М.: Владос, 1997. С. 270.
(обратно)1037
Bourgeois-Pichat J. The Unprecedented Shortage of Births in Europe // Davis K. (ed.). Below-Replacement Fertility in Industrial Societies: Causes, Consequences, Policies // Population and Development Review. (Supplement to 1986. Vol.12.). 1987. Vol. 12. P. 3–25.
(обратно)1038
Marriage and the Economy / Grossbard-Shechtman S. A. (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 2003. P. 38, 39.
(обратно)1039
О факторах роста числа детей, рожденных вне брака в условиях постиндустриального общества, см.: Upchurch D., Lillard L. A., col1_0 Nonmarital Childbearing: Influences of Education, Marriage and Fertility // Demography. 2002. № 39. P. 311–329.
(обратно)1040
Drew E., Emerek R., Mahon E. (eds.). Women, Work and the Family in Europe.
London; New York: Routledge, 1998. P. 20.
(обратно)1041
Population, Gender and Development. A Concise Report. New York: United Nations, 2001. P. 7.
(обратно)1042
* Среднее число рождений на 1 женщину в возрасте от 15 до 49 лет.
(обратно)1043
Drucker P. F. The Future That Has Already Happened // Drucker P. F., Dyson E., Handy C., Saffo P., Senge P. M. Looking Ahead: Implications of the Present // Harvard Business Review. 1997. 75 (5). P. 20–24.
(обратно)1044
James E. New Systems for Old Age Security-Theory, Practice and Empirical Evidence // Policy Research Working Papers. World Bank. 1996. P. 1.
(обратно)1045
Число людей в возрасте от 15 до 65 лет на 1 человека старше 65 лет.
(обратно)1046
Вопрос о том, какая форма семьи, расширенная или узкая, преобладала в России, с учетом качества исторической статистики и отрывочности материалов, на которые вынуждены ориентироваться исследователи, остается открытым. Основываясь на переписи 1710 года, Б. Урланис, исходя из гипотезы, что число женщин равно числу мужчин, получает среднюю населенность российских дворов 7,56 человека. Впрочем, как и многое в социальной истории, это утверждение небесспорно. Б. Миронов приводит убедительные аргументы в пользу того, что представление о распространении широкой семьи в России было преувеличенным (см.: Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи. Т. 1. СПб.: Изд-во “Дмитрий Буланин”, 2000. С. 266).
(обратно)1047
Moon D. The Russian Peasantry 1600–1930: The World the Peasant Made. London; New York: Longman, 1999. P. 11–14, 21.
(обратно)1048
См.: Вишневский А. Г. Демографическая революция. М.: Статистика, 1976. С. 165.
(обратно)1049
Moon D. The Russian Peasantry 1600–1930: The World the Peasant Made. P. 25. Среди мужчин старше 15 лет женатые составляли в России 64,3 %, в то время как во Франции – 56,5, в Англии – 54,9, в Германии – 53,7 %. Соответствующие показатели среди женщин были 64; 55,3; 50,9 и 50,8 % (см.: Общий свод по империи результатов разработки данных первой Всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 г. Т. 1. СПб., 1905. С. XII).
(обратно)1050
Moon D. The Russian Peasantry 1600–1930: The World the Peasant Made. P. 32.
(обратно)1051
Mitchell B. R. International Historical Statistics. Africa, Asia & Oceania 1750–1993. London: Macmillan Reference LTD, 1998. P. 71, 72.
(обратно)1052
Pipes R. Russia under the Old Regime. London: Weidenfeld and Nicolson, 1974. Р. 12–13.
(обратно)1053
* Данные за 1950 год по СССР.
** В скобках указан год, для которого рассчитан показатель (наиболее близкий из имеющихся данных).
(обратно)1054
Влияние занятости женщин на демографическую динамику в России прослеживается еще с дореволюционных времен. Так, наивысшие показатели детской смертности в России приходились на лето – период интенсивных полевых работ. В некоторых губерниях летом смертность младенцев доходила до 80 % (см.: Россия в начале XX века / Под ред. А. Н. Яковлева. М.: Новый хронограф, 2002. С. 626). Врачи констатировали, что “главнейшими причинами громадной детской смертности в России являются тяжелый труд женщин во время беременности, отсутствие свободного времени и недостаток ухода за детьми как следствие крайней бедности и безграмотности” (см.: Россия // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 54–55. Репринт. Л., 1991. С. 224). Российские исследователи начала XX в., сравнивая показатели смертности у православных русских, мусульман и евреев, также установили, что относительно низкая смертность у мусульман, “живущих в общем в весьма антисанитарных условиях”, зависела от традиций обязательного грудного вскармливания детей в соответствии с религиозным предписанием Корана, а также с тем обстоятельством, что в отличие от русских женщин, которые зачастую уже через несколько дней после родов вновь приступали к тяжелым сельскохозяйственным работам, мусульманки не менее месяца-двух были освобождены от всех семейных забот, кроме ухода за новорожденным. Тем же образом влияли традиции грудного вскармливания детей до года и на невысокую смертность в еврейской среде (см.: Новосельский С. А. Обзор главнейших данных по демографии и санитарной статистике России // Календарь для врачей всех ведомств на 1916 год. Пг., 1916. Ч. 1. С. 66; Глебовский С. А., Гребенщиков В. И. Детская смертность в России // Общественное и частное призрение в России. СПб., 1907. С. 273). О влиянии необычно раннего вовлечения женщин в экономическую деятельность на своеобразие российской траектории снижения рождаемости см.: Федоренко Н. Россия на рубеже веков. М., 2003. С. 259.
(обратно)1055
В 1913 году под влиянием общественного движения за отмену уголовного преследования врачей и пациентов за производство абортов XII съезд русских врачей поддержал такое решение, хотя и не единодушно. В феврале 1914 года в Петербурге происходило заседание рабочей группы Международного союза криминалистов, посвященное абортам… Большинством голосов (38 против 20 при 3 воздержавшихся) прошел проект Гернета, требовавшего исключения аборта из числа преступных деликтов (см.: Двенадцатый съезд Общества русских врачей в память Н. И. Пирогова. СПб., 1913. Вып. 2. С.84–88; Гернет М. Н. Истребление плода с уголовно-социологической точки зрения // Отчет X общего собрания Русской группы Международного союза криминалистов 13–16 февраля 1914 года в Петербурге. СПб., 1916. С. 233–277).
(обратно)1056
* Итоговая рождаемость реальных поколений – фактическое число рожденных детей живыми к возрасту 50 лет, приходящееся в среднем на одну женщину из когорты, появившейся на свет в определенном году. Эти сведения получаются либо в результате соответствующего преобразования непрерывных рядов показателей рождаемости для календарных лет, либо из ответов на соответствующие вопросы переписей и других репрезентативных опросов населения. Итоговая рождаемость для реальных поколений 1909–1970 годов рассчитана С. В. Захаровым прямым методом на основе переписей населения 1979 и 1989 годов, дополненных специально обработанными данными текущего учета рождений. Для поколений до 1909 года рождения применялся косвенный метод, использующий длинные ряды данных о числе родившихся и оценки возможностей их дожития до среднего возраста матерей (см.: Блюм А., Захаров С. Демографическая история СССР и России в зеркале поколений // Население и общество: Информационный бюллетень ЦДЭЧ ИНП РАН. 1997. № 17. Перепечатано: Мир России. 1997. Т. 4. С. 3–11; Энергия. 1998. № 2. С. 42–46). ** Календарные годы соответствуют годам достижения возраста 30 лет женщинами из когорт левой части таблицы. *** Итоговая рождаемость условных поколений (суммарный коэффициент рождаемости) –
“ожидаемое” число детей, которое родит живыми в среднем одна женщина за весь репродуктивный период (с 15 до 50 лет) в предположении, что не будет меняться возрастная функция интенсивности деторождения, наблюдаемая в момент расчета показателя. Техника расчетов сводится к суммированию возрастных коэффициентов рождаемости, оцениваемых ежегодно на основе текущего учета рождений и расчетной численности женщин в каждом возрастном интервале. **** Предварительная оценка.
(обратно)1057
См.: Вишневский А. Г. Демографическая революция. С. 177.
(обратно)1058
По данным Госкомстата России, продолжительность жизни в России достигает максимума за период 50–70‑х годов XX в. в 1965–1966 гг. (см.: Демографический ежегодник России: Стат. сб. М.: Госкомстат России, 2001). Первые признаки перелома позитивной динамики в продолжительности жизни в России обозначились в конце 1950‑х годов, когда начался рост смертности взрослых мужчин. До середины 1960‑х годов эта неблагоприятная динамика компенсировалась уменьшением младенческой смертности (см.: Пенсионная реформа в России: причины, содержание, перспективы / Под ред. М. Э. Дмитриева, Д. Я. Травина. СПб.: Норма, 1998. С. 18, 19).
(обратно)1059
* До 1990 года – данные по СССР.
(обратно)1060
Впрочем, снижение продолжительности жизни трудоспособных мужчин начиная с 70‑х годов XX в. – характерная черта не только России, но и восточноевропейских государств социалистического блока (см.: Пенсионная реформа в России: причины, содержание, перспективы / Под ред. М. Э. Дмитриева, Д. Я. Травина. С. 26).
(обратно)1061
См.: Захаров С. Когортный анализ смертности населения России (долгосрочные и краткосрочные эффекты неравенства поколений перед лицом смерти) // Проблемы прогнозирования. 1999. № 2. С. 114–131.
(обратно)1062
Ю. Крижанич пишет: “Об пьянству нашем что треба говорить? Да бы ты… весь широкий свет кругом обошел, нигде не бы нашел такого мерзкого, гнюсного и страшного пьянства, яко здесь, на Руси. Пьянство пак межу злонаравными, сказами (порчами) и грехотами есть наигнюснее… и из человеков чинит нас скотинами” (см.: Крижанич Ю. Русское государство в половине XVII века: Рукопись времен Алексея Михайловича. Приложение к “Русской беседе” за 1859 г. Ч. 1. М.: Типография А. Семена, 1859. С. 174).
(обратно)1063
Roberts J. S. Drink and Industrial Discipline in Nineteenth-Сentury Germany // The Industrial Revolution and Work in Nineteenth-Century Europe / Berlanstein L. R. (ed.). London; New York, 1992. Р. 102–124.
(обратно)1064
Segal B. M. The Drunken Society. Alcohol Abuse and Alcoholism in the Soviet Union. A Comparative Study. New York: Hippocrene Books, 1990. Р. 476.
(обратно)1065
World Development Indicators. World Bank, 2003.
(обратно)1066
World Drink Trends 2004. World Advertising Research Center, 2004. P. 9, 13, 15, 17.
(обратно)1067
“Неудовлетворенный спрос, порождая такие негативные явления, как… чрезмерное потребление спиртных напитков, развращает людей и наносит обществу не только экономический, но и громадный моральный ущерб” (см.: Доклад Комиссии, возглавляемой заместителем председателя Совета Министров СССР В. Кириллиным, председателю Совета Министров СССР Н. Тихонову в 1979 году. “О комплексных мероприятиях по повышению эффективности народного хозяйства, дальнейшему улучшению планирования и ускорению научно-технического прогресса”. С. 39).
(обратно)1068
О влиянии динамики потребления алкоголя на показатели продолжительности жизни в России в 1980–1990‑х годах см.: Вишневский А. Подъем смертности в 1990‑е годы: факт или артефакт? // Информационный бюллетень Центра демографии и экологии человека ИНП РАН. 2000. № 45. Май; Leon D., Chenet L., Shkolnikov V., Zakbarov S. et al. Huge Variation in Russian Mortality Rates 1984–1994: Artifact Alcohol or What? // Lancet. 1997. Vol. 350. Наиболее масштабным в ходе антиалкогольной кампании в 1985–1987 годах было снижение смертности мужчин в возрасте 30–54 лет и женщин в возрасте старше 55 лет. Повышение смертности, начавшееся с 1987 года, приходится на те же возрастные группы (см.: Пенсионная реформа в России: причины, содержание, перспективы / Под ред. М. Э. Дмитриева, Д. Я. Травина. С. 19, 20).
(обратно)1069
World Drink Trends 2004. World Advertising Research Center, 2004. P. 106.
(обратно)1070
* По данным на 1958–1959 годы. ** По данным на 1975–1976 годы. *** По данным на 2000 год.
(обратно)1071
С 4,31 % в 1900 году до 2,34 % в 2000 году (население в границах современной Российской Федерации). Количество смертей, связанных с голодом, депортациями, расстрелами, относящимися к 30-м годам, оценивается консервативными исследователями, стремящимися избежать завышения цифр, в 11 млн человек. (Nove A. An Economic History of the USSR, 1917–1991. London; New York: Penguin Books, 1992. P. 241). Известна история переписи в январе 1937 года, которую власти объявили неправильной. Организаторов расстреляли. Из архивных материалов видно, что численность населения, по данным этой переписи, составила примерно 162 млн человек, а Сталин объявил о 168-миллионной численности. Результаты повторной переписи 1939 года (175,5 млн человек), по данным архивных материалов, были завышены статистиками, сумевшими извлечь уроки из опыта своих предшественников (см.: Поляков Ю. А., Жиромская В. Б., Киселев И. Н. Полвека молчания (Всесоюзная перепись населения 1937 г.) // Социологические исследования. 1990. № 6. С. 3–25; № 7. С. 50–70; № 8. С. 30–52).
(обратно)1072
* 1A: коэффициент суммарной рождаемости остается равным 1,3; ожидаемая продолжительность предстоящей жизни остается на современном уровне.
** 1В: коэффициент суммарной рождаемости остается равным 1,3; ожидаемая продолжительность предстоящей жизни постепенно увеличивается по отношению к современному уровню.
*** 1С: коэффициент суммарной рождаемости постепенно увеличивается до 2; ожидаемая продолжительность предстоящей жизни остается на современном уровне.
**** 1D: коэффициент суммарной рождаемости постепенно увеличивается до 2; ожидаемая продолжительность предстоящей жизни также постепенно увеличивается по отношению к современному уровню.
(обратно)1073
В. Шубкин оценивает сокращение численности населения страны с осени 1917 по 1922 год в 13 млн человек. И это на фоне далекого от завершения демографического перехода, обеспечившего в конце XIX – начале XX в. беспрецедентно высокие темпы роста населения (см.: Шубкин В. Трудное прощание // Новый мир. 1989. № 4. С. 17). “Гражданская война, по разным подсчетам, унесла от 8 млн до 10 млн человеческих жизней. Если сюда прибавить массовую эмиграцию, спровоцированную классовыми потрясениями тех лет, то можно говорить о суммарных потерях в 14–16 млн человек. Коллективизация, голод и массовые репрессии 30–40‑х годов в общей сложности лишили Россию еще примерно 10 млн человек” (см.: Федоренко Н. Россия на рубеже веков. М., 2003. С. 245). О демографических потерях, связанных с социально-экономическими изменениями в России XX в., см.: Петраков Н. Я. Русская рулетка: экономический эксперимент ценою 150 миллионов жизней. М.: Экономика, 1998. С. 54.
(обратно)1074
При расчете плотности населения площади стран взяты в современных границах.
(обратно)1075
Даже в мононациональных странах, где вопросы миграционной политики особенно чувствительны, экономисты давно осознали важность активных действий государства по привлечению иммигрантов, их интеграции в структуру общества для обеспечения устойчивости национальных пенсионных систем (Зиберт Х. Эффект кобры: Как можно избежать заблуждений в экономической политике / Пер. с нем. П. И. Гребенникова. СПб.: СПбГУЭФ, 2003. С. 171–174). О влиянии иммиграции на средний возраст населения и долю населения в пенсионном возрасте cм.: Le Bras H. Demographic Impact of Post-war Migration in Selected OECD Countries // Migration. The Demographic Aspects. P.: Organization for Economic Cooperation and Development, 1991.
(обратно)1076
Replacement Migration: Is it a Solution to Declining and Ageing Population? United Nations, 2000.
(обратно)1077
См.: Оболенский В. В. (Осинский). Международные и межконтинентальные миграции в довоенной России и СССР. М.: Издание ЦСУ СССР, 1928. С. 6.
(обратно)1078
Mitchell B. R. International Historical Statistics… Рассчитано как среднее за период по показателям International Migrations и Mid-year Population.
(обратно)1079
Как видно из данных табл. 10.29, Великобритания – очевидное исключение. Здесь пик эмиграции приходится на период, когда занятость в сельском хозяйстве составляла не менее 20 %. Возможно, это объясняется легкостью адаптации англичан к жизни в англоязычных эмигрантских обществах.
(обратно)1080
* В скобках указан год, по которому приведены данные.
** Разница между числом родившихся и числом умерших на 1000 человек.
(обратно)1081
О роли роста женской занятости в увеличении спроса на домашнюю прислугу в этой связи и росте спроса на труд иммигрантов см.: Leira A. Working Parents and the Welfare State. Family Change and Policy Reform in Scandinavia. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. P. 2, 3; Hondagneu-Sotelo P. From Braceros to Transnational Mothers: The New International Division of Reproductive Labor // Gender and Society. 1997. 11 (5). P. 548–571.
(обратно)1082
Harris N. The New Untouchables. Immigration and the New World Worker. London; New York: I. B. Tauris Publishers, 1995. Р. 10.
(обратно)1083
Hewitt P. S. Depopulation and Ageing in Europe and Japan: The Hazardous Transition to a Labor Shortage Economy // International Politics and Society. № 1. 2002. P. 111.
(обратно)1084
Findlay A. M. Population Migration and the Changing World Order. Chichester; New York; Toronto; Singapore: John Wiley & Sons, 1994. P. 117.
(обратно)1085
Harris N. The New Untouchables. Immigration and the New World Worker. London; New York: I. B. Tauris Publishers, 1995. Р. 9.
(обратно)1086
О различиях иммиграционной политики в мононациональных странах и в странах иммигрантских см., например: Collomp C. Immigrants, Labor Markets and the State, a Comparative Approach: France and the United States, 1880–1930 // The Journal of American History. Vol. 86. № 1. June 1999. P. 41–66.
(обратно)1087
Castles S., Miller M. J. The Age of Migration. International Population Movements in the Modern World. London: Macmillan, 1993. Р. 25.
(обратно)1088
Там же. Р. 79.
(обратно)1089
Fassmann H., Munz R. (eds.). European Migration in the Late Twentieth Century. Historical Patterns, Actual Trends and Social Implications. Aldershot: Edward Elgar (IIASA), 1994. Р. 70, 121.
(обратно)1090
Применить “легкое насилие” для отселения иностранцев из крупных городов в сельские районы призвал в своих предвыборных речах лидер голландских националистов Пим Фортайн. Его выступления не прошли даром. Никому ранее не известная партия “Список Пима Фортайна” прошла в парламент. О росте расистских настроений как реакции на новую волну иммиграции в Европе см.: Integration and Pluralism in Societies of Immigration // Berman Y. (ed.). European Center for Social Welfare Policy and Research, 1995. P. 45–60.
(обратно)1091
Fassmann H., Munz R. (eds.). European Migration in the Late Twentieth Century. Historical Patterns, Actual Trends and Social Implications. Aldershot: Edward Elgar (IIASA), 1994. Р. 9.
(обратно)1092
Martin Ph., Widgren J. International Migration: Facing the Challenge // Population. Vol. 57. № 1. March 2002. Р. 5.
(обратно)1093
См.: Ионцев В. А. Международная миграция и демографическое развитие России // Международная миграция населения: Россия и современный мир. М.: МАКС Пресс, 2000. Вып. 5. С. 301.
(обратно)1094
В соответствии с конвенцией государства, подписавшие ее, не имеют права требовать документы у лиц, претендующих на предоставление политического убежища, и выдворять со своей территории тех, кто таких документов не имеет (см.: Вишневский А. Г., Зайончковская Ж. А., Мкртчян Н. В., Трейвиш А. И., Тишков В. А. Перспективы миграции и этнического развития России и их учет при разработке стратегических направлений развития страны на длительную перспективу. С. 54 (электронный еженедельник “Демоскоп – Weekly”, ).
(обратно)1095
Martin Ph., Widgren J. International Migration: Facing the Challenge // Population. Vol. 57. № 1. March 2002. Р. 5.
(обратно)1096
Castles S., Miller M. J. The Age of Migration. International Population Movements in the Modern World. London: Macmillan, 1993.
(обратно)1097
Как пишет Дж. Борджес в одной из самых известных работ, посвященных современной иммиграционной политике в США, “этнические гетто являются важной частью структуры многих американских городов в конце XX века. Иммигранты второй большой волны иммиграции живут, работают, воспитывают своих детей в этих гетто. Эти районы создают социально-экономические институты, которые будут влиять на жизнь детей и внуков этих иммигрантов в следующем столетии” (см.: Borjas G. J. Heaven’s Door. Immigration Policy and the American Economy. Princeton; Oxford: Princeton University Press, 1999. P. 15). Исследования показывают существенную негативную связь расселения иммигрантов в отдельных районах с соотношением их средней заработной платы со средней по стране (там же. P. 56–57).
(обратно)1098
The Economist. 2nd-8th November 2002.
(обратно)1099
См.: Иммиграционная политика западных стран. Альтернативы для России / Под ред. Г. Витковской. Международная организация по миграции М.: Гендальф, 2002. С. 203.
(обратно)1100
Martin Ph., Widgren J. International Migration: Facing the Challenge // Population. Vol. 57 (1). March 2002. Несмотря на меры по ограничению иммиграции, авторы оценивают иммиграционный прирост населения США до 2050 года в 45 млн человек.
(обратно)1101
Иммиграционная политика западных стран. Альтернативы для России / Под ред. Г. Витковской. С. 91. О различии канадской и американской систем регулирования иммиграции и о приоритете в Канаде привлечения на постоянной основе трудовых иммигрантов с помощью балльной системы, а также о приоритете в иммиграционной политике США воссоединения семей и влиянии канадского опыта на обсуждение путей реформы иммиграционной политики в США см. также: DeVoretz D. J. Diminishing Returns. The Economics of Canada’s Recent Immigration Policy. To ronto: C. D. Home Institute, 1995. P. 31–61; Borjas G. J. Heaven’s Door. Immigration Policy and the American Economy. Princeton; Oxford: Princeton University Press, 1999.
(обратно)1102
Economic Council of Canada. Economic and Social Impacts of Immigration. Ottawa, 1991.
(обратно)1103
Повышение рождаемости до двух рождений на 1 женщину, рост продолжительности жизни до показателей наиболее развитых стран на протяжении полувека.
(обратно)1104
Речь идет о нетто-иммигрантах, т. е. о превышении численности иммигрантов в Россию над численностью эмигрантов из России.
(обратно)1105
Иммиграционная политика западных стран. Альтернативы для России / Под ред. Г. Витковской. С. 250.
(обратно)1106
Разница между иммиграцией и эмиграцией в абсолютном исчислении.
(обратно)1107
О влиянии знания английского языка на адаптацию иммигрантов и возможность их занятости в Великобритании и США cм. также: Shield V. F., Wheatley Price S. Language Fluency and Immigrant Employment Prospects: Evidence from Britain’s Ethnic Minorities // Applied Economics Letters. Vol. 8. № 11. 2001. P. 741–745.
(обратно)1108
Александров Д. Г. Пенсионная система в России: состояние, проблемы, перспективы. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2000. С. 145.
(обратно)1109
Вишневский А. Г., Зайончковская Ж. А., Мкртчян Н. В., Трейвиш А. И., Тишков В. А. Перспективы миграции и этнического развития России и их учет при разработке стратегических направлений развития страны на длительную перспективу. М., 2002. С. 41–43 (электронный еженедельник “Демоскоп – Weekly”, ).
(обратно)1110
О специфике российских традиций, позволяющих включить неславянские народы в структуру российского общества, см.: White C. Russia and America: The Roots of Economic Divergence. London; New York; Sydney: Croom Helm, 1987. P. 22. Известный исследователь истории России В. Пашуто пишет, что издревле восточнославянские племена соседствовали здесь с другими аборигенами – угро-финнами и балтами, что развитие всего местного населения проходило в многонациональной среде. К моменту своего зарождения древнерусское государство объединило в своем составе более 20 различных народов. Это стало моделью развития России на будущие времена (см.: Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. М.: Наука, 1968. С. 19, 20).
(обратно)1111
Каппелер А. Россия – многонациональная империя: Возникновение, история, распад / Пер. с нем. С. Червонной. М.: Прогресс, 1996. С. 247–249; Фирсов Н. Положение инородцев Северо-Восточной России в Московском государстве. Казань, 1866. С. 92–155.
(обратно)1112
Оболенский В. В. (Осинский). Международные и межконтинентальные миграции в довоенной России и СССР. М.: Издание ЦСУ СССР, 1928. С. 98.
(обратно)1113
Россия в начале XX века / Под ред. А. Н. Яковлева. М.: Новый хронограф, 2002. С. 32, 33.
(обратно)1114
У. Гладстон говорил, что цена любой политики – это едва ли не единственное, что определяет ее целесообразность (см.: Peacock A. T., Wiseman J. The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom. Princeton: Princeton University Press, 1961. P. 64).
(обратно)1115
Borcherding T. E. One Hundred Years of Public Spending, 1870–1970 // Borcherding T. E. (ed.). Budgets and Bureaucrats: The Sources of Government Growth. Durham, North Carolina: Duke University Press, 1977. P. 20.
(обратно)1116
Tanzi V., Schuknecht L. The Growth of Government and the Reform of the State in Industrial Countries // IMF Working Paper. 1995. 95/130.
(обратно)1117
League of Nations, Economic Intelligence Service. Statistical Yearbook. Geneva: League of Nations, 1926–1944/45; Leroy-Beaulieu P. Traitè de la Science des Finances. P.: Guillaumin, 1888.
(обратно)1118
Полученные данные рассчитаны как отношение совокупных расходов центрального правительства к совокупному ВВП за период. В таблице представлены средние значения по десятилетиям.
(обратно)1119
Переодетые индейцами жители Бостона совершили налет на три судна британской Ост-Индской компании и выбросили за борт 342 ящика чая в знак протеста против беспошлинного ввоза английского чая в Северную Америку. Правительство Великобритании постановило закрыть порт Бостона до полного возмещения ущерба и направило в Новую Англию военные корабли. Эти меры послужили сигналом к всеобщему сопротивлению североамериканских колоний и в конечном счете к образованию США.
(обратно)1120
Stein H. (ed.). Ta x Policy in the Twenty-First Century. New York; Chichester; Brisbane; Toronto; Singapore: John Wiley & Sons, 1988. P. X.
(обратно)1121
Для Германии первые десятилетия современного экономического роста совпали по времени с процессом создания единого государства.
(обратно)1122
В 1848 году О. фон Бисмарк, тогда депутат прусского парламента, предлагал принять все меры для остановки индустриализации в Германии (см.: Туган-Барановский М. Очерки из новейшей истории политической экономии и социализма. СПб.: Право, 1914. С. 157).
(обратно)1123
* Восемнадцать штатов (из них 7 южных) ввели на участие в выборах (период с 1890 по 1926 год) условие грамотности. Эти ограничения были направлены главным образом против чернокожих и эмигрантов.
(обратно)1124
Adams J. Defence of the Constitutions of the United States. Vol. 1. London: Minted For C. Dilly, in the Poultry, 1787–1788.
(обратно)1125
Токвиль А. де. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992. С. 60–63, 191, 192.
(обратно)1126
А. Мелцер и С. Ричард связывают рост доли государства в ВВП с распространением избирательных прав на граждан с доходами ниже средних. Их базовая гипотеза состоит в том, что низкодоходные группы де-факто являются нетто-бенефициарами государственного перераспределения (см.: Meltzer A. H., Richard S. T. A Rational Theory of the Size of Government // Journal of Political Economic. Vol. 89. № 5. 1981. Р.111–118; Idem. Why Government Grows (and Grows) in a Democracy // The Public Interest. № 52, 1978. P. 117). C. Пелцман ставил под сомнение связь распространяющегося всеобщего избирательного права с уровнем государственных расходов. Он обращает внимание на то, что в США к 70-м годам XIX в. избирательное право охватывало 90 % мужчин, а в Англии в это же время только треть мужчин имела право голоса; лишь после избирательной реформы 1884 года эта доля достигает 2/3. Между тем государственные расходы в США были ниже и начинают расти существенно позже, чем в Англии (см.: Peltzman Sam. The Growth of Government // The Journal of Law Economics. October 1980. Vol. 23. Issue 2. P. 209–211, 254). Но всеобщее избирательное право – всего лишь один из факторов, прокладывающих дорогу радикальному изменению доли государственных расходов в экономике первой половины прошлого века. На него накладываются национальные традиции, динамика политической борьбы. Тот факт, что введение всеобщего избирательного права во всех странах – лидерах современного экономического роста предшествует масштабному росту государственных расходов, бесспорен.
(обратно)1127
Adams H. C. The Science of Finance. New York, 1898. Ch. 2.
(обратно)1128
Wagner A. Three Extracts on Public Finance // Musgrave R. A., Peacock A. (eds.). Classics in the Theory of Public Finance. New York: Macmillan, 1958. О законе Вагнера см. также: Herbert T. Das Gesetz der Wachsenden Staatsausgaben // Finanzarchiv. N. F. Band 21. January 1961. P. 201–247.
(обратно)1129
Кроме Германии, которая перед Первой мировой войной финансировала свою программу вооружений за счет масштабных займов, во всех других странах – лидерах современного экономического роста к началу войны господствовало убеждение в том, что сбалансированные бюджеты необходимы для финансовой стабильности (см.: Шумпетер Й. История экономического анализа. СПб.: Университетская библиотека экономики, 2001. Т. 3. С. 1001–1003, 1012, 1013).
(обратно)1130
Peacock A. T., Wiseman J. The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom. Princeton: Princeton University Press, 1961. P. 65.
(обратно)1131
В 1815 году в одной из петиций парламента подоходный налог был охарактеризован как “полностью противоречащий свободе, отвратительный англичанам, противоречащий британским установлениям” (см.: col1_0 A History of Income Tax. London: Allen & Unwin, 1966. P. 26–43).
(обратно)1132
Д. Ллойд Джордж, рассматривая возможные источники средств для финансирования социальных программ, говорил о необходимости минимальных политических издержек. Отсюда идея введенного в 1909 году прогрессивного подоходного налога на высокие доходы (см.: Webber C., Wildavsky A. A History of Taxation and Expenditure in the Western World. New York: Simon and Schuster, 1986. P. 351, 352).
(обратно)1133
До начала Первой мировой войны в большинстве развитых стран налоговые доходы составляли менее 15 % ВВП. В начале XX в. А. Синх, автор исследования, посвященного верхним пределам налоговой нагрузки на экономику, суммируя господствующие в ведущих странах представления по этому вопросу, отмечал, что налоги от 5 до 10 % воспринимались как умеренные и разумные. Попытки мобилизовать более 10 %, как соглашались практически все специалисты, приводили к тяжелым нагрузкам на налогоплательщиков, а 15–16 % были пределом, за которым дальнейшее повышение налогов оказывалось просто невозможным (см.: Bastable C. F. Public Finance. London: Macmillan, 1903. P. 136).
(обратно)1134
К 1918 году военные расходы Великобритании выросли до 52 % ВВП (см.: Kennedy P. The Rise and Fall of the Great Powers. Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. New York: Random House, 1987. P. 267).
(обратно)1135
Peacock A. T., Wiseman J. The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom. Princeton: Princeton University Press, 1961. P. 27, 1026.
(обратно)1136
Sen A. Development as Freedom. New York: Anchor Books, 2000. Р. 49, 50.
(обратно)1137
Дж. Хикс связывает административную революцию, расширение государственных возможностей управлять экономикой и мобилизовывать доходы с Первой мировой войной. Когда становится ясно, сколь велики возможности государства, правительству трудно отклонять предложения по увеличению социальных расходов (см.: Hicks J. A Theory of Economic History. Oxford: Oxford University Press, 1969. P. 162–166).
(обратно)1138
Первая мировая война привела к резкому повышению максимальных ставок подоходного налога: до 15 % в 1916 году, 60 % в 1917 году, 70 % в 1918 году. После окончания войны предельные ставки подоходного налога были снижены, но сам он окончательно признается обычным налоговым инструментом, не связанным с чрезвычайными условиями военного времени.
(обратно)1139
Влияние доминирующих идеологических стереотипов эпохи хорошо отражает высказывание молодого У. Черчилля в 1906 году: “Вся тенденция развития цивилизации идет в сторону расширения коллективных общественных функций. Постоянно возрастающая сложность цивилизации порождает новые функции, выполнением которых должно заниматься государство, подталкивает к расширению его нынешних обязанностей” (см.: Сhurchill W. S. Liberalism and the Social Problem. London: Hodder and Stoughton, 1909. P. 80).
(обратно)1140
См.: Tanzi V., Schuknecht L. Public Spending in the 20th Century. A Global Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 9.
(обратно)1141
Финансирование больших войн за счет займов было естественным и единственным общепринятым исключением из этого правила.
(обратно)1142
Stigler G. J. Trends in Employment in the Service. Princeton; New Jersey: Princeton University Press for the National Bureau of Economic Research, 1956. О факторах роста доли государства в ВВП в XX в. см. также: Nutter G. W. Growth of Government in the West. Washington: The AEI Press, 1978.
(обратно)1143
Tanzi V., Schuknecht L. Public Spending in the 20th Century. A Global Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 16.
(обратно)1144
* Расчеты сделаны на основе таблицы General Government Total Outlays из работы: OECD Economic Outlook. OECD, 2001. P. 230.
(обратно)1145
К. Кларк был одним из немногих экономистов, в середине XX в. отстаивавших тезис о существовании верхних пределов налогообложения. Он оценивал его в 25 % ВВП. По свидетельству К. Кларка, в частной переписке с ним Дж. Кейнс соглашается в том, что 25 % представляются разумной долей в общественном продукте (см.: Clark C. Taxmanship: Principles and Proposals for the Reform of Taxation. London: Institute of Economic Affairs, 1964). О взглядах К. Кларка на верхние пределы налогообложения см. также: Clark C. G. The Conditions of Economic Progress. London: Macmillan and Co., 1940; Idem. Public Finance and Changes in the Value of Money // Economic Journal. 1945. 55 (4).
(обратно)1146
На это обращает внимание Г. Сахтан (см.: Public Expenditure and Government Growth / Forte F., Peacock A. (ed.). Oxford: Basil Blackwell. 1985). Характерные для 1950‑х годов представления о возможности безграничного повышения ставок налогообложения для финансирования государственных расходов хорошо отражены в работе: Break G. F. Income Taxes and Incentives to Work: An Empirical Study // The American Economic Review. Vol. 47 (5). September 1957. P. 529–549. Ее автор доказывает, что дальнейшее повышение прогрессии подоходного налога в США не должно оказать негативного воздействия на рынок труда и стимулы к труду.
(обратно)1147
Stein H. (ed.). Tax Policy in the Twenty-First Century. New York; Chichester; Brisbane; Toronto; Singapore: John Wiley & Sons, 1988. P. 3.
(обратно)1148
Й. Шумпетер в своей известной статье (1954 год) одним из первых обратил внимание на угрозу кризиса “налогового государства”, в котором рост государственных возможностей мобилизовывать доходы вызывает увеличение социальных обязательств и дальнейшее повышение налогового бремени, что рано или поздно оказывается несовместимым с экономическим ростом. Прогноз Й. Шумпетера намного опередил время, оказался прозорливым (см.: Schumpeter J. A. The Crisis of the Tax State // International Economic Papers. 1954. 4. P. 5–38).
(обратно)1149
П. Курант, Е. Грамлих и Д. Рубенфельд одними из первых отметили наличие в условиях постиндустриального общества верхних пределов налоговых изъятий, за которыми неизбежны рост бюджетного дефицита и снижение экономического потенциала (см.: Courant P. N., Gramlich E. M., Rubinfeld D. L. Public Employee Market Power and the Level of Government Spending // The American Economic Review. Vol. 69 (5). December 1979. P. 91–93).
(обратно)1150
Hadenius S. Swedish Politics During the 20th Century. Stockholm: Swedish Institute, 1988. P. 141.
(обратно)1151
Исследования В. Танзи и Б. Фрея демонстрируют связь повышения налогового бремени с расширением теневой экономики (см.: Public Expenditure and Government Growth / Еd. by F. Forte and A. Peacock Oxford: Basil Blackwell, 1985). Дж. Лукас в своей работе (1980 год) показал, как население, воспринимая налоги как чрезмерные и несправедливые, начинает морально оправдывать уклонение от их уплаты (см.: Lucas J. K. On Justice. Oxford: Clarendon Press. 1980. P. 233). Данные проведенного в 1988 году обследования показали, что 40 % американских семей недоплачивают установленные налоги (см.: Andreoni J., Brian B., Feinstein J. Tax Compliance // The Journal of Economic Literature. Vol. 36 (2). June 1998. P. 820).
(обратно)1152
Д. Мюллер и П. Мурелл продемонстрировали связь этнической разнородности страны с долей государственных расходов в ВВП. В этнически более гомогенных странах участие государства в экономике, как правило, выше (см.: Mueller D. C., Murrell P. Interests Groups and the Political Economy of Government Size // Public Expenditure and Government Growth / Еd. by F. Forte, A. Peacock. Oxford: Basil Blackwell. 1985. P. 24).
(обратно)1153
О роли доминирующих идеологических установок в определении доли государства в ВВП см.: Hinrichs H. H. A General Theory of Tax Structure Change during Economic Development. Cambridge: The Law School of Harvard University, 1966. P. 578, 579.
(обратно)1154
Tanzi V. Globalization, Tax Competition and the Future of Tax Systems // IMF Working Paper. 1996; SØrensen P. B. The Case for International Tax Coordination Reconsidered // Economic Policy. 2000. Vol. 31. P. 429–472.
(обратно)1155
Naisbitt J., Aburdene P. Megatrends 2000. London: Pan Books Ltd, 1985. P. 17.
(обратно)1156
Об отсутствии связи между долей государственных расходов в ВВП и важнейшими показателями качества жизни в странах ОЭСР см.: Ta n z i V., S c h u k n ec h t L. The Growth of Government and the Reform of the State in Industrial Countries // IMF Working Paper. 1995; Idem. Public Spending in the 20th Century. A Global Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 98–119.
(обратно)1157
Lardy N. R. Economic Growth and Distribution in China. Cambridge: Cambridge University Press, 1978. P. 41, 165; The Cambridge History of China / MacFarquhar F., Fairbank J. K. (eds.). Vol. 14. The People’s Republic, Part 1: The Emergence of Revolutionary China 1949–1965. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. P. 151.
(обратно)1158
Об аномально высокой доле государственных расходов в ВВП в постсоциалистических странах см.: Begg D., Wyplosz Ch. How Big a Government? Transition Economy Forecasts Based on OECD History. Unpublished Paper. Graduate Institute of International Studies. Geneva, 1999.
(обратно)1159
О проблемах устойчивости экономического роста в постсоциалистических странах Центральной и Восточной Европы, порожденных эффективно функционирующими налоговыми системами, одним из первых написал Я. Корнаи (см.: Kornai J. The Postsocialist Transition and the State: Reflections in Light of Hungarian Fiscal Problems // American Economic Review. 1992. Vol. 82 (2). P. 1–21).
(обратно)1160
В этой группе стран можно выделить подгруппу государств, оказавшихся втянутыми в межэтнические конфликты и внутренние и внешние войны (Грузия, Таджикистан). Здесь дезорганизация государства приводит к еще более резкому падению доли государственных доходов в ВВП, чем в других странах СНГ.
(обратно)1161
Илларионов А., Пивоварова Н. Размеры государства и экономический рост // Вопросы экономики. 2002. № 9; Мау В. Посткоммунистическая Россия в постиндустриальном мире: проблемы догоняющего развития // Вопросы экономики. 2002. № 7; Улюкаев А. В. Потребность в экономической политике // Русская мысль (Париж). 2000. № 4309. 16 марта. О проблемах, связанных с перегрузкой российской экономики государственными расходами, и влиянии этого фактора на долгосрочные перспективы экономического роста в России см.: Ясин Е. Бремя государства и экономическая политика (либеральная альтернатива) // Вопросы экономики. 2002. № 11. С. 4–30. Впрочем, есть и авторы, отстаивающие тезис о возможности и целесообразности дальнейшего наращивания доли государственных раходов в российском ВВП. Например, Н. Шмелев пишет: “Сегодня расходы российского «расширенного правительства» (государства) равны примерно 34–36 % ВВП страны, в то время как в среднем по странам ОЭСР они составляют около 50 % ВВП. Учитывая нынешнее состояние российской экономики в социальной сфере, вряд ли подобным «достижением» следует гордиться. Очевидно, что в своем «рыночном рвении» мы уже, что называется, перехлестнули через край. Пора бы и остановиться, а еще лучше – подать немного назад” (см.: Шмелев Н. П. До каких же пор? // Современная Европа. 2003. № 3. С. 5–17).
(обратно)1162
Barro R. J. Economic Growth in a Cross Section of Countries. NBER. Working Paper. No. 3120. September 1989; Barro R. J. Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth // The Journal of Political Economy. Vol. 98. No. 5 (2). October 1990. S. 103–125; Kormendi R. C., Meguire P. G. Macroeconomic Determinants of Growth: Cross-Country Evidence // Journal of Monetary Economics. Vol. 16. September 1985. P. 141–163; Landau D. L. Government Expenditure and Economic Growth: A Cross-Country Study // Southern Economic Journal. Vol. 49. January 1983. P. 783–797; Grier K. B., Tullock G. An Empirical Analysis of Cross-national Economic Growth, 1950–1980 // Journal of Monetary Economics. Vol. 24. September 1989. P. 259–276; Morris C. T., Adelman I. Nineteenth Century Development Experience and Lessons for Today // World Development. 1989. Vol. 17. № 9. P. 1417–1432.
(обратно)1163
В США графства с большим этническим разнообразием расходуют меньшую часть своих бюджетов на такие общественные нужды, как образование и строительство дорог (см.: Alesina A., Baqir R., Easterly W. Public Goods and Ethnic Divisions // Quarterly Journal of Economics. 1999. № 4 (November)).
(обратно)1164
В данном случае мы абстрагируемся от краткосрочных изменений этой доли, связанных с колебаниями цен на нефть и их значением для российского бюджета.
(обратно)1165
Furniss E. S. The Position of the Laborer in a System of Nationalism. Boston: Houghton Mifflin, 1920. P. 118.
(обратно)1166
Вольтер (Мари Франсуа Аруэ). Рассуждения на тему, предложенную Экономическим обществом // Русско-французские культурные связи в эпоху Просвещения: Сб. / Отв. ред. С. Я. Карп. М.: Институт всеобщей истории РАН, 2001. С. 75.
(обратно)1167
“В 1350 г., в 25-й год правления Эдуарда III, был издан так называемый Статут о рабочих. Во вступительной части его содержатся жалобы на дерзость слуг, которые стараются повысить свою заработную плату, получаемую от хозяев. Статут поэтому постановляет, чтобы в дальнейшем все слуги и работники довольствовались той самой заработной платой и содержанием (содержание в те времена означало не только одежду, но и продовольствие), которые они обычно получали в 20-й год правления короля и за четыре предшествующие года; чтобы в связи с этим входящая в их содержание пшеница не расценивалась нигде выше 10 пенсов за бушель и чтобы усмотрению хозяев предоставлялось выдавать это содержание пшеницей или деньгами” (см.: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Т. 1. М.; Л.: Соцэкгиз, 1931. С. 194).
(обратно)1168
Бродель Ф. Структуры повседневности: возможное и невозможное. Т. 1. М.: Прогресс, 1986. С. 90.
(обратно)1169
Ashton T. The Industrial Revolution 1760–1830. London; New York; Toronto: Oxford University Press, 1948. P. 25.
(обратно)1170
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Т. 1. С. 74.
(обратно)1171
Там же. С. 149–154.
(обратно)1172
“Из всего сказанного выше вытекает, что сам народ является главнейшим виновником своих страданий. Быть может, на первый взгляд такое утверждение покажется неблагоприятным для свободы. Мне могут заметить, что это утверждение дает правительству основание для угнетения подданных и в то же время отнимает у последних право жаловаться на угнетение, а правительству дает возможность сваливать пагубные последствия притеснения на естественные законы природы или неблагоразумие бедных. Однако не следует судить по первому впечатлению. Я уверен, что при ближайшем знакомстве с предметом не трудно убедиться, что лишь полное и всеобщее понимание главной причины бедности является самым верным средством для утверждения на прочных основаниях действительной и разумной свободы и что, наоборот, главное препятствие к ее утверждению заключается в неведении этой причины и в естественных последствиях, проистекающих от такого неведения. Бедствия низших классов населения и привычка винить в этих бедствиях правительство представляются мне истинной опорой деспотизма…Пока всякий недовольный и обладающий талантами человек будет иметь возможность волновать народ, внушая ему, что нужно винить правительство в своих бедствиях, до тех пор всегда будут отыскиваться новые способы и поводы для возбуждения неудовольствия… Необходимо, чтобы виновный знал, что естественные, установленные самим Богом законы обрекли его на лишения в наказание за нарушение этих законов, что он не имеет ни малейшего права требовать от общества иного пропитания сверх того, которое соответствует его личному труду, и что если он и его семья ограждены от мучений голода, то лишь благодаря состраданию благотворителей, которым он обязан за это своей признательностью” (см.: Мальтус Т. Опыт о законе народонаселения. Петрозаводск: Петроком, 1993. С. 60, 61, 72).
(обратно)1173
“Если бы всякое человеческое существо, нуждающееся в поддержке, было уверено, что получит ее в силу закона, и получит в размере, достаточном для сносной жизни, то теоретически можно было бы ожидать, что все другие налоги, взятые вместе, были бы безделицей в сравнении с одним налогом на бедных” (см.: Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения: Соч. Т. 1. М.: Политиздат, 1955. С. 97).
(обратно)1174
Robbins L. C. Political Economy Past and Present: A Review of Leading Theories of Economic Policy. London: Macmillan, 1977. P. 128.
(обратно)1175
О влиянии социальной помощи на работоспособных мужчин как ключевом вопросе формирования политики в отношении бедных в конце XVIII–XIX в. см.: Higgins J. States of Welfare. Comparative Analysis in Social Policy. Oxford: Basil Blackwell & Martin Robertson, 1981. P. 101–105; Heclo H. H. Review Article: Policy Analysis // British Journal of Political Science. Vol. 2. Issue 1. January 1972; Idem. Modern Social Politics in Britain and Sweden. From Relief to Income Maintenance. New Haven; London: Yale University Press, 1974. P. 55, 56.
(обратно)1176
О связи социальных реформ Бисмарка с его стремлением предотвратить “классовую войну” см.: Briggs A. The Welfare State in Historical Perspective // Archives of European Sociology. 1961. Vol. 11 (2). P. 249.
(обратно)1177
Об отсутствии связи в XIX в. уровня развития и формирования систем социальной поддержки и зависимости времени их создания от политической мобилизации рабочего класса и характера политического режима см.: Flora P., Alber J. Modernization, Democratization and the Development of Welfare States in Western Europe // Flora P., Heidenheimer A. J. (eds.). The Development of Welfare States in Europe and America. New Brunswick: Transaction Books, 1981. P. 37–80.
(обратно)1178
Wilensky H. L. The Welfare State and Equality. Structural and Ideological Roots of Public Expenditures. Berkeley: University of California Press, 1975.
(обратно)1179
Toynbee A. The Industrial Revolution. Boston: Beacon Press, 1968.
(обратно)1180
Т. Маршалл, опираясь на опыт Великобритании, писал о том, что юридические права граждан сформировались в XVIII в., политические – в XIX в., а социальные – в XX в. (см.: Marshall T. H. Citizenship and Social Class // Marshall T. H. (ed.). Class, Citizenship and Social Development. Garden City; New York: Doubleday & Company, 1964. P. 65–122).
(обратно)1181
О влиянии стимулов, связанных со сформированной в конце XIX – начале XX в. системой социальной поддержки, на поведение населения в трудовой сфере см.: Tanzi V., Schuknecht L. Public Spending in the 20th Century. A Global Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 250.
(обратно)1182
Международное бюро труда. Женева. Труд в мире. 2000. Обеспечение дохода и социальная защита в меняющемся мире. М., 2001. С. 150.
(обратно)1183
Moffitt R., Nicholson W. The Effect of Unemployment Insurance on Unemployment: The Case of Federal Supplemental Benefits // Review of Economics and Statistics. Cambridge, MA, 1982. Vol. 64. No. 1. P. 1–11.
(обратно)1184
Landsburg S. Armchair Economist: Economics and Everyday Experience. New York: The Free Press, 1994. Х. Зиберт приводит пример: английское колониальное правительство в Индии установило премию за голову убитой кобры, чтобы остановить размножение ядовитых змей и ограничить связанные с ним риски жизни и здоровью людей. Результатом стало массовое разведение кобр местным населением (см.: Зиберт Х. Эффект кобры. Как можно избежать заблуждений в экономической политике / Пер. с нем. П. И. Гребенникова. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2003. С. 11).
(обратно)1185
Действие этой системы в Германии Х. Зиберт описывает так: “Сейчас безработный в течение первых 3 месяцев должен соглашаться на работу, на которой он теряет не более 20 % своего прежнего заработка, а в течение следующих 3 месяцев – не более 30 %. После этого рабочее место считается приемлемым для безработного, если чистая заработная плата не меньше пособия по безработице. В случае первого отказа от рабочего места безработный может лишиться 12-недельного пособия; при повторном отказе он полностью теряет право на пособие. Однако понятие «предложение рабочего места» в нашей правовой системе юридически выражено нечетко. Так, по сообщениям предпринимателей, безработные – даже если они пришли на собеседование не под хмельком – имеют много возможностей дать понять, что им не до работы, так как они очень заняты уходом за больной женой, матерью или ребенком. Не говоря уже о том, что для лишения безработного пособия за отказ от работы требуется судебное решение, а предприниматель не имеет времени и желания выступать в суде свидетелем” (см.: Зиберт Х. Эффект кобры. Как можно избежать заблуждений в экономической политике / Пер. с нем. П. И. Гребенникова. С. 107).
(обратно)1186
О влиянии длительной безработицы родителей на укоренение у детей представления о том, что статус безработного – приемлемая жизненная стратегия, см.: Christoffersen M. N. Opvaekst Med Arbejdsloeshed (Growing up with Unemployment; With an English Summary). Report 96/14. Copenhagen: Institute of Social Research, 1996; Andersen T. M., Molander P. (eds.). Alternatives for Welfare Policy: Copying With Internationalization and Demographic Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. P. 8, 9.
(обратно)1187
Leisering L., Leibfried S. Time and Poverty in Western Welfare States. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 31.
(обратно)1188
О том, что институциональные решения, связанные с социальной защитой, оказывают гораздо более сильное влияние на поведение и установки в долгосрочной перспективе, нежели в средне– и краткосрочной, см.: Lindbeck A. The End of the Middle Way? The Large Welfare States of Europe // American Economic Review. 1995. Vol. 85 (2). P. 10–13.
(обратно)1189
Разумеется, есть и исключения: системы социального обеспечения, при которых выплаты финансируются за счет общих доходов бюджета, но для совокупности наиболее развитых стран, объединенных в ОЭСР, это именно исключение.
(обратно)1190
Moffitt R. Welfare Programs and Labor Supply // NBER Working Paper. 9168. September 2002.
(обратно)1191
О влиянии системы пособий по нуждаемости для неполных семей на расширение распространения семей, состоящих из матери и ее детей, не включающих отца, см.: Marriage and the Economy / Grossbard-Shechtman S. A. (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 2003. P. 76–82.
(обратно)1192
Blank R. M. Evaluating Welfare Reform in the United States // NBER Working Paper. 8983. June 2002.; Jouce T., Kaestner R., Korenman S. Welfare Reform and Non-Marital Fertility in the 1990s: Evidence From birth Records // NBER Working Paper. 9406. December 2002.
(обратно)1193
Lindbeck A. The Swedish Experiment // Journal of Economic Literature. 1997. Vol. 35 (3). P. 1283, 1284.
(обратно)1194
The Economist. 2002. October 26th – November 1st. P. 34.
(обратно)1195
Lindbeck A. The Swedish Experiment // Journal of Economic Literature. 1997. Vol. 35 (3). P. 1273–1319.
(обратно)1196
Wilensky H. L. The Welfare State and Equality. Structural and Ideological Roots of Public Expenditures. Berkeley: University of California Press, 1975. P. 22.
(обратно)1197
Bonoli G. The Politics of Pension Reform. Cambridge: Cambridge University Press,
2000. P. 12.
(обратно)1198
О сближении моделей пенсионного обеспечения, первоначально построенных по германскому и английскому образцам, см.: Hinrichs K. Elephants on the Move. Patterns of Public Pension Reform in OECD Countries // Leibfried S. (ed.). Welfare State Futures. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. P. 80–84.
(обратно)1199
Feldstein M., Liebman J. B. Social Security // NBER Working Paper. 8451. September 2001.
(обратно)1200
Rappaport A. M., Schieber S. J. (eds.). Demography and Retirement: The Twenty-First Century. Westport; Connecticut; London: Praeger, 1993. P. 120.
(обратно)1201
World Bank. Averting the Old Age Crisis. Oxford: Oxford University Press, 1994. P.73.
(обратно)1202
Feldstein M., Liebman J. B. Social Security // NBER Working Paper. 8451. September 2001.
(обратно)1203
Latulippe D. Effective retirement age and duration of retirement in the industrial countries between 1950 and 1990 // Issues in Social Protection. Discussion Paper 2. Financing and Economics. Social Security Department, ILO. Geneva, 1996.
(обратно)1204
* Данные по Англии и Уэльсу.
(обратно)1205
Захаров С., Рахманова Г. Демографический контекст пенсионного обеспечения: история и современность // Современные проблемы пенсионной сферы: Комментарии экономистов и демографов / Под ред. Т. Малевой. Научные доклады. Вып. 16. М.: Московский центр Карнеги, 1997. С. 37.
(обратно)1206
Replacement Migration: Is it a Solution to Declining and Ageing Population? United Nations, 2000. P. 1.
(обратно)1207
Пенсионная реформа в России: причины, содержание, перспективы / Под ред. М. Э. Дмитриева, Д. Я. Травина. СПб.: Норма, 1998. С. 80.
(обратно)1208
Wilensky H. L. The Welfare State and Equality. Structural and Ideological Roots of Public Expenditures. Berkeley: University of California Press, 1975. P. 47–48. О поддержке государства всеобщего благосостояния в условиях развитых, стабильных демократий со стареющим населением даже при нарастающем финансовом кризисе см. также: Boeri T., BÖrsch-Supan A., Tabellini G. Would You Like to Shrink the Welfare State? The Opinions of European Citizens // Economic Policy. 2001. Vol. 32. P. 7–50; Svallfors S. Mellan Risk Och Tilltro (Between Risk and Trust). Umeå: Umeå Studies in Sociology, 1999.
(обратно)1209
Захаров С., Рахманова Г. Демографический контекст пенсионного обеспечения: история и современность // Современные проблемы пенсионной сферы: Комментарии экономистов и демографов / Под ред. Т. Малевой. С. 41, 42.
(обратно)1210
Васин С. Демографические проблемы повышения пенсионного возраста // Современные проблемы пенсионной сферы: Комментарии экономистов и демографов / Под ред. Т. Малевой. С. 92.
(обратно)1211
В США при введении системы социального страхования отчисления из заработной платы, призванные финансировать ее, составляли всего 2 % суммы выплат наемным работникам.
(обратно)1212
Мировой опыт реформирования пенсионных систем: Концептуальные подходы и практические действия / Отв. ред. Л. С. Дегтярь. М.: Эпикон, 1999. С. 8.
(обратно)1213
Баскаков В. Н, Лельчук А. Л., Помазкин Д. В. Моделирование пенсионной системы РФ // Пенсионная система: модель для России и зарубежный опыт. М., “Транспечать”, 2003. С. 68.
(обратно)1214
Rappaport А., Schieber S. (eds.). Demography and Retirement: The Twenty-First Century. Westport; Connecticut; London: Praeger, 1993. P. 261.
(обратно)1215
Дж. Кейнс как-то заметил, что динамика численности населения – единственная вещь, которую можно предсказывать с “достаточной степенью уверенности” (см.: Keynes J. M. Some Economic Consequences of a Declining Population // Eugenics Review. Vol. 29. April 1937. P. 13–17).
(обратно)1216
The World Ageing Situation. Exploring a Society for All Ages // United Nations. Statistics. Economic & Social Affairs. 271. New York, 2001. P. 1, 5.
(обратно)1217
Koch M., Thimann C. From Generosity to Sustainability: The Austrian Pension System and Options for its Reform // IMF Working Paper. 1997. P. 18.
(обратно)1218
Ibid. P. 23.
(обратно)1219
Международное бюро труда. Женева. Труд в мире. 2000. Обеспечение дохода и социальная защита в меняющемся мире. М., 2001. С. 60, 61.
(обратно)1220
Alternatives for Welfare Policy: Copying With Internationalisation and Demographic Change / Andersen T. M., Molander P. (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 2003. P. 370–373.
(обратно)1221
Feldstein M., Horkia C. Domestic Saving and International Capital Flows // Economic Journal. № 90. June 1980. P. 314–329.
(обратно)1222
Feldstein M. Fiscal Policies, Capital Formation and Capitalism // Working Paper. 4885. 1994. P. 18, 19.
(обратно)1223
То, что сбережения, накапливаемые для обеспечения жизни в старости, были важнейшим фактором, определявшим динамику частных сбережений в XIX – начале XX в., – факт известный и хорошо документированный.
(обратно)1224
О реформах, направленных на введение накопительной системы пенсионного обеспечения, см.: World Bank. Averting the Old-Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth. New York: Oxford University Press, 1994.
(обратно)1225
Пенсионная реформа в России: причины, содержание, перспективы / Под ред. М. Э. Дмитриева, Д. Я. Травина. СПб.: Норма, 1998. С. 114.
(обратно)1226
World Bank. Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old And Promote Growth. Oxford: Oxford University Press, 1994; Feldstein M. Fiscal Policies, Capital Formation and Capitalism // Working Paper. 4885. 1994; Vittas D. The Argentine Pension Reform and its Relevance for Eastern Europe. World Bank Policy Research // Working Paper. No. 1819. 1997; Schmidth-Hebbel K. Colombia’s Pension Reform. Fiscal and Macroeconomics Effects. World Bank Discussion // Working Paper. No. 314. 1996; Quiesser M. Pension Reform and Private Pension Funds in Peru and Colombia. World Bank Policy Research // Working Paper. No. 1853. 1997; Demigruc-Kunt A., Schwartz A. Costa Rican Pension System Options for Reform. World Bank Policy Research // Working Paper. No. 1483. 1995; Sales-Sarrary C., Solin-Soberon F., Villagonez-Amezcua A. Pension System Reform. The Mexican Case. National Bureau of Economic Research // Working Paper. No. 5780. 1996; Vasquez I. T w o Cheers for Mexico’s Pension Reform // The Wall Street Journal. June 27. 1997; Ерошенков С. Г. Переход к накопительной пенсионной системе. Мировой опыт и возможности его применения в России. М.: МАКС Пресс, 2001. С. 45.
(обратно)1227
По международным стандартам английская пенсионная реформа 1986 года – одно из самых радикальных отступлений от традиционных для Западной Европы послевоенных подходов к социальной политике. Теперь британские занятые имеют возможность выйти из государственной пенсионной системы или из своих профессиональных систем за рамками платежей, обеспечивающих минимальную пенсию, и принять решение об организации собственного пенсионного страхования. Это сокращает перераспределительные функции пенсионной системы и роль правительства как гаранта пенсионного обеспечения. Предоставление права выхода означает уменьшение числа плательщиков в государственные системы пенсионного страхования. Это, в свою очередь, ограничивает возможности последних выполнять существующие и предстоящие пенсионные обязательства и создает дополнительные стимулы для выхода из государственной системы. Именно в результате введения новой пенсионной системы Великобритания сегодня – единственная постиндустриальная страна, которая не имеет финансовых проблем с выполнением будущих пенсионных обязательств.
(обратно)1228
Мировой опыт реформирования пенсионных систем: Концептуальные подходы и практические действия / Отв. ред. Л. С. Дегтярь. М.: Эпикон, 1999. С. 58–60.
(обратно)1229
О пенсионных реформах, направленных на повышение минимального возраста выхода на пенсию, ужесточение критериев досрочного выхода на пенсию, см.: Влияние долгосрочной тенденции старения населения на выборы модели пенсионного обеспечения: уроки мирового опыта для России // Демографические и социально-экономические аспекты старения населения: Вторые Валентеевские чтения. Кн. 2. М.: Диалог-МГУ, 1999. С. 12, 13. О мерах, направленных на обеспечение устойчивости пенсионных систем, связанных с повышением пенсионного возраста, снижением коэффициента замещения (отношение средней пенсии к средней заработной плате), изменением в порядке индексаций пенсий, позволяющих снизить соотношение размеров пенсионных обязательств, см.: Мировой опыт реформирования пенсионных систем: Концептуальные подходы и практические действия / Отв. ред. Л. С. Дегтярь. С. 118, 119.
(обратно)1230
Economist. 7th –13th June 2003.
(обратно)1231
Kopits G. Are Europe’s Social Security Finances Compatible with EMU? IMF Paper on Policy Analysis and Assessment // Working Paper. February 1997. P. 6.
(обратно)1232
Ervin S. L. Fourteen Forecasts for an Aging Society // The Futurist. 2000. Vol. 34 (6). P. 25.
(обратно)1233
Fortune. 8th December 1997. P. 146.
(обратно)1234
По расчетам К. Б. Маллигана и К. Сала-и-Мартина (1999 год), в США правительства разного уровня тратят на поддержку тех, кому больше 65 лет, примерно 10 % ВВП, включая социальное страхование (5 % ВВП), программу “Медикейр” (2 % ВВП) и другие выплаты. Только государственные пенсии в Италии составляют 13 % ВВП, в Швеции – 16 % (см.: Mulligan C. B., Sala-i-Martin X. Social Security in Theory and Practice (I): Facts and Political Theories // NBER Working Paper. 1999. April 23. P. 10).
(обратно)1235
О влиянии краткосрочной ориентации приоритетов политических сил на трудности реализации глубоких структурных реформ, необходимых для адаптации к реалиям постиндустриального общества, см.: Stahl I., Wickman K. Suedosclerosis: The Problems of Swedish Economy. Stockholm: Timbro, 1995. P. 55.
(обратно)1236
Гришин В. В., Мирский М. Б., Данилишина Е. И., Блохина Н. Н., Гончарова С. Г., Семенов В. Ю. Больничные и страховые кассы (отечественный опыт медицинского страхования). М.: Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 1997.
(обратно)1237
Вопросы страхования. 1924. № 12. С. 4.
(обратно)1238
Захаров С., Рахманова Г. Демографический контекст пенсионного обеспечения: история и современность // Современные проблемы пенсионной сферы: Комментарии экономистов и демографов / Под ред. Т. Малевой. С. 33, 34.
(обратно)1239
О стратегии пенсионной реформы, направленной на формирование трехуровневой пенсионной системы в постсоциалистических странах, включающей элементы обязательного накопительного страхования, см.: Csillag I. The Pension Reform in Hungary. Financial Research Ltd, 1999; Palacios R., Rocha R. The Hungarian Pension Reform in Transition. Pension Primer Paper, Social Protection Discussion Paper Series. Washington, D. C.: The World Bank, Social Protection and Human Development Network, April 1998. О пенсионных реформах в Восточной Европе см.: Пташек Я. Реформирование системы социального страхования в Польше // Проблемы теории и практики управления. 1996. № 4. С. 96–101; Pension Reforms Make Slow Progress // Central and South – East Europe Monitor. 1999. Vol. 6 (4). P. 4.
(обратно)1240
Мировой опыт реформирования пенсионных систем: Концептуальные подходы и практические действия / Отв. ред. Л. С. Дегтярь. С. 22.
(обратно)1241
Данные по России – СНГ в 2002 году: Статистический ежегодник / Межгосударственный статистический комитет СНГ. М., 2003.
(обратно)1242
Goleniowska S. Delayed Reforms of the Social Policy / Economic Scenarios for Poland. Warsaw: Center for Social and Economic Research, 1997. P. 31–42.
(обратно)1243
Holzmann R. Starting Over in Pensions: The Challenges Facing Central And Eastern Europe // Journal of Public Policy. 1997. Vol. 17 (3). P. 195–222. О пенсионной реформе в Казахстане см.: Реконструкция пенсионной системы в Республике Казахстан // Пенсия. 1997. № 11; Ерошенков С. Г. Переход к накопительной пенсионной системе. Мировой опыт и возможности его применения в России. С 99–116.
(обратно)1244
Первая системная работа, в которой была сформулирована концепция пенсионной реформы, начавшейся в России в 2001–2002 годах: Дмитриев М. Э. Альтернативные сценарии пенсионных реформ в России // Пенсионные фонды. 1996. № 4 (8).
(обратно)1245
По прогнозам, в рамках намеченной программы пенсионной реформы объем взносов в накопительную систему обязательного пенсионного страхования возрастет с 0,39 % ВВП в 2002 году до 1,71 % ВВП в 2030 году и 2,03 % ВВП в 2050 году (см.: Clowes M. J. The Money Flood: How Pension Funds Revolutionized Investing. New York: John Wiley & Sons Inc., 2000).
(обратно)1246
К числу наиболее спорных элементов пенсионной реформы в России можно отнести выбор Внешэкономбанка, по своему уставу одного из самых закрытых финансовых институтов страны, в качестве агента, управляющего большей частью средств обязательного накопительного пенсионного страхования.
(обратно)1247
В рамках существующих демографических прогнозов, прогнозов макроэкономических показателей долгосрочная устойчивость российской пенсионной системы может быть обеспечена лишь при снижении средней ставки замещения с 33 % в 2002 году до 25–29 % в 2025 году и 23–25 % в 2050 году. Об альтернативах, связанных с повышением минимального возраста выхода на пенсию, сокращением соотношения средней пенсии и средней заработной платы, см.: “Анализ финансовой устойчивости пенсионной системы: потенциальные эффекты снижения социального налога и других изменений”. Круглый стол. ИЭПП. 25 февраля 2004 г.
(обратно)1248
* Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни в возрасте выхода на пенсию.
(обратно)1249
Доля активов пенсионных фондов, инвестируемых за рубежом, в развитых странах составляет 17 %. Это меньше, чем необходимо, чтобы обеспечить уровень диверсификации, позволяющий ограничить риски, связанные с колебанием темпов развития и показателей национальной экономики. Речь идет о феномене, который называют “привязанностью к дому”. Пенсионные фонды во всем мире рассматривают вложения в национальную экономику как менее рискованные (см.: Iglesias A., Palacios R. Managing Public Pension Reserves: Evidence From the International Experience. Pension Reform. Primer Series, Social Protection Discussion Paper. World Bank, 2000).
(обратно)1250
Инвестиции в иностранные ценные бумаги в 2004–2005 годах могут составлять до 5 % инвестиционного портфеля. До 2010 года эта квота будет увеличиваться до 20 % (см.: Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ “Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации” (п. 4 ст. 28, п.2 ст. 41, ст. 43)).
(обратно)1251
Хинц Р. Частные пенсии США и их регулирование // Пенсия. 1997. № 12. С. 54.
(обратно)1252
Кокорев Р. А., Трухачев С. А. Регулирование негосударственных пенсионных фондов: сопоставление российской практики и мирового опыта // БЭА: Информационно-аналитический бюллетень. 2003. № 50. С. 6, 10.
(обратно)1253
Должен признать: с активным участием автора этих строк.
(обратно)1254
Федеральный закон № 163-ФЗ от 8 декабря 2003 г. “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах”.
(обратно)1255
См. п. 2 ст. 22 Федерального закона № 167-ФЗ от 29 декабря 2000 г. “О внесении изменений и дополнения в Закон Российской Федерации «О государственных пенсиях в Российской Федерации»”.
(обратно)1256
Кокорев Р. А., Трухачев С. А. Регулирование негосударственных пенсионных фондов: сопоставление российской практики и мирового опыта // БЭА: Информационно-аналитический бюллетень. 2003. № 50. С. 22.
(обратно)1257
Дао дэ цзин. Древнекитайская философия / Сост. Ян Хин-Шун. Т. 1. М.: Мысль, 1972. С.134.
(обратно)1258
Уровень образования в Индии в 1950 году был ниже, чем в Англии в 1820 году (средняя продолжительность образования для мужчин и женщин в Западной Европе составляла в то время около двух лет) (см.: Maddison A. Dynamic Forces to Capitalist Development. A Long-Run Comparative View. Oxford; New York: Oxford University Press, 1991. P. 64, 65).
(обратно)1259
Drucker P. F. Post-Capitalist Society. Oxford: Butterworth; Heinemann, 1993. P. 178.
(обратно)1260
В 1755 году глава Норической епархии писал, что бедные дети рождены, чтобы быть поденщиками и зарабатывать свой хлеб. Если же они в результате благотворительности все-таки получат образование, несовместимое с той жизнью, которая им уготована, они станут опасными для общества (см.: Bendix R. Work and Authority in Industry. New York: Wiley, 1956. P. 64).
(обратно)1261
Landes D. S. The Wealth and Poverty of Nations. Why Some Are So Rich and Some So Poor. New York; London: W. W. Norton & Company, 1999. P. 250.
(обратно)1262
“В Европе движение за общественное образование исторически совпадает с ростом националистических настроений в политике – факт, чрезвычайно важный для последующего развития. Под влиянием, в частности, немецкой традиции образование стало считаться функцией гражданского общества, а это последнее с некоторых пор начало отождествляться с национальным государством. «Государство» заменило собой «человечество», космополитизм уступал дорогу национализму. Целью образования стало формировать гражданина, а не человека. Обсуждаемая историческая ситуация возникла как одно из последствий наполеоновских завоеваний, особенно в Германии, где правители поняли (и последующие события подтвердили их правоту), что систематическое внимание к образованию способно стать для них наилучшим средством восстановления и сохранения политической целостности и мощи. А когда реальная практика такова, что система образования, от начальных классов до университета, поставляет патриотически настроенных граждан, солдат, будущих государственных чиновников и руководителей и обеспечивает возможность военного, промышленного и политического развития, теория не может не подчеркивать социальную эффективность в качестве своей цели” (см.: Дьюи Д. Демократия и образование. М.: Педагогика; Пресс, 2000. С. 91, 92).
(обратно)1263
Heclo H. Modern Social Politics in Britain and Sweden. From Relief to Income Maintenance. New Haven; London: Yale University Press, 1974. P. 32.
(обратно)1264
Германия стала первой страной, взявшейся за создание отвечающей этому духу системы всеобщего государственного обязательного образования от начальной школы до университета, подчинив государству все образовательные учреждения (см.: Дьюи Д. Демократия и образование. С. 91–94).
(обратно)1265
О прусском начальном образовании как основе комплектования прусских вооруженных сил см.: Kennedy P. The Rise and the Fall of the Great Nations. Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. New York: Random House, 1987. P. 184.
(обратно)1266
Немецкие образцы поддерживаемого государством начального образования как средство ускорения экономического роста и укрепления военной мощи не распространились по Европе беспрепятственно. В России, где широкое развитие образования непривилегированных сословий вызывало подозрения с точки зрения его влияния на политическую стабильность, К. Леонтьев писал: “Нельзя же величавые (я не хочу сказать великие) принципы 89 года, как бы они ни были ошибочны для самой Франции и смертоносны, сравнивать с такими сухими утилитарными мелочами, как всеобщая мелкая принудительная грамотность и тому подобные немецкие вещи” (см.: Леонтьев К. Восток, Россия и славянство: Сб. статей. Т. 1. М., 1885. С. 22).
(обратно)1267
Г. Уэллс говорил, что назначение образовательного акта 1870 года – “образовать низшие классы общества, чтобы они были заняты в областях, свойственных низшим классам, а обучать их должны особым образом подготовленные учителя начальной школы” (см.: Brown P. Third Wave: Education and the Ideology of Parentocracy // Halsey A. H., Lauder H., Brown P., Wells A. S (eds.). Education: Culture, Economy and Society. Oxford: Oxford University Press, 2001. P. 395).
(обратно)1268
Мельянцев В. А. Экономический рост стран Востока и Запада в долгосрочной перспективе: Автореф. дис. д-ра экон. наук. С. 221.
(обратно)1269
Мельянцев В. А. Экономический рост стран Востока и Запада в долгосрочной перспективе: Автореф. дис. д-ра экон. наук. С. 223.
(обратно)1270
Такие, как школьное движение в США конца XIX – начала XX в. (см.: Goldin C. The Human Capital Century and American Leadership: Virtues of the Past // NBER Working Paper. 2001. 8239. P. 16–26).
(обратно)1271
Coleman J. The Concept of Equality of Educational Opportunity // Harvard Educational Review. 38 (Winter). 1968. P. 7–22; Idem. Equity and Achievement in Education. Boulder: Westview Press, 1990.
(обратно)1272
Сформулированную в 1966 году Д. Колеманом гипотезу о том, что контингент учащихся определяет качество образования, получаемого в конкретной школе, в настоящее время его последователи считают аксиомой. Если стандарты образования в лучших школах в результате соревнования между ними растут, то те же стандарты в непопулярных заведениях будут снижаться. Конкуренция между школами ведет к поляризации образовательных результатов, подрывая базу всей системы образования, восстанавливая принцип отбора учеников в успешные школы, исключая какое бы то ни было равенство возможностей (см.: Coleman J. C. Equality of Educational Opportunity. Washington, DC: Government Printing Office, 1966; Halsey A. H., Lauder H., Brown P., Wells A. S. (eds.). Education: Culture, Economy and Society. Oxford: Oxford University Press, 2001. P. 22).
(обратно)1273
World Education Report 2000. The Right to Education: Towards Education for All Throughout Life. P.: UNESCO Publishing, 2000. P. 66, 67.
(обратно)1274
В начале 1970‑х годов А. Халси отмечал, что попытки превратить систему образования в средство для обеспечения равных возможностей основаны на нереалистических предпосылках и игнорируют структурные основы неравенства в Великобритании. Он писал, что эти инициативы следуют логике политической идеологии, рассматривающей образование в качестве “мусорной корзины социальной политики – места, куда можно сбросить социальные проблемы, которые неизвестно, как решать, и с которыми не готовы бороться серьезно; такие проблемы называют «образовательными» и перекладывают их на школу” (см.: Halsey A. H. Political Ends and Еducational Means. Vol. 1. Educational Priority. London: Her Majesty’s Stationery Office, 1972. P. 8).
(обратно)1275
Л. Сандберг убедительно показал, что уровень распространения образования в 1850 году хорошо коррелирует с душевым ВВП 1970 года. Образование оказывает влияние на ход экономического развития с значительным временным лагом, но в серьезной степени (см.: Sandberg L. G. Ignorance Poverty and Economic Backwardness in the Early Stage of European Industrialization // Journal of European Economic History. 1982. Vol. 11 (3). P. 675–697). О позитивной связи уровня школьного образования и долгосрочных темпов экономического роста см.: Barro R. J. Economic Growth in a Cross Section of Countries // Quarterly Journal of Economics. CVI (2). May 1991. P. 407–443.
(обратно)1276
Воспользовавшись предоставленными им привилегиями по Биллю о солдатских правах, 2,2 млн американцев пошли учиться в университеты и колледжи, 3,5 млн продолжили учебу в средней школе, 2,1 млн прошли подготовку на фирмах, где они работали (см.: Смирнов А. И. Россия: на пути к профессиональной армии (опыт, проблемы, перспективы). М.: Институт социологии РАН, Центр общечеловеческих ценностей, 1998, С. 48).
(обратно)1277
Накопленный за последние десятилетия опыт показал, что темпы экономического роста связаны не столько с длительностью обучения, сколько с его качеством (см.: Hanushek E. A., Kimko D. D. Schooling, Labor Force Quality and the Growth of Nations // American Economic Review. 2000. Vol. 90 (5). P. 1184–1208).
(обратно)1278
Easterly W. The Elusive Quest for Growth. Economists’ Adventures and Misadventures in the Tropics. Cambridge; London: The MIT Press, 2000. P. 72, 73, 76, 266.
(обратно)1279
Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books Inc., Publishers, 1973.
(обратно)1280
* Данные за 1999 год.
(обратно)1281
Последний раз предложение серьезно ограничить права родителей за свой счет давать образование детям в частных школах, чтобы обеспечить социальное равенство, в Англии обсуждалось в 1968 году. Это предложение было отклонено. Такие меры, очевидно, задели бы интересы элиты, обучающей детей именно в таких школах. В Великобритании доля школьников, обучающихся на платной основе, имеет устойчивую тенденцию к росту (2003 год – 7,1 %), несмотря на дороговизну этой услуги (36 тыс. долл. в год). Это наглядное свидетельство того, в какой степени родители не удовлетворены качеством государственного школьного образования (см.: The Economist. July. 2004. P. 15, 29).
(обратно)1282
The Economist. 10–16 th May. 2002.
(обратно)1283
На слушаниях в подкомитете по образованию Конгресса США при обсуждении вопроса о возможности выбора родителями школы в системе среднего образования губернатор штата Миннесота С. Карлсон заметил, что право выбора школы существовало всегда, но лишь для элиты (см.: Hearing before the Subcommittee on Oversight and Investigations of the Committee on Education and the Workforce House of Representatives. Serial № 106–111. June 6. 2000. P. 26).
(обратно)1284
По оценкам, примерно 70 % политической, административной и экономической элиты Великобритании составляют выпускники частных (называемых на уклончивом английском языке “общественными”) школ (см.: Hartnett A., Naish M. (eds.). Education and Society Today. London; New York; Philadelphia: The Falmer Press, 1986. P. 81).
(обратно)1285
В США на процедуру увольнения не справляющегося со своими обязанностями учителя в государственной школе уходит в три с лишним раза больше времени, чем в частной (см.: Halsey A. H., Lander H., Brown Ph., Wells A. S. Education: Culture, Economy, Society. New York: Oxford University Press Inc., 1997. P. 372).
(обратно)1286
Серьезная проблема современной английской школы – снижающийся уровень знаний по математике и естественным наукам, связанный в том числе с острым дефицитом преподавателей этих предметов. Специалистов с хорошей математической и естественнонаучной подготовкой охотно берут на работу страховые, консультативные и финансовые фирмы. В результате в школах происходит увеличение среднего возраста учителей, снижается уровень преподавания. Ученики, имеющие склонность к математике, физике, химии, не могут получить необходимых знаний. Очевидный выход из положения – повысить оплату учителей, ведущих эти предметы. Но в бюрократизированной школе это невозможно, поскольку нарушается запрет на дифференцированную оплату по разным дисциплинам (см.: The Еconomist. 19th – 25th April. 2003).
(обратно)1287
Примерно 30 % школьных округов США в последние годы оказались вовлеченными в острый конфликт вокруг учебников и школьных программ (см.: Apple M. W. Curriculum Conflict in the United States // Hartnett A., Naish M. (eds.). Education and Society Today. London; New York; Philadelphia: The Falmer Press, 1986. P. 161).
(обратно)1288
О проблемах, порождаемых ситуацией, при которой рост потребностей постиндустриального общества в квалифицированной, хорошо образованной рабочей силе сочетается с кризисом школьного образования, ориентированного на решение социальных, а не образовательных задач, см.: Naisbitt J. Megatrends. Te n New Directions Transforming Our Lives. New York: Warner Books, 1982. P. 31–35.
(обратно)1289
В государственных школах Вашингтона 70 % учеников читают с трудом, 71 % – не выполняют стандартные тесты по математике. Обладающие достаточными средствами жители американской столицы либо переселяются в предместья, где есть приличные школы, либо направляют детей в частные школы (см.: Economist. 10th –16th May. 2003).
(обратно)1290
Уже процитированный губернатор штата Миннесота С. Карлсон: “В Америке существуют два принципиально разных вида образования: первый из них – высшее образование. Нет ни одной страны в мире, которая хотя бы не попыталась посылать часть своих студентов учиться в американские университеты. В этом отношении мы пример успеха в образовании. Значительная часть этого успеха связана с эрой после Второй мировой войны и принятием Закона о ветеранах – важнейшего закона, связанного с образовательными ваучерами, в истории США. Он радикально расширил доступ к американскому высшему образованию. Если мы посмотрим на систему среднего образования, то заметим: не проходит недели без материалов о том, что американские дети по показателям образовательных тестов отстают от своих сверстников в Европе и Азии… Значит, мы должны предусмотреть серьезные изменения, чтобы у наших детей появились шансы на успех. Достижения обеспечивала конкуренция. Когда мы даем студентам право бороться за получение высшего образования, мы не ограничиваем их возможностью поступить в данный конкретный университет” (см.: Hearing before the Subcommittee on Oversight and Investigations of the Committee on Education and the Workforce House of Representatives. Serial № 106–111. June 6. 2000. P. 5).
(обратно)1291
Cox C. B., Dyson A. E. (eds.). Fight for Education. London: Critical Quarterly, 1968.
(обратно)1292
Cox C. B., Boyson R. (eds.). The Black Paper. London: Morris Temple Smith, 1977; Cox C. B., Dyson A. E. (eds.). Fight for Education: The Black Paper. London: The Critical Quarterly Society, 1969. О роли социальной политики в качестве приоритета в организации образования по отношению к собственно образовательным задачам в кризисе американского школьного образования см.: Drucker P. F. PostCapitalist Society. Oxford: Butterworth – Heinemann, 1993. P. 182.
(обратно)1293
Индоктринация – поучение, пропаганда, идеологическое воздействие на людей, чтобы воспитать их в духе приверженцев какой-либо теории, идеи, политической доктрины, религии.
(обратно)1294
Hillgate Group. The Reform of British Education. London: Claridge Press, 1987. P. 2.
(обратно)1295
Halsey A. H., Lauder H., Brown P., Wells A. S. (eds.). Education: Culture, Economy, Society. Oxford University Press, 2001. P. 364–366. Собственно идея, что государственное финансирование образования можно обеспечивать, предоставляя субсидии потребителям образовательных услуг, а не финансируя предоставляющие их учреждения, была сформулирована еще в XVIII в. (см.: Jongbloed B., Koelman J. Vouchers for Higher Education? A Survey of the Literature. Study Commissioned by the Hong Kong University Grants Committee. CHEPS. Enschede, 2000).
(обратно)1296
Halsey A. H., Lauder H., Brown P., Wells A. S. (eds.). Education: Culture, Economy, Society. Oxford University Press, 2001. P. 364–366.
(обратно)1297
Friedman M. Capitalism and Freedom. Chicago: University of Chicago Press, 1962.
(обратно)1298
Jencks C. Education Vouchers: A Report on the Financing of Elementary Education by Grants to Parents. Cambridge, Mass.: Cambridge Center for the Study of Public Policy, 1970.
(обратно)1299
Выступавшие за право родителей выбирать школы утверждали, что это повысит эффективность школьного образования. Их оппоненты настаивали на том, что право выбора приведет к неравенству (см.: Ambler J. S. Who Benefits from Educational Choice – Some Evidence from Europe // Journal of Policy Analysis and Management. 1994. Vol. 13 (3). P. 454–476; Chubb J., Moe T. Politics, Markets and America’s Schools. Washington: Brookings Institute, 1990; Manski C. F. Educational Choice and Social Mobility // Economics of Educational Review. 1992. Vol. 11 (4). P. 351–369; Willms J. D., Echols F. Alert and Inert Clients: The Scottish Experience of Parental Choice in Schools // Economics of Educational Review. 1992. Vol. 11 (4). P. 339–350. О практическом опыте использования системы образовательных ваучеров в сфере начального и среднего образования см.: West E. G. Education Vouchers in Principle and Practice: A Survey // The World Band Research Observer. 1997. Vol. 12 (1). P. 83–103).
(обратно)1300
The Economist. July. 2004. P. 15.
(обратно)1301
О специфике Англии, с характерной для нее концентрацией власти в руках опирающегося на парламентское большинство кабинета и широкой свободой маневра в выборе проводимой им политики, см.: Вебер М. Политика как призвание и профессия. Избранные сочинения. М., Прогресс, 1990.
(обратно)1302
Россия в начале XX века / Под ред. А. Н. Яковлева. М.: Новый хронограф, 2002. С. 357.
(обратно)1303
Там же. С. 578–580.
(обратно)1304
Уже в 1908 году Россия по количеству издаваемых книг занимала третье место в мире после Германии и Японии (см.: Россия в начале XX века / Под ред. А. Н. Яковлева. С. 34).
(обратно)1305
United Nations Development Program (UNDP). Poverty in Transition? New York: United Nations, 1998. P. 217.
(обратно)1306
Якобсон Л. И. Механизм хозяйствования в отраслях социально-культурной сферы. М., 1988. С. 26.
(обратно)1307
Holmes L. E. Stalin’s School: Moscow’s Model School No. 25, 1931–1937. Pittsburgh: The University of Pittsburgh Press, 1999.
(обратно)1308
Nove A. An Economic History of the USSR, 1917–1991. London; New York: Penguin Books, 1992. P. 267.
(обратно)1309
Nove A. An Economic History of the USSR, 1917–1991. P. 360, 361.
(обратно)1310
Обзор национальной образовательной политики. Высшее образование и исследования в Российской Федерации. М.: Весь мир, 2000. С. 168.
(обратно)1311
Там же. С. 32. О недоумении западных экспертов дистанцией между элитарным образованием и общим уровнем образования, об отсутствии ориентации образовательной политики на обеспечение равенства возможностей, см. также: Balzer H. Human Capital and Russian Security in the Twenty-First Century // Kuchins A. C. (ed.). Russia After the Fall. Washington, D. C.: Carnegie Endowment for International Peace; [distributor] Brookings Institution Press, 2002. P. 174.
(обратно)1312
Интересный опыт реализации подобного рода программ работы с одаренными детьми, ориентированной на выявление способностей к физико-математическому образованию у детей из нестоличных городов, – работа со старшеклассниками Московского физико-технического института, созданного в 50‑х годах для подготовки элитных специалистов военно-промышленного комплекса. За годы существования заочной физико-технической школы при Московском физико-техническом институте ее окончили 70 тыс. выпускников. Школа бесплатно дает качественную подготовку по физике и математике. Важнейшая задача – выявление школьников, имеющих склонности и способности к физике и математике, оказание им квалифицированной помощи в систематизации и расширении знаний. Более 60 % поступающих в Московский физико-технический институт являются выпускниками школы (см.: /).
(обратно)1313
Чекмарев В. В. Система экономических отношений в системе образования: Автореф. дис. д-ра экон. наук. Кострома, 1997. С. 25.
(обратно)1314
* По России данные Мирового банка превышают те, которые приводит Минфин РФ. Тем не менее мы приводим именно его цифры для обеспечения сопоставимости. ** Данные относятся к 1999 году.
(обратно)1315
Место, занятое данной страной по результатам тестирования среди отдельных стран мира (выборка от 20 до 50 участников).
(обратно)1316
Место, занятое данной страной по результатам тестирования среди отдельных стран мира (выборка от 20 до 50 участников).
(обратно)1317
В 2002/03 учебном году 57 % первокурсников российских вузов обучались на платной основе. В общей численности студентов доля платного контингента в 2002/03 учебном году составляла 45 %. Финансовые поступления от платного контингента вузов превысили 1,5 и лишь немного уступали бюджетным ассигнованиям на эти цели – 1,8 Если принять во внимание затраты семей на преодоление барьера “школа – вуз”, на вход в систему высшего образования, то расходы семей (домохозяйств), по данным социологических исследований, примерно в 2 раза превосходят расходы государства на высшее образование (см.: Клячко Т. Л. Анализ финансовых потоков в системе профессионального образования: Научные труды. № 60. Р. М.: Институт экономики переходного периода, 2003. С. 137–213). В 1993 году доля студентов, обучающихся за счет государственного бюджета, составляла 93,62 %, а в 2002 году – лишь 50 % (см.: Россия в цифрах-2003: Краткий статистический сборник. М.: Госкомстат России, 2003).
(обратно)1318
К настоящему времени осознание необходимости платить за образование у населения, особенно у молодежи, укоренилось. Чем моложе респонденты, тем более спокойно они относятся к увеличению доли платного высшего образования. Но независимо от уровня доходов большинство семей ориентируется на поступление детей на учебные места, финансируемые из бюджета. Обучение за плату рассматривают как запасной вариант получения высшего образования (см.: Доступность высшего образования в России / Отв. ред. С. В. Шишкин. М.: НИСП, Проматур, 2004. С. 15).
(обратно)1319
В начале XVIII в. детская смертность в Лондоне была в 2 раза выше, чем во всей Великобритании (см.: Maddison A. The World Economy: A Millennial Perspective. P.: OECD, 2001. P. 34). В Соединенных Штатах в 1830 году смертность в Бостоне, Нью-Йорке и Филадельфии значительно превышала этот показатель для сельской Новой Англии (см.: Kuznets S. Modern Economic Growth. Rate, Structure and Spread. New Haven; London: Yale University Press, 1966. P. 46). В Северо-Западной Европе уровень смертности в городах до 1900 года превышал тот, который был характерен для сельских поселений (см.: Riley J. C. Rising Life Expectanc y. A Global History. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. P. 34).
(обратно)1320
О связи современного экономического роста, модернизации и изменения здоровья населения см.: Lerner M. Modernization and Health: A Model of the Health Transition // Paper Presented at the American Public Health Association, San Francisco, California, November 1973.
(обратно)1321
* 1970 год для Германии – данные по ФРГ.
(обратно)1322
Arrow K. J. Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care // American Economic Review. 1963. № 63. P. 941–973. Об этом немало написано и в ходе дискуссии о реформе организации здравоохранения в России. См., например, работу Н. Герасименко и соавторов: “Оказание медицинских услуг требует личных контактов производителя и потребителя. Велика роль индивидуальных отношений врача и пациента. Асимметрия информации производителя и потребителя (больного) в отношении потребительских свойств услуг проявляется особенно сильно. Потребность в медико-санитарной помощи – это витальная потребность, непосредственно связанная с бесценным благом – здоровьем и жизнью человека. Высокая социальная приоритетность лечебно-профилактической и медико-реабилитационной помощи предлагает особые инструменты ее использования. В здравоохранении неопределенно и нечетко прослеживается связь между затратами труда медицинского персонала и конечным результатом – состоянием здоровья людей, их заболеваемостью, уровнем смертности” (см.: Герасименко Н. Ф., Кузьмина Н. Б., Шиленко Ю. В. Негосударственный сектор здравоохранения: социально-экономические и медико-правовые аспекты // Экономика здравоохранения. 2002. № 5–6. С. 8, 9). Подобный набор аргументов обычно приводят для обоснования необходимости ограничения рыночных механизмов и частного финансирования в сфере здравоохранения.
(обратно)1323
Social Insurance and Allied Services. Report by Sir William Beverige. Presented to Parliament by Command of His Majesty. November 1942.
(обратно)1324
Система “Медикейр” ориентирована на обеспечение медицинского страхования пожилых американцев. К середине 90‑х годов ею пользовались 37 млн граждан. Система “Медикейд” нацелена на обеспечение медицинского страхования малообеспеченных. В середине 90‑х годов XX в. ею пользовались 38,7 млн граждан США (см.: Medicare and Mediсaid. ).
(обратно)1325
The Economist. 11th – 17th October. 2003.
(обратно)1326
Потребности в услугах здравоохранения увеличиваются с возрастом человека и резко возрастают после 75 лет. В Японии примерно треть расходов на медицинские услуги приходится на жителей старше 70 лет, которые составляют 1/8 населения страны. По прогнозам, к 2025 году доля японцев в возрасте 70 лет и старше составит уже четверть населения, а расходы на здравоохранение вырастут более чем вдвое (см.: The Economist. 15th –21th March. 2003). По данным Дж. Потербы и Л. Саммерса, расходы по системе “Медикейр”, приходящиеся на 1 человека старше 85 лет, примерно вдвое выше, чем на 60–65-летнего (Poterba J. M, Summers L. H. Public Policy Implications if Declining Old-Age Mortality // Burtless G. T. (eds.). Work, Health and Income Among the Elderly. Washington D. C.: The Brookings Institution, 1987. P. 42).
(обратно)1327
Jones C. I. Why Have Health Expenditures as a Share of GDP Risen so Much? // NBER Working Paper, 9325. November 2002.
(обратно)1328
Kornai J. The Borderline between the Spheres of Authority of the Citizen and the State: Recommendations for the Hungarian Health Reform // Kornai J., Haggard S., Kaufman R. R. (eds.). Reforming the State. Fiscal and Welfare Reform in Post-Socialist Countries. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. P. 181–182.
(обратно)1329
Старение населения приводит к росту доли расходов на пенсионное обеспечение в ВВП. Но рост расходов на медицинское обеспечение в США в рамках программы “Медикейр”, связанной с изменением в возрастной структуре, будет значительно более динамичным (см.: Lee R. D., Tuljapurkar S. Population Forecasting for Fiscal Planning: Issues and Innovations // Auerbach A. J., Lee R. D. (eds.). Demographic Change and Fiscal Policy. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. P. 52). О влиянии роста продолжительности жизни на увеличение расходов на программу “Медикейр” в США см. также: Miller T. Increasing Longevity and Medicare Expenditures // Demography. Vol. 38 (2). May 2001. P. 216–226.
(обратно)1330
Diamond P. The Future of Social Security // WEL Working Paper. 1995. 95/031.
(обратно)1331
“Редкость – ситуация, в которой человеческие желания превосходят возможности удовлетворить их, используя наличные ресурсы, – центральный объект исследования в экономике. Нигде в настоящее время общие проблемы редкости не проявляются столь ярко, можно сказать, с большей жесткостью и беспощадностью, чем в здравоохранении. Человеческие знания, наука и технологии предлагают много возможностей избежать или вылечить болезни, облегчить страдания, продлить жизнь, которые медицина не способна применить на практике. Это фундаментальная проблема здравоохранения. Есть пациенты, которых можно вылечить, но они не получают лечения или получают его в недостаточном объеме. Это относится даже к самым богатым странам и в них – не только к самым бедным членам сообщества, но и к относительно богатым людям” (см.: Culter D. M. The Dynamics of International Medical-Care. Reform Review of Easterly the Elusive Quest for Growth // The Journal of Economic Literature. Vol. 40 (3). September 2002).
(обратно)1332
Hjertqvist J. The Health Care Revolution in Stockholm. A Short Personal Introduction to Change. Stockholm: The Author and AB Timbro, 2002. P. 12; 2003 First Minister’s Accord on Health Care Renewal. February 5. 2003. /p-168. htm.
(обратно)1333
Салтман Р. Б., Фигейрас Дж. Реформы системы здравоохранения в Европе. Анализ современных стратегий / Пер. с англ. М.: ГЕОТАР Медицина, 2000. C. 13.
(обратно)1334
О попытках ужесточить контроль за расходами здравоохранения, сдержать темпы их роста см.: Abel-Smith D. Cost Containment in Health Care: The Experience of 12 European Countries 1977–1983. Luxembourg, 1984.
(обратно)1335
В Великобритании число граждан, находящихся в очереди в ожидании лечения в больнице, возросло с 622 тыс. человек в 1982 году до 915 тыс. человек в 1992 году (см.: Holliday I. The NHS Transformed. Manchester: Baseline Books, 1992; Immergut E. Health Politics. Interests and Institutions in Western Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. P. 31).
(обратно)1336
Cutler D. M. The Dynamics of International Medical-Care. Reform Review of Easterly’s the Elusive Quest for Growth // The Journal of Economic Literature. Vol. 40 (3). Cambridge University Press, September. 2002. P. 890–891.
(обратно)1337
Newhouse J. P. Medical Care Costs: How Much Welfare Loss? // Journal of Economic Perspectives. 1992. № 6 (3). P. 3–21.
(обратно)1338
Практически все американские штаты в последние годы пытались снизить расходы на систему “Медикейд”. В последнем обзоре Фонда Кайзера отмечается, что в 2003 финансовом году 49 штатов сократили или планируют сократить свои расходы на “Медикейд” и ужесточают контроль за ценами на лекарства. Примерно половина штатов заморозили или сократили ставки, по которым оплачиваются услуги врачей по обслуживанию пациентов, охваченных системой “Медикейд”. Так же как и “Медикейр”, главное, связанное с этой программой, – увеличение цен на лекарства и расходов, связанных со старением населения. Местным властям становится все труднее справляться с ростом расходов (см.: The Economist. 15th – 31st January. 2003).
(обратно)1339
Reforming Health Care: Uphill All the Way // The Economist. 1st – 7th February. 2003.
(обратно)1340
Cutler D. M. The Dynamics of International Medical-Care. Reform Review of Easterly’s The Elusive Quest for Growth // The Journal of Economic Literature. Vol. 40 (3). September 2002. P. 898.
(обратно)1341
The Economist. 1st –7th February. 2003.
(обратно)1342
На вопрос “Считаете ли вы, что национальная система здравоохранения функционирует в целом удовлетворительно и нуждается лишь в незначительном изменении?” в США лишь 17 % опрошенных ответили положительно, в Канаде – 20, в Великобритании – 25, в Австралии и Новой Зеландии – соответственно 19 и 9 % (см.: Donelan K., Blendon K. R., Schoen C., David K., Binns K. The Cost of Health System Change: Public Discontent in Five Nations // Health Affairs. Vol. 18 (3). May – June 1999. P. 206–216).
(обратно)1343
Министр здравоохранения Великобритании, выступая на конференции лейбористской партии в октябре 2001 года, сказал: “Мы живем в эпоху потребления, нравится это людям или нет. То, что способно уничтожить сферу государственных услуг, – это идея о возможности сохранить атмосферу 1940‑х годов в XXI в.” (см.: The Economist. 10th –16th May 2003).
(обратно)1344
Глебовский С. А., Гребенщиков В. И. Детская смертность в России // Общественное и частное призрение в России. СПб., 1907. С. 269; Куркин П. И. Мировая статистика (Обзор статистики на всемирной Дрезденской гигиенической выставке) // Общественный врач. 1912. № 1. С. 41.
(обратно)1345
Шишкин С. В., Бесстремянная Г. Е., Красильникова М. Д. и др. Российское здравоохранение: оплата за наличный расчет. М.: ГУ – ВШЭ, 2004. С. 7.
(обратно)1346
Здравоохранение и страхование здоровья в XX веке / Под ред. А. Н. Таранова. М.: Федеральный фонд ОМС, 2001. С. 70, 71.
(обратно)1347
По оценкам Фонда “Российское здравоохранение”, доля расходов на здравоохранение (включая оплату медицинской помощи, приобретение лекарственных средств) из негосударственных источников увеличилась с 12 % в 1994 году до 31,7 % в 1998 году (см.: Счета здравоохранения России, 1994–1999 гг. М.: Фонд “Российское здравоохранение”, 2000. С.14). О проблемах, порождаемых незавершенностью процесса формирования страховой медицины в России, сочетании элементов страховой медицины и прямого бюджетного финансирования медицинских организаций из федерального, регионального и местных бюджетов см.: Фомин Д. Бюджетно-страховая модель финансирования здравоохранения в России: перспективы развития. / files/articles/2281/Бюджетно-страховая. doc; Шейман И. Подходы к созданию интегрированной системы оказания и финансирования медицинской помощи // Медицинское страхование. 1996. № 4. Проводимые исследования показывают, что расходы населения на медицинские нужды сопоставимы с расходами государства на здравоохранение. Доля семейных расходов на медицинские нужды растет. В ситуации, когда за получение формально бесплатной медицинской помощи приходится платить, в наихудшем положении оказываются менее обеспеченные слои населения, семьи, живущие вне крупных городов. Им приходится тратить на медицину большую долю семейных бюджетов, чаще отказываться от лечения и приобретения необходимых лекарств (см.: Богатова Т. В., Потапчик Е. Г., Чернец В. А., Чирикова А. Е., Шилова Л. С., Шишкин С. В. Бесплатное здравоохранение: реальность и перспективы. Серия “Научные проекты НИСП – IISP Working Papers”. WP1/2002/07. М.: Пробел-2000, 2002. С. 18). Большинство граждан оплачивает услуги через кассу. Но значительная группа пациентов (29 %) передает деньги непосредственно в руки медицинским работникам (см.: Социальная политика: реалии XXI века. Вып. 2: GP2/2004/05/ НИСП. М.: Проматур, 2004. С. 398). Проведенный в 2000 году ВЦИОМом опрос показал, что доля населения, прибегающего к легальной и нелегальной оплате медицинских услуг, превышает 50 % (см.: Шишкин С. В., Бесстремянная Г. Е., Красильникова М. Д. и др. Российское здравоохранение: оплата за наличный расчет. С. 26).
(обратно)1348
Шишкин С. В. Перспективы сочетания обязательного и добровольного медицинского и социального страхования в России. М: ИЭПП, 2002. С. 7.
(обратно)1349
Там же. С. 28, 69.
(обратно)1350
Законы Энгеля – эмпирические закономерности изменения структуры расходов домохозяйств в зависимости от возрастания размера полученного ими дохода. По мере роста дохода общее потребление будет возрастать, но в разных пропорциях; расходы на продукты питания будут расти с одновременным переходом от некачественного питания к качественному. В общем объеме расходов доля продуктов питания будет сокращаться при росте расходов на недвижимость, отдых, путешествия, сбережения. По мере роста дохода каждое домохозяйство будет тратить на потребление меньшие суммы и больше будет сберегать (см.: Engel E. Die Lebenskosten Belgischer Arbeiterfamilien Frueher und Jetzt // Bulletin of the International Institute of Statistics. 1895. № 9. P. 57).
(обратно)1351
Д. Белл называл бюрократизацию ключевой проблемой постиндустриального общества (см.: Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. A Venture of Social Forecasting. New York: Basic Books, 1999. P. 80, 115).
(обратно)1352
Kornai J. Economics of Shortage. Amsterdam, 1980.
(обратно)1353
Имеются в виду: образовательный ваучер, который может быть использован как дополнение частного финансирования в частной школе; государственные стандарты оказания медицинской помощи как дополнение частного финансирования частных клиник и т. д.
(обратно)1354
“Разработка и осуществление политики в области здравоохранения находятся под сильным влиянием работников, связанных с этой сферой. Это так называемое профессиональное доминирование” (см.: Салтман Р. Б., Фигейрас Дж. Реформы системы здравоохранения в Европе. Анализ современных стратегий. М.: ГЭОТАР Медицина, 2000. С. 380).
(обратно)1355
“Резервы использования административных мер, направленных на реструктуризацию системы оказания медицинской помощи, повышение доли ее наиболее экономичных форм, сокращение избыточных мощностей, исчерпаны. Без изменения стимулов, перехода к собственно контрактной системе отношений между лечебными учреждениями и заказчиками формирование полноценной системы обязательного медицинского страхования и повышения эффективности расходов на здравоохранение невозможно” (см.: Богатова Т. В., Потапчик Е. Г., Чернец В. А., Чирикова А. Е., Шилова Л. С., Шишкин С. В. Бесплатное здравоохранение: реальность и перспективы. Серия “Научные проекты НИСП – IISP Working Papers”. WP1/2002/07. М.: Пробел-2000, 2002. С. 63).
(обратно)1356
Налоговый вычет – сумма, на которую при определенных законом условиях уменьшается налоговая база, т. е. объем доходов, исходя из которого рассчитывается величина налога. Использование вычета позволяет налогоплательщику вернуть соответствующую часть подоходного налога.
(обратно)1357
О предложениях исключить элементы перераспределения из системы социального страхования и четко разделить налоговые и страховые компоненты этой системы см.: Зиберт Х. Эффект кобры. Как можно избежать заблуждений в экономической политике / Пер. с нем. П. И. Гребенникова. СПб.: СПбГУЭФ, 2003. С. 123–130, 140–149.
(обратно)1358
25 тыс. руб. в год (в настоящее время эти вычеты составляют 38 тыс. руб.) (см.: Налоговый кодекс РФ. Ч. II. Гл. 23. Ст. 219).
(обратно)1359
В 2002 году общая сумма поступлений от налога на доходы с физических лиц составила 357,8 , а сумма социального налогового вычета – 6,2 В 2003 году – 455,3 млрд и 8,7
(обратно)1360
Характерная стоимость полиса добровольного медицинского страхования в России – от 2 до 15 тыс. руб. в год. Это значит, что предоставление 5 %‑го вычета из заработной платы, не облагаемого налогом, позволяет купить полис тем, кто получает заработную плату свыше 9 тыс. руб. в месяц, т. е. в 1,5 раза выше средней по стране.
(обратно)1361
Как и во многих других случаях, главная проблема здесь – стимулы, так как зарплата учителя зависит от числа учеников. Стимулы к увеличению учебной нагрузки, как правило, перевешивают разумные, но несколько абстрактные соображения членов педагогического сообщества – ограничить нагрузку на детей.
“Поскольку согласно действующим ныне правилам заработная плата школьных учителей определяется в соответствии с их учебной нагрузкой, очевидно, что число часов, выделяемых в стандарте на изучение каждого предмета, не может не быть объектом жесткого лоббирования со стороны групп соответствующих предметников. Такая прямая заинтересованность в максимизации числа учебных часов привела к тому, что разработанные «объемные показатели» фактически не реализуют неоднократно декларирующийся тезис о снижении учебной нагрузки школьников. Формальное сокращение числа обязательных часов фактически достигается за счет выведения за их рамки уроков физкультуры, иначе говоря, часы учебного предмета «физическая культура» при расчете предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки школьника не учитываются” (см.: Рождественская И. А., Шишкин С. Образование // Российская экономика в 2002 году. Тенденции и перспективы. М.: ИЭПП, 2003. С.320).
(обратно)1362
Доступность высшего образования в России / Отв. ред. С. В. Шишкин. М.: НИСП, Проматур, 2004. С. 12.
(обратно)1363
Об основных направлениях намечаемых реформ в системе образования в России и экспериментах, направленных на их отработку, см.: Филиппов М. Обновление школы. М., 2002; Клячко Т. Л. Анализ финансовых потоков в системе профессионального образования // Финансовые аспекты реформирования отраслей социальной сферы. М.: ИЭПП, 2004. С. 176–182; Нормативные и иные правовые акты, регламентирующие проведение в 2003 году эксперимента по переходу на финансирование отдельных учреждений высшего профессионального образования с использованием ГИФО / Сост. И. А. Рожков. М.: ГУ – ВШЭ, 2003.
(обратно)1364
Из выступления ректора Новосибирского государственного университета на семинаре, посвященном реформе системы образования: “Единый всероссийский экзамен-тест абсолютно неприемлем для ведущих вузов страны. На его введение… ведущие вузы не согласятся. Я уверен в этом, поскольку обсуждал сложившуюся ситуацию с ректорами ведущих университетов страны”. Из выступления ректора Новосибирского государственного педагогического университета: “Возьмем систему набора студентов по результатам единого тестирования. В педагогический вуз должны приходить люди, которым кроме знания отдельных дисциплин из школьного курса необходимо обладать целым набором личностных качеств. Одни закладываются в человеке еще в детские годы, другие относятся к врожденным качествам. Это умение четко и ясно излагать свои мысли на хорошем русском языке, коммуникабельность и т. д. Если человек даже семи пядей во лбу, что называется, но у него нет педагогического дара, ученики его просто не будут слушать” (см.: Реформа системы образования: что мы теряем // ЭКО. 2001. № 4. С. 19).
(обратно)1365
Она должна быть адекватна стоимости обучения на платной основе. В связи с этим встает вопрос о том, сколько студентов государство может обеспечить бесплатно. Это вопрос выбора бюджетных приоритетов. Действующий закон, устанавливающий численность студентов, которых государство обязано обеспечивать бесплатно, не менее 170 на 10 тыс. человек, не соответствует реальным перспективам развития России. В условиях, связанных с демографическими волнами (см. гл. 10), перепадами численности выпускников школ, он смотрится архаично. В 2003 году число закончивших школу составляло 1 млн 360 тыс. человек. В 2015 году оно уменьшится до 715 тыс. человек (см.: Филиппов В. Доклад на коллегии Министерства образования России 25 февраля 2004 года. http://www. ed.gov.ru). При этом уже в 2000 году число тех, кто был принят в вузы на бюджетные места, сравнялось с числом тех, кто поступил в вузы на платной основе (см.: Клячко Т. Л. Мифы, легенды и реальность российского высшего образования. ).
(обратно)1366
Такая система близка к той, которую предлагал М. Фридман в рамках дискуссии об образовательной реформе в США (см.: Hanushek E. A., Kimko D. D. Schooling, Labor Force Quality and the Growth of Nations // American Economic Review. 2000. Vol. 90 (5). P. 1184–1208).
(обратно)1367
Клячко Т. Л. Анализ финансовых потоков в системе профессионального образования: Научные труды № 60Р. М.: ИЭПП, 2003. С. 137–213. Перспективной в связи с этим является и такая форма стимулирования частных вложений, как образовательный кредит, особенно в сочетании с расширением масштабов предоставления образовательных вычетов из подоходного налога. Сбербанк России с 2000 года начал предоставлять образовательные кредиты на оплату обучения в вузах, а также в иных образовательных учреждениях, расположенных на территории России. Однако сфера распространения такой формы финансирования высшего образования пока ограниченна (см.: Высшее образование в России: правила и реальность / Отв. ред. С. В. Шишкин. М.: НИСП, Проматур, 2004. С. 108–110).
(обратно)1368
Лунь Юй (“Беседы и суждения”) – главная книга конфуцианства, составленная учениками Конфуция. Знание этой книги наизусть являлось обязательным условием китайского классического образования.
(обратно)1369
Bivar A. D. H. The Stirrup and Origins // Oriental Art. New Series. 1. 1955. № 2.
(обратно)1370
Швейцарские крестьяне нанесли тяжелое поражение рыцарским отрядам в 1315 году под Моргартеном, в 1339 году под Лампеном и в 1386 году под Земпахом.
(обратно)1371
Farrar L. L. (ed.). War: A Historical, Political and Social Study. Santa Barbara; California; Oxford: ABC–Clio, 1978. P. 107–109.
(обратно)1372
О специфике военной организации европейских городов‑государств см. гл. 7, о своеобразии военной организации в Англии – ниже.
(обратно)1373
Vincent J. M. Switzerland: At the Beginning of the Sixteenth Century. New York: AMS Press, 1971. P. 10–15. О швейцарцах как учителях современного искусства ведения войны пишет Макиавелли (см.: Макиавелли Н. Избранное. М.: Рипол Классик, 1999. С. 409).
(обратно)1374
Реконкиста (отвоевывание, возвращение) – многовековая война христиан за возвращение земель Пиренейского полуострова, занятых после арабских завоеваний мавританскими королевствами, исповедовавшими ислам. Продолжалась с 718 по 1492 г.
(обратно)1375
“В Испании крестьяне обязаны были нести пешую службу (foot soldier) и при этом платить налоги. Но если они были способны купить лошадь, обмундирование и при необходимости воевать в седле за свой собственный счет, получали статус крепостных рыцарей (villain-knights). Этот статус давал им право не платить обычные налоги. Класс крепостных рыцарей возник среди свободного крестьянства, занявшего свободные равнины Duero в X в. Необходимость освоения равнин требовала значительного конного войска, и правители нашли очевидный способ рекрутирования такого войска: каждый свободный крестьянин, который мог купить себе лошадь, обмундирование и научиться воевать в седле, получал взамен налоговые льготы” (см.: Lomax D. W. The Reconquest of Spain. London; New York: Longman, 1978. P. 99).
(обратно)1376
“Тридцатилетняя война, истощив вконец Европу, показала всю невыгоду тогдашней системы вооруженных сил, состоявших, как известно, из наемных войск. Такой состав армии не представлял надежной гарантии для достижения правительственных целей, потому что в подобных воинах не могло существовать нравственных качеств (чувство долга, преданности Отечеству), составляющих главную силу армий; кроме того, большая или меньшая плата заставляла их переходить от одного знамени к другому, что тяжелым бременем падало на государство, истощая вконец его финансы; а так как правительства часто были не в состоянии выплатить исправно жалованья наемным своим дружинам, то и принуждаемы были отдавать целые страны и города на разграбление” (см.: Пузыревский А. Развитие постоянных регулярных армий и состояние военного искусства в век Людовика XIV и Петра Великого. СПб.: Типография В. С. Балашева, 1889. С. 3).
(обратно)1377
Kennedy P. The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. New York: Random House, 1987. P. 44.
(обратно)1378
Mitchell W. A. Outlines of the World’s Military History. Harrisburg: Military Service Publishing Company, 1931. P. 247. Корпус янычар, созданный примерно в 1330 году в правление Османа I, составлял 50 тыс. человек (см.: Пузыревский А. Развитие постоянных регулярных армий и состояние военного искусства в век Людовика XIV и Петра Великого. С. 11; Алексеев Ю. А., Басик И. И., Дайнес В. О., Ковалев В. Е., Овчинников В. Д., Русанов В. Ю., Соколов Ю. Ф. На пути к регулярной армии России. От славянской дружины к постоянному войску. СПб., 2000. С. 177, 192).
(обратно)1379
Israel D. The Dutch Republic: Its Rise, Greatness and Fall 1477–1806. Oxford: Clarendon Press, 1995. P. 270, 271.
(обратно)1380
О введении системы призыва в шведскую армию Густавом Адольфом в первой половине XVII в. см.: Nilsson S. A. Imperial Sweden: Nation-building, War and Social Changes // Losman A., Lundström M., Revera M. (eds.). The Age of New Sweden. Stockholm, 1988. P. 7–39; Nilsson S. A. De Stora Krigens tid. On Sverige Som Militärstat och Bondesamhälle. Uppsala, 1990. P. 162, 283; Mitchell W. A. Outlines of the World’s Military History. Harrisburg: Military Service Publishing Company, 1931. P. 248; Прокопьев В. П. Армия и гос ударство в истории Германии X–XX вв.: Историко-правовой очерк. Л.: ЛГУ, 1982. С. 49.
(обратно)1381
Roberts M. The Swedish Imperial Experience 1560–1718. Cambridge: Cambridge University Press, 1979; Kennedy P. The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. New York: Random House, 1987. P. 64, 65.
(обратно)1382
О распространении в Европе рекрутского набора см.: Пузыревский А. Развитие постоянных регулярных армий и состояние военного искусства в век Людовика XIV и Петра Великого. С. 4–11.
(обратно)1383
Призыв на военную службу во время военных действий был известен в России на протяжении допетровского периода, в частности, для пополнения созданных в XVII в. полков “иноземного строя”. Но после окончания военных действий недостаток финансовых ресурсов заставлял распускать войска по домам. П. О. Бобровский справедливо отмечал, что там, где армия после войны распускается по домам, “там войско всегда остается невыученным, не приспособленным к военному делу” (см.: Бобровский П. О. Переход России к регулярной армии. СПб., 1885. С. 105–106). В заимствовании шведского опыта рекрутского набора и формировании постоянной национальной армии Петр I опередил большую часть Западной Европы (см.: Пузыревский А. Развитие постоянных регулярных армий и состояние военного искусства в век Людовика XIV и Петра Великого. С. 21).
(обратно)1384
Moon D. The Russian Peasantry 1600–1930: The World the Peasant Made. London; New York: Longman, 1999. P. 83.
(обратно)1385
Fuller J. F. C. The Conduct of War 1789–1961. London: Eyre & Spottiswoode, 1961. P. 311, 312.
(обратно)1386
О достоинствах российских рекрутских армий в период между правлением Петра I и Крымской войной см.: Kahan A. The Plow the Hammer and the Knout. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1985.
(обратно)1387
Смирнов А. И. Россия: на пути к профессиональной армии (опыт, проблемы, перспективы). М.: Институт социологии РАН, Центр общечеловеческих ценностей,1998. С. 33.
(обратно)1388
Mitchell W. A. Outlines of the World's Military History. Harrisburg: Military Service Publishing Company, 1931. P. 311, 312.
(обратно)1389
Из постановления военной коллегии Российской империи от сентября 1719 года: “Сделать в Сенат предложение, что так как рекруты до сего времени из губерний очень непорядочно приводятся, и главная тому причина худое пропитание в пути, от чего многие померли и с дороги побежали, как то явилось из нынешних приводов: поэтому надобно, чтоб вперед не бегали и имели полное довольство в пути, давать им полное против солдат жалованье с обыкновенным вычетом с того времени, как в рекруты приверстаны будут; от этого им вначале будет охотно к солдатству, не будут склонны к побегу и немного будет больных. Хотя неоднократно в губернии были посланы и публикованы указы о порядочном сборе и приводе рекрут, однако эти указы по большей части не исполняются, от чего происходит не малое государству разорение и в полках неисправность, а именно: 1) когда в губерниях рекрут сберут, то сначала из домов их ведут, скованных, и, приведши в города, держат в великой тесноте по тюрьмам и острогам немалое время, и, таким образом еще на месте изнурив, отправят, не рассуждая по числу людей и далекости пути, с одним, и то негодным, офицером или дворянином, при недостаточном пропитании; к тому же поведут, упустив удобное время, жестокою распутицею, от чего в дороге приключаются многие болезни и помирают безвременно, а всего хуже, что многие и без покаяния, другие же, не стерпя такой великой нужды, бегут и пристают к воровским компаниям, из чего злейшее государству приключается разорение, потому что от такого худого распорядка ни крестьяне, ни солдаты, но разорители государства становятся; всякий может рассудить, отчего такие великие умножились воровские вооруженные компании? Оттого, что беглые обращаются в разбойников. 2) Хотя бы и с охотою хотели в службу идти, но, видя сначала такой над своею братьею непорядок, в великий страх приходят. 3) Из губерний немалое число присылают увечных и к солдатской службе весьма негодных, из которых в одни нынешние приводы больше 700 человек в Военной коллегии за негодностию в службу не приняты” (см.: Соловьев С. М. Соч. Кн. VIII: История России с древнейших времен. Т. 16. М.: Мысль, 1993. С. 446, 447).
(обратно)1390
Farrar L. L. (ed.). War: A Historical, Political and Social Study. Santa Barbara; California; Oxford: ABC–Clio, 1978. P. 130, 131; Duffy C. The Army of Frederick the Great. London: Newton Abbot, 1974. P. 15–17.
(обратно)1391
О реформах системы комплектования вооруженных сил в Пруссии после поражения под Йеной и Ауэрштедтом см.: Shanahan W. Prussian Military Reforms 1786–1813. New York, 1945.
(обратно)1392
Бирюкович В. Армия французской революции (1789–1794). М.: Типография ВПА им. Ленина, 1943.
(обратно)1393
Численность французской армии возросла со 180 тыс. человек в 1789 году до 600 тыс. в 1812–1814 годах (см.: Kennedy P. The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. New York: Random House, 1987. P. 99).
(обратно)1394
Grab A. Army, State and Society: Conscription and Desertion in Napoleonic Italy (1802–1814) // The Journal of Modern History. Vol. 67 (1). March 1995.
(обратно)1395
De Bohigas N. S. Some Opinions on Exemption from Military Service in Nineteenth-Century Europe // Comparative Studies in Society and History. Vol. X. № 3. 1968. P. 262, 263. Откуп от воинской службы имеет длительную традицию. Первоначально в процессе формирования аграрных государств он был одной из основ возникновения налоговой системы. В Риме императорского периода откуп от воинской службы получает широкое распространение (см.: Грант М. Крушение Римской империи. М.: Терра-Книжный клуб, 1998. С. 44).
(обратно)1396
Льгота для женатых стимулировала призывников вступать в брак с пожилыми женщинами, которых они никогда и в глаза не видели (см.: Grab A. Army, State and Society: Conscription and Desertion in Napoleonic Italy (1802–1814) // The Journal of Modern History. Vol. 67 (1). March 1995. P. 27).
(обратно)1397
Woloch I. Napoleonic Conscription: State Power and Civil Society // Past and Present. 1986. No. 111. Forrest A. Conscripts and Deserters: The Army and French Society during the Revolution and Empire. New York: Oxford University Press, 1989.
(обратно)1398
Людовик XVIII пытался ликвидировать всеобщую воинскую повинность, распустил императорскую армию и ввел “департаментские легионы”, состоящие из добровольцев. Однако в мире XIX в. вернуться к традициям было невозможно. Вскоре всеобщая воинская обязанность была восстановлена (см.: Деревцова Е. В. Французские вооруженные силы: от всеобщей воинской повинности к профессиональной армии. М.: Московский педагогический университет, 1997).
(обратно)1399
Coblentz S. A. Marching Men: The Story of War. New York: The Unicorn Press, 1927. P. 347–372.
(обратно)1400
Продолжительность службы от 2 до 3 лет десятилетиями оставалась предметом острых политических дискуссий в Пруссии.
(обратно)1401
Пруссия и ее германские союзники за две недели до начала боевых действий в 1870 году сумели мобилизовать 1 млн 180 тыс. солдат. Франция смогла выставить лишь 330 тыс. человек, если исключить войска в Алжире и гарнизоны, которые нельзя было использовать в боевых действиях (см.: Mitchell W. A. Outlines of the World’s Military History. Harrisburg: Military Service Publishing Company, 1931. P. 530, 531).
(обратно)1402
Зайончковский П. А. Военные реформы 1860–1870 годов в России. М.: Изд-во Московского университета, 1952. С. 18.
(обратно)1403
В 1856 году Д. Милютин пишет обстоятельную записку с длинным названием: “Мысли о невыгодах существующей в России военной системы и средствах устранения оной”. Основной порок существующей военной организации он усматривает в необходимости содержать в мирное время крупную армию, которую нельзя развернуть во время войны из-за отсутствия обученных кадров. Причина тому – крепостное право, которое не позволяет ни сократить сроки службы, ни увеличить число бессрочно демобилизуемых. Д. Милютин подчеркивает, что большинство западноевропейских армий, напротив, имеет возможность значительно увеличить свои силы в случае войны. Российская армия в 1860‑х годах могла быть увеличена в условиях военного времени на 25 %, в то время как армия Пруссии – в 3,4 раза (см.: Милютин Д. А. Дневник. 1873–1875. Т. 1. М., 1947. С. 25; Зайончковский П. А. Военные реформы 1860–1870 годов в России. С. 50–53).
(обратно)1404
Находясь летом 1870 года за границей, П. Валуев, член Государственного совета, бывший министр иностранных дел, был свидетелем молниеносного разгрома Франции. Под впечатлением этих событий он высказал Д. Милютину мысль о целесообразности введения всесословной воинской повинности. “Я отвечал ему, – рассказывает Милютин, – что, без сомнения, такое решение вопроса было бы самым рациональным, но что едва ли можно рассчитывать на успех, если инициативу подобного предложения приму я на себя: достаточно моего имени в этом предложении, чтобы оно было признано новой революционной мерой. Я убедил Валуева изложить письменно его мысли и представить их государю от своего имени”. Несколько дней спустя Валуев передал Милютину свою записку, озаглавленную “Мысли не военного о наших военных силах”, в которой он, ссылаясь на события в Западной Европе, ставил вопрос о необходимости увеличения вооруженных сил на основе введения воинской повинности (см.: Милютин Д. А. Дневник. 1873–1875. Т. 1. М., 1947. С. 39). В докладе Александру II Д. Милютин пишет: “Ваше Императорское Величество, обратив свое внимание на чрезвычайное усиление численности вооруженных сил Европейских Государств, на необычайно быстрый переход их армий, особенно германской, от мирного положения к военному и на обширно подготовленные ими средства к постоянному пополнению убыли чинов в действующих войсках, повелели Военному Министру представить соображения о средствах к развитию военных сил Империи на началах, соответствующих современному состоянию вооружений Европы” (см.: Военно-статистическое обозрение России. Издание Военного министерства. 1871. Ч. 4).
(обратно)1405
Бескровный Л. Г. Армия и флот России в начале XX в. М.: Наука, 1986. С. 12.
(обратно)1406
О дискуссии периода Английской революции XVII в. по поводу существования регулярной армии в мирное время и опасениях гражданских войн см.: Griffith R. K. Men Wanted for the U. S. Army. Americas Experience with an All Volunteer Army Between the World Wars. Westport Connecticut: Greenwood Press, 1982.
(обратно)1407
Cooke J. E. (ed.). The Federalist. Connecticut: Wesleyan University Press, 1961.
(обратно)1408
Clifford J. G., Spencer S. R. The First Peacetime Draft. Kansas: University Press of Kansas, 1986. P. 32.
(обратно)1409
Anderson M. The Military Draft. Stanford; California: Hoover Institution Press, 1982. P. 592, 593.
(обратно)1410
Helmer J. Bringing the War Home: The American Soldier in Vietnam and After. New York: The Free Press, 1974. P. 6, 7.
(обратно)1411
В Израиле внешняя угроза воспринимается обществом как очевидная и реальная. Это гарантирует национальное согласие в сохранении призыва и использовании призывных контингентов во время войны.
(обратно)1412
Hartke V. The American Crisis in Vietnam. Indianapolis; New York: The Bobbs-Merrill Company Inc., 1968. P. 22–27; Helmer J. Bringing the War Home: The American Soldier in Vietnam and After. P. 6, 7.
(обратно)1413
Daridan J. De la Gaule. Une histoire de France. P.: Editions du Seuil, 1977. P. 329.
(обратно)1414
Horne A. The French Army and Politics. 1870–1970. New York: Peter Bedrick Books, 1984. P. 79.
(обратно)1415
См.: -16-19.html.
(обратно)1416
Неготовность режима прекратить колониальную войну была названа первой в ряду причин его краха в обращении лидеров Апрельской (1974 года) революции в Португалии к народу (см.: Green G. Portugal’s Revolution. New York: International Publishers, 1976. P. 7).
(обратно)1417
Один из американских военных журналистов, многократно бывавший во Вьетнаме, так описывает свою первую встречу с американскими призывниками в 1967 году: “Один из солдат догадался, что я журналист. Он крикнул: «Скажите людям там, дома, чтобы они забрали нас отсюда. Мы теряем слишком много людей в этой бесполезной, глупой войне». Это было совсем не то, что я ожидал услышать от американских солдат. Я хотел узнать: это всего лишь один испугавшийся парень или он выражает чувства всего подразделения? Около дюжины солдат, артиллеристы батареи «Альфа» 6‑го батальона, окружили меня. «Вы согласны с тем, что он сказал?» – спросил я. «Конечно, согласны», – сказал еще один солдат, остальные закивали” (см.: Boyle R. The Flower of the Dragon: Breakdown of the U. S. Army in Vietnam. San Francisco: Ramparts Press, 1972. P. 43).
(обратно)1418
О формах уклонения от призыва во время вьетнамской войны см.: Anderson М. (ed.). The Military Draft: Selected Readings on Conscription. Stanford; California: Hoover Institution Press, 1982. P. 534.
(обратно)1419
См.: The Military Balance. 1988–1989. International Institute for Strategic Studies. London, 1988. P. 224.
(обратно)1420
Helmer J. Bringing the War Home: The American Soldier in Vietnam and After. New York: The Free Press, 1974. P. 9–12.
(обратно)1421
O’Sullivan J., Meckler A. M. (eds.). The Draft and Its Enemies: A Documentary History. Urbana; Chicago; London: University of Illinois Press, 1974. P. 224–228.
(обратно)1422
Из доклада, представленного 30 июня 1966 года Конгрессу США Министерством обороны: “В целом теоретически возможно «купить» добровольческую армию, заплатив за это цену, доходящую до 17 в год (конкретная сумма зависит от уровня безработицы)” (см.: Morris T. D. Department of Defense Report on Study of the Draft, 1966 // Anderson M. (ed.). The Military Draft: Selected Readings on Conscription. Stanford; California: Hoover Institution Press, 1982. P. 560.) По данным заместителя министра обороны США Р. Келли, годовые расходы на переход к добровольческой армии составили в 1974 году 3,1 Те, кто отстаивал сохранение системы призыва, в том числе бывший специальный помощник министра обороны Р. Макнамары Дж. Калифано, доказывали, что эти расчеты занижают реальные затраты на реформу армии. По оценке Дж. Калифано, они составили 4,1 в год. Даже если принять эти оценки, расчеты Министерства обороны, представленные в 1966 году Конгрессу (с учетом инфляции), были завышены в 6,2 раза (см.: Anderson M. (ed.). The Military Draft: Selected Readings on Conscription. Stanford; California: Hoover Institution Press, 1982. P. 522, 536).
(обратно)1423
В состав комиссии среди прочих входили лауреат Нобелевской премии по экономике М. Фридман и нынешний директор Федеральной резервной системы США А. Гринспен.
(обратно)1424
O’Sullivan J., Meckler A. M. (eds.). The Draft and Its Enemies: A Documentary History. Urbana; Chicago; London: University of Illinois Press, 1974. P. 254–256.
(обратно)1425
Там же. С. 254–256.
(обратно)1426
O’Sullivan J., Meckler A. M. (eds.). The Draft and Its Enemies: A Documentary History. С. 573, 574.
(обратно)1427
Один из оппонентов реформатора системы комплектования российской армии Д. Милютина, генерал Р. А. Фадеев, писал: “Все учреждения Петра Великого, Екатерины, 1812 года все предания, весь природный склад русской армии косят как старый бурьян; на куче сору, означающего могилу двухвекового военного опыта России, возвышается только профессорская голова г. Милютина с его идейками. А между тем у нас считают Парижскую коммуну революционной и русских нигилистов вредными людьми. Да что же значат нигилисты и коммуна вместе перед этой бездной нигилистского духа русского правительства, играющего шутя разрушением всех исторических основ, о чем настоящие нигилисты только болтают, но чего они наверное не осмеливались бы сделать в такой же мере на практике…” (см.: Зайончковский П. А. Военные реформы 1860–1870 годов в России. М.: МГУ, 1952. С. 289).
(обратно)1428
В 1986 году в Испании от военной службы уклонялись 6,5 тыс. юношей. К 1995 году их число выросло до 100 тыс. (см.: Красная звезда. 1996. 1 июня). В период с 1981 по 1991 год в странах Евросоюза процент граждан, не испытывающих доверия к армии, возрос с 38 до 48 % (см.: Смирнов А. И. Россия: на пути к профессиональной армии (опыт, проблемы, перспективы). М., 1998; Доган М. Угасание национализма в Западной Европе // Социологические исследования. 1993. № 3. С. 90).
(обратно)1429
В постсоциалистических странах сокращение срока службы в армии идет особенно быстро. В Польше осенью 1990 года продолжительность службы по призыву была сокращена с 24 до 18 мес., а с января 1991 года до 12 мес. После 2004 года польское правительство предполагает дальнейшее сокращение до 9 мес. В Венгрии продолжительность службы по призыву была в 1989 году сокращена с 12 до 9 мес., в январе 2002 года – до 6 мес. (см.: Forster А., Edmunds Т., Cottey А. (eds.). The Challenge of Military Reform in Postcommunist Europe. New York: Palgrave Macmillan, 2002. P. 27, 73).
(обратно)1430
В телеинтервью 22 февраля 1996 года Ж. Ширак так сформулировал суть предлагаемой программы реформ: “Перед нами не стоит угроза вторжения, нашествия наземных захватнических орд. Зато наши жизненные интересы могут быть поставлены под угрозу в любой части земного шара. Франция должна иметь возможность быстро и организованно отправить за границу значительное число людей, 50–60 тыс., а не 10 тыс., как сегодня” (см.: Военная реформа во Франции // Отечественные записки. 2002. № 8. С. 260.) Именно это обстоятельство, выявившееся в 1991 году при попытке направить французские части в район Персидского залива, стало важнейшим аргументом в пользу перехода французской армии на комплектование контрактниками. Когда стало ясно, что призывники не могут участвовать в войне, общество убедилось, что переход к профессиональной армии – вопрос времени.
(обратно)1431
Klein P. Military Service and Civilian Service in Germany. SOWI, 2001. P. 4–6.
(обратно)1432
О преемственности традиции предоставления льгот по семейному положению по отношению к льготам, которые имели единственные сыновья при рекрутском наборе, см.: Головин Н. Военные усилия России в мировой войне. Жуковский; М.: Кучково Поле, 2001. С. 34–35.
(обратно)1433
* Стокгольмский международный институт исследований проблем мира. ** Институт экономики переходного периода.
(обратно)1434
Московские новости. 1990. № 21. С. 15.
(обратно)1435
Такое в истории России случалось и раньше. Так, увеличение срока службы вольноопределяющихся, имеющих университетское образование, с 3 мес. до 1 года, произведенное по закону 1886 года, в России привело к существенному сокращению их числа. Лица со средним и высшим образованием, имевшие льготы по семейному положению (а таких было много), предпочитали пользоваться ими (см.: Зайончковский П. А. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX – XX столетий. 1881–1903 гг. М.: Мысль, 1973. С. 116).
(обратно)1436
По оценкам военных специалистов, в большинстве это физически слабые, неподготовленные молодые люди с отрицательным отношением к военной службе. 72 % офицеров определяют качество приходящего в армию пополнения как неудовлетворительное, 64 % либо безразличны, либо одобряют тех, кто бежит из армии. По данным Министерства обороны, в 1993 году были призваны 34 тыс. человек, имевших судимость (см.: Яновский Р. Г., Дерюгин Ю. И. (ред.). Армия России: Состояние и перспективы. М.: РАН, 1999; Молодежь: будущее России. М.: Изд-во Института молодежи, 1995. С. 115, 116).
(обратно)1437
По сравнению с профессионалами воины срочной службы допускают на 25 % больше технических и организационных ошибок, а в экстремальных условиях – на 40 % (см.: Дерюгин Ю. И. Призывной возраст. М.: Знание, 1991. С. 22).
(обратно)1438
Российский статистический ежегодник. М., 2003. С. 92.
(обратно)1439
Военная подготовка контрактника США в сухопутных войсках составляет 6,5 мес., после этого его можно направлять в бой. В российской армии даже в элитных частях время, отводимое на первоначальную военную подготовку рядового, как правило, не превышает 6 мес. Призывной контингент, привлекаемый для военной подготовки, является и естественной базой комплектования контингента контрактников. Подробное обоснование подобной программы реформирования системы комплектования российских Вооруженных сил см.: Ватолкин Э., Любошиц Е., Хрусталев Е., Цымбал В. Реформа системы комплектования военной организации России рядовым и младшим командным составом: Научные труды. ИЭПП. № 39. М., 2002.
(обратно)1440
Градосельский В. В. Комплектование Вооруженных Сил СССР в послевоенные годы // Военно-исторический журнал. 2003. № 8; Смирнов А. И. Россия: на пути к профессиональной армии (опыт, проблемы, перспективы). М., 1998. С. 37–38; Носова Н. П., Мишин В. В. Реформа – дело нужное (Преобразование советских Вооруженных Сил в 1920‑е годы) // Тюменский исторический сборник. Вып. I V. 2000. С. 70–77.
(обратно)1441
Армия России: Состояние и перспективы / Под ред. Р. Г. Яновского, Ю. И. Дерюгина. М.: РАН, 1999. С. 213; Дерюгин Ю. И. Контракт со смертью. М.: ДОСААФ, 1987. С. 145.
(обратно)1442
O’Sullivan J., Meckler A. M. (eds.). The Draft and Its Enemies: A Documentary History. Urbana; Chicago; London: University of Illinois Press, 1974.
(обратно)1443
О соотношении средней заработной платы контрактников, необходимой для привлечения их для службы в Вооруженных силах РФ, со средней заработной платой, вытекающей из результатов обследования ВЦИОМа, см.: Отношение населения России к реформе армии. Отчет по материалам опроса, проведенного 8–15 января 2003 года. М.: ВЦИОМ, 2003.
(обратно)1444
О роли депрессивных регионов в качестве источника пополнения состава контрактников см.: Смирнов А. И. Россия: на пути к профессиональной армии (опыт, проблемы, перспективы). М., 1998. С. 156.
(обратно)1445
75 % опрошенных ВЦИОМом респондентов ответили, что льготы при поступлении в вуз – весомый стимул в пользу прохождения контрактной службы (см.: Отношение населения России к реформе армии. Отчет по материалам опроса, проведенного 8–15 января 2003 года. М.: ВЦИОМ, 2003).
(обратно)1446
Первая попытка увеличения доли тех, кто служит по контракту в составе Вооруженных сил, предпринятая в 1993–1997 годах, оказалась неудачной именно по финансовым соображениям. Она пришлась на период острого финансового кризиса в России. К 1995 году число контрактников возросло до 350 тыс. человек. Однако затем быстрое падение соотношения денежного довольствия контрактника и средней заработной платы по стране, задержки в выплате денежного довольствия привели к сокращению их численности и ухудшению качественного состава (см.: Хрусталев Е. Ю., Цымбал В. И. Финансово-экономические и правовые аспекты российской военной реформы. М.: РАН, 2003. С. 21, 72).
(обратно)1447
Ватолкин Э., Любошиц Е., Хрусталев Е., Цымбал В. Реформа системы комплектования военной организации России рядовым и младшим командным составом: Научные труды. ИЭПП. № 39. М., 2002.
(обратно)1448
Lipset S. M. Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy // American Political Science Review. 1959. 53 (1). P. 69–105.
(обратно)1449
О связи ресурсообеспеченности, высокой доли государственных доходов, мобилизуемых за счет природной ренты, с сохранением недемократических режимов cм.: Moore M. Death Without Taxes: Democracy, State Capacity and Aid Dependence in the Fourth World // Robinson M., Whites G. (eds.). The Democratic Developmental State: Politics and Institutional Design. Oxford: Oxford University Press, 1998.
(обратно)1450
То, в какой степени институциональное наследство периода британского владычества в Индии сказалось на устойчивости индийской демократии, – предмет дискуссии политологов (см.: Przeworski A. et al. Democracy and Development. Political Institutions and Well-Being in the World, 1950–1990. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 83–88).
(обратно)1451
Huntington S. P. Political Order in Changing Societies. New Haven, CT: Yale University Press, 1968; Przeworski A. et al. Democracy and Development. Political Institutions and Well-Being in the World, 1950–1990. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 92–106.
(обратно)1452
Вопрос об источниках легитимации власти обсуждается по меньшей мере со времен Фукидида (см.: Фукидид. История. М.: Ладомир, АСТ, 1999. С. 343–350. (5; 84–114)). О подрыве традиционных источников легитимации власти монархических режимов в условиях модернизации, современного экономического роста cм.: Eisenstadt S. N. Bureaucracy and Political Development // La Polambara J. (ed.). Bureaucracy and Political Development. Princeton; N. J.: Princeton University Press, 1963. P. 96–120; Eisenstadt S. N. Political Modernization: Some Comparative Notes // International Journal of Comparative Sociology. 5 (1). March 1964. P. 3–24.
(обратно)1453
Уже мыслителям XVIII в., связанным с европейской традицией, сама идея наследственной передачи власти от отца к старшему сыну представляется забавной (см.: Paine T. Common Sense and Other Political Writings // Piest O. (ed.). The American Heritage Series. New York: The Liberal Arts Press, 1953. P. 14).
(обратно)1454
Модернизация всегда вызывает кризис традиционной политической системы, но отнюдь не всегда создание современной политической системы. Если развитость приносит стабильность, то развитие (модернизация) приносит нестабильность (см.: Huntington S. P. Political Order in Changing Societies. New Haven; London: Yale University Press, 1968. P. 41).
(обратно)1455
“Кризис легитимности – это кризис, связанный с изменениями” (см.: Lipset S. M. Political Man. The Social Bases of Politics. Garden City; New York: Doubleday & Company Inc., 1960. P. 78).
(обратно)1456
Goldstone J. A. Revolution and Rebellion in the Early Modern World. Berkeley; Los Angeles; Oxford: University of California Press, 1991. P. 10. “Революция – это форма масштабных, насильственных и быстрых социальных изменений” (см.: Dunn J. Modern Revolutions: An Introduction to the Analysis of a Political Phenomenon. Cambridge: Cambridge University Press, 1972. P. 12). А. Кохан определяет революции как процессы, в которых происходят: 1) изменения общественных ценностей и лидеров; 2) изменения социальной структуры; 3) изменения институтов; 4) изменения в составе политических лидеров, либо состава элиты, либо ее классовой структуры; 5) передача власти вне рамок действия законодательства; 6) присутствуют элементы насилия (см.: Cohan A. S. Theories of Revolution: An Introduction. London, G. B.: Thomas Nelson (Nelson’s Political Science Library), 1975. P. 31).
(обратно)1457
О хронической слабости государства в период Французской революции см.: Furet F. The French Revolution 1770–1814 / Translated A. Nevil. Oxford: Blackwell, 1988. P. 169.
(обратно)1458
К. Дейч связал модернизацию, урбанизацию, распространение образования с тем, что он назвал “социальной мобилизацией”, – процессом, когда старые установления подвергаются эрозии и разрушаются (см.: Deutsch K. W. Social Mobilization and Political Development // American Political Science Review. 55. September 1961. P. 494, 495).
(обратно)1459
О роли революций в процессе современного экономического роста, их связи с социальной дестабилизацией раннеиндустриального периода см.: Eisenstadt S. N. Revolution and the Transformation of Societies: A Comparative Study of Civilizations. New York: Free Press, 1978; Paige J. M. Agrarian Revolution: Social Movements and Export Agriculture in the Underdeveloped World. New York: Free Press, 1975; Skocpl T. States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China. Cambridge: Cambridge University Press, 1979; Trimberger K. E. Revolution from Above: Military Bureaucrats and Development in Japan, Turkey, Egypt and Peru. New Brunswick; N. J.: Transaction Books, 1978.
(обратно)1460
“В истории Англии еще не было эпохи, когда такое большое количество земель, принадлежавших феодальным землевладельцам или феодальным корпорациям, поступило бы в продажу в течение столь короткого периода, как 13 лет (1646–1659 гг.)” (см.: Английская буржуазная революция XVII века / Под ред. Е. А. Косминского, Я. А. Левицкого. Ч. 1. М.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 392).
(обратно)1461
Финансовый кризис старого режима нередко прокладывает дорогу революции. После краха режима кризис, как правило, обостряется. Бюджетные неплатежи армии, которую революционные власти не могли ни нормально финансировать, ни распустить, – ключевая проблема Английской революции. В 1647 году задолженность по выплате жалованья составляла в пехоте 80 недель, в кавалерии 43 недели. 24 декабря 1647 года специальным ордонансом предписывалось выдать государственные обязательства, компенсирующие задолженность по денежному довольствию армии. Эти обязательства стали предметом массовой скупки. В руках финансовых спекулянтов они оказались удобным средством приобретения задешево коронных земель. Памфлет левеллеров 1649 года утверждает, что солдатские обязательства годны лишь для продажи по 3–4 шиллинга за фунт (см.: Английская буржуазная революция XVII века / Под ред. Е. А. Косминского, Я. А. Левицкого. Ч. 1. С. 208, 209, 268, 269, 387). К 1657 году бюджетный дефицит Англии превысил годовые доходы бюджета (см.: там же: Ч. 2. С. 26). Во время начала Французской революции сбор налогов однозначно отождествляется с тиранией. Здесь явно чувствуется влияние античных традиций: свободные люди налогов не платят. С тех пор как Конституционная ассамблея в 1789 году провозгласила налоги старого режима незаконными, коллапс финансовой системы Франции был предопределен. Формальная отмена старых налогов в 1791 году, массовый выпуск ассигнатов для финансирования государственных расходов, первая полноценная гиперинфляция в современной Европе – все это стало неизбежным. Об истории финансового кризиса Французской революции см.: Aftalion F. The French Revolution. An Economic Interpretation. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1990; Sargent T. J., Velde F. R. Macroeconomic Features of the French Revolution // The Journal of Political Economy. Vol. 103 (3). March 1995; Mau V., Starodubrovskaya I. The Challenge of Revolution: Contemporary Russia in Historical Perspective. Oxford: Oxford University Press, 2001. Р. 191. Когда впоследствии революционные власти поняли, что без налогов государство функционировать не может, они были крайне удивлены отсутствием какого-либо энтузиазма граждан по поводу их уплаты. Масштабные налоговые неплатежи обычно объяснялись заговором реакционеров (см.: Aftalion F. The French Revolution. An Economic Interpretation. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1990. P. 103–105). В 1789–1795 годах доля налоговых доходов в финансировании государственных расходов революционной Франции колебалась в пределах 0,7–5 %, (см.: Harris S. E. The Assignats. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1930. P. 51).
(обратно)1462
Анализ взаимосвязей революционного кризиса, слабости государственной власти, финансовой нестабильности, негарантированности прав собственности, неисполнения контрактов и падения производства, см.: Мау В., Стародубровская И. Великие революции: От Кромвеля до Путина. М.: Вагриус, 2001.
(обратно)1463
“Как только Франция сбросила узду законной власти… все слои населения оказались охваченными отвратительной коррупцией” (см.: Берк Э. Размышления о революции во Франции. ). О широком распространении коррупции во времена мексиканской революции см.: Knight A. Corruption in Twentieth Century Mexico // Little W., Posada-Carbo E. (ed.). Political Corruption in Europe and Latin America. London: MacMillan Press LTD, 1996. P. 222, 223. О тех же проблемах в революционном Китае см.: Selden M. The Yenan Way in Revolutionary China. Cambridge: Harvard University Press, 1971. Разумеется, отсюда не следует, что революционные периоды обладают монополией на широкое распространение коррупции. Известно немало стабиль ных политических режимов, для которых эта черта организации общественной жизни более чем характерна.
(обратно)1464
Английская революция, важнейшим элементом которой было согласие парламента на введение предельно непопулярных косвенных налогов (акциз), – исключение из этого правила.
(обратно)1465
Сеньораж – доход от эмиссии денег (разница между себестоимостью чеканки монет и печатания бумажных денег и их номинальной стоимостью). В периоды гиперинфляции сеньораж нередко становится первостепенным источником государственных доходов. Имеет также значение “инфляционного налога”.
(обратно)1466
Массовые жалобы на произвольные конфискации, невыполнение контрактов – характерная черта периода Английской революции XVII в., (см.: James M. Social Problems and Policy during the Puritan Revolution 1640–1660. London: George Routledge, 1930. P. 60; Supple B. E. Commercial Crisis and Change in England 1600–1642. Cambridge: Cambridge University Press, 1964. P. 130, 131).
(обратно)1467
Характерный пример – аграрная программа большевиков, от которой они отказались в 1917 году, сделав прагматический выбор в пользу более популярной среди крестьян эсеровской программы социализации и уравнительного землепользования.
(обратно)1468
Экономическая политика в условиях революции – всегда поиск компромиссов. Защищая эмиссию ассигнатов, А. Монтескье говорил, что она позволяет связать частные интересы с общественными, что их противники сами станут владельцами собственности и гражданами при помощи средств, выработанных революцией и для революции (см.: Furet F. The French Revolution 1770–1814 / Translated by A. Nevil. Oxford: Blackwell, 1988. P. 81).
(обратно)1469
Как справедливо писал Д. Норт, чем больше неопределенности, тем меньше стоят активы (см.: North D. C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. P. 63).
(обратно)1470
И после Английской революции XVII в., и после Французской революции XVIII в. новая структура земельной собственности сохраняется. Новые власти быстро поняли, что трогать ее опасно. О сохранении структуры земельной собственности, сложившейся в ходе революции, после реставрации в Англии и Франции, см.: Brinton C. The Anatomy of Revolution. New York: Vintage Books, 1965. P. 241–243.
(обратно)1471
Еще мыслители XVIII в. (Монтескье, Кондильяк, Тюрго) обращали внимание на зависимость решений, которые принимает монарх, от взглядов, превалирующих в его окружении, ограниченность свободы выбора высшей власти в традиционных монархиях (см.: Krieger L. An Essay on the Theory of Enlightened Despotism. Chicago: University of Chicago Press, 1975. P. 37–39).
(обратно)1472
Карл II уже в конце 1660 года распустил постоянную армию, решил ту задачу, к которой так и не смог подступиться столь авторитетный лидер революции, как Кромвель. Это лишь один из примеров расширения свободы маневра власти на этапе постреволюционной стабилизации. О расширении автономии власти в выборе стратегии развития во время послереволюционной стабилизации, ее большей автономности по сравнению с дореволюционным режимом см.: Skocpol T. States and Social Revolutions. A Comparative Analysis of France, Russia and China. Cambridge: Cambridge University Press, 1979. P. 285–289; Brinton C. The Anatomy of Revolution. New York: Vintage Books, 1965. P. 239–241; Furet F. The French Revolution 1770–1814 / Translated by A. Nevil. Oxford: Blackwell, 1988. P. 223–228.
(обратно)1473
Olson M. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge; Massachusetts: Harvard University Press, 1965. О том же см.: Grossman G. M., Helpman E. Special Interest Politics. Cambridge; Massachusetts; London: The MIT Press, 2001. P. 1. О влиянии групп интересов на политические процессы в условиях современной демократии см.: Bentley A. F. The Process of Government. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1908. О влиянии групп интересов на процесс принятия политических решений в США cм.: Stigler,G. J. The Citizen and the State. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1975; Peltzman S. Toward a More General Theory of Regulation // Journal of Law and Economics. 1976. 19. P. 211–240; Becker G. S. Competition among Pressure Groups for Political Inf luence // Quarterly Journal of Economics. Vol. 98. August 1983. P. 371–398. О влиянии групп интересов на ограничение темпов экономического роста cм.: Krusell P., Rios-Rull J.-V. Vested Interests in a Positive Theory of Stagnation and Growth // Review of Economic Studies. 1996. Vol. 63. P. 301–329.
(обратно)1474
Исследование, посвященное распределению субсидий американским университетам на научную деятельность, показало тесную связь их размера с членством конгрессмена или сенатора, выбранного по округу, в котором расположен университет, в комитетах по государственным расходам палаты представителей и сената (см.: Figueiredo J. M., Silverman B. S. Academic Earmarks and the Return to Lobbying // NBER Working Paper. 9064. July 2002).
(обратно)1475
Thomas D. Shipbuilding – Demand Linkage and Industrial Decline // Williams K., Williams J., Thomas D. Why Are The British Bad At Manufacturing? London; Boston: Routledge & Kegan Paul, 1983. P. 179–216. Дж. Мокир обращает внимание на то, что те же интересы, которые обеспечили Англии лидерство в промышленной революции, стали преградой на пути сохранения ее лидерства. Это группа интересов, связанная со старыми отраслями и технологиями (см.: Mokyr J. The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress. Oxford: Oxford University Press, 1990. P. 263).
(обратно)1476
Исключение – политические партии, трансформировавшиеся из правящих политических партий авторитарных режимов: перонисты в Аргентине, посткоммунистические партии в Восточной Европе и т. д.
(обратно)1477
В развитых устойчивых демократиях трудно представить себе проведение реформ, которыми серьезно затрагиваются интересы военных, полиции, судейского сообщества, инвалидов, страховых компаний, банков, аграрного лобби, даже если эти реформы весьма полезны для общества в целом. Между тем именно это было сделано в России в ходе реформы подоходного налога.
(обратно)1478
Ригидность – неспособность к изменению программы действий в связи с новыми условиями и требованиями.
(обратно)1479
Характерная черта доминировавших в 50–60‑х годах XX в. представлений – широкое распространение мнения о том, что авторитарная форма правления способствует ускорению экономического роста, позволяет увеличить долю ресурсов, направляемых на инвестиции (см.: Galenson W. Labor and Economic Development. New York: Wiley, 1959; De Schweinitz K. Jr. Industrialization, Labor Controls and Democracy // Economic Development and Cultural Change. 1959. 7 (4), P. 385–404.) Еще в 1975 году Хантингтон и Домингес приводят пример советского опыта повышения доли инвестиций в ВВП как свидетельство позитивного влияния возможностей недемократических режимов на экономическое развитие (см.: Huntington S. P., Dominguez J. I. Political Development // Greenstein F. I., Polsby N. W. (eds.). Handbook of Political Science: Macropolitical Theory. Vol. 3. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Co., 1975).
(обратно)1480
Нет социальной группы более консервативной, чем крестьяне, владеющие землей, и нет более революционной, чем безземельное (малоземельное) крестьянство или крестьянство, выплачивающее слишком высокую ренту (см.: Huntington S. P. Political Order in Changing Societies. New Haven, CT: Yale University Press, 1968. P. 375).
(обратно)1481
Эмпирические исследования показывают нестабильность авторитарных режимов на высоких уровнях экономического развития. Лишь в крайне богатых ресурсами и относительно малонаселенных государствах недемократический режим (как правило, традиционные монархии) оказывается долгосрочно стабильным (см.: Przeworski A. et al. Democracy and Development. Political Institutions and Well-Being in the World, 1950–1990. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 50). О механизмах подрыва стабильности авторитарных режимов см.: Binnendijk H. (ed.). Authoritarian Regimes in Transition. Foreign Service Institute of the U. S. Department of State, 1987. P. IX–XXVI; Vacs A. C. Authoritarian Breakdown and Redemocratization in Argentina // Malloy J. M., Seligson M. A. (eds.). Authoritarians and Democrats. Regime Transition in Latin America. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1987. P. 15–17.
(обратно)1482
Характерная черта экономической политики авторитарных режимов – ее ориентация на расходные статьи бюджета, в которых наиболее велика возможность хищения средств. Разумеется, были и исключения (например, Чили при А. Пиночете), но в целом это правило пробивает себе дорогу. Государства, имеющие репутацию коррумпированных авторитарных режимов, как правило, необычно много для своего уровня развития тратят на инфраструктурные проекты, в рамках которых трудно проконтролировать обоснованность затрат. Например, в 1975 году военное правительство Нигерии, если верить документам, произвело закупки цемента в масштабах, превышающих производственные возможности Западной Европы и Советского Союза (см.: Tanzi V., Davoodi H. Corruption, Public Investment, and Growth // IMF Working Paper WP/97/139, October 1997; Lundahl M. Inside the Predatory State: The Rationale, Methods and Economic Consequences of Kleptocratic Regimes // Nordic Journal of Political Economy. 1997. 24. P. 31–50).
(обратно)1483
Binnendijk H. (ed.). Authoritarian Regimes in Transition. Washington, DC: Foreign Service Institute of the US Department of State, 1987. P. IX–XXVI; O’Donnell G. Introduction to the Latin American Cases // O’Donnel G., Schmitter P. C., Whitehead L. (eds.). Transitions from Authoritarian Rule. Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press, 1986. P. 15; O’Donnell G., Schmitter P. C., Whitehead L. (eds.). Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions About Uncertain Democracies. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1986; Carothers T. The End of the Transition Paradigm // Journal of Democracy. Vol. 13 (1). January 2002. P. 5–21.
(обратно)1484
В некотором смысле смена власти в условиях “закрытых” демократий напоминает устройство преемственности в Риме периода принципата. Только там оно опосредовалось не контролируемыми выборами, а усыновлением наследника. Для современного мира это все-таки экзотика.
(обратно)1485
О связи постреволюционной стабилизации с формированием режима “закрытой” демократии в Мексике см.: Hart J. M. Revolutionary Mexico: The Coming and Process of the Mexican Revolution. London: University of California Press, 1987. P. 327–347.
(обратно)1486
Разумеется, нельзя игнорировать различия этих режимов. В Мексике ограничения демократических свобод были более явственны, Конституция прямо закрепляла привилегированную позицию правящей партии. В Японии и Италии конституционные основы государственного устройства соответствовали всем нормам реально функционирующей демократии. Однако, на наш взгляд, тот факт, что на протяжении многих десятилетий политическая система этих стран де-факто исключала реальную конкуренцию, позволяет объединить их общим термином – “закрытые” демократии.
(обратно)1487
По определению Пшеворского, демократия – это система, в которой правящие партии проигрывают выборы (см.: Przeworski A. et al. Democracy and Development. Political Institutions and Well-Being in the World, 1950–1990. Cambridge: Cambridge University Press, 2000). Если пользоваться им, то “закрытые” демократии в собственном смысле этого слова демократиями не являются. Однако многие черты, присущие демократическим режимам, в них присутствуют. И в Восточной Европе присутствуют факторы, стимулирующие формирование режима “закрытой” демократии. Так, в стабильной демократической Чехии убеждение основных участников политического процесса в том, что коммунистическая партия, не отказавшаяся от своего прошлого, должна быть исключена из числа возможных партнеров, участвующих в формировании правительства, порождает в последние годы либо странные коалиции серьезно отличающихся по своим политическим приоритетам партий, либо политическую нестабильность.
(обратно)1488
Przeworski A. et al. Democracy and Development. Political Institutions and Well-Being in the World, 1950–1990. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 26, 27.
(обратно)1489
Che Guevara. Guerrilla Warfare. New York: Vintage Books, 1961. P. 2.
(обратно)1490
По распространению коррупции “закрытые” демократии могут поспорить с авторитарными режимами. Так, в Италии в период существования “закрытой” демократии потребление цемента, по официальной статистике, было вдвое выше, чем в США. Впоследствии анализ многих строительных проектов в Италии показал, что единственным их разумным основанием были “откаты” тем, кто мог принимать решения о расходовании государственных ресурсов (см.: Della Porta D. Actors in Corruption: Business Politicians in Italy // International Social Science Journal. 1996. Vol. 48. P. 349–364).
(обратно)1491
Связи формирования режимов “закрытых” демократий с широким распространением коррупции, ее укоренением в политической культуре, с механизмом, который обусловливает эти взаимосвязи, посвящен большой массив литературы (см., например: Della Porta D. Actors in Corruption: Business Politicians in Italy // International Social Science Journal. 1996. Vol. 48. P. 349–364; Colazingari S., Rose-Ackerman, S. Corruption in a Paternalistic Democracy: Lessons from Italy for Latin America // Political Science Quarterly. 1998. Vol. 113. P. 447–470). Характерная черта “закрытых” демократий – преследование тех, кто изменяет правящей партии. Шантаж является невидимой рукой, цементирующей политические классы. О подобной практике в Мексике см.: Cothran D. A. Political Stability and Democracy in Mexico: The “Perfect Dictatorship”? Westport, CT: Praeger, 1994. Vol. 113. 1998. P. 447–470; Crozier M., Huntington S. P., Watanuki J. The Crisis of Democracy. New York: New York University Press, 1975. P. 127–129.
(обратно)1492
Правда, надо признать, что режим Пиночета в связи с этим – редкое исключение в XX в. Гораздо большее распространение имели популистские и коррумпированные авторитарные режимы.
(обратно)1493
В международных долларах 1990 г.
(обратно)1494
В международных долларах 1990 г.
(обратно)1495
По уровню ВВП на душу населения свыше 2000 долл. на человека можно судить о том, что по меньшей мере одно поколение в данной стране уже живет в условиях современного экономического роста.
(обратно)1496
Прогноз Организации Объединенных Наций, опубликованный в 2001 г. в отчете World Urbanization Prospects
(обратно)1497
* Под временным лагом в данном случае подразумевается отрезок времени, прошедший с того момента, как страна в последний раз достигала уровня ВВП надушу населения посткризисной России (2001 год). Для оценки использовались данные в международных долларах 1990 года. ** Государства, имевшие в 2001 году ВВП надушу населения по ППС ниже, чем в РФ.
(обратно)

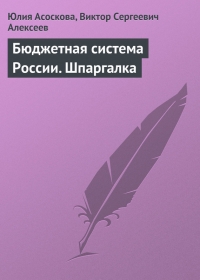


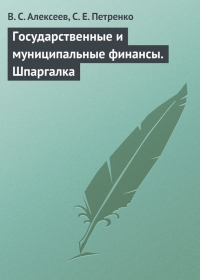



Комментарии к книге «Долгое время. Россия в мире. Очерки экономической истории», Егор Тимурович Гайдар
Всего 0 комментариев