БОРИС ПОРФИРЬЕВ БОРЦЫ РОМАН
Художник Б. М. КОСУЛЬНИКОВ
ВОЛГО‑ВЯТСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1974
1
Чемпионат по борьбе подходит к концу. Александр Мальта не имеет ни одного поражения. Он кумир петербургской публики. Вот он стоит в центре сцены, тяжёлый, как монумент. Он — победитель. Ему подносят именные подарки и цветы. — Он раскланивается. Сейчас самое время. Ефим Верзилин шагает к арене. Все взгляды устремлены на него. Публика гадает, кто на этот раз скрылся под маской.
В проходе мелькает перекошенное лицо Вогау, склоняется над ухом директора цирка.
— Я вызываю победителя чемпионата Алёка Мальту и обязуюсь снять маску и назвать своё имя, если буду им побеждён.
Цирк разражается аплодисментами.
Вогау спешит на арену, говорит торопливо:
— Мальта вызов принимает. Запишитесь в кассе. О борьбе будет объявлено в афише.
Верзилин настаивает:
— Бороться сейчас.
Публика волнуется. Одни ставят на Мальту, другие — на «маску».
Вогау упирается, говорит: так положено, непременно нужно объявление в афише. Поединок может состояться не раньше, чем завтра.
Не снимая маски, Верзилин уходит из цирка, идёт аллеями Измайловского сада.
И вот — следующий вечер.
Цирк переполнен. Шум, крики, свист. Взлетают в воздух зелёные студенческие фуражки. Вогау вопрошающе заглядывает в глазницы маски.
Наконец борцы сходятся на арене.
Верзилин захватывает руку Мальты за запястье.
Мальта напуган спокойствием противника и неизвестностью, нервничает.
Верзилин делает передний пояс, неожиданно приподнимает Мальту над ковром и бросает через голову. Мальта выходит на мост, но Верзилин наваливается на него, жмёт, жмёт, жмёт, и обе лопатки Мальты беспомощно и устало прижимаются к ковру… Если это слишком быстро, можно и по–другому. Допустим, Мальта вывёртывается из моста, обхватывает Верзилина за голову, швыряет через себя, но Верзилин приземляется, как пружина, опрокидывает на себя Мальту, мгновенно оказывается наверху, и — всё, конец… Вариантов множество, важно одно: победа должна быть одержана на первых минутах…
2
Верзилин вздрогнул, повернулся на узкой скрипящей койке. Что это? Брякнула форточка?
В чёрное отверстие просунулась рука, нащупала задвижку. Окно распахнулось. Ворвавшийся ветер погасил ночник. В тусклом свете газового фонаря, стоящего за больничным садом, Верзилин разглядел чёрный силуэт человека. Человек перевалился через подоконник в палату.
— Слушайте, Верзилин, — прошептал он сердито, — зажгите лампу. Я ничего не вижу.
Верзилин торопливо приподнялся на локте.
— Что вам надо? — сорвавшимся голосом спросил он.
— Успокойтесь, — ответили ему из темноты. — Я репортёр. Меня зовут Коверзнев. «Спортивные отчёты» — вот что я такое. Да зажгите же в конце концов свет.
— У меня нет спичек.
Коверзнев рассмеялся:
— Я идиот. Забыл, что имею дело с борцом. Я преклоняюсь перед людьми, которые умеют заставить себя бросить табак.
«Если бы он был послан ими, он не стал бы зажигать света», — успокоил себя Верзилин. Но на всякий случай откинул на груди одеяло. «Ударю в голову», — решил он и приподнял правую руку, словно взвешивая и примеряясь. Рука, прикрученная загипсованными бинтами к доске, была тяжела.
Зажигая спичку, отыскивая тумбочку с лампой, Коверзнев сказал:
— Каюсь: мне много удовольствия доставляет моя старушка.
Он вытащил из кармана коротенькую изгрызанную трубку и поднёс её к самому ночнику; повертел, показывая.
— Вот она. Пятнадцатый век. Знаменитый мастер из Тосканы. Украдена из музея.
Рассматривая его странный костюм, Верзилин возразил:
— Этого не может быть. Табак завезён из Америки в шестнадцатом веке. В Тоскане не могли тогда делать трубки.
— Вот вы какой? — с весёлым изумлением произнёс Коверзнев. Он сел на табуретку, откинувшись к стене. На нём была бархатная куртка, клетчатый шарф и соломенная низкая шляпа.
Набивая трубку, он сообщил:
— «Ольд юдж». Английский. Другого не курю.
«Врёт», — подумал Верзилин.
А Коверзнев, взяв с тумбочки бумажку, поджёг её над ночником, прикурил. Указывая на загипсованную руку, спросил:
— Так кто вас так разукрасил?
— Вы меня с кем–то перепутали, — сказал Верзилин.
— Бросьте… Пф–пф… Мне всё известно. Узнавать первым — моя специальность. Мои отчёты о спорте читает весь Петербург… Пф–пф… Хотя никто не знает моего имени.
— Он покосился на тёмную фрамугу, поинтересовался:
— Там коридор?
И когда Верзилин ответил утвердительно, сообщил:
— Я так и предполагал. До коридора днём я прорвался, дальше не пустили. Кстати… Пф–пф… Нас не накроют?
— Накроют.
— Тем более надо спешить. Итак?
— Я не знаю, о чём вы говорите.
— Бросьте, Верзилин. Ваши портреты выставлены в окнах всех магазинов на Невском. Вашу победу над Мальтой знает весь Петербург. Вашу биографию я уже почти собрал.
— Вы путаете. Я не Верзилин.
— Ах, оставьте! — воскликнул Коверзнев. — Я понимаю, что вы боитесь тех, кто хотел вас укокошить. Но в это дело вмешаемся мы и выведем их на чистую воду. Мы разоблачим закулисные проделки, мы покажем читателю, что такое борьба.
Верзилин отвернулся к стене, сказал сквозь зубы:
— Я вам ничего не расскажу.
3
Всё началось две недели назад. Имя Ефима Верзилина стояло в ряду сильнейших борцов, однако никому и в голову не могло прийти, что он положит на обе лопатки победителя чемпионата в Измайловском саду — знаменитого геркулеса Александра Мальту. Этого не ожидали ни Мальта, ни хозяин чемпионата — барон Вогау. Лишь сам Верзилин воспринял победу как должное, считая, что она подготовлена всей его жизнью.
Сильным он был с детства — всегда побеждал всех мальчишек в околотке. У заезжих циркачей перенял работу с гирями, отчего сила его удвоилась. В пятнадцать лет он решил стать борцом. Об этом узнал отец и нещадно его выпорол. Ефим боялся показываться на глаза товарищам — засмеют. Однако вся гимназия молчала: его любили за то, что он всегда заступался за слабых.
Отец говорил: «Разобьюсь в лепёшку, а выучу сына на доктора». Ефиму не верилось: он привык считать местного доктора Лубеницкого богачом, а они жили бедно. Отец работал в конторе кирпичного завода, получал немногим больше рабочих и по виду отличался от них лишь гуттаперчевым воротничком. Каждый вечер отец сам репетировал сына. Учёба шла хорошо. Трудно было сколотить денег на дорогу, хоть и рукой подать до Петербурга, но ещё труднее было поступить в Военно–медицинскую академию: сын мелкого конторщика был «чёрной костью». Однако Ефиму помогла медаль. В академии он пользовался такой же любовью товарищей, как и в гимназии. Однажды, после второго курса, они с приятелями пошли в цирк. Там известный борец предлагал сотенную бумажку каждому, кто устоит против него больше минуты. Друзья заставили Ефима попытать свои силы. Не прошло минуты — борец был припечатан к ковру. Верзилин не вернулся с арены: его сразу же перехватил арбитр. Предложенный ангажемент показался Верзилину баснословным и решил дело. Он стал борцом. Бывшие сокурсники не пропускали ни одной его схватки. Каждую победу отмечали в ресторане. Слушая их тосты, Верзилин улыбался, попивал молоко. Прошло три года. Друзья окончили академию, разъехались по флотским экипажам. Их место заняли случайные поклонники. Слава его росла. В последнем чемпионате в московском саду «Олимпия» он проиграл лишь одному Вахтурову, но не поладил с арбитром, поругался и вернулся в Петербург. Барон Вогау разрешил Верзилину участвовать в чемпионате, не подозревая, что он сорвёт его планы и перехватит у Мальты огромный приз. Чтобы исправить ошибку, Вогау назначил Верзилину свидание в ресторане «Вена». Там, на углу Гороховой и улицы Гоголя, обычно собирались художники, писатели, артисты.
Верзилин пришёл рано; сидел за столиком, с любопытством рассматривая шумную публику. Настроение было великолепным. Он только что прошёлся по Невскому, косясь на витрины магазинов, в которых были выставлены его фотографии. Даже у Елисеева за огромным стеклом, на фоне длинных сигов и стерлядей, красовался его портрет: физиономия так себе, обычная — не Собинов и не Шаляпин, а вот поди ж ты — выставили.
Верзилин взглянул в узкое зеркало, висящее над столом, в простенке. На него смотрел улыбаясь весёлый тридцатипятилетний мужчина. Лицо открытое, глаза серые, усы солидные. Ефим Николаевич озорно подмигнул ему; двойник ответил тем же.
Вбежал Вогау — в цилиндре, мохнатом сюртуке, скрипящих лакированных ботинках, с бантиком. Не здороваясь, плюхнулся на стул. Воровато оглянулся по сторонам. Сверкнув золотыми пломбами, приказал подскочившему официанту:
— Бутылку коньяку!
Он был худ, бледен, с чёрными кругами вокруг больших синих глаз.
Наполняя рюмки, сказал:
— Вы глупец.
Верзилин усмехнулся в усы.
— Да, да, глупец! Так дела не делают! Вы мне всё испортили! Англичанин разрывает контракт. Я теряю огромные деньги! Пейте!
Верзилин отодвинул рюмку:
— Я не пью.
— Пейте! — приказал Вогау, и правое веко его задёргалось. Он опрокинул рюмку в рот, приплюснул пальцем в сахарную пудру ломтик лимона, жадно обсосал. Смахнув носовым платком с губ невидимые крошки, заговорил торопливо:
— Он мне поставил условие: вы принимаете его вызов и проигрываете две схватки подряд.
Тяжело дыша, Верзилин сказал угрюмо:
— Ему у меня не выиграть.
— Я сказал, что вы глупец! — чуть не крича, наклоняясь через стол, произнёс Вогау. — Не забывайте, что вы не на поединке, а в цирке. А цирк — тот же театр. Мы — артисты. Каждая схватка — спектакль. Времена Древней Греции давно прошли.
— Ваше предложение, Франц Карлович, для меня оскорбительно, — поднимаясь и отодвигая стул, сказал Верзилин.
— Сидите! — крикнул Вогау, хватая его за рукав визитки. — Я не кончил! Я вам предлагаю деньги.
— Я не понимаю, как можно говорить гак? — обиженно, но уже спокойно спросил Верзилин. — Все видели, что я сильнее Мальты, и вдруг проигрываю. Никто в это не поверит.
— Поверят!
— Это позорно для меня.
Вогау поморщился. Выпил подряд две рюмки. Выплюнув на скатерть зелёную косточку от лимона, задыхаясь, заторопился с объяснением:
— Мы сделаем это так, что он положит вас за ковром. Для спортсмена будет ясно, что это не по правилам.
— Нет.
— Хорошо! — крикнул Вогау. — Есть способы, которые никак не бросят тень на вас. Допустим, вы поскользнётесь, и этим воспользуется Мальта… Публика будет на вашей стороне, хотя вы и проиграете.
Верзилин отрицательно покачал головой.
Бледнея, Вогау крикнул:
— Деньги! Я вам плачу деньги!
Верзилин вновь медленно покачал головой.
— Мне не нужны деньги. После победы над Мальтой я обеспечен.
— Когда вас выгонят из чемпионата — запоёте по–другому.
— Я уеду в провинцию. Там всегда найду ангажемент.
— Отказываетесь от моего предложения?
— Я сказал, Франц Карлович, что не могу ему проиграть, потому что это не делает мне чести.
— Можно поскользнуться, споткнуться о ковёр… Да мало ли предлогов!
— Не могу.
Вскочив, оттолкнув стул, Вогау прохрипел в лицо Верзилину:
— Вы пожалеете, — и, не ожидая ответа, выбежал из ресторана.
Верзилин пожал плечами, усмехнулся. После раздумья вздохнул: «Ишь, раскипелся, как медный самовар». Подумал, уж не согласиться ли, а то, чего доброго, испортит этот немец ему карьеру. Но проигрывать не хотелось, он только что вкусил славы. Да и зачем проигрывать, когда этого можно не делать? Глупо.
На улице было ещё светло, хотя уже зажглись фонари. В лиловом свете поблёскивал кораблик на шпиле Адмиралтейства. По Невскому катили авто, коляски; звенел трамвай; перед Казанским собором толпился народ; видимо, кончилась служба. В бакалейной витрине, рядом с портретом Мальты, был выставлен его портрет. Это что–нибудь да значило…
Две девушки в коричневых платьях и белых пелеринках обогнали его, заглянув в лицо, почему–то прыснули со смеху. Стайка серых гимназистов следовала по пятам. Какой–то господин вежливо поклонился — Верзилин с достоинством приподнял касторовую жёсткую шляпу с узенькими полями. Размахивая тросточкой, шагал дальше.
Был он крупен и внушителен. Даже те, кто не знал его, оборачивались ему вслед.
На углу Вознесенского и Садовой попался знакомый жокей, сказал, коверкая слова:
— О, руссиш силач… Чемпион, — и ткнул тонким пальцем в живот Верзилина.
Похлопав его по плечу, улыбаясь, Верзилин пошёл дальше.
Измайловский сад, неуклюжее здание цирка.
— Добрый вечер, добрый вечер, — говорил он всем с улыбкой, приподнимая шляпу.
Пахло конюшней. За дощатой, со щелями, стеной ржали лошади.
В узком проходе он столкнулся с Вогау. Барон спросил глухо:
— Не передумали?
— Франц Карлович… — начал было Верзилин, но тот перебил его:
— Срок — завтрашнее утро.
И ушёл — стремительный, красивый, совсем мальчишка.
Арена была огорожена решёткой с загнутыми внутрь острыми концами. Четыре льва сидели на тяжёлых тумбах; пятый лежал отдельно от них, свесив голову, равнодушно следя за медленно кружащейся перед ним Ниной Джимухадзе. Она была в белом трико, красной куртке, расшитой золотом; в одной руке держала арапник, в другой — кусок мяса. Лев лениво приоткрывал пасть, когда она проводила мясом по его морде.
Отец её, чёрный, обросший волосами, толстый Георгий Джимухадзе прижался лбом к прутьям решётки, держа за спиной увесистый полицейский «Смит — Вессон».
Началось самое страшное: девушка опустилась на колени, выпустила из рук мясо и хлыст, вцепилась пальцами в челюсти льва; он поматывал мордой, недовольно ворчал. У Верзилина остановилось сердце. А девушка упорно разжимала челюсти животного! Это было страшно. Пасть раскрылась, оскалилась, — девушка резко сунула туда свою голову. Хрупкая шея, длинная узкая спина беспомощны; «Смит — Вессон» в руках отца бесполезен. Секунды казались бесконечностью.
Девушка неожиданно быстро выдернула голову, вскочила, стала раскланиваться, поправляя причёску, боязливо оглядываясь на беспокойно порыкивающих львов.
Сердце Верзилина не отходило. И только когда девушку отделила от львов решётка, он вздохнул, вытер холодный пот.
— О, — сказала она минутой позже, — я рада, Верзилин, что вы видели мой номер.
Целуя её горячую дрожащую руку, прижимаясь пушистыми усами к лаковой коже, он сказал:
— Это безумие — ваш номер.
Ёжась, поводя плечами, она ответила:
— Моя мать проделывала это тысячи раз. И ни разу не было несчастья.
Отец, мрачно глядя на Верзилина, накинул на девушку махровый халат; пошёл по коридору.
Сжимая Нинину ладонь, Верзилин (в который раз!) спросил:
— Отец по–прежнему против меня?
И впервые она неожиданно ответила:
— Смилостивился. Разрешил завтра провести время с вами.
Георгий Джимухадзе тяжело повернулся всем телом, с угрюмой ревностью посмотрел на борца.
— Иду, — сказала Нина и медленно освободила свои ладони из рук Верзилина.
Двадцать четыре часа прошли томительно. Угроза Вогау казалась шуткой. Гораздо страшнее было стоять за пыльной портьерой, слышать рык львов, резкие, как выстрел, хлопки Нининого хлыста. А служители рядом разговаривали о чём–то постороннем, вызывая в Верзилине недоумение своим равнодушием к тому, что происходит на арене.
Он был как в чаду, когда девушка вышла с ним из цирка.
На ней ловко сидел драповый сак с шёлковым шитьём по воротнику и обшлагам; муслиновая шляпа со страусовым пером была приколота к пышной причёске длинной шпилькой.
Девушка была задумчива, не поднимала головы, длинные пальцы её нервно теребили кисточки блестящего бисерного ридикюля.
Они молча прошли по Подьяческой, свернули налево. В зелёных деревьях за церковной оградой шумел ветер. Было темно.
Держась за локоть Верзилина, Нина выбирала дорогу.
Они обогнули оперный театр, пошли по Офицерской. Верзилин плохо знал эти места. Тротуарные плиты набережной реки Пряжки были избиты; попадался булыжник; в свете, падающем из окон, виднелся грязный, местами поросший травой склон речушки; вода была зловонной. Они шли к Неве. Темнота сгущалась. Пряжка впадала в Мойку. На берегу её были дровяные склады. Между высокими поленницами длинных гнилых дров солдат в накинутой на плечи шинели обнимал женщину. Дрова загромоздили почти всю набережную. Нина свернула к железной решётке. Проход был так узок, что пришлось идти по — одному. Пахло грязной водой Мойки и гнильём; отчего–то на душе было неспокойно.
Из темноты, из–за дров, выросли две фигуры. В тесноте оттолкнули Нину, ударили свинчаткой в голову Верзилина.
— Я не хотела этого! — в ужасе закричала Нина, зажимая рот маленьким, узким кулачком.
Верзилину негде было развернуться. Он ударил во что–то мягкое и мокрое; стукнул ещё раз, в кровь разбил кулак о дрова; навалился на кого–то девятью пудами своего веса. В это время сзади его ещё раз ударили в голову.
4
— Я вам ничего не расскажу, — процедил сквозь зубы Верзилин, отвернувшись к стене.
— Да поймите, что это бессмысленно! — забывшись, закричал Коверзнев. — Они вас не оставят! Вы для них сейчас живая улика! А если расскажете, мы их упрячем в «Кресты»… Не забывайте, что вы настоящий борец, и ваша судьба дорога нам.
В фрамуге появился свет; зашлёпали шаги.
Зажав в кулак трубку, Коверзнев задул ночник, быстро перелез через подоконник. Брякнули створки закрываемого окна.
Держа перед собой лампу, вошла старуха в косынке с красным крестом.
— Кто у вас кричал?
— Окно надо запирать на ночь, — сердито произнёс Верзилин. — Так могут зарезать, и пикнуть не успеешь. Переведите меня в общую палату, здесь я на ночь не останусь… Сейчас кто — то собирался залезть в окно.
Сиделка храбро ткнула оконные створки — они распахнулись. Прикрывая ладонью свет семилинейной лампы, заглянула в темноту сада, подождала. Кроме шума ветра, ничего не было слышно.
— Переведите, — хмуро потребовал Верзилин.
Поставив лампу на столик, устало присев на пустую койку у противоположной стены, старуха возразила:
— Без доктора не могу. Подождём до утра.
— Я здесь не останусь, — упрямо заявил Верзилин.
Свесив ноги на пол, прикрываясь серым солдатским одеялом, повторил:
— Переведите.
На их разговор пришла другая сиделка.
После долгого спора койка Верзилина была перенесена в большую палату.
Разбуженные больные оказались любопытными. Но Верзилин молчал; сделал вид, что заснул. Отмалчивался и утром. Через день–другой его никто уже не расспрашивал. Он лежал целые дни неподвижно, поглаживая высунувшиеся из–под гипса похудевшие бледные пальцы. Думал о словах репортёра. Тонконосый Коверзнев был прав: живой — он улика для них. Стоит им узнать, что он лежит в Мариинской больнице, как они доберутся до него. Руки у них длинные. Им нельзя останавливаться на полпути. Интересно, как выступает Мальта?
Он не утерпел однажды и попросил газету. В Измайловском саду с десяти часов вечера выступали борцы. Имён, однако, не упоминали. Верзилин представлял во всех деталях, как надменный жирный англичанин раскланивается перед публикой… Непобедимый геркулес… Чемпион из вечера в вечер… Имя Верзилина почти всеми забыто — выскочил случайно, победил, исчез куда — то… Канул в лету… И сейчас равного Мальте нет… Время от времени из зрителей выходят «чёрные», «красные маски», «маски смерти»; бросают вызов англичанину. Он спокойно принимает его; он ленив и беспечен. Проходит минута, иногда десять, двадцать — противник Мальты припечатан к ковру. Так договорено с Вогау. Вогау с Мальтой делят доход… Но вот однажды в цирке появляется новая «маска». Кто–то из публики узнаёт по осанке Верзилина. Начинаются разговоры. «Верзилин! Верзилин!» «Вы знаете, он один может победить Александра Мальту. Помните, как полгода назад он его бросил на тридцатой минуте?» — «Так это тот самый?» — «Конечно». Мальта растерян: это не тот, кто должен выйти из толпы: вон тот торопливо идёт по проходу. Вторая «маска» в этот вечер вызывает Мальту! Фурор! Цирк неистовствует. Мальчишеское с огромными глазами лицо барона Вогау мертвенно бледно. «Маска» старается оттолкнуть Верзилина; ударяя себя в грудь, доказывает, что у неё личные счёты с Мальтой и что бороться должна она. Тогда Верзилин, обернувшись к публике, спокойно объявляет, что, победив Мальту, он согласен победить любую «маску». Крики, свист! Все требуют, чтобы его допустили к борьбе… Верзилин расправляется с Мальтой, расправляется с «чёрной маской», вызывает любого из находящихся в цирке. Победив всех, он снимает маску. Его узнают. «Верзилин! Верзилин!» — кричит цирк. Подняв руку, добившись тишины, он рассказывает о том, как встал поперёк дороги Вогау и Мальте, о том, что в цирке ведётся нечестная борьба. Вогау арестовывают, Мальту высылают из России.
Мечты были сладки и тревожны. Верзилин брал газету и на первой странице отыскивал рекламу. Борьба была не только в Измайловском саду. Боролись у Чинизелли, в Екатерининском, в саду «Фарс», в «Семейном», в саду «Неметти». Боролись по всей России. Популярные чемпионаты проходили у Альберта Сламонского в Москве; боролись в Киеве, Одессе, Сибири. Театры пустовали. Зато в цирках не было билетов. Артисты торопились отбарабанить к десяти часам короткую программу. В десять начинался парад борцов…
Верзилин со вздохом откладывал газету в сторону. Начинал теребить недвигающиеся похудевшие пальцы. Под гипсом зудело и побаливало.
Больные пробовали с ним заговаривать, но он отмалчивался. Когда приставания были слишком назойливыми, он принимался перечитывать первую страницу газеты. Телеграммы сообщали о том, как неспокойно в мире: в Лодзи горели фабрики, в Екатеринбурге бастовали железнодорожники. Даже в неизвестной никому Британской Колумбии были волнения. Такие же колючие новости были в «Хронике». Верзилин вспоминал тонконосого, замотанного шарфом Коверзнева. И как только успевают разнюхивать о разных событиях эти проныры? Зачастую в десятке строк была заключена целая трагедия. Например, сообщалось, что «в вестибюле Большого театра арестована женщина, привлёкшая к себе внимание охранной полиции крайне возбуждённым видом. По удостоверению её личности, арестованная оказалась политическою Фрумкиной, бежавшей с каторги. При ней найдено два револьвера с отравленными пулями». Отравленные пули казались выдумкой Коверзнева. Верзилину нравилось придумывать биографию Фрумкиной; он пытался представить себе её лицо. Может быть, она походила на Нину? Воспоминание о Нине причиняло острую боль. «Я не хотела этого…» Значит, Вогау заставил её согласиться на это свидание, обманул её, сказал, наверно, что просто необходимо поговорить с ним с глазу на глаз. А отец её — старый, обросший волосами укротитель — вероятно, всё знал… Верзилин постарался отогнать эти мысли, снова уткнулся в газету. «В Томске уездный исправник предложил временно проживающим в городе нарымским ссыльным уехать на место ссылки или сесть в каталажку. Местные слухи ставят это в связь с приездом Столыпина», «Вдова издателя Трефилова, исполняя словесно выраженную последнюю волю своего супруга, пожертвовала университету Шанявского весь склад изданий…», «Сумма взяток, полученных в общем всеми киевскими интендантами за последние пять лет…», «Две недели назад в дровяных складах на набережной р. Мойки, при впадении в неё р. Пряжки, два неизвестных лица напали на новую знаменитость — борца Ефима Верзилина…»
Верзилин не сразу понял, что это о нём. Только через минуту его бросило в пот. Сердце начало биться тревожно и гулко. Он осмотрелся по сторонам, подобрал газету. Жадно впился в прыгающие буквы: «…Ефима Верзилина… и ударами свинчатки опрокинули его наземь, сбросили в воду Мойки. Случившееся видел нижний чин 193‑го пехотного Свияжского полка и извлёк тело Верзилина из воды. Доставленный в соседнюю Мариинскую больницу Верзилин был без сознания и заболел воспалением лёгких. Очнувшись, он назвал вымышленное имя. Последнее объясняется его нежеланием, чтобы узнали люди, которые в этом заинтересованы. Есть предположения, что покушение совершено по указке антрепренёров одного из петербургских цирков. Однако чины сыскного отделения смотрят на это сквозь пальцы, а администрация больницы никого не допускает на свидание с борцом…»
Не успел он всего обдумать, как в палату вошла сестра милосердия и сказала Верзилину, что его ждут. Кто, кроме Коверзнева, мог разыскивать его под вымышленным именем? И вдруг у него перехватило дыхание: это они.
Он поправил на себе полосатую пижаму и вышел в коридор; подкрался к двери, заглянул через стекло. В просторном вестибюле, в котором сходились две широкие лестницы, подле фонтана с лебедем сидели двое незнакомых усатых мужчин. Тогда Верзилин на цыпочках отступил вдоль стены, прошёл мимо своей палаты и приоткрыл дверь в умывальную комнату. Там было пусто. Он распахнул створки окна и мягко выпрыгнул в сад. Озираясь, забрался в густые кусты жасмина в дальнем углу.
За стеной жил город: звенел трамвай, разговаривали люди, шумела текстильная фабрика.
Сидеть было неудобно. Под гипсом чесалась рука.
Когда стемнело, он осторожно перелез через высокий забор и, выбирая тихие улицы, пробрался на другой конец города — на Кирочную, в меблированные комнаты.
Хозяйка была напугана его приходом и спросила, неужели это всё правда, что написано в «Хронике»? Он не стал ей ничего объяснять, прошёл в комнату. Прижавшись спиной к филёнке дверей, женщина сообщила, что несколько часов назад приходили двое в кепи и пелеринах и упорно расспрашивали о нём; они–то и показали ей газету.
— Усатые? — спросил он догадываясь.
Глядя расширенными глазами на его загипсованную руку, она согласно закивала.
Закрыв за ней дверь, он вытащил из–под кровати чемодан. Деньги были на месте. Он не торопясь сбросил с себя пижаму, надел жилет, серые штучные брюки, визитку. Постоял перед зеркалом, вздохнул. Потом, неожиданно для себя, подмигнул своему отражению, вспомнив, как три недели назад то же самое сделал в «Вене». Прежний Верзилин не походил на теперешнего; на него глядело из зеркала обросшее русой щетиной похудевшее лицо; визитка висела на острых плечах.
Вещей было немного, однако часть их пришлось оставить — правая рука не действовала. Больничную пижаму он засунул в чемодан: никто не должен знать, что он здесь был; хозяйка, наверное, не проболтается.
5
В Чухонской слободе на острове Голодае (так называлась окраинная часть Васильевского острова) появился новый житель, назвавшийся коммерсантом Верзилиным. Был он очень высок и худ, одевался хорошо, по моде, но все костюмы на нём болтались. У него было простое открытое лицо с серыми глазами, крепкая шея и небольшая подстриженная бородка. Не рядясь, он снял у хозяйки–финки две комнаты, одна из которых была большая, и за полгода вперёд внёс деньги. Это заставило соседей относиться к нему с почтением и не приставать с расспросами.
Каждое утро в одно и то же время он покидал дом и по мосту через Смоленку направлялся на угол Камской и Шестнадцатой линии на кольцо «четвёрки». Возвращался днём, с покупками. Иногда сам на спиртовке готовил обед.
Примерно через месяц он вернулся как–то с новеньким цветным саквояжем, поблёскивающим металлическими запорами, и теперь не расставался с ним ни на минуту. Кое–кто из наблюдательных соседей обратил внимание на то, что Верзилин носил чемодан всегда в правой руке, которая ещё недавно была полусогнута и ревниво оберегалась от случайных толчков.
С приобретением чемодана, казалось, изменились его привычки. Из дома он уже выходил в разное время, хотя поднимался ото сна по–прежнему точно в девять, и сейчас он направлялся к Малой Неве, где за корпусами канатной фабрики дежурил мальчишка–перевозчик. Пасущие коров женщины видели, как лодка приставала к поросшему травой берегу Петровского острова. Верзилин расплачивался с босоногим лодочником и скрывался за деревьями, видимо, ближайшим путём направляясь на Петербургскую сторону. Иногда лодочник увозил его на Крестовский остров. Верзилин сидел в лодке, длинный, прямой, придерживая обеими руками драгоценный саквояж.
Как были бы удивлены жители чухонской слободы, если бы им удалось краешком глаза заглянуть в этот саквояж!
Верзилин, тот самый Верзилин, который отрекомендовался коммерсантом и который, если не был биржевым маклером, то, по их мнению, владел магазином или синематографом, каждое утро вместо шумного большого проспекта направлялся на песчаную отмель пустующего Крестовского острова. Там он купался, делал гимнастику, а затем лежал, держа на солнце раненую правую руку; потом долго бродил по пляжу, отыскивал крупные разноцветные камешки и складывал их в саквояж.
Когда он в первый раз пришёл на облюбованную отмель, в саквояже у него лежал один покрывшийся плесенью булыжник. Верзилин заменил его чистеньким красным куском гранита, превращённым ледником, водой и ветром в большое яйцо, и добавил к нему равный по весу голубой камень. Рука немела, плохо гнущиеся пальцы разжимались, но он упрямо решил, что каждый день будет добавлять по камню. Однако нагрузка оказалась велика, и он стал выбирать камни меньшего веса и меньшего размера. Но и такие камни вскоре до отказа заполнили его саквояж, и по вечерам, возвращаясь с пляжа, Верзилин вынужден был кульки с приобретёнными продуктами нести в руке. Тогда–то он и решил заменить камни галькой. Это было интересное занятие — отыскивать блестящие красные, жёлтые, голубые ледешки. Половина саквояжа сразу опустела. Теперь он каждый день добавлял в него по горсти шлифованных камешков. Пальцы продолжали разгибаться, но стоило ему отсыпать из саквояжа примерно треть содержимого, как они становились цепкими и подвижными; раненая рука наливалась силой.
Верзилин был упрям. Отсыпанную треть гальки он снова водворял на место и заставлял себя часами носить саквояж в больной руке. Размеренным шагом спортсмена он колесил по берёзовым рощам Крестовского острова. Со временем маршруты его прогулок становились всё длиннее и длиннее. Сначала он доходил до Ланской, до дачи Кумберга, а затем и до Коломяг. Выкупавшись в Озерках, он на трамвае возвращался домой. К вечеру Верзилин с трудом удерживал тяжёлый саквояж, но кусал губы и не выпускал груза. Благодаря такому упорству к концу лета силе пальцев раненой руки мог бы позавидовать здоровый человек. Беспокоил его лишь локоть, который до сих пор плохо сгибался.
Сейчас Верзилин любил ходить до Лахтинского разлива. Там, за загородной дачей графа Стембока — Фермора, на взморье, лежала огромная глыба розового гранита. Говорили, что она является родной сестрой постаменту Александрийского столпа, воспетого Пушкиным. Лёжа на песке, поглядывая на серую воду Финского залива, Верзилин любил представлять, как крепостные везли её в Петербург; воображение рисовало картины хмурых чухонских берегов, поросших соснами, огромные баржи и разбившуюся на две части громадную глыбу… Он поднимался с прохладного августовского песка и долго брёл по тёплой как парное молоко воде. Впереди виднелись многочисленные краны гавани, за ними дымили трубы и поблёскивали стёкла заводов. А надо всем возвышался золотой купол Исаакия… Когда шагать по воде надоедало, Верзилин ложился на каменистое, поросшее водорослями дно и смотрел в голубое небо… Ничего не было лучше воды, солнца и физической нагрузки для его больного тела. Казалось, он чувствовал, как сила возвращается к нему; от этого было радостно. Он верил, что недалёк тот день, когда он обретёт былую форму и вернётся на манеж цирка. Берегись тогда Мальта!.. Верзилин в сотый раз представлял, как он войдёт в цирк, какая маска будет на нём и с какими словами он обратится к своему врагу… Хорошо бы бросить клич по флотским экипажам — собрать всех друзей и обрадовать их победой над Мальтой. Или бы собрать земляков–псковитян — вот было бы радости!.. Вздохнув, Верзилин поднимался и брёл по холодку в воде к знаменитой глыбе, на которой лежала его одежда.
В Лахте был один из старейших русских лаун–теннис клубов, носивший лирическое название «Клеверный листок». Верзилин любил под вечер посидеть на скамейке подле огороженного металлической сеткой корта и посмотреть на спортсменов. В стремительных ударах ракеток по небольшому резиновому мячу была прелесть силы и азарта; это напоминало борьбу. К огорчению, вскоре пришлось отказаться и от посещений «Клеверного листка». Один из теннисистов, чрезвычайно напомнивший ему Вогау, — высокий, загорелый мужчина с нерусским профилем и пробором ото лба до затылка, обычно молча сидевший в шезлонге, закинув ногу на ногу, однажды подошёл к нему и спросил, не хочет ли господин сыграть пару сетов? Верзилин растерялся и, не желая вступать в разговор, приподнял соломенную шляпу, пожал плечами.
Эта встреча насторожила Верзилина. После этого он больше не решался подходить к кортам. Пробирался окраиной Лахты — мимо маленьких дачных домиков с высокими яркими крышами, верандами и балконами.
Тем более он не решался ходить в Измайловский сад. Он понимал, что Вогау с Мальтой разыскивают его. Стоит ему появиться в цирке, как им об этом будет известно. Один раз он отважился сходить на чемпионат борьбы, проходивший на Охте, в саду «Светлана», но ушёл оттуда разочарованным: чемпионат оказался неинтересным, и он ничему не мог здесь поучиться.
Чтобы не забыть приёмов, Верзилин каждый день боролся с воображаемым противником. Вскоре это перестало его удовлетворять, и он засыпал свою просторную комнату опилками, покрыл брезентом и соорудил куцую, массивную модель борца, использовав для этого берёзовую тумбу, опилки и стёганое одеяло. Поднимаясь в девять утра, он обтирался колодезной водой, делал зарядку и начинал упражнения с обрубком–манекеном. Он захватывал его в объятия, хлопал по нему ладонями, опрокидывал на себя, подминал, крутился по полу, изобретая самые неожиданные приёмы. Он потел и кряхтел, как на манеже, подбадривая себя репликами и забывая о том, что его могут услышать.
Однажды хозяйка испуганно начала стучаться в его дверь, и он, тяжело дыша, прикрывая халатом волосатую грудь, объяснил ей, что переставлял мебель. С этого утра свои занятия с берёзовым болваном он проводил только тогда, когда хозяйка уходила на выгон доить корову.
После борьбы он обтирался тряпкой, намоченной в солёной воде, и растирался холщовым полотенцем.
Верзилин чувствовал себя в форме, пальцы наливались силой, становились цепкими. Теперь он мог удержать ими не только саквояж, набитый галькой, но и берёзовый чурбан, закутанный в одеяло. И лишь одно огорчало его: рука по–прежнему плохо сгибалась в локте и при тренировках иногда причиняла острую боль.
Однако он решил, что найдёт в себе мужество не бросить занятий, и локоть его, как и пальцы, будет сгибаться. И он тренировался с ещё большим упорством, каждый день измерял свои бицепсы; здоровая рука — сорок три сантиметра, больная — гораздо меньше. Но он был упорен. Считая, что одного матча борьбы с берёзовым истуканом мало, он стал проводить занятия и по вечерам. С семи до восьми хозяйка уходила за коровой, и Верзилин воспользовался этим вторичным её отсутствием. Борясь, он старался дать основную нагрузку правой руке, он перекидывал ею непослушный, словно оживший, обрубок, падал на руку, наваливался на неё всем телом.
Совершая прогулки на Лахтинский разлив, он не только носил тяжёлый саквояж в правой руке, но и старался всю дорогу поднимать его. Он решил добиться того, чтобы к середине зимы рука поднимала груз на уровень плеча.
Со стороны его теперешняя жизнь могла показаться самоистязанием, но Верзилин давно знал, что в двадцатом веке спорт из развлечения для многих превратился в цель жизни и чтобы добиться в нём успехов, надо пожертвовать всем. Уже много лет назад, посвятив себя борьбе, он отказался от вина, в определённое время ложился спать и просыпался, не употреблял за обедом ни уксуса, ни горчицы, не разрешал себе лишнего стакана воды. Единственное, что у него осталось от юности, — это несколько папирос в день. Он знал, что никотин, как и кофе, возбуждающе влияет на нервную систему, но считал возможным оставить эту последнюю роскошь.
Теперь он решил отказаться и от табака. Он заклеил початую пачку папирос «Трезвон» и поперёк бравого приказчика с балалайкой и пляшущей девицы в платочке написал крупно чернилами: «12 октября». Всякий раз, взявшись за папиросы, он читал эту дату как заклинание. Но иногда желание курить было сильнее Верзилина, он не сдерживался и покупал папиросы. Однако у него хватало силы воли одуматься. Таким образом у него накопилось несколько пачек и коробок с разными числами. Например, на «Зефире» было написано «6 ноября». Даже много лет спустя Верзилин помнил, как, облепленный мокрым снегом, обессиленный тяжёлым пробегом по шоссе от Лахты до Новой Деревни, он зашёл в магазин на углу Большого и Веденской, махнув на всё рукой, купил коробку «Зефира» (10 штук–10 копеек) и подумал, с какой радостью он сейчас сделает несколько затяжек; позже он удивлялся, как тогда не закурил… За полтора месяца на кривоногом ломберном столике скопилась целая коллекция папирос. Эту коллекцию можно было назвать летописью его мужества. Одному ему было известно, что скрывалось за каждой из дат: тут была и неожиданная боль в раненой руке, и минуты отчаяния, и случайная весть об успехах знакомого борца в парижском мюзик–холле…
Было что–то приятное для Верзилина в процессе приобретения папирос, которые никогда не будут выкурены.
Как ни странно, однако коллекционирование отвлекало Верзилина от тяжёлых мыслей. Часто по вечерам он раскладывал своё богатство на зелёном сукне ломберного столика: и это его занятие напоминало пасьянс.
Увидев в витрине незнакомые папиросы, он обязательно покупал их и радовался своему приобретению, как ребёнок новой игрушке.
6
Как–то раз, прогуливаясь по Невскому, Верзилин заметил в лотке папиросы «Око», которые он курил ещё тогда, когда учился в медицинской академии. Усмехнувшись в бороду, он отсчитал пятачок и копейку и вдруг почувствовал на себе чей–то взгляд. Он обернулся. Прислонившись к медным перилам, на фоне фарфоровых статуэток и хрусталя, поблёскивающего за огромным зеркальным стеклом, стоял молодой человек в шубе с бобровым воротником и в бобровой шапке; у него были пронзительно знакомые огромные глаза, глаза Франца Карловича Вогау. Не спуская с Верзилина глаз, барон медленно положил руку на плечо усатого мужчины в касторовой шляпе и крылатке и притянул к себе. Больше Верзилин ничего не видел. Забыв о папиросах, расталкивая людей, он зашагал прочь. Ночью он видел ужасный сон: несмотря на отчаянное сопротивление, он оказался на лопатках, и Мальта навалился на него жирным, потным животом, зажал ему рот и нос; а когда совсем уже не хватило воздуха и Мальта приподнялся, а Верзилин вздохнул полной грудью, Вогау и усач в крылатке ударили его в голову. Он проснулся среди ночи в холодной испарине и с чувством омерзения сбросил с лица мокрую подушку. В комнате почему–то было светло. С гулко бьющимся сердцем Верзилин огляделся: беспокойные багряные отсветы трепетали на серых обоях. Он взглянул в окно. Разрисованное причудливыми ледяными узорами стекло стало розовым. За дверью, в кухне, кто–то опрокинул стол.
— Пожар, — крикнула хозяйка, стучась в дверь.
Не попадая ногой в штанину, ругая негнущуюся руку, он ответил:
— Сейчас.
— Керосиновые склады горят.
Запахнув шубу, Верзилин вышел на крыльцо. За деревьями и крестами немецкого кладбища полыхало пламя. По улице бежал народ. Хозяйка позвала его посмотреть пожар, но он отказался.
Он стоял на улице до тех пор, пока не замёрз. Уходя, заметил извозчика: извозчик прикатил с Васильевского острова и в поисках дороги к керосиновым складам попал в Чухонскую слободу. Седок, закутанный до бровей в шарф, заставил вспомнить о репортёре Коверзневе, а это было мостиком к мыслям о сегодняшней встрече с Вогау. Сколько Верзилин ни отгонял эти мысли от себя, они обволакивали его как паутина.
С этого дня он стал плохо спать. Казалось, что и рука его начала сгибаться хуже.
Стараясь не думать о Вогау и Мальте, он подолгу просиживал над своей коллекцией.
Как–то на Невском ему попалась новая марка: на коробке нарисована дымящаяся папироса, воткнутая в брюшко крупной шестёрки. Стоили эти папиросы гривенник.
Раздумывая над тем, к какой серии отнести своё приобретение, Верзилин представил, как он засветит дома семилинейную лампу, зажжёт спиртовку, поставит на неё эмалированный чайник.
За этими мыслями он незаметно для себя подошёл к дому. Настроение было прекрасное.
На крыльце лежала вязанка дров. Он приослабил верёвку, взял с поленницы ещё дюжину поленьев, затянул петлю. Подумал: «Всегда приятно доставить радость человеку». Рядом стояло ведро из–под картофельных очисток; Верзилин прихватил и его.
Хозяйка всплеснула руками, заохала, в который раз начала объяснять, что не надо ничего для неё делать, — Ефим Николаевич платит за услуги. Снимая шубу, стряхивая снег с шапки, он сказал благодушно:
— Ну что за счёты.
— А вам письмо, — сказала хозяйка.
Со смешанным чувством любопытства и волнения он взял его в руки, гадая, кто и каким образом мог узнать его адрес. «Может, Нина?» У него радостно забилось сердце. Он надорвал конверт. Из него выпала газетная вырезка. В какую–то долю секунды он снова вспомнил просторную палату в Мариинской больнице и газету, в которой он единственный раз в жизни читал о себе.
Неужели опять расписывают его неудавшуюся смерть?
А может, вспоминают как борца?
Он хотел поднести бумажку к глазам и охнул от боли в руке.
Что они там пишут, чёрт бы их побрал?
Он схватил вырезку левой рукой и в тусклом свете неразгоревшейся лампы прочитал набранную витиеватым елизаветинским шрифтом рекламу:
«Великий Пётр окно в Европу прорубил,
На новый путь толкнувши Русь далеко,
А «Оттоман» глаза курильщика открыл,
Пустив в продажу папиросы «Око».
Вогау… усач в крылатке, наклонившийся к барону… Итак, они узнали, где он живёт… Сегодняшняя вырезка — это предупреждение… Только бы у него сгибалась рука. Тогда бы он показал им на манеже, что он никого не боится.
А перелом по–прежнему давал себя знать… Если бы не режим, который стал его привычкой, Верзилин давно бы распустил себя. Однако он каждое утро вставал в девять, обтирался водой, упражнялся с гантелями, ел простоквашу и совершал пятнадцати — километровую прогулку. Было морозно. В рощах Крестовского острова шныряли серые чечётки, усыпая белый снег шелухой берёзовых шишек; степенно хохлились красногрудые снегири, напоминающие городовых. На застывшем пруду звенел лёд под коньками хоккеистов. Верзилин из–за деревьев наблюдал за их тренировкой. Однажды рядом с ним остановились несколько человек, и в одном из них он узнал маклера фондовой биржи Макферсона — хозяина Крестовского лаунтеннисного клуба. И опять эта встреча напомнила ему о бароне Вогау. Некоторое время после этого Верзилин перестал бывать на Крестовском острове и уходил то в Коломяги, то в Полюстрово. И только один раз, случайно узнав о предполагаемом выступлении знаменитой команды Юсупова сада, обладательницы серебряной клюшки — приза шведского короля, — направился на знакомый пруд. На юсуповцах были белые фуфайки с широкими продольными полосами, чёрные брюки и чёрные гамаши до колен. Они сражались со своими молодыми противниками — рабочими и служащими Путиловского завода, объединившимися в клуб «Нарва». Это была бешеная по своему темпу игра, и она захватила Верзилина так же, как захватывали встречи лаунтеннисистов «Клеверного листка».
Он пришёл домой в возбуждённом состоянии, с мыслью во что бы то ни стало вернуться на манеж.
Дома его ждало второе письмо.
Верзилин, не раздеваясь, вскрыл его и опять обнаружил вырезку из газеты:
««Трезвон» 20 штук — 5 копеек. Громадный спрос, лучше нету папирос».
Сжав зубы, он произнёс зло:
— Хоть бы послали что–нибудь о таких папиросах, каких у меня нет.
Разведя спиртовку, он зачем–то бросил в её голубое пламя конверт; бумага вспыхнула, скрутилась в трубку и упала на стол. Гася огонь, растирая на чистой скатерти пепел, Верзилин подумал: «Какого чёрта! Что им от меня надо?..»
Однако он знал, что им было надо; они добились своего: он тревожно спал, нервы его были напряжены. Рука болела.
После некоторых раздумий он пошёл к знакомому по академии, сейчас работавшему врачом в одном из флотских экипажей, к тому самому, который восемь месяцев назад снимал ему гипс. Врач долго осматривал его и, наконец, свёл к новому светилу — Розенблицу, принимавшему в собственной квартире на Невском.
Розенблиц сказал (скорее моряку, чем Верзилину):
— Руке нужны ванны, шолнце и ежедневная нагружка.
Верзилинский приятель с облегчением произнёс:
— Мы на правильном пути.
— Шта‑а? — высокомерно спросил Розенблиц, стряхивая с рук капли воды над фаянсовой раковиной.
Моряк почтительно начал объяснять, что Верзилин всё лето купался и занимался гимнастикой, но Розенблиц перебил его, снова обращаясь к нему, а не к Верзилину:
— Рука будет дейштвовать лучше, но штоб бокшировать — не гарантирую. Нужно было шразу обратитьша ко мне. Шейчаш — пождно.
Брезгливо принимая от Верзилина кредитный билет, прошлёпал:
— Не рашпушкать шебя, — и пошёл в соседнюю комнату, давая понять, что аудиенция окончена.
Хорошо ему было сказать: не распускать. А как это сделать? Да и к чему? Даже для того чтобы играть в хоккей или лаун–теннис, нужна гнущаяся рука. А тем более–она нужна для борьбы…
К чему все эти тренировки с берёзовым идолом, пятнадцатикилометровые прогулки и ограничения в желаниях? К чёрту!..
Верзилин доплёлся до дому, медленно разделся и уткнулся лицом в подушку.
7
В эту зиму в Петербурге было много пожаров. Вскоре после того как горели керосиновые склады на Голодае, возник пожар на Петровском острове — на пивоваренном заводе «Старая Бавария». В одну ночь сгорел огромный сарай, под которым находился ледник.
Верзилинская хозяйка бегала по льду Малой Невы к месту происшествия; сам же он опять остался дома, глядя через оттаявшее стекло на бледные сполохи огня. То ли пожар был меньше, то ли мешало здание канатной фабрики, но почти не было ничего видно, и Верзилин вскоре лёг спать.
Зато буквально через день, совершая прогулку (скорее по привычке, чем по необходимости), он оказался свидетелем огромного пожара в Полюстрове. Горел двухэтажный корпус пробко–лакового завода Тригельмана и К°. Пожар возник на первом этаже, в машинном отделении, затем перебросился в прессовочное и пробко–резочное. Когда Верзилин подошёл к заводу, тот пылал как факел. Языки огня рвались в свинцовое небо, ветер бросал дым в толпу. Метались раздетые рабочие, мелькали золотые каски пожарников. Худой растрёпанный человек в пенсне визгливым голосом требовал чего–то от брандмейстера; тот отмахивался от него и отдавал команду. Струя воды била в обледеневший забор. Растрёпанный налетал на собеседника как петух, потом махнул рукой, в отчаянье закрыл трясущимися руками лицо.
— Плачет! — крикнул кто–то рядом с Верзилиным восторженно.
— Заплачешь, — отозвался другой. — Тут десятки тысяч с дымом уходят.
В толпу врезался рысак; извозчик осадил его с ходу. Из пролётки вывалился тяжёлый толстый человек в дорогой шубе с воротником шалью, подскочил к растрёпанному, стукнул его перчатками по лицу так, что у того слетели пенсне и шапка. Не подбирая их, избитый качнулся и боком, будто падая, зашагал в сторону. Крупный городовой, грудь которого была увешана медалями, вытянулся перед приехавшим; тот почему–то ударил городового и, не глядя ни на кого, словно помешанный, торопливо пошёл прямо в огонь. Струя воды сбила с него котиковую шапку, ударила в широкую спину; кто–то подхватил его под руки, повёл к извозчику.
Всё это произошло в какую–то минуту; затем Верзилин услыхал:
— Дом! Дом горит!
Толпа повалила в сторону, увлекая его за собой.
Худенький пожарник, толкнув Верзилина, подбежал к домику, неловко двинул кулаком по раме и, видимо разрезав руку, поднёс её тыльной частью ко рту и стал сосать. Из–за дома появился его напарник, огромный — борцовского роста и комплекции, — и навалился на дверь; она, словно картонная, провалилась в темноту; пожарник, согнувшись, шагнул на неё, как на плот… Худой всё сосал руку, когда он появился в пролёте дверей, неся перед собой пузатый комод; дым обволакивал его голову, заставляя жмуриться, тяжело дышать.
Поставив комод косо на снег, он заметил приятеля.
— Тудыть твою в переборку! — заревел он. — Медведь, лапу сосёшь!
Худой испуганно покачнулся, полез в дымящийся дом; подгоревшая балка глухо стукнула его по блестящей золотом голове, он вяло качнулся; детина подхватил его под мышки, отбросил в сторону, как слепого котёнка. Потом оглянулся, ища подмоги, выругался.
Двое в торчащих коробом брезентовых костюмах подкатили катушку, за которой тянулась кишка рукава. Струя ударила в крышу, сбила снег, заплясала по бревенчатой стене, нащупала окно. Зазвенели стёкла; из чёрного квадрата окна выбросился кусок серого дыма.
Борец в гладиаторской каске появился в дверях, приседая, чтоб не стукнуться о притолоку, таща на спине окованный железом сундук. Сундук был так громоздок, что у Верзилина мелькнула мысль: «Не донесёт». И действительно, гладиатору, видимо, трудно было одному удержать эту тяжесть, он беспомощно, как бы ища поддержки, взглянул на Верзилина.
Верзилин принял груз на руки. Через мгновенье, когда сундук стоял на снегу, детина выхватил брандспойт, нацелил его в двери. Струя запрыгала, забилась, зашипела, загоняя огонь обратно в дом.
— Так держи! — рявкнул детина. — Раззява!
Кивнув Верзилину, он побежал к соседнему дому. Расталкивая людей, хрустя вещами, завязанными в узлы, детина бросился по ступенькам крыльца.
С каким–то озорным мальчишеским чувством Верзилин в два прыжка настиг его у дверей. В глазах обернувшегося детины не было удивления.
«Правильно, идём», — говорил его взгляд.
Комнаты были полны дымом; из дыма появился мужчина в телячьем полупальто, с охапкою вещей. Споткнувшись в полумраке о порог, рассыпав вещи, покатившиеся со звоном под ноги Верзилину, он зло выругался. В руках у него остался один самовар. Мужчина сунул его на пол, подскочил к сдвинутому с места комоду, начал вытаскивать ящики; вбежала простоволосая женщина в рваной шубе, стала хватать из комода бельё.
Верзилин не успел оглядеться, как на его спине оказался комод.
Гладиатор толкнул его в бок, сказав уверенно:
— Доволокёшь!
Задыхаясь от дыма, пошатываясь, Верзилин пересёк комнату, спустился по ступенькам.
Хозяйка семенила рядом, причитая что–то неразборчивое.
— Цыц! — цыкнул на неё давешний щуплый пожарник, которого огрела подгоревшая балка.
Он помог аккуратно составить громоздкую коробку комода, побежал вслед за Верзилиным.
Гладиатор вышиб окно и швырял наземь стулья, этажерки, картины.
— Ларь! Ларь! — кричал подпрыгивающий рядом с ним хозяин. — Один ларь оставили!
Детина сунул напарнику зеркало, заспешил куда–то. Хозяин семенил рядом с ним. В дверях оба неловко сшиблись. Затем Верзилин в глазнице окна увидел полюбившегося ему детину: пошатываясь, тот нёс по ступенькам дощатый ларь.
Впоследствии он часто пытался понять, почему именно эта картина запечатлелась в его памяти как самая неправдоподобная из всего виденного им в этот вечер, и решил, что из–за неестественно громадных размеров ларя.
Всё остальное уже скользило по поверхности его памяти.
Он помнил только, что они с гладиатором долго ещё таскали тяжёлые вещи; им помогал худой пострадавший пожарник и ещё кто–то.
Потом, когда уже всё кончилось, они сидели с гладиатором на пустой железной койке, ушедшей глубоко в снег тонкими ножками. Ларь стоял рядом, крышка его была откинута, — он доверху был наполнен разноцветными пачками планок для гармоник и множеством коробок. Верзилин раскупорил две из них — там оказались маленькие гвоздики с медными шляпками в виде ромашек и серебряные лады.
Мужчина в телячьем полупальто топтался рядом, почему–то стараясь выхватить из рук Верзилина коробку. Он, видимо, был хозяином этого ларя, только гладиатор не признавал его прав и хозяином именовал Верзилина.
Народу на улице стало меньше. Светила луна, и, хотя из небольшого облачка крошилась мелкая крупа, было светло. На грязном утоптанном снегу чернели головешки, обломки мебели, какие–то тряпки.
Гладиатор всё говорил о чём–то, но Верзилин не слушал его, глядя задумчиво на чёрную слепую коробку фабрики; в глубине сознания маячил чей–то образ, и Верзилин не мог понять — чей: его, Верзилина, каким он был в прошлом году, или какого–то знакомого борца. Этот образ чем–то беспокоил, напоминал о каких–то мечтах, но всё время расплывался, ускользал. И от этого было неспокойно.
Гладиатор, настойчиво тянувший у него из рук коробку с гвоздиками–ромашками, неожиданно выпустил её, повернулся на возглас:
— Тригельман–и–ко!
Это прозвучало, как «Тригельманишко».
Верзилин ожидал увидеть прискакавшего на рысаке толстяка, но вместо него появился растрёпанный господин, с которого толстяк сшиб пенсне; он близоруко щурился, и какой–то бородатый мужчина в меховой дохе поддерживал его за локоть. Толстяк шагал сзади, и непонятно было, кем он был и как он осмелился ударить хозяина фабрики.
Верзилин спросил о нём у гладиатора, и оказалось, что две последние буквы на вывеске фабрики «Тригельман и К°» и есть толстяк, — он был компаньоном; будто он приехал из ресторана и был пьян.
Проводив обоих — Тригельмана и К°–глазами, гладиатор похлопал себя по брезентовым штанам, вздохнул:
— Закурить бы, эх!
Верзилин вспомнил, что купил сегодня коробку южных папирос «Керчь» с цветной панорамой города и порта на крышке, и достал их из кармана. Сам — к удивлению пожарника — курить не стал.
Закурив, гладиатор снял каску, обтёр огромной ладонью стриженую тёмную голову.
Верзилин решил, что он похож на солдата; это сходство усиливали небольшие пшеничные усы.
Затягиваясь, глотая широкие кольца дыма, пожарник сказал:
— После хорошей работёнки закурить — нет ничего лучшего, — и добавил: — Или бы стакашку русской горькой… Эх!..
— Хорошо работали, — искренне согласился Верзилин, с удивлением думая о том, почему у него не болит рука.
— Работа, конечно, не зверь, в лес не убежит, — сказал пожарник. — Но коль уж пришлось работать, так надо до конца…
— Татауров! — крикнул кто–то. — Тебя начальство ищет.
Гладиатор вскочил, швырнул в снег папиросу и бросился
вдоль по улице, на ходу поправляя каску.
На дороге ему встретился брандмейстер, ударом небольшой сухонькой руки остановил на полпути его огромное борцовское тело, затопал ногами.
Съёжившись, прячась за ларь, давешний худой пожарник произнёс горько:
— Обратно ругает Ваньку… Вот ирод… Чисто ирод…
— За что? — спросил Верзилин.
— Тригельман–и–ко сгорел… На пятьдесят тыщ убытку, а мы, вишь, виноваты, почему барахлишко у жителей спасали… Ирод… Чтоб его балкой по башке тюкнуло…
Это пожелание заставило Верзилина улыбнуться.
— О горе ты моё! — вздохнул пожарник. — И пристав Охтенской части припёрся… Ну, ничего хорошего не жди…
Рядом ржали лошади, причитала женщина, плакал ребёнок.
Около вещей шныряли мальчишки, и околоточный надзиратель махал на них руками.
Верзилин поднялся (скрипнула железная кровать), потягиваясь, пошёл к Новому Арсеналу — на трамвайную остановку.
Только сейчас он почувствовал, что плечи его ноют; но рука по–прежнему не болела.
Она начала болеть дома. Но это, так же как и грязное пальто, не могло изменить радостного настроения.
В первый раз за многие месяцы он спокойно заснул. Перед сном успел подумать: «А хорошо бы такого добродушного богатыря иметь рядом».
8
— Тяжёленький у вас саквояжик — соответствует вашим размерам, — почтительно–фамильярно сказал Верзилину гардеробщик.
Верзилин шёл с тренировки, поэтому спросил об умывальнике.
— Будьте любезны, пожалуйста, вот эта дверь, — гардеробщик откинул портьеру, склонился в поклоне.
Вытирая руки, машинально глядя в зеркало, Верзилин неожиданно отметил с удивлением: «А я ведь стал поправляться… Смотри–ка, шея–то скоро будет, как… у Вани Татаурова…»
Странно, почему этот человек, которого он видел в жизни раз, вспоминается ему сейчас каждый день?
Задумавшись, Верзилин не обратил внимания на почтительно согнувшегося гардеробщика.
Зал ресторана оказался пустым. Официанты поднялись, ожидая, за чей столик сядет посетитель. Тёмные деревянные панели усиливали полумрак. Был тот любимый Верзилиным предвечерний час, когда вот–вот включат свет.
Неторопливой походкой человека, знающего себе цену, Верзилин шёл по залу, словно по манежу.
Самым уютным местом ему показался столик в углу, подле небольшой фарфоровой вазы.
Официант неслышно положил перед ним карточку закусок и обедов, деликатно замер в стороне.
Верзилин с удовольствием отметил, что выбор большой, поесть можно хорошо.
— Яички свежие? — спросил он официанта, полуобернувшись.
— Не извольте сомневаться.
— Два сырых. На закуску, — он задумчиво побарабанил пальцами, спросил: — А что вы скажете насчёт куриного бульона?
— Первый сорт.
— Тогда возьмём его… Ну, а что бы вы лично себе ещё заказали?
— А я, имея вашу комплекцию, заказал бы всё, что есть в нашей кухне, — пошутил официант.
— О, — сказал Верзилин, — у вас большие аппетиты.
— С вашего позволения, это ваш аппетит.
— Да вы, я вижу, шутник… Давайте попробуем ваш бифштекс. А к нему в гарнир — зелёный горошек добавим. И скажите, чтоб гарнир без перца. Как думаете, не хуже?
— Перец, конечно, он что? Одна видимость. Пищи в нём нет.
— Вот именно. Пищи в нём нет, а пить после него хочешь.
— Под яичко зубровочки подать? — спросил официант.
— Нет, зубровочки не надо. Давайте так договоримся — стакан молока.
— Что ж, оно и лучше без вина. Я и сам не любитель.
— То–то, приятель. А?
Поклонившись, официант удалился неслышными шагами.
За окном виднелись мрачный красный брандмауэр, телеграфный столб и деревянный забор, на котором лежал грязный снег.
«Что я так разговорился? — подумал Верзилин. — Давеча с хозяйкой, сейчас с официантом. Старею? Или настроение хорошее?.. И с чего бы ему быть хорошим? Рука болит, на манеж не вернуться…»
Глядя на стеклянную стойку, на тёмные бутылки на ней, повторил несколько раз задумчиво: «На манеж не вернуться… На манеж не вернуться…» — словно стараясь себя уверить в этом. Однако настроение себе этим испортить не смог.
Официант поставил перед ним хлеб и две рюмки с яйцами. Разбивая скорлупу, Верзилин сказал:
— А пусто что–то у вас, а?
— Не на бойком месте — поэтому‑с.
— Не прогораете?
— Никак нет. Попозже публика будет. И немало.
Официант принёс на подносе серебряный судочек, начерпал бульона в тарелку. Почтительно спросил:
— Свет не включить?
— Если можно — так оставьте… Так уютнее.
Бульон был действительно превосходный.
Когда дошла очередь до второго, Верзилин неожиданно для себя спросил:
— А пожарная часть у вас далеко тут, или как?
По–прежнему ничему не удивляющийся официант ответил:
— Рукой подать.
— Рукой подать?.. Ну а на Охте — пожарной части нет?
— Никак нет.
— Значит, если там загорит, от вас едут гасить?
— Так точно, от нас, с Выборгской.
— А к примеру, на днях завод у Тригельмана сгорел, в Полюстрове… Так это ваши гасили?
— Наши, — уверенно ответил официант.
Отложив в сторону вилку, Верзилин спросил:
— А если мы кого–нибудь пошлём до пожарной части и вызовем одного человека? А? Возможно это сделать?
— А почему нет? Всё в наших руках… Записка будет?
— Нет, записки не будет… А надо вызвать пожарника по имени Татауров… Иван его зовут… И сказать, зовёт, мол, человек, с которым они у Тригельмана познакомились…
— Это мы устроим.
— Конечно, у них распорядок. Могут не отпустить.
— Это уж известно.
— А может, и отпустят.
— Это уж как есть.
Верзилин проводил официанта глазами; принялся за бифштекс, подбирая корочкой соус.
«Эк, разговорился! — упрекнул себя с усмешкой. — А почему, чёрт побери, мне не поговорить? Больше полугода молчал… Этак и совсем можно разучиться говорить».
«Не приведут», — неожиданно решил он огорчённо и понял, что всё время думает о гладиаторе.
И так каждый день… А ведь никаких определённых планов на счёт этого детины у него нет…
«Нет есть, есть! — неожиданно одёрнул он себя. — Я натренирую его, сделаю из него борца и выпущу на манеж. Я отдам ему всё, что знаю. Это будет второе рождение Ефима Верзилина. Я ему дам своё имя. Выступления его будут блестящими, как фейерверк!»
— Бутылку коньяку! — сказал он подошедшему официанту. И когда тот повернулся, чтобы выполнить приказ, спросил: — Ну как? Придёт?
— Ушли‑с.
— Хорошо. Давайте вино. Да побыстрее.
Сейчас он торопился, горлышко бутылки брякало о стекло пивного бокала, когда он наливал коньяк.
Выпив, он ещё раз наполнил бокал и ещё раз выпил. И только после этого расправился с остатком бифштекса.
— Ещё порцию!
— Может с перчиком?
— А! Всё равно. Давайте с перчиком…
Пахло лавровым листом, перцем, томатом.
«Не приведут», — тоскливо подумал Верзилин, сердито отвернулся, взглянул в окно.
Он не пил уже несколько лет и думал сейчас, что хмель ударит ему в голову, но, к своему удивлению, пока опьянения не почувствовал.
«Я потому и разговорился, потому и шикую, потому и духа не теряю, что наконец–то нашёл выход», — подумал он.
— Пришли‑с, — почтительно произнёс над ухом официант.
Здоровенный детина, по костюму напоминающий приказчика, стоял в рамке освещённых дверей и приглядывался к полумраку зала. Для Верзилина гладиаторская каска и брезентовый костюм были так неотделимы от Ивана Татаурова, что он сначала не узнал парня.
— Не зажечь свет? — спросил официант.
— Иван, будь ты неладен, иди сюда! — крикнул Верзилин.
— Доброго здоровья, — сказал Татауров, и лицо его расплылось в улыбке.
— Иди, иди.
— А я‑то не пойму, кто меня звал…
— Да садись, садись… Ишь ты какой… богатырь… Прибор один. И порцию бифштекса. И бутылку вашей хвалёной зубровки… Ну, так как дела, гладиатор?
— Чего это?
— Гладиатор, говорю… Это я так тебя тогда прозвал. Потому что каска у тебя золотая… как у гладиатора.
— Дак что — отдыхаем… пока пожара нет.
— А отдохнуть–то ты, видно, любишь?
— Дак ведь кто не любит… это самое… ежели… — сказал неопределённо Татауров и положил огромную руку на белую скатерть стола. На тыльной стороне его ладони была вытатуирована бабочка.
— Ты в пожарные, наверное, пошёл, чтобы меньше работать, чем в другом месте? — спросил Верзилин.
— Ученьями мучают… Уйду… В охрану, на завод к примеру. Там только сиди…
— Так зато и платят за одно сиденье меньше… Эх, Ваня, тебе бы грузчиком работать — зарабатывал бы, наверное.
— Работал.
— Ну и что?
— В охрану пойду. Там, как в пожарной, харчи и одежда готовая, а только сиди…
— А ты лучше ко мне иди.
— Куда это? — подозрительно спросил Татауров. — Грузчиком? — Верзилин откинулся на спинку стула и громко рассмеялся.
— Борцом.
— В цирк, значит? — спокойно поинтересовался парень.
— Ишь, шея–то… как у быка, — через столик пригнул его к себе Верзилин.
— Так ведь и у вас… не хуже… тоже как у этого зверюги, — показал парень на бутылку, принесённую официантом, и позвякал пальцами по зубру, роющему землю копытами.
— Дай–ка я тебе молочка от этого зверюги налью.
— Благодарим покорно. Как раз после баньки — хорошо.
— Ну, после бани, сам Пётр Великий говорил: хоть укради, да выпей.
— А себе?
— И себе налью. Ради встречи почему не выпить?.. Бифштекс готов?
— Будьте любезны… Лимончика к коньячку не изволите?
— Так что, Ваня? Идём ко мне?.. Нет, не в цирк… сперва. Сперва не в цирк. Сперва — ко мне. А? Я из тебя борца сделаю. А потом — бороться. Во всех цирках… Даже у Чинизелли. Знаешь цирк Чинизелли? А?
— Знаю.
— Вот даже у него будешь бороться… Так постараемся, всех победишь… И Александра Мальту победишь… и других. Ничем больше не будешь заниматься, только борьбой… Как в Древней Греции… Эх, Ваня, вот где ценили силу, ловкость и красоту человеческого тела… И памятники победителям ставили, и на фресках изображали… всё равно как фотография… и на вазах… Свет включите, пожалуйста… Эх, жалко… это разве вазы… А ещё древние считаются… Одни орнаменты… Цветы разные да птицы. А есть вазы, где борцы изображены… или дискоболы… Одним еловом, спортсмены… Выпьем за спортсменов, Ваня… Так хорошо… Эх, давно я не пил, поэтому и опьянел, наверное… Я тебе такие вазы покажу… И памятники тоже… Скульптуры, иначе говоря… Эх, Ваня, пойдёшь ко мне? А? Ну, скажи?.. Ты ведь боролся когда–нибудь?.. Конечно, я так и знал. Такой богатырь не мог не бороться… Так по рукам? Идём? А? Я тебя от всего освобожу… Деньги пока ещё есть… Путь твой будет блестящим, как фейерверк. Везде портреты… И в магазинах, под стеклом. Даже у Елисеева… И в газетах, и в афишах… аршинными буквами… А звать тебя будут Ефим Верзилин… Потому что я так хочу. Слыхал о таком борце?.. Слыхал… Ах ты, дорогой мой гладиатор… Дай я тебя поцелую…
9
Комната сразу же оказалась мала, чего не ощущалось при борьбе с послушным берёзовым идолом.
— Куда ты к чёрту вырываешься! — раздражался Верзилин. — Ты борись, а не бегай по комнате!
Татауров засопел, обхватил учителя, приподнял над полом, но Верзилин выскользнул, сказал, тяжело дыша:
— Эх!.. Ты всё берёшь на силу… потому что восемь пудов в тебе. А надо — взять на приём… Видишь, у меня рука плохо сгибается и я легче тебя… а тебе не удаётся… одолеть.
Один раз он швырнул через себя Татаурова так, что тот рассадил в кровь половину лба.
Неожиданно парень рассердился; отирая кровь рукой, зло заявил:
— Что уж так–то?.. Довольно!
И усевшись на пол, прислонившись спиной к стене, запел:
Зачем ты, мать, меня родила,
Зачем на свет произвела,
Судьбой несчастной наградила,
Костюм матроса мне дала.
Ведь нас, матросов, презирают,
Нигде проходу не дают,
И нами тюрьмы наполняют,
Под суд военный отдают.
За пять дней Верзилин изучил все татауровские песни. Пел он всегда печальное и всегда о моряках. Эти песни и богатая татуировка заставляли думать, что парень служил во флоте. И странно было слышать, что Татауров почти не умеет плавать, вырос вдали от моря — в Вятской губернии, в деревне, где речку куры вброд переходят… О себе он рассказывать не любил. Впрочем, он вообще предпочитал молчать. Когда Верзилин его расспрашивал, он молча улыбался.
— Так чего уж рассказывать–то? Нечего… — говорил он, разводя руками. — В пехоте служил… А так–то уж нигде не работал…
— А у пожарников?
— Вот разве у пожарников…
— А где тебе наколку сделали? В армии?
— Наколку?
— Да.
— Нет, зачем в армии. Это я когда грузчиком работал… в порту…
— Так ты же сказал, что нигде не работал, кроме как у пожарников?
— Так я там недолго, одно лето.
Татуировкой он гордился.
— Ты как маори, — сказал ему Верзилин.
— Чего это?
— Маори, говорю. Есть такое племя в Новой Зеландии; очень татуироваться любят… Я тебя буду звать Татуированный. Татауров — Татуированный, здорово! У тебя и фамилия–то от этого слова происходит… Эк тебя разрисовали!..
На груди Татаурова была голубая красавица с распущенными косами и рыбьим хвостом, окружённая окаменевшими волнами; на спине — большой крест, якорь и сердце, обрамлённые словами: «Вера, Надежда, Любовь»; на плечах были компасы, кинжалы, женщины, сердца, пронзённые стрелами; на тыльной стороне ладоней — огромные мотыльки, а под ними, на костяшках пальцев, имена: на правой руке — «Иван», а на левой — почему–то нерусское имя «Луиза»; даже на ягодицах был изображён большой кот, бросающийся на мышь.
— Тебя хоть сейчас в паноптикуме выставляй, — сказал Верзилин. — Или в Петровской кунсткамере.
Татауров улыбнулся.
— Давай тебе ещё на щеках и на лбу наколем, а?
— Так не накалывают, — вполне серьёзно ответил Татауров, и казалось, он хотел сказать: «Если бы накалывали, я бы — со всем удовольствием».
— А напрасно. Вон маори даже веки татуируют. Так что они тебе сто очков вперёд дадут.
— Так они нерусские… Я одного моряка… нерусского в трактире на Курляндской видел… Он за кружку пива раздевался… так живого места нет…
— Вот бы тебе так, а?
Верзилин дружески похлопал Татаурова по плечу.
Было приятно сознаться себе, что татуировка Ивана ему нравится так же, как нравятся его печальные моряцкие песни. Да что там — ему всё нравилось в этом парне и доставляло радость заботиться о нём, как о сыне. Даже флегматичность Ивана не раздражала, потому что и это давало возможность его опекать.
Верзилин подарил ему свой хороший костюм и котелок, купил кровать, установил её в маленькой комнате.
Первые дни прошли в каких–то ненужных хлопотах, в знакомстве. Затем приступили к занятиям.
Радовало, что Татауров умел работать с гирями; правда, делал зарядку он без большой охоты, но добросовестно. Когда он «крестился» гирями, голубые девицы на его бицепсах томно извивались.
— Девять… Десять… — считал Верзилин. — Ещё десять осталось.
Без этого счёта, без подбадриваний, без наставлений обойтись было нельзя. Случалось, что парень во время гимнастики останавливался или присаживался на пол и, если Верзилин не напоминал ему о себе, мог подолгу сидеть, ничего не делая. Верзилин поднимал гирю раз, другой, третий, а Татауров всё сидел и сидел.
— Иван! — говорил Верзилин.
Тот безропотно вставал, продолжал зарядку.
— Ты пойми, — горячо объяснял ему Верзилин, — это ведь не для меня, а для тебя… для тебя самого… Моя песенка спета, мне можно и не заниматься. А вот ты без занятий никуда не денешься. Развивать тебе надо твою силу… Развивать… Только тогда ты сможешь стать чемпионом. Ты должен заболеть этой мечтой, понимаешь? Заболеть. Иначе ничего не получится… Всё отдать ради этого, понимаешь? Если я тебе двадцать раз велю гирю поднять, то ты двадцать пять раз подыми… Понимаешь, а? Только тогда станешь чемпионом… Знаешь, как Поддубный делает? Вот то–то… Ты должен развивать силу, которую тебе природа дала. Мышцы должны быть стальными… Самое главное — заболей мечтой. Больше ничего не надо. Остальное всё придёт…
Матчи борьбы по–прежнему проводились в отсутствии хозяйки. А так как была зима и корова стояла в хлеву, хозяйка уходила из дому в самое неопределённое время; возвращалась она тоже неожиданно, и Верзилин всякий раз прекращал борьбу.
Только однажды, когда Татауров, выведенный из себя шпильками Верзилина, остервенело бросил его на опилки, застланные брезентом, и навалился всей тяжестью, стремясь подогнуть его руки, смять, опрокинуть, Верзилин, услыхав шаги пришедшей хозяйки, решил всё же не кончать матча, а дать возможность парню раз в жизни насладиться заслуженной победой.
Верзилин стоял на четвереньках, втянув в плечи шею, а Татауров, хрипя, ругаясь, пытался оторвать его от пола, свернуть ему голову, подогнуть руку, задавить своим весом.
Но ничего не помогало. Верзилин стоял как вкопанный. Он и сам сейчас решил бороться до победы. Чувство злости на ученика, не способного воспользоваться преимуществом, заставляло Верзилина, сжав зубы, забыть о боли.
Татауров оказался упрямым, но не меньше его был упрям учитель.
Прошло десять минут, двадцать, полчаса.
Больная рука, казалось, онемела.
Прошло ещё десять минут.
Вдруг Татауров обхватил его одной рукой за шею, другую подсунул под руку, рванул, — и Верзилин оказался опрокинутым; уже не было сил сопротивляться, и он почувствовал, как его мокрые лопатки прижались к холодному брезенту.
Татауров сжал его шею руками и, тяжело дыша, хрипел:
— Что, получил?.. Получил?..
— Пусти, идиот! — оттолкнул его не на шутку испуганный Верзилин. — Прими руки! Ты борец, а не бандит, зачем душить–то?
Через десять минут они сидели за столом, горячо обсуждая случившееся, и хозяйка удивлённо посматривала на них через полуоткрытую дверь.
Татауров, обычно отказывающийся от простокваши, с удовольствием хлебал её ложкой, приговаривая:
— На хитрость пошёл… Вижу, вы замерли, думаете, я всё одним манером, а я — нарочно! Вы успокоились — а я иным — раз!..
— Скажи спасибо моей руке. Если бы не она, ничего бы тебе не сделать.
— Да что там рука! Уж загнал вас в партер на целый час, какая бы рука ни была — всё равно устали, а я на вашей спине отоспался.
Видя его радость, Верзилин не стал напоминать Татаурову о том, как тот задыхался, сопел, был беспомощен. «Пусть это вселит в него уверенность в своих силах», — решил он. И подумал, что в день знакомства Татауров был таким же оживлённым. «Гладиатор ты мой… татуированный», — подумал он.
Прогулка, которую так не любил парень, была весёлой. Они дошли до лесистого берега Лахты и там сразились ещё раз. В этот день Татауров, пожалуй, в первый раз не сетовал на свой тяжёлый саквояж, гружённый, как того требовал Верзилин, галькой.
Верзилин расчувствовался. Вернувшись домой, показал ему Нинины фотографии и афиши. Видя восхищённый взгляд Ивана, подумал: «А что, если бы ты видел её в жизни!.. Нина, милая Нина, в чём бы ты ни была виновата, всё равно люблю».
На другой день они снова боролись до победного конца, перестав делать из этого тайну от хозяйки.
Верзилин относился к этим схваткам всерьёз и поэтому каждый раз выходил из них победителем. Но Татауров вскоре снова охладел ко всему, и чувствовалось, что он просто добросовестно выполняет неинтересную для него обязанность. Сколько ни пытался Верзилин разжечь в нём азарт–ничего не помогало. Не действовали на него обидные реплики, не прельщала заманчивая перспектива стать чемпионом.
— Эх, — вздыхал Верзилин, — с твоими данными можно чудеса творить! Куража у тебя нет.
Однажды он нарочно поддался Татаурову, и это снова превратило парня в радостного мальчишку. Потирая натруженные руки, размазывая пот, он говорил восторженно:
— Опять на хитрость я пошёл…
Он так был убеждён в этом, что заставил Верзилина усомниться: «А может, я в самом деле ему не поддавался?»
И лёжа ночью без сна, он мечтал, как выпустит Татаурова на манеж, как тот уложит Мальту и, не снимая маски, заявит, что он — Ефим Верзилин, и что борьба должна быть честной, потому что это спорт, а не коммерция, и как Мальта вместе со своим бароном будут посрамлены и изгнаны из цирка.
Теперь, чтобы поддержать в Татаурове необходимое настроение, он время от времени уступал ему.
Наступила весна, приближался борцовский сезон, и Верзилин обдумывал, где бы лучше выпустить своего ученика для пробных, неофициальных схваток. Он присматривался к газетам, ждал афиш, рассчитывая сделать это в каком–нибудь окраинном саду, вроде сада «Светлана» на Охте. Участие в таком второстепенном чемпионате должно было не только выявить силы Татаурова, но и несколько поддержать их финансовые дела, так как Верзилин приготовился, если это понадобится, к месяцам тренировок; во всяком случае, неподготовленного ученика он на манеж не выпустит… Если для этой цели им понадобится ещё полгода — пускай…
Неприятности начались неожиданно.
На вытаявшей земле подле завалинки Верзилин увидел груду разноцветной гальки. «Откуда она тут взялась?» — удивился он, и внезапная догадка сжала ему сердце. Он торопливо выдвинул из–под татауровской кровати саквояж и, открыв его своим ключом, убедился, что он наполовину пуст.
Рассерженный, Верзилин высыпал из него остальную гальку и засунул вместо неё пудовую гирю, не думая о том, что от такого груза саквояж может лопнуть.
«Я тебя проучу!» — решил он зло, войдя в кухню и подставив голую спину Татаурову, который уже стоял наготове с ведром в руках.
На прогулку они вышли как ни в чём не бывало; Верзилин нёс оба чемодана. И только на Крестовском острове, когда они пересекли Батарейную дорогу, поставил татауровский саквояж на снег.
Татауров молча взял его, покосился на Верзилина, но не подал виду, что всё понял.
Против Старой Деревни они по льду пересекли Малую Невку и вышли к железнодорожному полотну.
Татауров чаще обычного перекладывал ручку саквояжа из руки в руку.
У Лахтинского разлива Верзилин не вытерпел и спросил:
— Что–то ты сегодня, я гляжу, устаёшь, а?
— Да нет, — хмуро возразил парень.
— Ну–ну.
За дачей Стембока он заставил Ивана после зарядки стать в мост и, упёршись в землю головой и ногами, поднимать обе гири.
Иван исполнял всё безропотно.
Когда они шли обратно, ручка у саквояжа оторвалась.
Не останавливаясь, Верзилин сказал сухо:
— Гирю донеси так. А саквояж дома починишь.
Встретившаяся женщина с санками, гружёнными пузатыми мешками, с удивлением обернулась вслед двум огромным усатым мужчинам в хороших пальто, один из которых нёс в руке гирю.
— Видишь, — сердито сказал Верзилин, — посмешищем стал, на тебя смотрят.
Татауров, тяжело дыша, шагал сзади; отмалчивался.
Не оборачиваясь к нему, Верзилин ворчал:
— Балда, отсыпал гальку. А я ведь для тебя стараюсь. Не можешь понять, дурак, что это, чтобы мышцы рук жиром не заплывали. Чтобы в мышцах были одни… мышцы… Чтоб были они, как динамит.
Вечером Татауров отказался играть в шашки, не выходил из своей комнаты. Весь вечер он тянул заунывную песню о моряке, которого военный суд приговорил к расстрелу, и о его молодой жене по имени Маруся.
Верзилин, как обычно, попытался представить картину своей мести Мальте, но не смог.
Позже, сквозь сон, он почувствовал приятный запах табака и проснулся. Было темно. Только вдалеке за окном покачивался фонарь. Струйки дождя мелко ударяли в стекло. На кухне бренчала посудой хозяйка–полуночница.
Он повернулся на другой бок и заснул.
Утром Татауров безропотно обливался вместе с Верзилиным холодной водой и ел простоквашу; сам вызвался сходить на рынок за мясом, а после тяжёлой прогулки наметал снегом хозяйский погреб. Было видно, что он чувствует себя виноватым и старается искупить вину.
Так прошло несколько дней, пока Верзилин не застал случайно Татаурова на кухне с ведром в руках; закинув голову, тот пил воду большими глотками. Верзилин стоял в дверях, а парень, не замечая его, всё сильнее и сильнее закидывал голову, казалось, он хотел опустошить всё ведро.
Впервые в жизни злость заставила Верзилина забыть о всех других чувствах. Дождавшись, когда его ученик поставил ведро на пол, он пнул по нему с яростью, опрокинул его, закричал:
— Обманываешь! Обманываешь меня! Неблагодарный!
— Воды жалко! — сказала хозяйка, предусмотрительно скрывшись у себя в комнате.
— Не жалко! — крикнул, дёрнув на себя дверь, Верзилин. — А нельзя борцу пить воду! И он это прекрасно понимает и всё–таки меня обманывает!
Верзилин ушёл к себе, лёг на кровать. Почти два месяца потратил он на Ивана Татаурова и ничего не добился… И не столько за себя обидно, сколько за него. Борец с такими данными… Чёрт с ним, с самолюбием! Он должен сделать всё, чтобы превратить этого неуклюжего, неповоротливого парня в борца… Сделать всё…
Он уснул с мыслью помириться с Татауровым.
Во сне он видел какую–то невероятно красивую коробку папирос; будто он был победителем в чемпионате, и две девушки с косами преподнесли их ему на серебряном подносе. Потом он сидел в кабинете у самого Сципиона Чинизелли и угощал его папиросами. Он даже ясно чувствовал вкус этого табака.
Было обидно, что не дали досмотреть сон до конца.
Над ним склонился Татауров и, осторожно тряся его за плечо, говорил:
— Вам письмо, Ефим Николаевич…
Верзилин вскочил, протёр глаза. Сразу же узнал почерк. С хрустом разорвал толстый конверт. Из него выпала крышка от папиросной коробки, на которой были изображены три синих ласточки, и крошечный обрывок газеты с рекламой: «Восхищенье — не табак, убеждён, что это так: Дядя Михей».
— Ну и чёрт с тобой, — сказал он сердито дяде Михею; вытащил свою коллекцию.
Одна из коробок (с верблюдами на фоне египетских пирамид и пальм) показалась ему подозрительно лёгкой. Он задумчиво взвесил её на ладони, но потом вспомнил, что этими папиросами он угощал Татаурова после пожара.
До чего всё–таки интересная штука — коллекционирование. Какое богатство марок, фабрик и даже государств… «Постой, — подумал он, — вот папиросы, которые курил тогда Иван, — это «Керчь»; я же отлично помню, как покупал их на Охте, как раз недалеко от этого несчастного Тригельмана… Или они тоже отсыпаны из коробки?»
Он вскрыл коробку. Она была почти пустая, вместо вынутых папирос был засунут согнутый листок бумаги… Вот и вторая коробка; он её покупал тогда на Веденской… А вот и третья… Так вот почему по ночам пахнет папиросным дымом…
— Иван, — сказал он, открывая дверь в комнату Татаурова, — можешь забирать своё барахло и отправляться назад в пожарную команду.
— Ефим Николаевич! — воскликнул тот. — Ефим Николаевич, я виноват перед вами… Но простите на этот раз… Я не буду курить!
Странно было видеть этого огромного человека плачущим.
— Простите меня… Только на этот раз… Поверьте…
— Уйди!
— Ефим Николаевич…
— Уйди, я сказал!
Это была тяжёлая для обоих ночь, но наутро Верзилин сказал сухо, не глядя на ученика:
— Если хочешь, ещё немного попробуем. Но только чтобы выполнять всё, что я прикажу.
Потупив глаза, Татауров сказал:
— Ефим Николаевич, да я… — и махнул рукой.
Несколько дней всё шло как по маслу — обтирания, борьба,
прогулка.
В последних числах апреля в Лахте, когда они пережидали у шлагбаума поезд, идущий в Сестрорецк, из дверей вагона кто–то крикнул:
— Татауров! Ванька!
Они обернулись. Вагоны проплывали мимо. Где–то уже далеко, из дверей, махал рукой мужчина.
Татауров помахал ему рукой и в ответ услышал:
— Письмо! Письмо тебе есть из дому!
Иван неожиданно вспотел, тяжело задышал, вопросительно глядя на Верзилина.
Поняв его немой вопрос, тот ответил:
— Сегодня сходи за письмом.
Вернулся он поздно и сильно под хмельком. Верзилин хотел уже выставить его за двери, но парень молча, не глядя на него, протянул письмо.
Оно было написано неразборчиво и до того путано, что Верзилин с трудом понял, что у Ивана в деревне, где–то далеко в Вятской губернии, умерла мать и ему пишет сосед по поручению отца; просит его приехать повидаться со стариком.
Верзилин задумался, прислушиваясь, как в соседней комнате Иван напевал:
Напрасно старушка ждёт сына домой, —
Ей скажут — она зарыдает…
А волны бегут от винта за кормой,
И след их вдали пропадает…
Стало жалко Ивана.
Если в Вятском цирке есть чемпионат по борьбе, можно туда съездить. Это идея.
— Не горюй, — сказал Верзилин. — Может быть, мы… съездим к твоему отцу.
Несколько дней подряд он ходил в публичную библиотеку, которую на углу Невского и Садовой стерегли скульптуры мудрецов, и спрашивал свежие номера выходивших в Вятке газет. Первые страницы их были разукрашены клишированными рекламами синематографов, предложениями врачей, уговорами пить «Шустовскую рябиновку». Во всей этой мешанине не было ни одного намёка на чемпионат по борьбе; нельзя было даже узнать, есть ли в Вятке цирк.
Не сразу Верзилин догадался вернуться к подшивке за прошлый год.
Ни одна из газет за первые четыре месяца не принесла ему ничего интересного. И только в майской подшивке он, наконец, наткнулся на необходимое объявление:
«ЦИРКЪ
В четверг, 30‑го мая, большое особое представление с составом двух трупп. Вновь ангажированная труппа малороссов. Первый спектакль. Представление будет: «Кляте сердце, або гирка доля». Драма в 4‑х действиях, соч. Захаренко. В заключении «Закохани», водевиль в 1‑м действии с пением, хорами и танцами. Малоросская труппа под упр. Г. Дорошенко. Начало ровно в восемь часов вечера.
А. Коромыслов».
Верзилин перечитал объявление несколько раз: нет, о чемпионате ни слова… Ничего не было о борцах и в других объявлениях. Последнее из них относилось к пятнадцатому сентября, и Верзилин понял, что цирк Коромыслова в Вятке — временный, летний.
Надо было ещё посмотреть объявления театров и садов. Он был добросовестен и упорен — внимательно читал все объявления. Чего тут только не было! И гастроли художественно–пластических танцев известной танцовщицы–босоножки Ады Корвин в присутствии свободного художника–пианиста П. М. Виноградова, и выступления всемирно знаменитого, непостижимого, единственного в мире со своими невероятными опытами из тайн природы профессора магии Сан — Мартино де Кастроцца, и концерт тенора Давида Южина при участии баритона казённой Тифлисской оперы С. П. Евлахова, и предложение услуг для игр на концертах, балах и свадьбах оркестра попечительства о народной трезвости Вятского уезда… Не было только объявления о борьбе.
Он уже отчаялся и хотел на всё махнуть рукой, как неожиданно в конце пышной рекламы электротеатра «Одеон» увидел то, что ему было надо: «Помимо роскошной программы борьба одной пары по жребию. Вечерний сеанс с 10 часов вечера — выход короля цепей и две борьбы».
Итак, в Вятке боролись, как и в любом губернском городе Российской империи…
Верзилин спокойно закрыл шелестящую подшивку, поблагодарил библиотекаршу и спустился по широкой тёмной лестнице. Подле массивных дубовых дверей висела новенькая афиша. В полумраке она казалась тёмной, лишь жёлтое пятно льва было хорошо видно. У Верзилина захолонуло сердце. Нет, не Нина. Какой–то неизвестный «укротитель хищников». Удивляясь своей смелости, Верзилин поднялся обратно и попросил разрешения позвонить по телефону.
— Цирк Чинизелли? А почему нет гастролей Джимухадзе? — Он почувствовал, как у него дрожит голос.
Ответили равнодушно:
— Джимухадзе давно выступают за границей.
Вот и всё. Только четыре слова, а сколько месяцев он не решался на такой звонок…
Он вышел на улицу. Светило солнце. Лучи его косо лежали на белых колоннах Александринки, припекали монумент Екатерины, поблёскивали в стеклянных коробках фонарей. Снег белел лишь по газону, под деревьями. Жёлтый торец мостовой был чистым.
Он вышел на Невский. На углу продавали подснежники. При взгляде на них хотелось плакать. Он не удержался и купил маленький букетик, от которого пахло свежестью…
С горба Аничкова моста, от Фонтанки, катили лёгкие весенние экипажи и такси. Огромная толпа двигалась по солнечной стороне к Гостиному двору, к Думе. Толчки обгоняющих и встречных заставили Верзилина подумать, что он слишком медлителен для этой толпы. Он улыбнулся своей мысли, но не прибавил шагу.
«Нина, где же ты, Нина?»
10
Вятка встретила их колокольным перезвоном, звуками гармоник н пьяными песнями. Было начало пасхи.
Сколько бы впоследствии Верзилин ни пытался нарисовать в своём воображении этот город, всякий раз перед его глазами в первую очередь возникала цветная яичная скорлупа, щедро набросанная вдоль заборов. Яркости красок этой скорлупы не могла приглушить даже свежая зелень молодой травы.
Извозчик вёз их в гору.
Было знойно. Словно в светленьких лёгких облачках стояли буйно распускающиеся деревья. В чистой голубизне неба кувыркались белые голуби.
Две недели в Вятке стояла нестерпимая жара.
Извозчик сообщил об этом с неподдельным изумлением. Как все извозчики мира, он был словоохотлив. Вместо номеров Чучалова, адрес которых назвал ему Верзилин, он рекомендовал им номера «Восток». В центре города, сказал он, тоже на Николаевской улице, против молочного рынка; при номерах есть кофейная и столовая и — главное — там электрическое освещение.
— Ну, нас электричеством не удивишь, — сказал Верзилин. — Давай к Чучалову.
Чучаловские номера ему были дороги тем, что реклама их в газете была рядом с извещением о предстоящем борцовском чемпионате в Вятском цирке А. Коромыслова.
Они проезжали мимо величественного собора, который заставил Верзилина вспомнить о петербургском Исаакии.
Дубы, посаженные кольцом вокруг собора, казались рядом с его громадой игрушечными; их чёрные ветви были словно нарисованы на белоснежном его фоне.
— Александровский собор, — сухо объяснил обиженный извозчик.
Сразу за соборной площадью их глазам представилась сутолока рынка.
Разноголосый человеческий гам и ржание лошадей висели в воздухе.
Пролётка начала спускаться под гору. И здесь под заборами валялась цветная яичная скорлупа; ветер гнал вдоль улицы конфетные картинки, папиросные пачки, обрывки бумажек, подсолнечную и тыквенную шелуху, забрасывал всё это в выбоины и колеи дороги.
На круглой рекламной тумбе против остроугольной двухэтажной аптеки Бермана висела афиша: «Сильнейшие чемпионы мира и России». Верзилин молча ткнул в бок Ивана Татаурова, мотнул многозначительно головой.
В жёлтеньких крошечных ларьках, стоящих вдоль лога, шла бойкая торговля. Было много татар с крашеными бородами, в тюбетейках.
Извозчик свернул направо. Перед глазами раскинулась ширь' реки; то там, то здесь в воде стояли островки сосен.
Извозчик осадил лошадь.
— Приехали.
Неся перекинутые на согнутой руке пальто, с одинаковыми саквояжами в руках, в одинаковых шляпах, они поднялись по лестнице.
Здесь было полусумрачно и прохладно.
Из–за конторки подобострастно поднялась фигура портье.
Господам два номера, спросил он. Один? Любой. Со всеми удобствами. Он может рекомендовать угловой; окна выходят на центр города.
Старик в чёрной ливрее и белых гетрах подхватил их саквояжи, мягко зашагал по тёмному коридору.
Подойдя к окну, разглядывая двухэтажный каменный магазин Кардакова, стоящий напротив, Верзилин спросил, как им пройти в цирк.
— Квартал спуститесь по Николаевской, пройдёте лог и свернёте вдоль него; упрётесь в Царёвскую улицу; тут, на откосе, и стоит цирк Коромыслова, — объяснил лакей.
— А нельзя ли нам заказать парочку билетов на сегодняшнее представление? — попросил Верзилин, стягивая через голову тугую петлю галстука.
— Слушаюсь, — сказал старик и поклонился; фалды его ливреи взметнулись. — В какую цену?
— Если можно, первые или последние места первого–второго ряда.
— Слушаюсь. Но это будет нелегко — сегодня парад борцов. Билеты начали продавать неделю назад.
— Ну, какие сможете… Поставьте нам на счёт. А это вам за хлопоты, — Верзилин вытащил из кармана монету, протянул старику.
— Благодарим покорно. Вот вода, вот полотенце. Прикажете помочь?
— Нет. Ступайте. Так ждём билеты.
Умывшись, они спустились в ресторан. Сытно пообедали, поглядывая в окно.
— Я думаю, отдохнём? — спросил Верзилин.
— Пожалуй, — согласился Татауров.
— Да уж ты — я знаю. Отчего мужик гладок, — поел да и на бок.
Верзилин долго лежал без сна. Стоило прикрыть веки, как перед глазами снова мельтешили берёзы, окутанные паровозным дымом, койку начинало покачивать; чудился перестук колёс.
Итак, они в Вятке… В цирке Коромыслова борются чемпионы мира и России… Чёрта с два, чемпионы! Дан бог, если среди них найдётся хоть одно знакомое имя. Как всё–таки выступит Иван?.. Как бы ни выступил — этот чемпионат будет для него хорошей школой… Как быстро идёт поезд… Прощай, Петербург… Что–то нам принесёт Вятка?.. Гудок, — видимо какая–то станция… Всё — таки неудобно спать в вагоне — трясёт, дует откуда–то… Разве положить на ухо подушку?.. Всё равно слышно шум… Поезд идёт, идёт, идёт… Что–то будет в Вятке? Тук–тук–тук — отсчитывают колёса… Как надоел этот стук…
— Тук–тук–тук, — стучал кто–то осторожно в дверь.
Верзилин сбросил с головы подушку, торопливо приподнялся
на стук.
— Сейчас, — сказал он, опуская ноги на коврик.
Давешний лакей (в чёрной ливрее и белых гетрах) сказал в щёлку:
— Восьмой час… Всё изволите почивать… Представление в восемь.
Верзилин отступил в сторону, потягиваясь, зевая, пропустил лакея.
— Вот билеты. Самые лучшие места. Вот квасок, ежели с устатку пожелаете освежиться после сна.
— Иван! — крикнул Верзилин. — Вставай! Хватит спать.
Через несколько минут они уже шагали по притихшей замусоренной улице мимо жёлтых ларьков, увешанных тяжёлыми замками, как медалями.
Брезентовое шапито они увидели сразу же с угла, от аптеки Бермана.
Огромная толпа окружала деревянное здание цирка. Освещённые лампами, висели грубо размалёванные афиши… «Чемпион мира Иван Сатана».
Они пробрались через толпу под откровенный шёпот:
— Борцы… Борцы… Вот Сатана… Сам… Чемпион…
Складывая в карман корешки билетов, ткнув Татаурова в бок,
Верзилин сказал:
— Это тебя за Сатану приняли. У меня борода, а он — без бороды, судя по рекламе.
Цирк гудел.
Униформисты разравнивали граблями опилки.
Пахло вспотевшей лошадью.
Под куполом покачивалась никелированная трапеция.
Усаживаясь, пропуская Татаурова, Верзилин вздохнул: вот выйдут через два часа борцы на парад, и впервые среди них не будет его, Верзилина; странно.
Без интереса он смотрел выступление молодящейся наездницы в пачке, на женщину–каучук с гусиной кожей. Всё это ему было не в диковинку. За компанию со всеми он похлопал в ладоши… На арену выскочили воздушные гимнасты — муж и жена. Забрались под купол. Верзилин вздохнул — всё одно и то же, скорее бы борьба. Тонконосый гимнаст, похожий на Коверзнева, сидя на трапеции, держась за штамбер, приподнял руку, призывая к тишине. Цирк смолк. Только приглушённо звучал оркестр.
— Уважаемые госпожи и господа! — выкрикнул срывающимся голосом. — Я и моя жена работаем у уважаемого хозяина второй месяц, а не получали жалованья ни за один день…
В проходе засуетились две фигуры и, словно стукнувшись лбами, разлетелись в разные стороны. Одна из них — в чёрном фраке — всплеснула руками. Оркестр заиграл в полную силу. Гимнаст продолжал что–то выкрикивать, но его уже не было слышно.
— Пусть говорит! — зашумели в последних рядах.
— Дайте человеку сказать! Оркестр!
Раздался свист.
Оркестр продолжал греметь.
Гимнаст наклонился вниз и размахивал рукой, отчего трапеция начала раскачиваться.
— Пусть скажет! Дайте говорить! Крой их, не жалей!
Появились двое городовых, подбежали к ложе полицмейстера.
В гвалте не было слышно, что он им говорил, однако через минуту оркестр смолк.
Бледный, перепуганный до смерти тем, что он наделал, гимнаст сказал дрожащим голосом:
— Господин Коромыслов не платит нам деньги потому, что у него были маленькие сборы… А у нас двое крохотных детей, и нам нечего есть… Мы заехали в эту дыру и голодаем здесь, и не имеем возможности выбраться отсюда… Мы же не можем своим желудкам сказать, что потерпите, вот у господина Коромыслова скоро будет борьба и сборы станут битковыми, и мы будем покупать говядину, а для маленьких детишек молоко… Мы не можем умирать с голоду, и у нас лопнуло всякое терпение… И мы не уйдём отсюда, пока нам господин Коромыслов не выплатит наши деньги… Пусть он привяжет их сюда.
Гимнаст опустил на арену шпагат, раскачался на трапеции — тело его взмыло, зал охнул: «Разобьётся», а он уже схватился руками за трапецию жены и через секунду сидел рядом с ней. Конец шпагата вздрагивал над серединой арены.
— Отдать ему деньги! Своим хребтом заработал человек! Нет такого закону, чтобы не давать жалованье! Долой! Крой их, чего на них смотреть!
В шуме возмущённых голосов было слышно, как ломают скамейки. На арену полетели доски.
Прибежал, придерживая рукой тяжёлую кобуру, усатый пристав; сапоги его прогрохотали по ступенькам. Отдышавшись, поправив портупею, он скрылся в ложе полицмейстера. Потом выглянул, махнул рукой городовому. Тот понимающе кивнул головой, скрылся за занавесом. Оттуда вышел человек во фраке, поднял обе руки.
Шум смолк.
Человек сказал, что действительно гимнасты Элеанто в течение месяца не получали жалованья; это объясняется тем, что цирк не имел сборов, а все деньги вложены в новый реквизит. Господин директор надеется, что с начинающимся чемпионатом борьбы его дела поправятся и больше не будет ни одной задержки с выплатой денег. Жалованье гимнастам Элеанто вручается на глазах у всей уважаемой публики.
Он важно прошёл на середину манежа и привязал деньги к шпагату.
Аплодируя вместе со всеми, Верзилин подумал с благодарностью о полицмейстере: «Молодец, заступился». А десятью минутами позже, когда полицмейстер, перегнувшись через барьер ложи, крикнул приставу: «Взять! Увести!», сказал себе с едкой усмешкой: «Ах, вот ты каков! Знаем теперь, что стоит ваша благотворительность».
А клоуны Альперовы, не подозревая ещё ни о чём, балагурили на арене:
— Для кого нужна картошка? — спрашивал один.
— Для всех, — отвечал его партнёр.
— Нет, только для бедных.
— Почему?
— Да потому, что богатые с бедных шкуру сдирают. А бедным её сдирать не с кого, так они её с картошки сдирают.
«Ой, сдерут они её с тебя», — с тоской подумал Верзилин, видя, как пристав торопливо спускается по ступенькам.
А старый клоун, всё ещё ничего не подозревая, начал третью шутку, похлопывая младшего по плечу:
— Откормлю я тебя на местной картошечке и сливочках, подлечу в заречном сосновом бору и пошлю в помощники к Пуришкевичу…
Двое городовых бесцеремонно вышли на арену и, схватив клоунов за шиворот, поволокли их к выходу.
Свист и грохот потрясли цирк.
— Куда?! Вернуть! Долой фараонов!
Большого труда человеку во фраке стоило успокоить публику. И лишь только ссылка на то, что сейчас необходим перерыв, чтобы подготовить арену для борьбы, заставила всех подняться с мест и выйти на улицу.
Верзилин насупился. Настроение испортилось. Не думалось даже о предстоящей борьбе.
И люди, стоящие рядом, были возбуждены случившимся. Лишь звонок смог вернуть их в помещение. Рассаживались долго, с шумом; в задних рядах хихикали девицы; мещанки, подвязанные платочками, лузгали подсолнухи. Казалось, ничего не произошло несколько минут назад. Все ждали борьбы. И это было обидно.
Сквозь строй униформистов вышел высокий сутулый мужчина с чёрными волосами, с бородкой а ля Генри — арбитр.
— Ишь, какой… мушкетёр, — неожиданно для себя назвал его Верзилин.
Мушкетёр прошёл на центр арены, на ковёр, и, закинув маленькую голову, объявил многозначительно лаконично:
— Начинаем чемпионат французской борьбы! Парад, алле!
Оркестр грянул военный марш.
Неторопливой, развалистой походкой вышли борцы. Впереди шагал смуглый молодой красавец. На нём был выутюженный, с иголочки, безукоризненный смокинг и лакированные туфли. Был он пудов на пять, не больше. За ним шествовал крупный, неповоротливый бородач в красной рубахе; дальше — длинный борец с лошадиной челюстью, за ним — коренастый негр. Потом появился борец со странным, сразу же вызвавшим смех сложением — он весь состоял из шаров: лысая голова — шар, живот — шар, даже ноги — шары; чёрные с сильным вырезом трико открывало его волосатую грудь.
Верзилин знал: это комик. Перед борьбой вымажется вазелином, его будут бросать в опилки, опилки станут к нему приставать, это всё вызовет смех…
Борцы выстроились на арене. Смолкла музыка.
Мушкетёр медленно обвёл публику взглядом и произнёс:
— Молодой чемпион мира! Победитель чемпионатов в Париже, Риге, Брюсселе! Иван… Сатана!
— Ох и врёт! — с восхищением воскликнул Верзилин, ударив Татаурова по колену.
Татауров ничего не ответил. Он не спускал глаз с чемпиона.
«Ну что ж, правильно, — подумал одобрительно Верзилин, — присматривайся к нему, присматривайся».
Красавец в смокинге сделал шаг вперёд, наклонил голову под обрушившуюся на него лавину аплодисментов.
— Никифор Петюля! Чемпион Малороссии, победитель чемпионатов в Будапеште и Берлине!
Аплодисменты.
— Николай Соснин! Сибирский богатырь!
— Негритянский чемпион Бамбула — с острова Борнео!..
— Держись, Иван, — азартно произнёс Верзилин. — Мы всем им ещё покажем! — Он хотел добавить: «Это всё не страшно», — но не добавил из педагогических соображений. А потом подумал: «Впрочем, надо сперва именно внушить ему, что они слабые борцы. Это заставит его поверить в свои силы и поможет расправиться с ними. А когда он положит несколько человек, скажу ему задним числом, что они были самыми сильными, но я нарочно сказал, что они слабые… Вот так именно и сделаю», — окончательно решил он.
11
Хозяина чемпионата звали Дюперрен. Он охотно принял Ивана Татаурова в свою труппу, обещал ему платить по три рубля за выступление. В их устном договоре было одно условие: деньги после окончания чемпионата.
— Боится, что сбегу, — объяснил Татауров.
— Это уж всегда так… Ну ничего — целее будут, — успокоил его Верзилин.
Они стояли по соседству с цирком (брезентовое шапито его выглядывало из–за деревьев), подле оврага, отделённого от улицы деревянными перилами.
«Иван волнуется меньше меня», — подумал Верзилин с тревогой и не мог понять — хорошо это или плохо.
На сыром дне оврага, под ёлками, на утеху зевак, пасся облезлый тощий верблюд.
— Идём, — сказал Верзилин, отталкиваясь от перил и подхватывая саквояж, гружённый балтийской галькой. — А я, брат, отыскал объявление для тебя, — он похлопал по карману пиджака, в котором лежала газета, и процитировал: «Вятка — Слободской. Ежедневное отправление дилижансов одноконных. Четыре раза в день». А? Как тебе нравится? До Слободского, а? Там уж рукой подать, не так ли?.. Это, брат, находка.
— А его моль изъела… Я слышал сейчас…
— Кого?
— Да верблюда–то.
— Ты сам верблюд!.. Я ему о дилижансе, а он — «верблюд». Ты что — не хочешь к отцу ехать?
— Так после чемпионата.
— Само собой, после чемпионата… Вот на дилижансе и поедешь.
Они прошли целый квартал молча. Потом Татауров сказал:
— Десять раз по три рубля — это тридцать рублей
— Ну, и что бы ты купил на них? — сухо спросил Верзилин.
Татауров вздохнул, проводил глазами встречного в белом кителе и белой фуражке с красным околышем.
— Фуражку, что ли, такую? — сердито спросил Верзилин, — Так их не продают. Их дворяне носят, потомственные или личные. А ты не тот и не другой… И не будешь.
— Зачем — фуражку, — недовольно ответил Татауров. — Фуражка мне не нужна. У меня шляпа есть (он притронулся пальцами к шляпе). Вы меня одеваете, и я это ценю… А вот один бы раз посидеть этак… по–настоящему… Как мы с вами в первый раз сидели… в ресторане… А потом бы в бильярд сыграть…
— Эх, Иван ты, Иван, — вздохнул Верзилин. — Это уж моя ошибка, что пили мы с тобой тогда. На радостях это, что тебя нашёл… Будешь пить — выше этого чемпионата не подымешься. Всю жизнь будешь ходить в лакеях у Дюперрена да у… Вогау… А я тебя для большего готовлю. Разве это дело — три рубля за выступление и известность в Вятке? Вот самое лучшее, чего ты сможешь достичь…
Верзилин остановился на углу, ткнул пальцем в жёлтенькую афишку на рекламной тумбе. На афишке синими буквами было тиснуто: «Чемпион Иван Сатана».
— И всё… А что это? Только звонкое имя… Имя — это ещё ничего. Завтра и твоё имя громко прозвучит — Иван Татуированный! Прозвучит и отзвучит. Дай бог, если мальчишки вятские до следующего сезона не забудут. Не то это, Ваня, не то… Иван Поддубный — это звучит. Иван Заикин — это звучит. Вот чего надо добиться, Ваня… И я тебя приведу к этому.
— Господа циркачи, не прокатить? — раздался над их головами протодьяконовский бас.
— Да иди к шуту, не мешай, — беззлобно ответил Верзилин, не взглянув на извозчика, и подхватил Татаурова под руку.
Татауров остановился.
— Нам туда, — указал он на мощёную красивую улицу, упирающуюся в серый разлив реки.
— Туда?.. Ах да… Спасская улица. Правильно, номера Чучалова на углу Спасской и Николаевской… Спасибо, — он обернулся к извозчику в синем армяке и блестящем цилиндре, — нам рядом… Так вот, Ваня, видел вчера борца, которого за чемпиона Малороссии выдают? Здоров дядька, а? То–то. Поздоровее тебя. А обратил внимание на его сизый нос? Нет? Уверяю тебя, что он пьяница. И никакой он не чемпион. Платят ему за его рост и афишируют потому, что это Дюперрену выгодно. А ведь мог бы, наверное, и в люди выйти… да только вино помешало. Много препятствий на пути борца стоит… Один сопьётся, другой режима не соблюдает, а третьего возьмут да и укокошат… Сколько хочешь… Вон в Ницце в Ивана Поддубного пять лет назад один жулик стрелял. А в Париже в девятьсот восьмом — в Ивана Заикина… из пистолета. Конкуренты всё… Избавиться хотели… А одного моего приятеля в Мойку сбросили… Поперёк дороги одному тут барону встал вроде твоего Дюперрена… Да что далеко за примером ходить — твоего земляка Гришу Салтыкова соперники отравили. Приехали к нему в деревню, говорят: «Давай бороться». «Давайте», — говорит. «Пошли на гумно». А гумно крытое. «Зачем, — спрашивает, — на гумно? Здесь». «Здесь не будем, — отвечают. — Давай тогда чай пить». Чай, говорят, у них особенный… Ну и напоили, его этим чаем… Умер… А какой борец был! В чемпионате мира в Париже вышел на четвёртое место. Первое и второе Поддубный с Заикиным заняли… Это тебе не Иван Сатана… Видишь, сколько препятствий даже у тех борцов, которые упорно идут к цели. А я тебя от всего этого уберегу. Я тебя чемоданчик носить научил? (Верзилин кивнул на татауровский саквояж). То–то. И водой обливаться научил, и спать вовремя научил… И табак курить бросили, и вино пить… Завтра ты за всё это спасибо мне скажешь… Почувствуешь, наконец–то, необходимость всего этого. А потом самого Сатану положишь… И ещё зиму потренируемся так, чтобы кроме мышц, — таких, как динамит, — ничего не было… А там — держись, чемпионы!
Они шли навстречу простору реки, поглядывая на зеркальные витрины магазинов.
— Ну а насчёт бильярда — ты бы мне раньше сказал. Эта штука нам не повредит. Наоборот, взгляд твой сделает точным и расчётливым, приучит к спокойствию и выдержке. Сам я не играю, но с удовольствием посмотрю на тебя… Иди, иди первый — ты моложе меня и будто мой гость…
Верзилин распахнул дверь, одним пальцем левой руки сдерживая напор пружины. Взглянул на ученика. Тот поднимался по лестнице раскачивающейся сутулой походкой борца, неся в руке тяжёлый саквояж.
Через несколько минут они спустились в низкий зал ресторана, с удовольствием втягивая беспокоящий запах лаврового листа, перца и пива. Официант бросился к ним со всех ног, как к старым знакомым. Кивнув на дверь бильярдной, откуда доносился стук шаров, Верзилин спросил:
— А мы вас не обидим, если расположимся там? Или, может, вы нас сможете и там обслужить?
— К вашим услугам! Я вам сейчас накрою столик.
Усаживаясь, Верзилин сказал, кивнув в сторону официанта:
— А мне ихняя форма нравится. Что–то такое… традиционное. В Петербурге давно ни ливрей, ни гетр нету…
Татауров покосился на бильярд, ничего не ответил.
«Ну что ж! — подумал Верзилин, — изберём этакую поощряющую тактику… Всё–таки, как–никак, у парня завтра событие — первый раз на арену выходит». И когда официант принёс им закуску, заказал две бутылки жигулёвского пива.
— Две? — переспросил официант. — Пиво свежее‑с.
— Мы непьющие, — усмехнулся Верзилин. — Нам больше не выпить… Две бутылки. И молоко не забудьте принести.
Татауров подозрительно поглядел на учителя, отвернулся.
Затыкая за ворот салфетку, закинув голову, Верзилин сказал:
— Наливай себе.
— А вам, Ефим Николаевич?
— А мне не надо, — равнодушно заявил Верзилин. — Мне больше пользы от молока.
— Один стаканчик?
— Нет, нет… Это уж тебе за завтрашнюю победу. Авансом.
Татауров одним махом опустошил стакан.
— Пей, пей, — вздохнул Верзилин.
Татауров налил ещё. Выпил маленькими глотками — просмаковал. Переливая ложкой в тарелке суп, Верзилин говорил:
— Главное — выходи на манеж уверенным в победе…
В бильярдной стояла духота, под потолком клубился дым. Мужчина в голубом пиджачке и белом жилете с тиснёными розами сидел боком на бильярде, одной рукой лениво гоняя шары; за его спиной играли, азартно выкрикивая обычные и единственные в этой игре слова и переругиваясь.
Было видно, что Татауров целиком поглощён созерцанием игры, пропускает все слова мимо ушей, но хотелось говорить. Казалось, что они сидят тут давно и изрядно выпили, было легко и уютно; а слова рождались сами. Верзилин вновь рассказывал о судьбе борца–профессионала, и сам не мог понять, чем вызвано его сегодняшнее возбуждение.
Лентяй на бильярде, томно прищурившись, прижимаясь ухом к плечу, медленно тыкал кием шары, напевал какую–то песенку.
Один шар перескочил через борт. Лентяй нехотя поднялся, пересёк вслед за шаром комнату и принял его из рук старичка — маркёра. Проходя мимо, кивнул Верзилину:
— Разобьём пирамидку?
Верзилин поднял голову, встретился с ним взглядом и, отметив про себя, что дядька похож на кота, сказал Татаурову:
— Иди, сыграй.
Усмехнувшись, вытащил из кармана газету, развернул. Прочитал объявления — рекламы трёх синематографов, двух садов, цирка. О цирке в газете была даже целая статья. Автор, скрывший своё имя за инициалами, писал: «Всё начинается снова. Театр и концерты будут отодвинуты на задний план. Вся публика вновь увлечена цирком, точнее — борьбой, происходящей в нём. Всякий цирк, приезжающий в Вятку, обязательно имеет в своей труппе атлетов. Вновь наша интеллигенция пожертвует своими интеллектуальными интересами ради торжества грубой физической силы…»
Верзилин вздохнул, подумал мирно: «Правильно: грубой — это плохо… Как раз вся–то трудность в том, чтобы эту силу сделать благородной и красивой…»
Покосился на Ивана Татаурова. Тот ловко склонился над зелёным сукном, удары его были отрывисты и громки, как выстрелы, сетчатые кошельки луз трепетно раскачивались под костяной тяжестью забитых им шаров.
«Шикарно играет, — подумал Верзилин. — Профессионал, — и вдруг решил: — А он завтра так же профессионально будет держаться на арене».
И весь вечер после бильярдной, и весь следующий день он вселял в Татаурова своё чувство уверенности.
Отправляясь в цирк, давая ему последние наставления, он поцеловал Татаурова в лоб.
Был антракт; публика толпилась подле продавцов кваса и мороженого. Протискиваясь сквозь толпу, Верзилин слышал за спиной шёпот: «Борец…» Освещённый ярким светом, покачивался большой аншлаг: «Борются три пары», шестым стояло непривычно знакомое имя — Иван Татуированный. Итак, подумал он, это крещение…
Над головой призывно затрещал звонок. Шум усиливался. Верзилин оглядел яркие ярусы, перевёл взгляд на арену. Трое мальчишек сметали опилки с ковра.
Смолкла музыка. Замерли две шпалеры униформистов. Вышел Дюперрен со своей мушкетёрской бородкой. Рассказал об условиях борьбы, объявил первую пару: Сатану — раскатисто, «его соперника — равнодушно.
Иван Сатана был сложён великолепно. Его чёрные усики бабочкой и косой пробор, наверное, свели с ума не одну девушку. Ему сразу же — до борьбы — преподнесли два букета. Он был любезен и не горд; раскланиваясь, обворожительно улыбаясь, он сцепил руки, крепко сжал их, — показывая, что он с удовольствием бы пожал руку любому из аплодирующих.
Борьба длилась всего две минуты.
Иван Сатана тушировал своего противника броском через голову.
Вторая пара боролась долго и неинтересно, и Верзилин понял, что публика здесь не избалована. Оба борца предпочитали ползать на коленях, громко храпели, задыхались, были мокрыми от пота.
Зато как неистовый носился по арене Дюперрен. Он словно хотел своим темпераментом искупить их неповоротливость. Он становился на корточки, заглядывая под их спины, свистел, вскакивал, снова приседал; один раз он даже лёг на живот и, встав, развёл руками: дескать, ничего не поделаешь, а лопатки к ковру не прикоснулись.
Он до того был серьёзен и сосредоточен, что всем казалось, и впрямь идёт невесть какая ответственная схватка.
Наконец чья–то спина коснулась ковра. Верзилин вздохнул, поглядел на часы. Одиннадцать. Холодок пробежал по спине. До боли хотелось закурить. Будь у него папиросы, он закурил бы, как мальчишка, пряча папиросу в рукаве.
— Десятикратный чемпион Сибири Николай Соснин! Молодой талантливый борец Иван Татуированный! Москва! («Почему — Москва?» — успел подумать Верзилин).
Борцы шагнули навстречу друг другу. Торопливо пожали руки. Сменились местами, и Татауров громко шлёпнул ладонями по спине Соснина. Руки сорвались. Борцы закружились, хватаясь друг за друга.
— Принюхиваются, — послышалось за спиной Верзилина. Он не обратил на слова внимания.
— Так его! — шепнул сам себе.
Так, за шею! Притяни к себе. Ах, сорвалось. Только руки схлопали. Правильно — передний пояс, сожми руки крепче у пего за спиной. Ну — ну, так. Оторви, оторви его!.. Эх, разорвал!.. Ах, дурак! Разве так можно? Смости, смости, держись! Не давайся! Эх, только ладони шлёпают… Да не танцуй ты, наступай!.. Ну, бросай, бросай его!..
Татауров напрягался, перегибая борца, и татуировка на нём извивалась, сливаясь в сплошной орнамент.
Верзилин махнул рукой: сибиряк пружинисто вскочил в стойку.
— А ну!.. Так.
Всё было кончено. Татауров, не дав Соснину опомниться, захватил его сзади, падая на спину, уронил на себя (сколько раз они репетировали этот приём в Чухонской слободе!) и, резко выскользнув, навалился на него.
Дюперрен не успел даже наклониться. Он весело поднял руку Татаурова…
Верзилин отдался на волю толпы, и его, как щепку, зажали и вынесли на улицу.
Он пересёк круг света и вышел к оврагу. Пахло зеленью и сыростью. Внизу журчал ручеёк. Сверкали звёзды. Топая французскими каблуками по деревянным мосткам, пробежали две девушки. Приняв его за борца, замедлили свой бег, фыркнули в рукав…
Всё стихло. Погас свет над цирком.
Верзилин устало прислонился к перилам.
Из темноты возникла огромная фигура Татаурова.
— Ефим Николаевич, — заговорил он возбуждённо. — Положил. И всего на восьмой минуте. А ведь он один из самых сильных…
— Я рад, рад, — перебил его Верзилин. — Я так и знал, не сомневался… Ради этого мы с тобой и жили эти полгода. Вот и первая победа, теперь — всё впереди. Теперь они пойдут одна за другой…
— Я думал, будет труднее… А совсем не трудно… Мне на тренировках с вами больше доставалось…
Верзилин усмехнулся. Темнота заговорщически скрыла его
усмешку.
12
Пять вечеров подряд Иван Татауров и Иван Сатана укладывали на обе лопатки своих противников.
После пятой победы Дюперрен набавил Татаурову по рублю за встречу и вывесил по городу афишку: «Сегодня и ежедневно молодой талантливый борец Иван Татуированный».
Шестая встреча была нелёгкой. Негр Бамбула оказался опытнее других. Но к двенадцати ночи был уложен и он.
Верзилин перестал нахваливать своего ученика, боясь, что парень зазнается. Он по–прежнему держал Татаурова в чёрном теле и не давал поблажек: обливания, зарядка, тяжёлый саквояж — всё осталось по–прежнему. Он позволил ему лишь по две бутылки пива за обедом, но зато исключил чай. Пиво парень пил при Верзилине, в бильярдной.
Около Татаурова уже тёрлись какие–то потрёпанные парни; девицы с порочными личиками строили ему глазки. Верзилин упорно пресекал все знакомства.
В седьмую встречу Иван эффектно сунул носом в опилки толстяка и, пока тот отплёвывался, перекинул его через себя на ковёр. Накрашенная девица с пышным бюстом поднесла Татау–рову букет черёмухи, в котором лежало приглашение на свидание. Верзилин безжалостно изорвал записку.
После восьмой победы Ивана Татуированного овация публики была неистовой.
Сам Иван Сатана, наблюдавший за схваткой из прохода, демонстративно обнял соперника на глазах у зрителей.
Наконец в городе появились рекламы: «Решающий матч: Сатана — Татуированный».
Перед матчем Дюперрен пригласил к себе Татаурова для переговоров, заставив этим Верзилина насторожиться. Чтоб меньше нервничать, он решил побродить по городу.
Второй день по утрам выпадал тёплый дождик, и в воздухе стоял терпкий запах тополей. Вообще в городе поражало обилие деревьев — тополей, лип, берёз, клёнов. Подле одноэтажных деревянных домиков цвели рябины и черёмухи. За высокими заборами виднелись розовые яблони. Буйно росла трава; даже на центральных улицах она наступала на дорогу, пробиваясь между булыжниками мостовой, ложилась на деревянные тротуары. Цвели жёлтые одуванчики.
По дворам бродили продавцы угля, точильщики ножей, шарманщики с громоздкими ящиками на одной ноге. На улицах сидели убогие люди с морскими свинками, вытаскивающими счастье. Нищие толпились у папертей.
Проехал опрятный парень с бочкой на телеге, остановился подле покосившегося домика — оттуда вышла женщина, набрала в вёдра воды; он написал мелом на дверном косяке двойку, лениво поехал дальше.
Перед казённым заведением целовались два мужика.
В расщелине кирпичей на массивных воротах, подле каменного льва, росла тоненькая берёзка. Свежевыбеленная стена тянулась на полквартала. Пристрастие вятичей к каменным заборам бросалось в глаза. Заборы напоминали о крепостях — словно жители готовились к длительной осаде. Были и настоящие крепости — с башнями и бойницами. По крайней мере, две из них Верзилин видел: одна на горе, вокруг кафедрального собора, другая — внизу, вокруг монастыря.
По склонам паслись козы; на глиняных уступах сидели старухи с вязальными спицами в руках; голопузые ребятишки ползали по горе. Босые девушки поднимались вверх, неся тяжёлые вёдра на коромыслах.
Под горой желтели крошечные комочки цыплят. Бесновались псы, прикованные к будкам. Будки своими размерами напоминали дома, а дома напоминали будки.
Стояла большая вода. Она затопила огороды слобожан, и столбики заборов торчали из неё как вехи. Поленницы сырых дров лежали на берегу.
Стаи галок кружились над матово–синими куполами монастырского собора.
По странной ассоциации Верзилин вспомнил о брезентовом шапито и заторопился домой — в номера Чучалова.
Иван ещё не возвращался.
Верзилин прошёл в бильярдную. Там было пусто. Лишь игрок, которого Верзилин про себя назвал «котом», сидел на бильярде в своей обычной томной позе и лениво гонял кием шары.
Верзилин заказал обед. Надо было есть, читать газету, разговаривать — только не думать о том, зачем Дюперрен пригласил Татаурова.
— Нижайший поклон, — сказал лениво небритый бильярдист, передвинув языком папиросу из одного угла рта в другой.
— Доброго здоровья, — охотно ответил Верзилин.
— Ивана нет?
— По делам ушёл. Скоро придёт. Соскучились? Не с кем сегодня играть.
Лентяй лениво пожал плечами:
— Да, днём у меня Иван — единственный партнёр.
— А вечером ведь бильярдная вообще не работает? — спросил Верзилин.
— Главная–то игра не здесь, а в Александровском саду, по вечерам.
Разрезая дымящуюся яичницу с ветчиной на мелкие кусочки, Верзилин покосился на замолчавшего бильярдиста. Тот небрежно откинулся на зелёное сукно стола и щёлкал кием в шары; не разжимая зубов, не выпуская папиросы, напевал под сурдинку:
В поезде сидел один вое–е–е‑нный –
Обыкнове–е–е‑нный
Пижон и франт.
По чину своему он был пору–у–у‑чик,
Но дамских ручек
Был генерал.
Верзилин знал, что это была его любимая песня. «Вот чёрт — заладил, а перебивать неудобно», — подумал он.
Наконец тот замолчал (все шары покачивались в сетках) и, потягиваясь, бросил кий на зелёное сукно стола.
— Интересная деталь, — сказал Верзилин, пережёвывая кусок ветчины, — в городе чрезвычайно много каменных стен, крепостей, так сказать. Отчего бы это?
— Пристрастие такое у вятичей. Своего рода недуг, — небрежно произнёс бильярдист, почти растягиваясь на столе.
Верзилин заметил, как старик–маркёр зло посмотрел на говорившего. «Опять попросит его сойти с бильярда. Опять скандал будет», — поморщился Верзилин и сказал, обращаясь на этот раз больше к маркёру, стараясь привлечь его к разговору.
— Воинственный, видно, в Вятке народ живёт. Смелый.
Не поднимаясь с локтя, бильярдист ответил с усмешечкой:
— Страшно смелый. Недаром поговорку сложили: вятские — люди хватские, семеро одного не боятся.
— Я, конечно, извиняюсь, — сказал маркёр дрожащим от волнения голосом, — но вятские люди завсегда своей смелостью славились. Они от татарского нашествия матушку Россию зашшишшали. Я, конешно, извиняюсь, — сказал он, обращаясь к Верзилину, — но когда вы через Спасские ворота в Московский Кремль входите, так завсегда шапочку снимаете? Вот то–то. А всё почему? Да потому, што наш вятский образ над ними висит — «Спас Колотый». Его три сотенки годиков назад государь Алексей Михайлович увёз из Вятки; Хлыновым ешшо тогда Вятка прозывалась.
— Ишь, какой аргумент, — усмехнулся бильярдист.
— А ты отыди от греха, — зло сказал ему маркёр, и козлиная бородка его задрожала. — Слезь с бильярда. Не порть дорогую вешш.
— Макар! — сказал бильярдист, повысив тон.
— Кому и Макар, а тебе Макар Феофилактович.
— Макар!
Но тот повернулся к бильярдисту худенькой спиной, обтянутой ливреей, и сказал, обращаясь к одному Верзилину:
— Вот столь давно и зовецца главная кремлёвская башня Спасской за заслуги вятичей перед Россией… Я, конешно, извиняюсь, но вы в самую точку изволили сказать: смелые люди тут живут спокон веку… Совершенно справедливо… Вот, к примеру, племяш мой — Никита Сарафанников. (Грушшиком на пристане работает). Росту — вашего. А то и поболе. (Я, конешно, извиняюсь). Росту — вашего. Силы с вашего Ивана. А то и поболе. Идёт одново по улице… по Морозовской. А там — целое происшествие. Да ешшо кровавое. Ингуш один (Туша Узаев зовут)… Стражник на коне, пьяный… Взял ружьецо за дуло и лупит пьяного мужичонку по спине (тот в луже улёгся)… А из своего дому возьми и увидь эту сцену чиновник тут один (из контрольной палаты). Вышел на улицу, говорит стражнику ингушу (Туше–то, значит, Узаеву): «Так и так, говорит, бесчеловечно»… Варваром его ешшо обозвал… А ингуш–то хлоп в него из ружья… Ну, тот упал, конешным делом… А стражник ему в спину — хлоп! хлоп!.. Только пули посвистывают… порохом пахнет… Ворота раскрываются, жена (да до того хороша!) выбегает. С сыном (маленький такой — вылитый херувимчик). А стражник — хлоп! — по им… Тую же минуту из двора столяр тут один выбежал… Стражник (ингуш–то, значит) — хлоп! — и в его… И четыре сбоку, ваших нет… Пондравилось ему — ноздри раздул хишшно так, скачет на коне по улице, стреляет во всех… Ешшо одного фабричного укокал… А тут, откуда ни возьмись, племяш мой… Никита, значит, Сарафанников (наш весь род Сарафанниковыми зовецца)… Подскочил к стражнику — коня под уздцы — раз! (я, конешно, извиняюсь, но он не меньше вас).
Коня — раз! Ингуша — наземь! За грудки его, за черкеску,(у того только газырики посыпались в грязь). И — тряхнул. А ин — гуш–то здоровый… Тоже такой будет, с вас али с вашего Ивана (я, конешно, извиняюсь)… Тот за сашку! А Никита его раз по уху — и четыре сбоку, ваших нет… Тут, конешно, толпа собралась…
Маркёр устало стёр со лба пот.
Всё так же нежась на зелёном сукне бильярда, небритый проскандировал сквозь зубы, ни на кого не глядя:
Мы свободны. Мощь народа.
Разум, сердце — всё в движеньи,
На Руси царит свобода…
На военном положеньи!.
Старик покосился на него, сказал уже примирительно:
— А то «семеро не бояцца»…
— Так твой Никита — это особая статья…
— Да мой Никита любого за грудки возьмёт… Одно слово богатырь, как господин Верзилин…
Не обратив внимания на то, что маклер знает его имя, Верзилин хотел его расспросить о племяннике, но в бильярдную вошёл Татауров.
Глядя на его сияющее лицо, Верзилин спросил нетерпеливо:
— Ну, как дела? Что там мушкетёр тебе пообещал?
— А мушкетёр сделал отличное предложение… Нижайший поклон, — обернулся он к бильярдисту. — Здравствуешь, Макар Феофилактович.
— Ну, садись, садись, рассказывай… Макар Феофилактович, крикни там нашему другу, чтобы обед для Ивана принёс… Ну как?
Татауров покосился на своего партнёра по бильярду. Тот понял, отошёл в противоположный конец комнаты, разлёгся на столе, томно прищурился, щёлкнул по шару кием.
— Ну, ну? — торопил Верзилин.
Наклонившись к нему через цветок в банке, Татауров выпалил горячим шёпотом:
— Мушкетёр предложил мне Сатане проиграть! Сто рублей за это даёт!
Словно игла вонзилась в самое сердце Верзилина, он задохнулся. Помолчал. И, чувствуя, как гулко тукает в висках, сказал глухим голосом:
— Ого! Понимают, что победишь. Это, брат, лучшая оценка для тебя.
— Даром деньги! — взвизгнув от приступа смеха, сказал Татауров. — И стараться не надо! Целая сотня! Ха–ха–ха!
— Ну чёрт с ней, с сотней. Нам с тобой имя дороже, — сдерживая волнение, сказал Верзилин.
Татауров вздохнул:
— Из имени шубу не сошьёшь… Да и потом — Дюперрен обидеться может… Сто рублей — деньги большие.
— Добрая слава дороже денег… Ведь аплодировать–то не тебе будут.
— А мне плевать — мне, не мне, — возбуждённо сказал Татауров. — Я сто рублей получу вместо четырёх. Девяносто шесть чистого барышу. За девяносто шесть рублей можно кому угодно проиграть — вон даже Макару Феофилактычу, — кивнул он на щуплую старческую фигуру маркёра.
Принесли обед. Пока не ушёл официант, они молчали.
Низко склонившись над столом, Татауров начал есть.
— Неужели в тебе нет гордости? — с горечью спросил Верзилин. — Я из–за отказа проиграть борцу, который слабее меня, чуть не поплатился жизнью. Ты что думаешь, я сам сломал руку? А разве мне сто рублей предлагали? Там же была тысяча…
Глаза Татаурова вспыхнули любопытством.
— Тысяча? — спросил он торопливо, с придыханием. — Неужели тысяча?
— А, да что там говорить! Речь не об этом… О тебе речь. Для чего я тебя учу? К чему я тебя готовлю? Ты что — и под моим именем будешь проигрывать?
— Это уж как прикажете, — отозвался Татауров.
— «Прикажете», «прикажете»… Эх, Иван!.. — Верзилин махнул рукой. — Ради чего я тогда стараюсь?.. Ну скажи, ради чего?
Татауров потупился; ковырялся вилкой в яичнице.
— Доедай, — сказал Верзилин, развёртывая газету. Табачный дым заставил его закашляться. «Неужели этот небритый кот один накурил столько?» — подумал он с раздражением, покосившись на полулежащего на столе бильярдиста. Буквы двоились в глазах. — Я поднимусь наверх, а ты можешь сыграть партию — две.
В номере он лёг на койку поверх одеяла. Солнце скрылось за каменными домами. На фоне красных облаков торчала высокая труба городской электростанции. Где–то на улице заливалась гармоника, пьяный голос выводил: «Измученный, истерзанный наш брат мастеровой…»
«Балда — на сто рублей позарился», — сердито подумал Верзилин. Было грустно. И с кем поделишься? «Нина, где ты?» — печально подумал он. Вспомнился Измайловский сад, дощатый цирк, беспомощная узкая спина женщины. «Я не хотела этого…»
— Нина… — прошептал он. — Нина…
И к тому времени когда пришёл Татауров, он настроил себя на минорный лад.
Настали сумерки. Было тихо.
— Иван, — чуть слышно позвал его Верзилин.
— Да?
— Неужели ты не понимаешь этого, Ваня? — с тоской сказал Верзилин.
Татауров отвернулся, взглянул в окно. Тень от шторы падала на его лицо, и от этого оно было расплывчатым.
— Ну? — тихо спросил Верзилин, приподнявшись на локте. Ах, как тяжело ему было сейчас молчание Ивана!
Наконец Татауров произнёс неохотно:
— Опостылело мне всё… В деревню уеду… отдыхать…
— Победишь Сатану через четыре дня, и я тебя сам посажу в дилижанс; и, может, с тобой до Слободского доеду. Там тебя обожду.
«Уедет», — печально подумал Верзилин. И когда тишина стала уже невыносимой, он сказал равнодушным голосом бесконечно уставшего человека:
— Ложись спать. Утро вечера мудренее.
Молча, не зажигая света, они разделись.
Под монотонное всхрапывание Татаурова Верзилин думал: «Куда я один? Опять всё сначала. Опять тоска. Опять месяцы тоскливого одиночества…»
К утру он уже знал, что судьба его в руках Татаурова. Он сделает для него всё, только бы парень не ушёл…
— Ну как спал, Ваня? Ничего? Хороший сон — это половина твоей победы над Сатаной. Да что там Сатана! А? Не так страшен Сатана, как его малюют. А? Давай, давай я тебе полью… Так, хорошо. Вот твоё полотенце… Зарядку будем делать или нет?.. Может, эти дни отдохнуть хочешь?..
Он был противен себе этой угодливостью, но ничего не мог с собой поделать…
— Пивца не хочешь? Я думаю, мы можем сейчас себе разрешить это… Ты как думаешь? Садись, садись… Общёлкай этого кота. Вон он к тебе идёт… И жилет весь в розочках… Ха–ха… Тоже игрок. Ну–ка, пропиши ему — ты же Иван Татуированный, победитель чемпионата Дюперрена… Поддержи нашу марку… Вот так его!.. Знай наших… И Сатану так же, а?
— Да ладно уж, — угрюмо произнёс Татауров. — Сказал положу — значит положу, — он тяжело опустил руку на стол, и Верзилину бросилось в глаза имя «Луиза», вытатуированное на пальцах.
— А я и не сомневаюсь в этом, — нарочито беспечно сказал Верзилин, но рука дрожала, и горлышко зелёной бутылки выбивало дробь по стакану. — Я не только не сомневаюсь в твоей победе, но знаю, что ты его положишь на первых минутах. Сатана не самый сильный в чемпионате. Самый сильный у них — негр Бамбула. Это настоящий борец. А ты у него выиграл. И у Сатаны ты выиграешь непременно.
13
Казалось, от сумасшедших криков публики цирк разлетится на дощечки: Иван Сатана положил Ивана Татуированного на обе лопатки. К огромному удовольствию публики, красота и изящество восторжествовали над грубой животной силой. Всего десять минут понадобилось Ивану Сатане для того, чтобы бросить громадное неуклюжее тело своего противника на ковёр.
Расталкивая людей, продвигаясь через толпу, как ледоход через ледяные торосы, Верзилин спешил к выходу.
Накрапывал мелкий тёплый дождик; сквозь дымчатые облака мерцали звёзды; лёгкое зарево от огней стояло над уснувшим городом.
«Изобью», — решил Верзилин, остановившись у служебного входа. Тусклый фонарь освещал утоптанную, забросанную окурками землю. Вышли трое мужчин, оживлённо обсуждая случившееся.
— Так его же Дюперрен с Сатаной подкупили, — сказал один из них.
— Бамбулу тоже.
— А ты слышал, когда они в Перми были…
«Изобью, — подумал Верзилин, переступая с ноги на ногу. — Иуда, Иуда Искариот. Продал меня за жалких тридцать сребреников».
Мимо прошли несколько женщин; одна отделилась от них и приблизилась к Верзилину.
— Проходите, проходите, — сказал он торопливо.
Она догнала подруг, засмеялась громко, объяснила:
— Вклепалась.
— Такого красавца упустила. Атлета.
— Да я сама думала, кто–нибудь из ихней труппы…
Окончания слов он опять не слышал.
Появились борцы. Верзилин сжал кулаки. Шагнул в тень. Однако Татаурова среди них не оказалось. Потом вышла ещё группа борцов. Видимо, они задержались после представления. Наконец выполз сторож, подозрительно покосился на Верзилина. Постучал в колотушку. Обошёл вокруг цирка. Опять налетел на Верзилина; отпрянув, сказал строго:
— Чего стал? Не балуй, иди своей дорогой!
Верзилин отошёл к оврагу, навалился на мокрые перила.
Журчание ручья внизу было громким. В цирковой конюшне
заржала лошадь. На её ржание откликнулась собака в соседнем дворе.
«Бессмысленно ждать, — подумал Верзилин. — Он сбежал, как… трусливая собака», — и пошёл в номера.
Дождь кончился; выглянула бледная полная луна; улыбка её была вымученной, как у циркового клоуна.
Надо было что–то предпринимать — где–то разыскать Татаурова, объясниться с ним, махнуть назад в Петербург… Приняв такое решение, он успокоился и быстро уснул.
Утром он внимательно прочитал в газете отчёт о закончившемся чемпионате и узнал, что борцы сегодня отбывают в Вологду. Значит и Татауров отправился с ними в поисках лёгкого заработка. Сейчас ищи ветра в поле. И вещи оставил… Впрочем, какие вещи? Один саквояж, гружённый галькой, от которого он так давно хотел избавиться…
К столику подошёл татауровский партнёр по бильярду, спросил:
— Ивана опять нет?
— Нет, — коротко ответил ему Верзилин.
Поднявшись к себе, он позвонил коридорному и попросил на завтра заказать билет до Петербурга.
— Хорошо‑с, — сказал старик, но через минуту вернулся, сообщил, что поезд на Петербург идёт только послезавтра.
— Давайте на послезавтра.
Весь день он гулял по городу, думал. И вдруг неожиданно решил, что за этот год он стал слишком впечатлительным, — любой пустяк его выводит из душевного равновесия… И всё из–за людей, которые и гроша ломаного не стоят. Из–за Вогау, из–за Мальты, из–за Ивана… Точка! Теперь всё это позади.
Он зашёл в магазин и купил коробку папирос с велосипедистом на крышке. Закурил, но закашлялся и выбросил окурок. И как ни странно, совсем больше не вспоминал о Татаурове, будто разом вычеркнул его из сердца.
О Татаурове на следующее утро напомнил бильярдист. Встав перед ним в своём распахнутом голубом пиджачке, в обтянувших жирные ноги узких клетчатых брючках, опираясь на кий, он сообщил:
— А я вчера вашего Ивана чуть не разложил. Не рассказывал он вам?
Глядя на его небритую пухлую морду, Верзилин спросил:
— Как — разложил?
— В бильярд, конечно.
— Когда? Вчера? — удивился Верзилин.
— Вчера. Вечером… Сегодня он, небось, и носа не кажет.
Верзилин собрал корочкой соус, не торопясь прожевал и произнёс холодно:
— И кто же у вас всё–таки оказался сильнее?
— Иван. Но и его разложили. Дюперрен, арбитр из цирка. Он всех вчера в Александровском на веранде обошёл.
— А‑а, — сказал Верзилин. — А во сколько там бильярдная открывается?
— В шесть… Так скажите Ивану, чтоб спустился. Для реванша.
Он отошёл к бильярду, наклонившись, крякнув, с такой силой послал костяной шар в металлические щёчки лузы, что тот затрепетал в них изнемождённо и тяжело упал в сетку.
Верзилин вытащил большие часы. Было около двенадцати. Итак, он всё–таки отыщет Татаурова…
В четыре часа он пошёл в сад. Вдоль высокой чугунной решётки пышно расцветала сирень. Какой же нежный запах она источала!
Сад был густой. Песчаная дорожка упиралась в белую круглую ротонду, перед которой был устроен фонтан — вытянувшийся лебедь выбрасывал ввысь тонкую струйку воды, и она, падая, разбивалась о замшелые камни. В чистой воде резервуара виднелись разноцветные лампочки — по вечерам фонтан, видимо, подсвечивали огнями. Внизу, у забора, доцветала черёмуха. В поисках бильярдной Верзилин исколесил весь сад, прошёлся даже по тропинкам, заросшим крапивой и лопухами. От нечего делать зашёл в ресторан. Пахло кофе и жареным луком. Есть не хотелось, тем более не хотелось пить. Однако он заказал порцию бефстроганова.
Разглядывая однообразные этикетки водок на полках буфета, пошутил:
— Бутылку коньяка «Мартель», литерного.
— Не держим‑с, — ответил официант.
— Тогда — «Луи — Редерер».
— Никак нет‑с.
— «Кордон–руж»? «Кристаль?» — со вкусом произносил Верзилин марки вин, о которых знал лишь понаслышке.
— Не держим‑с.
— Бедно живёте. Этак и разориться можете — оттолкнёте посетителей. Что ж человеку делать, который выпить хочет? Неужто и трёхзвёздочного коньяку нет?
— Нет‑с.
— Несите бефстроганов.
— Одну минутку‑с, готовят.
За окном виднелась не вошедшая в свои берега река; отражения белых облаков плыли по её глади. Вдали маячил серенький парус.
Из ресторана выскочил лохматый парень; на ходу одёргивая синюю рубашку в горошек, сверкая голыми пятками, помчался по аллее. Верзилин проводил его глазами, усмехнулся:
— Ишь, стрикулист.
— Чего прикажете?
— Стрикулист, говорю. Бегает здорово. Ему бы в состязаниях участвовать. Знаете — состязания?
— Никак нет‑с.
— У вас на всё один ответ. Скучный вы какой–то. А посетители любят, чтобы с ними поговорили. Верно?
— Так точно‑с.
— То–то.
«А что, если бы одно из вин у них оказалось? — подумал Верзилин. — Пришлось бы ведь расплачиваться… Хороши шуточки».
Но неожиданно лохматая голова стрикулиста появилась над забором, парень тяжело перевалился прямо в крапиву, вскочил, распахнул дверь ресторана, официант бросился к нему — и перед Верзилиным оказалась бутылка коньяку.
— Ха–ха! — рассмеялся официант. — Желание клиента для нас закон. Как в сказке — скатерть–самобраночка.
Он захлопотал, вытаскивая штопором пробку, протирая рюмку, ставя перед Верзилиным сковородку с мясом.
— Чистая работа, — сказал Верзилин. — Одна нога — там, другая — здесь. На чай ему от меня.
— Для клиенту — всё, чего бы душа не пожелала. На том и стоим‑с.
— Молодцы. Ну, будем здоровы.
— Ваше здоровье, ха–ха.
— Эх, хорошо! Только клопами пахнет. Потому что три звёздочки. Литерные коньяки надо пить — ни клопами, ни керосином не пахнут. Литерные. Не пили никогда?
— Не приходилось… Но — думаю — ещё успею испытать. Потому — будем иметь‑с.
— Что? А‑а, ну–ну.
Намазывая кусочек мяса горчицей, Верзилин подумал: «А на черта я пойду в бильярдную, на что он мне сдался? Пойду домой — может, успею к поезду», — но всё–таки спросил:
— А где у вас тут бильярдная?
— Вон прямо за деревьями. Как выйдете, так будет электротеатр (картины в нём волшебные показывают), тут и есть бильярд; на балконе прямо.
«Найти бы такого человека, чтоб во всём со мной согласен был. Настоящего друга. Я бы из него сделал чемпиона… Надо искать. И может, не одного испытать… С Ванькиными бы данными найти — это же прирождённый чемпион. Балда, позарился на сто рублей!» — Официант, получите с меня! — «Нет, лучше уж жить одному, чем с предателем». — Бывайте здоровы.
— Доброго здоровьица. Премного благодарны. Ждём ещё раз!
«Как он сказал? За этими деревьями? Ах, вот как? Так я же тут был. Ишь, какой домище с антресолями да пристроечками. Это, значит, один из местных синематографов? Так называемый электротеатр».
Ещё не успел он разглядеть людей за лёгкими балясниками перил, как услышал шум бильярдных шаров.
Деревянные ступеньки лестницы скрипели под его ногами, когда он поднимался на балкон.
Видимо, потому, что погода была безветренной, табачный дым сплошной пеленой стоял под потолком. И первым, кого он увидел, был Иван Татауров.
Верзилин резко шагнул к нему:
— Так вот ты где от меня скрываешься, предатель! Учителя своего предал, Иуда! За тридцать сребреников. На сто рублей позарился! И ответ держать боишься!
— Но–но! Потише! — сказал, храбрясь, Дюперрен. — Знаем мы вас. Целый год человека эксплуатировали и ни копейки не платили.
— Что‑о? — остолбенел от удивления Верзилин.
Татауров испуганно метнулся в сторону. Но Верзилин не обратил на него внимания и приблизился к Дюперрену:
— Что‑о?
— Обделывали беззащитного деревенского парня! Деньги на нём наживали! Самому руки переломали, так…
— Ах ты!.. — задохнулся от гнева Верзилин и схватил его за узкие плечи, сделав шаг к перилам.
— На помощь! — взвизгнул Дюперрен. Но никто не подскочил к нему, и Верзилин, чувствуя, что никогда не сбросил бы с балкона не то что этого «мушкетёра», но даже Вогау, перегнул его над перилами и, выхватив у него тяжёлую ветку сирени, отхлестал по серому закинутому лицу, по шее с торчащим «адамовым яблоком». Потом отшвырнул от себя его лёгкое длинное тело и тяжело зашагал к лестнице. Игроки расступились, шарахнулись в сторону крупные мужчины с бычьими шеями. Кто–то из борцов сказал вдогонку с восхищением:
— Сам Верзилин!..
А он прошёлся по тенистой аллее, вдыхая запах сирени и успокаиваясь. Уселся на крутом берегу. На реке зажглись разноцветные бакены; медленно скользила лодка, направляясь к затопленной слободе. Сотни галок кружили над мрачными куполами монастырского собора. Прямо внизу была пристань. На этой пристани работал племянник Макара Феофилактовича. Что–то он из себя представляет?..
14
— Ничего, парень хороший, не жалуюсь. Грех жаловацца. Один изъянец — плешь… У нас уж такая природа — у всех это… Ну да плешь — не увечье, была бы душа человечья. А так — парень хороший. И силы богатырской (я, конешно, извиняюсь)… Правильно вы изволили угадать — бороцца он любит. По–нашему, по–народному — на поясах. Нет ни одного человека, который бы устоял перед ним в Вятке… И мечтает он познакомицца с вами, каждый вечер расспрашивает о вас. Ни одного представления в цирке не пропустил — всё смотрит, как ваш ученик борецца. Но только, скажу вам, сильнее он вашего Ивана (я, конешно, извиняюсь). Сила у него богом дадена, а у вашего Ивана — вами… Без вас ваш Иван был бы — пф! — и нет ничего. А мой Никита — это богатырь, под стать вам (я, конешно, извиняюсь), о силе его множество случаев можно рассказывать… Одново случилось — обшшитал его подрядчик. А Никита возьми да и разозлись. Взял у него шапку, приподнял угол дома и сунул её туда.
— Не дома, избушки, — осторожно поправил Верзилин.
— Дом не дом — как хош шшытай. Только не баня. А то я так бы и сказал: баня… Ну, хозяин бегает, туда–сюда, тык–пык — не может ничего…
— Н–да–а.
— Это што — дом… Был такой случай — вошшики его обидели (а их человек шесть было), он и осерчал (так парень тише воды, ниже травы, што тебе ангел, только не зли уж его), не спит… А они возьми да усни… Он, конешно, встал — эдак тихохонько выбрался из избы и — на волю… Будто до ветра… А лошадки–то все распряжённые. Он запряг свою. А потом взял все сани да и повернул дышлом в другую сторону. А одни на анбар взгромоздил… А сам сел и укатил… Проснулись брательники, забегали туды–сюды! Не могут! (Толку нет — беда неловко)… Просто курям на смех… А ведь бочка–то сорокаведёрная на санях — шутка в деле!.. И шесть штук… Вот и забегали…
— Вот как?
— А был ешшо такой у меня случай… Эдак же я спирт возил, как и Никита… А мы любим его возить — проткнёшь дырку, лягешь так удобно и присосёшься… Што тебе барин едешь (я, конешно, извиняюсь)… Вот однажды до тово я присосался — соображаю: привязацца надо… Прикрутил себя вожжами к передку… А самово снова тянет пососать… так уж естество требует… Ну, ничего себе — еду дальше. Только соображаю — выпал из саней. Што ты будешь делать? Волокёт меня и об каждый пенёк то башкой, то хребтом… Я говорю: «Тпру!» — не слышит. Соображаю, что ничего уж не соображаю. А меня стук да стук. Ну, думаю, только бы вожжи не порвались. Всю эдак из меня душу выбило, уж и соображенье потерял… Только потом смотрю — меня — бульк! — в воду. Окунулся и соображаю: речку миновали. А лошадка всё трусит, и меня обратно башкой об пеньки шшолкает. А одежонка–то застывает — заскорузла так: всё равно сосулька стал. Ладно, деревня была близко. Лошадь приехала и стала у ворот, стоит. Ну, конешно, меня отвязали, оттёрли шерстянкой, а я смотрю — живот чёрный, как у негра, что в цирке выступает, — живого места нет… Ну ничего — отмыл на другой день в бане… Только шея потом долго болела (я, конешно, извиняюсь)…
— С той поры, значит, и не дурак выпить?
— Да уж это как есть.
— Ну а Никита твой водочку уважает?
— Никита? Даже не нюхает. Как и вы. Точь–в–точь.
— Ну так что ж? Договорились? В гости сегодня зовёшь?
— Хорошему человеку завсегда рады… А до пристани — рукой подать. До Раздерихинского спуску дойдёте — там часовня стоит. В честь того, что при татарском нашествии свои своих тут ночью не узнали и побили друг друга.
— Слушай, Феофилактыч, откуда ты о таких вещах знаешь?
— Э‑э, я столько профессиев за шесть десятков лет сменил… Всякое видывали… И сторожем в музее работал. Старины там разной много было…
— Ну так бывай здоров.
— До скорого свиданьица.
От мокрых булыжников мостовой шёл пар — так припекало солнце. Гроздья сирени над чугунной оградой Александровского сада были упруги и чисты. Малец в голубой ситцевой рубашке взбирался по склону в погоне за резвым козлёнком. Две девушки несли по тяжёлой корзине выполосканного белья.
Пристал паром. Мужички взмахивали кнутами, приговаривая: «Н‑но, милая». Грохотали колёса, скрипели телеги, плескалась вода о просмолённые сваи, гудел крошечный пароходик, звонко шлёпали вальки по мокрому белью.
Верзилин залюбовался всем этим. Затем взгляд его остановился на длинной барже; гора соли вдавила её в воду почти до самого борта. Нет, не то.
Он прошёл дальше по берегу. «Странно, оказывается в городе знают моё имя и знают, что я тренирую Ивана». Эта мысль нисколько не огорчила. Усмехнувшись, он поднял взгляд. По сходням, проложенным с жёлтой баржи на пристань, тяжело шагали крючники с рогожными тюками за спиной.
Верзилин уселся на столбик, смахнул пот.
Деловито хлопая плицами, отплёвываясь, отчалил пароходик; серебряный трос круто вырвался из воды, брызнув на солнце каплями. Мальчишки посыпались в реку, торопливо замолотили руками, поплыли под самый паром и оттуда — из узкого чёрного прохода между двумя плашкоутами — закричали что–то, радуясь откликающемуся на их голоса эху.
Верзилин дождался, когда они выплывут из–под парома, и только после этого снова взглянул на баржу. Никиту Сарафанникова он узнал сразу по его гигантскому росту. Всё было так, как описывал ему старик; была даже у парня чуть заметная лысина.
Глядя на его фигуру, согнутую под огромной тяжестью, Верзилин усмехнулся: «Платить такому три ставки — естественно, особенно, когда разгрузка срочная».
Пахло воблой и дёгтем. По промаслившимся, накалённым солнцем бочкам ползали огромные бутылочные мухи.
В тени от ветхого дощатого навеса несколько грузчиков, дожидаясь работы, играли в ножики, или, как здесь называли, в «слизень–мазень».
В сторонке, надетые на колья, сушились подшитые валенки, висело тяжёлое от воды стёганое одеяло.
«Сколько же у нас в России–матушке таких богатырей, если только в Вятской губернии я уже троих знаю, — подумал Верзилин. — Что перед ними какие–то мальты…»
Он долго сидел на деревянной тумбе, ковыряя прутиком усыпанный галькой берег.
Один из грузчиков, полуголый, волосатый, пахнущий уксусом, подошёл к нему, попросил закурить.
Оставь, не видишь — хозяин, — одёрнул мужика приятель.
— У меня хозяев нету, я свободна птица, — лениво огрызнулся тот. — Скупишься, барин?
Похлопав себя по карманам и огорчённо разведя руками, Верзилин подумал: «Для таких встреч надо иметь при себе папиросы».
— Жила, — беззлобно выругался мужик.
Неожиданно он ухватил за конец берёзовое бревно, приподнял его, охнув, опустил на землю. Грязь и вода брызнули Верзилину на брюки. Первая мысль была: «Дать ему по шее — на остальных произведёт впечатление». Однако, заметив любопытные взгляды возчиков, ожидающих паром, и женщин, полощущих бельё, он одумался. Небрежно размахивая тоненьким прутиком, пошёл прочь.
Кто–то свистнул ему в спину, запустил камнем…
То же повторилось и вечером.
Стоило ему спуститься по лёгкой лестнице в слободу Ежовку и пройти мимо первого домишка, как свист в два пальца резанул ему уши.
«Ишь, соловьи–разбойники», — добродушно подумал Верзилин, из предосторожности втягивая голову в плечи.
— Барин! Сымай шляпу! — крикнул кто–то из темноты.
— Эй, морда! Ха–ха!
Верзилин ускорил шаг. Над плетёной изгородью поднялась голова, рявкнула:
— Держи его!
На свист откликнулись собаки.
Камень ударил в спину.
Верзилин в два прыжка нагнал какого–то парня, схватил его за плечи, встряхнул со всей силой:
— Где тут дом Сарафанникова? Ну? Говори!
— Наших бьют! — раздался рядом радостно–удивлённый вопль.
Верзилин стукнул кого–то в челюсть, сбросил с деревянных мостков в хлюпнувшую осоку; оттолкнул какого–то оторопевшего парня. Отступив к высокому забору, решил азартно: «Ничего, сразимся! С тылу не зайдёте».
В это время из темноты раздался знакомый голос:
— Цыц! Озорник! Кого цапаш! Ефим Николаевич, никак вы?
— Помалкивай, Макар! Наших бьют!
— А ну–ка, Никита, иди сюда, — позвал старик.
— Эй, кто это? — строго, но спокойно прозвучало из калитки. Верзилин понял: Никита.
— Да это мы, Никита! Не знали, что к тебе.
— А ну — тикай!
Всё ещё не отпуская от груди кулаков, Верзилин наблюдал за тем, как засверкали пятки его противников.
Рядом возникла сухонькая фигура Макара Феофилактовича,
Придерживая Верзилина за локоть, он ворчал беззлобно:
— Вот ведь шалыганы… Не смотрят, к кому пристают. Да он вас всех, как Никита, может на одну верёвку и — в Хлыновку. Идите, Ефим Николаевич, не бойтесь. Сейчас никто и пальцем не тронет.
Оборачиваясь на стоящего в почтительной позе Никиту, старик провёл Верзилина несколько шагов, открыл калитку. Большая лохматая собака, порыкивая, обнюхала гостя.
Через открытые двери из горницы в сенцы падал свет. Было прохладно и чисто. Новенькая липовая кадушка стояла на широкой лавке; на гвоздике висел ковш из красной меди.
— Вот мой племяш — собственной персоной, — говорил старик, — Я, конешно, извиняюсь, но вы друг другу под стать — богатыри…
Никита пожал Верзилину руку. На парне была свежая белая рубашка, расшитая васильками.
Проходя в горницу, доставая из карманов хлебное вино и закуски, Верзилин сказал:
— Я очень рад познакомиться с тобой, Никита. И хотел это сделать ещё днём, да (как говорит Макар Феофилактыч) шалыганы помешали на пристани.
— Вы бы сказали, в какое время придёте, я бы встретил, — проговорил Никита. — У нас тут и до поножовщины дело может дойти. Ежовские да луковицкие парни известны этим на всю Вятку.
Потирая руки, хлопоча около стола, маленький сухонький Феофилактыч говорил:
— Земля любит навоз, лошадь — овёс, а наш брат — принос…
Глядя на Никиту, Верзилин рассмеялся:
— А ещё говорят, что вятские люди — трусливые.
Он сел, осматривая комнату. За цветастой ситцевой занавеской висела вторая лампа; свет от неё расплывался жёлтым пятном по тёмному потолку. В комнате было светло.
На столе появилась четверть с квасом, солёные огурчики, капуста, свежий лук, противень с румяным пирогом.
Из кухни выглянула здоровая девка, но Феофилактыч цыкнул на неё.
— Я, конешно, извиняюсь, но для ради такого дела не грех и выпить по маленькой, — говорил он, меняя местами на столе тарелки и блюдечки. — Прошу к нашему шалашу — чем бог послал. Ишь, как вы потратились — икорка, балычок… Дак за гостя дорогого тост!.. Это ваш лафитничек, подвигайте, Ефим Николаевич… Никита, ради такого праздника… Не погнушались нами…
Глядя, как Никита поморщился и отставил вино, Верзилин одобрил: «Молодец». Сам отхлебнул один глоток.
— Эх, хороша!.. Хвати тя за пятку! — крякнул старик, заставив Верзилина вспомнить о Татаурове.
А старичок, словно угадав его мысли, спросил:
— Так покинул вас Иван?
— Не говорите, — вздохнул Верзилин.
— Я, конешно, извиняюсь, но, глядя на него, мне думалось всегда, когда вы были вместе, а боле того, когда он без вас в бильярд играл: «Отречётся он от вас…» Как сказано: «Не пропоёт петел трижды, как отречёшься ты от мя…» Именно… Я, конешно, извиняюсь… А вы закусочку берите… Но это ничего. Я, конешно, извиняюсь, но Никита вас никогда не предаст. Правда, Никита?.. Давайте по второму лафитничку опрокинем… Вот так, хорошо!.. А что говорят, так пускай говорят — собака лает, ветер носит… Значит, семейством племяша моего интересуетесь? Я, конешно, извиняюсь, но родитель его (царство ему небесное) такой же конплекции был, как я. Братья мы родные, погодки. И мать — такая же. Й два сына первых такие же. А Никита с сестрой — богатыри. Однова строительством занялись — вдвоём с сестрой из лесу все брёвна на себе вынесли; никто не заметил. Шито–крыто, без лошадки. А в другой раз сестра–то заходит в лавку, тюки там пудов на двадцать. Прикашшик с хозяином туда–сюда, тык–пык, не сдвинут с места. «Ну–ко», — говорит девка. Взяла — раз, готово. А ведь девка. Ешшо разик чокнемся; ваше здоровье! Эх, хорошо! Хвати тя за пятку! А Никита одново с мельником поссорился, собрал все гири на цепь и к потолку — на балку — подвесил. Сыми попробуй. Ой–ой, там сколько будет весу. А другой раз привалил к дверям железную тунбу — не откроешь дверь. Через окна уж вылезли, втроём отодвинули.
Отпивая из стакана пахнущий мятой квас, Верзилин сказал осторожно:
— А ты, я вижу, Никита, и сам пошалыганить любишь?
— Нет, — покачал головой парень. — Он так рассказывает вам, словно я шпана береговая… Это один такой случай был, когда я рассердился…
— А один ли?
— Ну два, — недовольно сказал Никита.
— Ишь ведь, обиделся! — с восхищением посмотрел Феофилактыч на племянника. — Весь в меня, такой же гордый — не подступись!.. Ешшо по маленькой выпьем. Ваше здоровье. Евдокия! — сердито крикнул он на кухню. — Иди выпей со мной за здоровье людей хороших. А то они квасок один попивают.
Вытирая руки фартуком, давешняя пышущая румянцем девка вошла в горницу и поклонилась Верзилину. Взяла лафитничек.
— Жена моя, — сухо представил её старик. — Ну, будем здоровы. Иди… Иди, иди — на кухню… Так вы говорите — пошалыганить? Нет, не будет ваша правда. Вот было дело — идёт Никита через реку, а там — сахар везли. Весной было дело, лёд–то возьми да и обломись. Народу набежало — барабаются, как яшшерицы, — толку нет, беда неловко. Хозяин на себе волосы рвёт. «Спасай, Сарафанников, — говорит, — деньги большие дам». Так што ты думаешь? — вытащил ведь Никита… А вот ешшо когда спирт возил — лошадёнка плохая была. Распутица (а в распутицу сам знаешь — какие у нас дороги). Остановицца посреди
дороги и ни с места. Што делать? Никита распряжёт её, привяжет к саням, а сам — в оглобли. И везёт. А бочка, промежду прочим, сорокаведёрная — шутка в деле (я, конешно, извиняюсь)…
Пушистый сибирский кот подошёл к старику, потёрся об ногу. Макар Феофилактович нагнулся, подхватил его, посадил на колени. Томно выгибаясь под пальцами хозяина, кот косил на Верзилина зелёным прищуренным глазом.
Пчела залетела в открытое окно, гудя, закружилась вокруг лампы; поскуливала где–то собака; слышалось журчание ключа.
Хмель развязал язык Макара Феофилактовича, и он рассказывал случай за случаем.
«Если даже только половина из его рассказов правда — это уже здорово», — думал Верзилин, откинувшись на спинку стула и наблюдая за тем, как Никита играет деревянной ложкой, застенчиво улыбается.
— Хороша работа, — кивнул Верзилин на искусную резьбу черенка.
Феофилактыч вскочил, сбросив кота с коленей, выхватил ложку у племянника, суя её Верзилину, приговаривал:
— От нас с Никитой, в память… Примите великодушно. Обычай такой — подарки любят отдарки…
Верзилин протянул руку, но она упала как плеть. Он опасливо покосился на Никиту: не заметил ли? Нет, как будто бы не заметил.
А Никита, обрывая кусок газеты, на которой лежал пирог, сказал:
— Давайте–ка оботру.
Протирая и без того чистую ложку, насвистывал сквозь зубы едва слышно. Потом, возвратив подарок Верзилину, машинально перегнул бумагу; разглаживая на кубовой скатерти, прочитал по складам:
— «О–де–сса. Вслед–стви–е про–дол–жа–ющей‑ся забас–товки груз–чиков в за–гра–ничном от–деле пор–та по–чти пол–ная без — де–я–тель… бездеятельность. Гру–зят–ся толь–ко не–сколь–ко иностр… иностр–анных пароходов по–сред–ст–вом кон–вей–ер–ов…» Ишь ты, конвейеров: нашли выход… А мы вот забастуем — никаких конвейеров нет, никто не выручит.
Феофилактыч сказал:
— Конвейер этот самый тоже человек обслуживат… Отошёл этак в сторонку, руки в карманы, картузик на нос — и, пожалуйста, конвейер этот самый — ни с места… Я, конешно, извиняюсь…
— Это правильно, — заметил Верзилин, — ежели люди все как один… вот тогда… любой хозяин вынужден будет плату прибавить. И время работы уменьшить. А уж если по всей стране: и в Одесском порту, и на Вятской пристани, и… в цирке… откажутся… Тут уже держись самый большой хозяин, — И подумал с гордостью: «А люди это могут», — но, вспомнив о Татаурове, вздохнул: «Только такой, пожалуй, всегда найдётся… где угодно. Подведёт».
Через час Верзилин поднялся. Никита вызвался его проводить. Шли по уснувшей Ежовке. Тихо поскрипывали деревянные мостки под ногами; рядом что–то булькало. Судя по запаху, это было болото.
— Давно надо было в цирке попробовать свои силы, — сказал Верзилин Никите через плечо.
— Всё как–то стеснительно, неловко. Как это — подойти и спросить: допустите меня… Если бы не стыд, так я давно бы вышел.
Они остановились на верхней площадке лестницы. Виднелась чёрная река и лес за ней; сзади, за домами, рдело зарево от городских огней.
— Я ваше имя знаю, — сказал Никита, — в журнале читал. Вы Мальту победили. Вас знаю и Гришу Кощеева знаю по газетам. Знаю, что он четвёртый приз в мировом чемпионате взял. И думаю иногда, что и я бы так же смог… Только учиться надо. А учителя нет… Это моё счастье, что вы хотите меня учить.
— Это ты молодец, что понимаешь. А то наши борцы начинают сперва бороться, и когда уже протрут ковры лопатками, тогда только начинают учиться. Это, друг мой, поздно. Сначала учись, а потом уже борись.
— Ефим Николаевич, я согласен на всё.
— Завтра берёшь расчёт (у меня пока деньги есть), и начинаем тренировки. Подъём, стакан молока, борьба. Я буду показывать тебе все приёмы и положения. Ты будешь точно их повторять. Так до сорока минут, а то и до часу. Затем — солдатский бег вот с этим чемоданом, — Верзилин похлопал по своему чемодану. — Будет нелегко, но зато станешь борцом.
15
Верзилин вернулся в номера в великолепном настроении; быстро уснул. Снилось что–то хорошее, а что — не мог припомнить. Утром встретился с Никитой.
По Раздерихинскому спуску Никита шёл как хозяин. Почти на каждом шагу слышалось:
— Здорово, Никита!
— Сарафанникову поклон!
— Заглядывай, друг!
— А‑а! Братуша!
Никита жал руки, приветственно кивал головой.
У парома — толпа. Мужичишка в зипуне бился над телегой — застряла колёсами в настил. Никита подошёл, растолкал толпу, поплевал на руки, раз! — телега вместе с железной бочкой оказалась в воздухе.
— Ай да Никита! Одно слово — богатырь. Знай наших!
Мужичишка запустил пятерню в бороду, слов от изумления не может найти. Никита хлопнул его по животу, подмигнул. Кругом смех.
— Чо пузу выставил? Говори мерси нашему Никите.
Верзилин увидел: это вчерашние грузчики; опять в «слизень–мазень» играют. Покосился на бревно — лежит в глине, родничок под ним бьётся, бабочка–капустница уселась на отскочившую бересту.
— Здорово, братцы, — Никита присел рядом с ними, повернулся к Верзилину, объяснил грузчикам: — Борец знаменитый. Ефим Николаевич зовут. Меня учить будет бороться.
— Наше почтеньице, Ефим Николаевич! Прощенья просим, обидели вас вчерась. Ну ничо, свои люди — сочтёмся. Присаживайтесь.
Лохматый расплылся в улыбке, смахнул сор с реденькой травки:
— Дык што? По цирковой части, значит, изволите? Дело стоящее, антиресное.
Другой сказал, потягиваясь:
— Люблю борьбу — страсть. Мне бы вашу али Никитину конплекцию…
Верзилин сел, шутливо ткнул парня в плечо:
— Ну, у тебя комплекция тоже неплохая.
— Дык оно конешно, — обрадовался тот.
Никита взял ножик, ловко воткнул его с оборота в землю, поднялся, сказал Верзилину:
— Посидите, я скоро.
— Не хотите ли сыграть, Ефим Николаевич? — предложил почтительно лохматый.
Верзилин согласился. Первые две фигуры получились, третья — нет.
Грузчики принялись услужливо объяснять, как держать нож, как взмахивать рукой, как прицеливаться:
— Вот, Ефим Николаевич, так. Этак пальчики, а клиночек сюда. Самое главное — вовремя разжать руку. Вот–вот. Распрекрасно. Ещё разок. Вам — вне очереди. Хорошо. Прямо распрекрасно.
— Ну, давайте по–честному, форы мне не надо. Вы по разу, и я по разу. Идёт?
— Идёт, Ефим Николаевич.
Лохматый взял ножик и пошёл, и пошёл выделывать им фигуры: с каждого пальца, с голого локтя, с подбородка, со лба, даже с носа. Зеваки собрались, смотрят, подбадривают.
Солнце над лесом, по серой воде — золотая дорожка, волны взблескивают, дымок над пароходной трубой светленький. Мальчишка выхватил из–под лодок рыбёшку, она сверкнула на солнце, шлёпнулась на берег. Стрекоза вздрагивает над одним и тем же местом. Божья коровка села на рукав. Верзилин снял её осторожно, посадил на ладонь; она распахнула крылышки, взвилась, покружила, села на нос лохматому, пока он нацеливался ножиком. Сведя большие плутоватые глаза в одну точку, он осторожно взял её толстыми грязными пальцами и протянул Верзилину, сказав:
— Ишь, шельма, улететь хотела.
Верзилин снова посадил её на локоть. Сиди, хорошая; сиди, красавица.
В толпу протиснулся мальчишка — в руках букет полевых цветов.
— Не продашь? — спросил Верзилин.
Мальчишка шмыгнул носом, почесал голое пузо, отступил за людей. Тогда лохматый зыкнул на него:
— Оглох? Отдай цветы Ефиму Николаевичу.
Малец сунул букет Верзилину. Верзилин дал ему пятачок.
— Пятак? Да вы что, Ефим Николаевич? Копейка — красная цена в базарный день… Отдай, отдай назад, — ужаснулся лохматый.
Верзилин пятак не взял: погладил мальца по голове, легонько щёлкнул по курносому носу. Подошла очередь играть, вздохнул. Раз! — ножик воткнулся. Два! — воткнулся. Третий раз не получилось. Ничего не поделаешь — проиграл. Грузчики забили нож в землю до отказа. Надо вытащить зубами. Не получается, земля в рот попадает. Мужики смеются. Есть! Вцепился. Готово!
— Ай да Николаич! Молодчага!
— Свой парень! Недаром Никита с тобой дружит.
Подошёл старик в поддёвке и сапогах, с удивлением посмотрел на Верзилина, на всякий случай поклонился. Стал уговаривать парней: приходит пароход, груз срочный, деликатный, может попортиться, разгрузиться надо быстро, плата двойная.
Верзилин вдруг вспомнил зимний пожар, гладиатора с огромным шкафом на спине, два часа тяжёлой работы; захотелось поработать бок о бок с этими парнями. Но он сдержал себя, пожал им на прощанье руки, стал ждать Никиту.
Никита пришёл вскоре. Поднимались в гору медленно, разговаривали. На Николаевской улице увидели афишу: «Синематограф «Колизей». Перед вечерними сеансами выступает король цепей Ян Пытля».
Верзилин усмехнулся, покосился на Никиту.
Синематограф только что открылся. Говорили, что он был одним из крупнейших в России, и хозяин его — Румянцев, обслуживающий такую громадину один с женой и свояченицей, делал всё, чтобы повысить сборы. Публика к нему так и валила, несмотря на дорогие билеты.
Под звуки марша, выбиваемого из рояля румянцевской свояченицей, огромный Ян Пытля, облачённый в греческую тунику, золотую каску и верёвочные туфли, выходил на помост. В течение десяти минут он разгибал небольшие подковы, гнул монеты, рвал цепи; потом обращался к поражённой публике с предложением бороться на поясах. Все опускали глаза. Желающих не оказывалось… Ни Ян Пытля, ни хозяин синематографа Румянцев не были дураками; прежде чем начать эти гастроли, они дождались отъезда атлетов из Вятки…
Так было четыре дня. На пятый после привычно–равнодушного призыва Пытли к сцене подошёл здоровенный детина в белой косоворотке, расшитой васильками, и заявил, что он принимает вызов.
Пытля отвернулся в сторону, словно не видел парня, и, торопливо застёгивая тунику бронзовой брошкой, изображающей львиную морду, пошёл с помоста.
Парень в рубашке с васильками повторил свои слова. Но тапёрша забарабанила по клавишам изо всех сил, стараясь их заглушить.
Кто–то из публики запустил в Пытлю огрызком яблока:
— Сдрейфил! Фюить!
Пытля обернулся. И тогда в наступившей тишине на весь зал раздался дребезжащий голосок щупленького старичка:
— Ты герой, видать! Против овец молодец, а против молодца — сам овца!.. Хвати тя за холку!
— Братцы! — закричал кто–то радостно. — Да ведь это Никита Сарафанников!
— Действительно — Никита! — обрадовались в другом конце зрительного зала.
Пытля угрюмо посмотрел на возбуждённый народ.
— Давай, давай, не трусь! — подбодрил его кто–то.
— Не трусь, не трусь, сейчас тебя наш Никита разделает, как бог черепаху!
— Под орех!
Из–за экрана выглянуло испуганное лицо с взлохмаченными волосами, взглядом поманило Пытлю. Тот, насупившись, подвинулся на шаг, затем перевёл взгляд на Никиту, показал глазами за кулисы (дескать, иди, раздевайся) и спустил с плеч шёлковую тунику. Ждал.
Когда Никита вышел на помост, Феофилактыч азартно ударил себя по коленке и с самозабвением воскликнул:
— Ие–ех, Никитушка! Знай наших! Кашу слопал — чашку об пол!
Из–за кулис появился лохматый человек, протянул борцам по поясу с ручками. Его щуплая фигурка бестолково суетилась вокруг Никиты и Пытли; он помогал им надеть пояса, отскакивал. в сторону, снова подбегал.
Борцы встали друг против друга, взялись за специальные ручки, пришитые к поясам, упёрлись — плечо в плечо.
Никита приподнял Пытлю, да так резко, что ручки не выдержали огромного веса, оборвались. Пытля грохнулся на дощатый помост, прикрытый пыльным ковриком.
Лохматый был уже тут как тут. Подняв руки противников, вытягиваясь на цыпочки, прокричал, стараясь заглушить шум:
— Ввиду колоссальной силы вятского богатыря Никиты Сарафанникова не выдержал реквизит. Борьба переносится на завтра перед вечерними сеансами!
Не выпуская Никитиной руки, он пошёл с ним за кулисы, оставив Пытлю одного натягивать свою греческую тунику.
Верзилин бросил на ходу Феофилактычу: «Сиди», поднялся с места, прошёл по проходу, перескочил через ступеньки и скрылся за экраном.
Он угадал, в чём дело, и, кланяясь хозяину синематографа, сказал:
— Хорошо, мы согласны на ангажемент. Каковы ваши условия?
Бегая глазками, Румянцев ответил не задумываясь:
— Двадцать пять процентов от сбора. Выступление перед двумя сеансами.
— Это слишком дёшево.
— Кабы боролись вы, я бы дал больше. У Никиты же имени нет.
— Положим, моего имени вы не знаете, — сухо оборвал его Верзилин. — А в Никитиной популярности вы убедились сейчас. Афиши же вам сделают огромный сбор.
— Имя Верзилина известно всем любителям борьбы… А если бы я не был уверен в популярности Никиты, я бы не ангажировал его, — ответил Румянцев, прислушиваясь к шуму в зале.
— Ладно, мы согласны. А сейчас скажите мне: ручки были подпороты?
— Конечно. Я подпорол их на ходу, да хватил через край. Я рассчитывал, что борцы успеют повозиться… Только не говорите об этом Пытле. Мне придётся урезать его гонорар–ввиду малой популярности.
Попрощавшись с Румянцевым, они вышли на улицу.
Солнце скрылось за каменными домами, и лишь последний его луч упёрся в пышные облака, окрасив их в багряный цвет. Дул ветер. С криком кружились галки над высокой трубой электростанции.
Прислонившись спиной к деревянным перилам, Верзилин сказал Никите:
— Придётся ждать Феофилактыча.
Но ждать не пришлось — он явился сам, вспотевший, раскрасневшийся. Приглаживая редкие седые волосы, прикрывая ими лысину, горячо сообщил:
— Разговоры одни в зале — о Никите. Картина идёт, а никто не смотрит. Всё Никита да Никита… Ты вникай, парень, прислушивайся. Я, конешно, извиняюсь, но напрямки должон сказать, что это в некоторой степени любопытно, и ухватиться ты должен за любезное предложение дорогого нашего Ефима Николаевича… И как отец, благословляю тебя — поезжай… в Петербург — достигнешь там степени… превзойдёшь всех борцов, — и он неожиданно всхлипнул. Потом полез целоваться с племянником и
Верзилиным.
А минутой позже, глядя ещё слезящимися глазами на кровавое облако, вздохнул:
— Эх, завтра дожж будет…
Дождь пошёл с утра. А днём на сырых заборах появились афиши: «Синематограф «Колизей». Перед двумя вечерними сеансами борьба до победы между польским борцом Яном Пытлей и вятским богатырём Никитой Сарафанниковым».
Дождь не переставал ни на минуту. Несмотря на это, синематограф был битком набит. Промокшие люди стояли вдоль стен и даже в проходах.
Любуясь обуглившимся от солнца стройным Никитиным телом, по которому можно было изучать анатомию, Верзилин подумал, что полтора десятка таких сеансов здорово поправят их финансовые дела.
Борцы взялись за ручки поясов. Мышцы на спине Никиты обозначились резко, отчётливо, как на гипсовом муляже, что был выставлен в магазине учебных пособий, и под шум и свист публики огромный Пытля оказался в воздухе. Никита повернул его над головой, держа на вытянутых руках, и резко швырнул на ковёр.
— Эх, коза с волком тягалась — одна шкура осталась! — воскликнул Макар Феофилактыч. — Сбубетенькал, мил человек! Хвати тя за холку!
Последние его слова покрыл шум и свист.
— Никита! Ай да Никита! Знай наших!
Потирая ушибленную спину, Пытля с угрюмой ненавистью посмотрел в зал.
— Давай, давай — шлёпай отдыхать! — крикнул ему кто–то. — На следующем сеансе опять так же будет!
Пытля не пошёл в кабинет к Румянцеву, остался за кулисами.
Зато Макар Феофилактыч чувствовал себя как дома. Безбожно дымя вонючей козьей ножкой, он рассказывал хозяину синематографа легенды о Никитиной силе. Румянцев слушал, всплёскивал руками, отмахивался от дыма, кашлял, подбегал подышать свежим воздухом к форточке.
Потом, ударив себя по лбу, схватил Никиту за руку — потащил показывать новый пояс.
Верзилин усмехнулся, сообразив: «Переманить решил парня», но был спокоен, знал, что бесполезно.
Когда кончился первый сеанс, народ не расходился. Стоило больших трудов выпроводить всех из зала. Перед вторым сеансом желающих посмотреть на Никиту собралось ещё больше. Румянцев довольно потирал руки.
Стоя в полумраке, за экраном, Никита прошептал Верзилину на ухо:
— Дурак, предлагал бросить вас. Обещал возить по городам.
Верзилин молча сжал его локоть.
Мимо прошёл ссутулившийся, тяжёлый Пытля, угрюмо покосился на них.
Зал бесновался.
Никита спокойно переглянулся с Верзилиным, подмигнул Феофилактычу…
Борцы стали в стойку, взялись за ручки поясов. Напрягшись, начали ходить по сцене, пригнувшись.
И вдруг Пытля вырвал свои руки и толкнул Никиту в грудь. Не ожидавший этого парень полетел со сцены — прямо на людей, сидящих в первом ряду. Раздался женский вопль. Все вскочили с мест. Несколько человек приподняли Никиту, лицо его было окровавлено.
Отстраняя людей, прихрамывая, он поднялся по ступенькам и, придерживаясь за Верзилина, прошёл за кулисы.
Разбойничий свист рассёк воздух.
— Ага! Запрешшонные приёмы? Бей его!
— Ты на нашего Никиту?!
— Чего жалеть?! Бей!
Трое ежовских парней ворвались за экран.
— Никитка, да мы сейчас его… — за пазухами у них холодно поблёскивали ножи. — Да чтоб нашего Никиту — да ни в жизнь в обиду не дадим!
— Да что вы, братцы, — проговорил растроганный Никита. — Да не надо, — он загородил им дорогу, прихрамывая, начал теснить их к выходу.
— Знаем мы тебя — святой, никого пальцем не тронешь… Разве ж это дело?
— Да, братцы, право слово, не надо… Ну, говорю вам, не надо, — он всё подталкивал их к проходу между экраном и колонной.
Пряча ножи, парни неохотно ушли, пообещав подкараулить Пытлю на улице.
Волоча ногу, Никита бросился в каморку, где одевался Пытля.
Резко взметнулось пламя в лампе, трусливо отпрянула туша Пытли, зловеще скользнула тень по развешанным на стене афишам.
— Слушайте! Вы! Вас сейчас зарежут! — проговорил торопливо Никита, не обращая внимания на стоящего за его спиной Верзилина. — Это парни такие, они — сделают. Бегите скорее через окно. Да бросьте вы свою простыню, — он скомкал тунику, оцарапавшись о львиную застёжку, сунул её Пытле. — Ну! Бегите скорее!
Распахнув окно, Никита вытолкнул полуодетого борца в темноту. Протянув руки под дождь и набрав в пригоршни воды, начал смывать с лица кровь.
В дверях появился испуганный Румянцев, просунув под верзилинский локоть лохматую голову, осмотрел вытаращенными глазами каморку, спросил испуганно:
— Где этот жулик? Его зарезать собираются. Да спасите вы его, не устраивайте скандала. Ох, боже ты мой, что делается! Что делается!
— Ушёл ваш жулик, — успокоил его Верзилин. — Скажите спасибо Никите. Да другой бы на его месте…
— Я знал, что вы благородный человек, — запричитал хозяин синематографа, стараясь схватить Никиту за руку.
Слизывая с ладони кровь, Никита сказал, насупившись:
— Да перестаньте, хватит вам…
Порыв ветра забросил в комнату струи дождя, Никита передёрнул плечами.
— Идём, — торопливо сказал Верзилин. — Послушайте, мы сейчас должны получить расчёт. Нам больше нечего делать у вас. Вбивать гвозди и рвать колоду карт мы не собираемся.
Через несколько минут, когда они вошли в кабинет к Румянцеву, тот встретил их любезно, даже опоздавшему Феофилактычу протянул пачку папирос «Ада».
— Количество мест двадцать на двадцать — четыреста… — начал он, отщёлкивая на счётах, отставив в сторону папиросу, зажатую между мизинцем и безымянным пальцем.
Он долго считал, брякая костяшками счёт, затягиваясь голубым дымом. В конце концов сказал:
— Вот видите, это теоретически. А практически — вот наличность последних двух сеансов.
— Это же вдвое меньше, чем должно быть! — возмущённо сказал Верзилин.
— Как хотите считайте. Как, Наденька, много у нас по контрамаркам было?
— Так я же говорю, что чуть не треть зала, — проговорила дамочка в кудряшках.
— Вот видите, — вздохнул Румянцев. — Вы же сами сидели в зале, — видели, сколько было безбилетников. Понимаете, им не откажешь — родственники, знакомые; всем хочется посмотреть на вятского богатыря.
— Да ничего я не видел, — сказал Верзилин. — Я видел, что негде было яблоку упасть.
— Если не доверяете, надо было в дверях стоять и контролировать мою супругу. Тогда бы не было никаких недоразумений, — устало произнёс Румянцев и откинулся на спинку кресла.
— Да не нужны нам ваши девять рублей, — сердито проворчал Никита, растирая ушибленный локоть. — Я на разгрузке больше заработаю…
— Дело ваше, — холодно произнёс Румянцев и подвинул к себе стакан остывшего чаю.
— Ну нет, давайте деньги, — вставая, сказал Верзилин. — И я очень жалею, что мы уберегли вас от скандала. Знай я, что вы так поступите, — никогда бы не разрешил Никите отпустить Пытлю. До свиданья.
— Моё почтенье.
— «Почтенье», «почтенье», — ворчал Никита, выходя на улицу; он надулся, вздыхал, что–то бормотал неразборчиво.
— Иксплутатор чёртов, — сказал Макар Феофилактыч.
Дождь лил как из ведра. Дул ветер. Было темно. Прохожий
в клеёнчатом капюшоне столкнулся с Верзилиным, извинился; обернулся вслед, ещё раз извинился. Из окон падали тусклые прямоугольники света; поблёскивал промытый дождём булыжник. Бурный ручей мчался посредине дороги — вниз, к реке. Перепрыгивая через него, Верзилин промочил ноги. Стало холодно, по спине пробежали мурашки.
Скользя по грязи, держась руками за дощатые заборы, они пробрались к лестнице. Потоки воды текли по горе с шумом, смывая с откоса красную глину, казалось, хотели погубить Ежовку. Она спала. Маленькие домики притулились тихо–тихо; окна были чёрными; молчали собаки.
Ноги скользили по ступенькам лестницы, срывались. Хватаясь за холодные, мокрые перила, Верзилин говорил:
— Не завидую сейчас Пытле. Где–то он?
Никита что–то проворчал, а что — не разобрать. Макар выругался.
У самого основания лестницы Верзилин оступился по колено в воду; чертыхнулся: «Ох и грязный у вас город». Вяло тявкнула собака.
Они долго стучались в калитку. Вышла Дуся — в платке, накинутом на рубашку. Увидев Верзилина, взвизгнула, убежала в горницу. За ситцевой занавеской вздула огонь. Макар Феофилактович, забрасывая на печку мокрый пиджак, заулыбался, запричитал:
— Дусенька, на шосточке там жаркое… По лафитничку поднеси нам с устатка… Ишь погоды–то ноне какие, одно слово — вымокли.
Он разделся до нижнего белья и, почёсывая седую грудь, стал помогать жене собирать на стол; слазил в подпол — за водочкой, настоянной на можжевельнике. Сам разлил по лафитничкам, ждал, когда Верзилин с Никитой переоденутся в сухое.
Верзилин и Никита от вина отказались.
Макар Феофилактович перекрестился, выпил все три лафитника, налил четвёртый, потянулся к капусте, говоря Верзилину, подвинувшему ему тарелку: «Не извольте беспокоицца, мне одну шшопоточку»; выпил, похрустел капустой, обсосал пальцы и вышел. Скрипнула дверь. Возвратившись, сообщил:
— Вызвездило. Оно и правильно: завтра хорошая погода нужна — свистунья.
— Это что за штука? — поинтересовался Верзилин.
Подхватив кота, посадив его на свои колени, обтянутые белыми кальсонами, Феофилактыч объяснил охотно:
— А праздник такой. Свистули продают. Все свистят. Свист — отсюда свистунья.
Он долго рассказывал о празднике, потом сделал страшное лицо, дунул в морду сонному коту, затопал, захохотал, радуясь тому, как тот обалдело заметался по комнате.
Позже, из темноты, ещё долго слышался его весёлый говорок. Верзилин лежал на спине, молчал. Не спалось. О Пытле и Румянцеве думалось без злобы. Отчего–то было очень покойно. Он приподнялся на локте и приоткрыл оконную занавеску. На улице было черно. За косыми досками ограды маячил красный огонёк — видимо бакен. Потом он различил гребёночку леса и над ней — небо. Оно было ясным; сверкали звёзды. «Не обманул старик», — подумал Верзилин и, припоминая его рассказ о свистунье, заснул.
Разбудило его яркое солнце. Дуся в подоткнутой юбке мыла пол. Взгляд Верзилина скользнул по косарю, по тазу с водой, по водяным подтёкам, наткнулся на Дусины ноги, торопливо перескочил на стену («Какие симпатичные обои») и задержался на позеленевшей лампадке. Потом Верзилин повернулся к Дусе спиной, приоткрыл занавеску. Макар работал; весело взлетал в его руках топор, звонкие сочные щепки отскакивали пружинисто в стороны, щёлкались в забор, в упругое просмолённое дно лодки. Голубая ширь реки простиралась до самого леса. Верзилин ткнул створку окна, оно распахнулось, в комнату ворвалось пение птиц, звон собачьей цепи, стук топора, кряканье уток, кудахтанье кур, журчание ручья. Утро! Ох и хорошо всё–таки жить на свете, чёрт возьми!
Хорошо выйти во двор, вдохнуть запах реки, окатиться колодезной водой, побороться с Никитой под угрожающий рык собаки.
Завтрак был праздничный.
Макар Феофилактыч хлебнул «можжевеловой» — разговорился.
Днём пошли в город. Лестница никак не давалась старику. Пришлось его поддерживать под руки. На горе долго вытирали ноги о зелёную мокрую траву. В воздухе плыл малиновый звон — раскатывался, переливался, гудел. Нарядные, весёлые горожане шли по промытым дождём улицам. В обжорке пахло пирогами, поджаренным мясом, гороховым киселём, дымком. Около жаровен толпились люди — закусывали. Верзилин не утерпел — купил три бутылки «кислых щей»; ударило в нос; вкусно! Больше всего понравилось Феофилактычу. Хотя и был сыт, но косился на глиняные плошки с дымящимся ливером — глаза завидуют, а ведь не съешь; Дусенька только что накормила дома. Пошли дальше. Толпа. Говор. Смех. Свист. Шныряют мальчишки. Ох и здорово! До самого Александровского сада площадь уставлена балаганами, ларьками — из парусины, из досок. Всё битком набито игрушками: мужик с медведем по очереди лупят по наковальне; раскланивается пильщик с деревянной пилой — пилит; курицы мотают шарнирными шеями, клюют зерно — болтается шарик, дёргает их шеи за ниточки; гипсовый кот (а может, собака — не поймёшь) сидит, скалится, в спине щель — спускай медяки, копи деньги, будешь богатым; рядом, чуть поменьше, император — говорят, Наполеон, а может быть, Александр Первый — в лосинах, в треуголке… Глаза разбегаются — чего тут только нет! Но больше всего свистулек — глиняные, деревянные, жестяные. Они свистят на все голоса: протяжно и прерывисто, пронзительно и мелодично. Вот свисток, с горошиной — она перекатывается, дребезжит, мечется, бьётся о стенки. Вот свисток душераздирающий — голосит взахлёб. Вот дудочка–ду–ду‑ду — словно пастух играет в свой рожок. Но больше всего глиняных свистулей, небольших — так себе, раскоряка какая–то на трёх ногах, с гребешком: лошадь не лошадь, баран не баран, — чудище, в хвосте дырка, а дунешь — приятно так засвистит, как в детстве, когда из липы первый свисток сделаешь: ф–ю–ю. По бокам сусальное золото да красные с зелёным горошины — ни за что не пройдёшь мимо, купишь! Больно хороши! А ну подходи, покупай, пятачок цена! Не жалей, милый человек!
Верзилин подошёл, сразу же отгородил своей широкой спиной торговца от покупателей. Не смог отвести глаз от игрушек. Рядом с раскоряками свистулями стояли глиняные барыни в кринолинах — упёрли свои руки–колбаски в бока, расплываются в застенчивых улыбках. До чего хороши! На юбках солнышки всех цветов, пуговицы золотые блестят. Не жалеют дымковские мастера яичного желтка, подкладывают его в краску, оттого и блестят их игрушки, оттого и падают пятаки да семишники в их карманы. Нет, не пройдёшь мимо такой штуковины — купишь.
Верзилин достал бумажник, вытащил деньги. Взял барыню за шляпу, сунул в карман; взял девицу с вёдрами на коромысле — опустил следом; взял свнстулю–раскоряку, дунул — фю! фю! — рассмеялся. Обернулся — ни Никиты, ни Феофилактыча. «Куда они исчезли?» — подумал. Да где тут, разве найдёшь в этой толпе! Рядом мальчишка выстрелил из пугача — пык! — пробка на верёвочке болтается. Верзилин снова склонился над ящиком, взял двумя пальцами коня глиняного, сдул с него соломинку, полюбовался, положил в карман. Набил полные карманы.
— Вот это по–нашему! — обрадовался мужичишка.
А Верзилин пошёл, глядя поверх голов, отыскивая Никиту. Весело, интересно. Все со свистульками — даже взрослые. Свистят. Вот Никитина голова плывёт над толпой. Верзилин пошёл быстрее, расталкивая людей, посмеиваясь, отшучиваясь, иногда извиняясь. У балагана остановился: опять блестят сусальным золотом игрушки, ну и хороши! Солнце так на них и играет. Аккуратный стриженый мальчик нерешительно просит папу:
— Папа, купите этого коника.
Папа поправил котелок, покосился на маму (та держит светлый зонтик, закрывается от солнца), начал выговаривать:
— Куда тебе этот бесформенный кусок глины? Ни конь, ни корова, не поймёшь что. Если бы всё это делалось не приватным образом, то есть было бы сосредоточено в руках земства, то таких игрушек никогда бы не выпускали.
Верзилин поспешно прикрыл свои карманы — не ровён час, увидят, что они битком набиты этими игрушками, засмеют. Боком–боком — подальше, в толпу. «И зачем я накупил столько?» Он смущённо оглянулся, вытащил свистулю–барашка (нет, хороша!), дунул:
— Фюить!
Продают портсигары и спичечницы из полированного берёзового корня. Верзилин постоял, полюбовался; пошёл дальше, опять дунул в свистулю:
— Фюить!
А вот и гармоники, малиновы меха. Хоть сейчас пляши! Ноги сами в пляс просятся.
Стрижи в небе летают, крест на кафедральном соборе блестит; под крестом часы огромные; уже два часа. Где же Никита с Феофилактычем? Во–он Никитина голова. Ага, каруселью любуется. Красиво! На деревянных лошадках парни сидят, девицы; колокольчики–бубенчики позванивают.
Идёт дядька, рукой взмахивает, из рукава мячик разноцветный на резинке выскакивает. Дядька кричит:
— Подходи — подешевело, налетели — не берут! На резинке воробей, самый опасный зверь!
Раз — Верзилину в живот! Верзилин шутливо погрозил пальцем. Мальчишка рядом дунул в цветную бумажку — она круто развернулась, стала длинной: «Эх, покупайте тёщин язык!» Верзилин рассмеялся, начал снова продираться сквозь толпу. На парнях яркие рубахи, пояса с кистями, на женщинах пёстрые кофты. Стоят, пареные груши за обе щеки уписывают, маковые лепёшки грызут — праздник!
«А может и вправду бесформенный кусок глины?» — подумал Верзилин и вздохнул: уж очень не хотелось, чтобы понравившиеся игрушки оказались куском глины. Вытащил из кармана девицу с коромыслом. Нет, хороша! Вёдра золотые, юбка бирюзовая, кофта белая в цветной горошек. А как вышагивает! Гордо, ни одной капли не расплещет. Как Дусенька. Конечно, руки непропорциональны (длинны, как у борца Ваньки Каина), талия не на месте… А впрочем, чёрт его знает, хороша или не хороша…
Он снова посмотрел на игрушку — блестит. Хороша. Дунул в свистульку:
— Фюить!
Остановился у ларька — игрушки из папье–маше. А рядом туески берестяные; по туескам такие же орнаменты, как по подолам у глиняных барынь. «Хороши барыни или не хороши? И зачем меня этот господин с толку сбил?»
Он снова вытащил из кармана игрушку, вздохнул. И, отыскав Никиту, решил всё свести в шутку:
— Вот тут я баранов разных да барынь глиняных накупил. Буду тебе в премию выдавать за каждую победу. На тренировках, — и протянул ему свистулю: — Это тебе за победу над Пытлей.
16
Вот он — родной Петербург, вот он — родной дом.
Как хорошо!
Даже когда–то пугавший почерк на анонимках, посылаемых бароном Вогау, — не страшен. Упругий, хрустящий конверт. Что там они послали на этот раз?
Вместо ожидаемой крышки от папиросной коробки выпал тоненький листочек бумаги.
Верзилин прочитал с удивлением:
«Уложить Корду может только победитель Мальты. Мы ждём Вашего приезда, как манны небесной. Вы должны к нам прийти в день приезда — угол Измайловского и Восьмой линии. Валерьян Коверзнев и Нина Джимухадзе».
Ниже мелкими острыми буквами было приписано:
«Я ни в чём не виновата. Н. Д.»
Вспомнилась чёрная вонючая вода Мойки; поленницы сырых, пахнущих прелью дров; солдат, обнимающий женщину; убийцы в крылатках и Нинин крик: «Я не хотела этого!» Двенадцать месяцев не вытравили из памяти ни одной детали.
— Ничего не понимаю, — пробормотал Верзилин, задумчиво рассматривая конверт. Странно, нет ни одного штампа. Но почерк барона — слава богу, он его знает. Было время, когда этот почерк сводил с ума… Коверзнев и Нина… Угол Измайловского и Восьмой роты — это же квартира Нины!.. Но тогда причём тут барон Вогау?
Он поднялся и прошёл на половину хозяйки… Она угодливо шагнула ему навстречу. Когда принесли письмо? Да позавчера. Во время его отъезда один господин заходил к нему несколько раз. Говорил, что репортёр. Последние два раза он был с дамой. Все интересовались, когда приедет Верзилин. А как им скажешь — ведь Верзилин не считает нужным сообщать, куда и надолго ли он уходит, и, конечно, уж она не ждала, что он напишет ей письмо… Она поэтому даже прибрать в его комнатах не смогла, — просит извинить.
Не заметив её обиды, Верзилин крикнул Никите возбуждённо:
— Срочно умывайся и едем! Оденешь мою визитку! Нас ждут друзья.
Через несколько минут они уже стояли на передней площадке мчавшегося со звоном трамвая. Чем ближе к центру они подъезжали, тем больше народу было на улицах. Трамвай пополз по мосту. «Ах, как медленно!» — думал Верзилин. Вода под мостом казалась серой; дым маленького пароходика, тянувшего баржу с камнями, закрыл поблёскивающие стёкла Балтийского завода; множество металлических кранов вырисовывалось на горизонте.
— Смотри, это и есть Петербург, — сказал Верзилин Никите. «И эти краны, и эллинг, и чухонская лодка, и сфинксы в тиарах, привезённые из древних Фив, и чугунная решётка моста, — ах, как я люблю всё это! — подумал он, с восторгом глядя вокруг. — Петербург — нет города красивее его… Я бы не смог жить в другом месте…»
Он обернулся, взглянул на воздушный шпиль Петропавловской крепости, на ростральные колонны перед биржей, на розовый изгиб парапета — и даже захолонуло сердце: так он любил этот город.
Они пересели на другой трамвай и вскоре сошли у белого с синим куполом Троицкого собора.
Высокий серый дом, широкая лестница. С каждой ступенькой сердце бьётся сильнее и сильнее. Вот оно уже бухает даже в висках. Остаётся повернуть звонок — все треволнения будут кончены. А вдруг, наоборот, — они только начнутся?
«Поверни меня», — просит надпись на звонке.
Верзилин поправил шляпу, строго посмотрел на Никиту и протянул руку к звонку.
Прошло несколько томительных секунд. Наконец раздались лёгкие шаги, открылась дверь.
— Верзилин — вы? — испуганно произнесла Нина Джимухадзе, отпрянув назад, вцепившись тонкими пальцами в концы светлого тёплого платка, стянутого у шеи.
Он молча склонился в поклоне, замер. Девушка протянула ему руку, и он надолго прильнул к ней губами.
— Коверзнев! — позвала Нина, не отнимая руки.
В стеклянных дверях появился Коверзнев — в бархатной куртке, с чёрным бантом, — обрадованно кинулся к Верзилину, приговаривая:
— Наконец–то! В самый раз. Ещё бы немного — и было бы поздно. Я рад. Вся надежда на вас. А то этот зазнавшийся Корда уедет из России непобеждённым… Совершив триумфальное турне от Тифлиса до Петербурга, он выступает у Чинизелли. К счастью — с силовыми номерами. Но вскоре его бенефис, на котором он будет бороться.
— Ах, перестань, — сказала Нина. — Дай человеку пройти в комнату, — и, обернувшись к Верзилину, сообщила: — А вы и в самом деле явились очень удачно: мы только что собирались на вернисаж.
Верзилин переступил порог. Комната показалась ему тесной из–за огромного количества вещей. От рояля поднялся здоровенный чёрный красавец с узенькими усиками, с длинными волосами,
— Знакомьтесь: мой брат Леван — знаменитый борец Верзилин, — сказала Нина.
Пожимая ему руку, Верзилин произнёс, кивнув на Никиту, замершего у входа:
— А это мой друг — Никита.
— Вот хитрец! — восхищённо сказал Коверзнев. — Нового спаррингпартнёра завёл. Ну и хитрец. А где Татаурова бросили?
— Во–первых, они не спаррингпартнёры, а во–вторых, Татауров меня бросил сам.
— Ишь, богатыри, — сказал Коверзнев, бесцеремонно похлопывая по плечу Никиту и Левана. — А Ефиму Верзилину всё же вы все уступите.
Леван Джимухадзе стоял, почтительно склонив голову, прижав к телу руки, — ждал, когда гости сядут.
Усаживаясь к столу красного дерева, прикрытому толстой плетёной салфеткой и заваленному яркими журналами, Верзилин вспомнил, что прежде Нина никогда не рассказывала о своём брате, который был в ссоре с отцом и все годы работал в южных цирках.
А она, словно прочитав его мысли, сообщила:
— Вы не знаете: я сейчас бросила львов и работаю вместе с Леваном.
— Вы бросили львов?
— Да, — сухо сказала она. — После того как погиб отец.
— Простите.
Она посмотрела на него печально и спросила:
— Вы не знали о его смерти?
— Как же я мог знать…
— Впрочем, это понятно, — согласилась она и тут же объяснила: — Тогда отец срочно увёз меня в Польшу, затем в Германию… Гастроли были удачными, но зимой Фараон (самый капризный лев — вы должны помнить его) распорол отцу шею… Отец умер, не приходя в себя… И я не смогла после всего держать себя в руках… Я — боялась… Приехал из Киева Леван и помог продать львов. Я рассталась с ними без сожаления — у меня было такое чувство, что я обязательно стану их жертвой…
Она отвернулась к окну; узкие плечи, прикрытые белым платком, вздрогнули. Молчание длилось с минуту. Потом она обернулась к Верзилину и, не обращая ни на кого внимания, сказала ему:
— А чувство это появилось после того. Поверьте, я ни в чём не была виновата. Они сказали, что должны вам предложить выгодную сделку, а вы их не слушаете, хотя делают это они ради вас… Отец дал мне слово, что с вами ничего не случится, и я поверила… Со мной была горячка, и я пришла в себя только в Варшаве… Я думала, вас нет в живых… И лишь месяц назад, когда нас с Леваном пригласил Чинизелли, я узнала от Коверзнева, что вы живы. Но вас уже не было в Петербурге….
Она закрыла лицо платком и заплакала.
Коверзнев подошёл к ней, осторожно положил её голову к себе на грудь, начал гладить по чёрным блестящим волосам, гладко зачёсанным к затылку.
«Она ему — жена», — мелькнуло в голове Верзилина ревнивое подозрение.
Но Нина отстранилась, сказала раздражённо:
— Пустите! — и, зябко кутаясь в платок, предложила: — До вернисажа ровно час. Надеюсь, вы пойдёте с нами, Ефим Николаевич?
— О да, — торопливо согласился он, радуясь, что они — ведь очевидно же! — не муж и жена.
Девушка оглядела критически костюм Никиты, спросила:
— И вы?
— Да, — ответил за него Верзилин.
А она сказала строго:
— Леван, дай Никите перчатки. Они ему подойдут.
— Сейчас хороший тон — до захода солнца ходить без перчаток, — заметил Коверзнев.
Пропустив его слова мимо ушей, она приказала Верзилину:
— Подайте мне жакет.
А Коверзнев, закуривая свою маленькую трубочку, сказал, улыбнувшись:
— А я вам, Ефим Николаевич, припас редчайшую коробочку бельгийских папирос.
— Мне?
— Ну да.
— А откуда вы знаете, что я коллекционирую папиросы? — спросил Верзилин, снова с удивлением вспомнив об одинаковом почерке на письмах.
— Младенческая простота! Так вы и по последнему письму не догадались, что это я?
— Вы?… Так это вы мучали меня осенью и зимой?
— Боже мой, а что в этом такого? — удивился Коверзнев.
— А я вот возьму сейчас да задушу вас, — шутливо сказал Верзилин, протягивая пальцы к его хрупкой шее. — Вы меня чуть с ума не свели этими письмами. Я думал, что это проделки барона Вогау.
Не глядя на протянутые к его горлу руки, отмахиваясь от них, посерьёзневший Коверзнев спросил:
— Вогау? Почему Вогау? Его же давно укокошили. Если не ошибаюсь, месяцев восемь назад…
— Укокошили?
— О боже мой! Да об этом писали все газеты! Надо читать их, дорогой мой.
— Постойте, а как вы узнали, что я собираю коллекцию?
Коверзнев рассмеялся:
— Вы забыли о моей профессии — всё узнавать первым? Помните пожар керосиновых складов на Голодае? Так это был я на извозчике, когда вы стояли на крыльце. Один целковый вашей хозяйке — и она мне дала полную информацию о вас. Обо всём рассказала: и о папиросах, и о борьбе с деревянным манекеном… Вот я и решил подбодрить вас: дескать, друзья помнят о вас, следят за вашими успехами и… помогают собирать коллекцию…
— Ничего не скажешь, помощь была великолепная, — рассмеялся Верзилин.
— Да кто мог догадаться, что вы подумаете на этого шарлатана, когда ему его соперники всадили три пули в затылок… Тем паче что я считал, что вы в хорошей форме, готовитесь к схваткам и даже взяли себе спаррингпартнёра… Мне всё ваша хозяйка доложила. И надо сказать, что у неё редкий дар представлять всё в лицах. Я умирал со смеху, когда она показывала, как вы боретесь с чучелом…
— Коверзнев, мы опаздываем, — строго проговорила Нина, помахивая перчатками. — Расскажешь по дороге.
Леван, одетый в чёрный безукоризненно сшитый костюм, стоял, склонив голову, держа в руке большой ключ.
Пропустив вперёд Верзилина с Никитой, Коверзнев пошёл за ними, но вдруг спохватился и, хлопнув себя по карманам, сказал виновато Нине:
— А булку я опять забыл.
И Верзилин заметил, что девушка в первый раз улыбнулась на слова Коверзнева.
А тот через минуту нагнал вышедших на лестничную площадку мужчин и продолжил свой рассказ о верзилинской хозяйке.
— Она считала вас рехнувшимся и часами простаивала у замочной скважины. Вот так.
Он согнулся (лицо его приняло бабье, глупое выражение) и прижался с комической осторожностью к замочной скважине в чужих дверях. Дверь неожиданно распахнулась и, к удовольствию Никиты, который не смог сдержать смеха, стукнула Коверзнева в лоб.
— Так и надо, — усмехнувшись сказала Нина.
А старик в чёрном пальто, распахнувший дверь, спросил, приподняв шляпу:
— Пардон. Я вас ушиб?
— Нет, что вы, — сказал Коверзнев, потирая лоб. — Это лишь плата за мои артистические таланты, — но, когда старик скрылся из виду, погрозил ему кулаком.
Всю дорогу до Невского он пытался шутить, вопросительно поглядывая на Нину. И было видно, что всякий раз, когда она усмехалась, он становился счастливым.
У лютеранской церкви на Невском он остановился и, вытащив из кармана измятые куски белого хлеба, стал их крошить и швырять сизым голубям, вызвав этим у Нины улыбку. Однако через несколько минут девушка одёрнула его, сердито сказав:
— Мы можем опоздать.
На что Коверзнев проскандировал:
— Бабушка–прабабушка лепёшек напекла — покушай, Бум, телятинки: давно уже пора. Бабушка–прабабушка, нельзя ли обождать — когда курю я трубочку, прошу мне не мешать.
— Не паясничай, — сказала Нина.
А Верзилин спросил:
— Бум — это кто?
Коверзнев вздохнул, покосился на Нину. Потом ответил:
— Насчёт Бума мнения расходятся. Нина уверяет, что это собачка. А я считаю: старичок. Иначе — почему же трубочка?
— Ты лучше подумай, как билеты достанешь, — прервала его слова Нина.
— Достану, — успокоил её Коверзнев.
И действительно, они простояли всего несколько минут у старинного особняка, рассматривая тусклые витражи первого этажа, изображающие рыцарей, как Коверзнев появился в подъезде, размахивая билетами.
Перед особняком толпилась нарядная публика, стояли коляски и автомобили.
— Идёмте, — сказал Коверзнев, пропуская вперёд Нину, поддерживая её за локоть.
У входа, на тумбах, обтянутых жёлтым бархатом, стояли скульптуры девы Марии и Христа; бог–сын в бело–голубых одеждах глядел с распятия на Верзилина, Никиту и Левана укоризненно — видимо упрекал: отъелись, бездельники, а я страдай за вас.
Верзилин даже вздохнул, до того ему стало неловко за свою комплекцию… И вообще, чёрт возьми, зачем они затесались в общество, которое именует себя: «весь Петербург»!.. Он попытался взглянуть на свою компанию их глазами — глазами золотой молодёжи, модных адвокатов, гвардейских офицеров, мордастых подрядчиков, нажившихся на японской войне… Да, занятная, видно, картина: трое громадных, пышущих здоровьем мужчин и худенькая красавица грузинка. И Коверзнев, как назло, исчез куда–то…
Верзилин обвёл подозрительным взглядом первую залу, снова вздохнул. Но вдруг глаза его задержались на небольшом полотне: зелёные берёзки на угоре, за, ними река, жеребёнок щиплет травку–ничего словно нет, а сердце сжалось. «Какая прелесть, — подумал он. — Век бы смотрел…» — и, не отрывая взгляда от картины, отыскал Нинину руку и сжал её.
— Чудесно, — сказала она, ответив на пожатие, — Леван, Никита, смотрите.
— Бесподобно, — согласился её брат.
— Словно в детстве… Босиком побегать хочется… Цветы собирать… — отозвался задумчиво Никита.
Но тут появился Коверзнев и потянул их за собой, торопливо объясняя:
— Сейчас я вас познакомлю с Яном Францевичем — он художник и путешественник. Объездил Палестину, Аравию, Индию, Алжир… Где только не был! Романтик! Настоящий романтик! И музыкант!.. Приятель Рахманинова.
Они шли по анфиладе комнат, лавируя в толпе, поглядывая на картины и на цветы в одинаковых горшочках, расставленные вдоль стен.
Нина шепнула Верзилину:
— Вот всегда так — ищет, в кого бы влюбиться. Создаёт себе кумиров… Однако увлечение вами — это, по–моему, единственное его увлечение, принявшее хронический характер…
— Мною? — спросил Верзилин, да так громко, что Коверзнев приостановился, поинтересовался:
— Что?
— Нет, нет, ничего. Рассказывайте, — торопливо сказал Верзилин.
— Так вот, в Индии с ним интересное происшествие было. В Калькутте. Решил он визит нанести радже. Фрак надел, цилиндр — знай наших. Раджа на ковре сидит, ноги калачиком. Телохранители рядом, опахалами его обмахивают… Встречают русского гостя с восточной вежливостью, показывают на специальный трон. Штука древняя — тончайшей резной работы… Гость поклонился и сел на трон, да довольно резко. Трон и разлетелся!.. Бац!.. Он встаёт, потирает ушибленные места… А раджа, как истый джентльмен, не замечает случившегося и спрашивает: «А как здоровье вашего императора его величества Николая Второго?» Ха–ха–ха!
— Тише, — одёрнула его Нина, — на нас смотрят. И потом — ты вечно забываешь об осторожности.
Коверзнев надулся, стал скучным, недовольным тоном познакомил их с художником.
Это был высокий красивый мужчина с рыжими усами. Что–то общее было у него с Коверзневым, — видимо порывистость, горячность.
Он поцеловал ладонь Нине, дёрнул за руки мужчин, отбежал к стене и, тыча тростью в розовые, голубые и жёлтые этюды, заговорил торопливо:
— Это верблюды… верблюды… отдыхают… на фоне… на фоне белой стены… Это гостиница в Александрии… ещё Александр Македонский основал… не гостиницу, а Александрию… Это же верблюд… на котором я ездил… Вы видите? Видите? Это же краски горят… переливают… Это же Египет… экватор… А вот на этом этюде сфинкс… и пирамида Хефрена в Гизе… Там около сотни пирамид… И все близ Мемфиса… Три самые высокие — Хеопса, Хефрена и Менхереса… Бонапарт тут был… в 1798 году…
От отскочил в сторону, взмахнул тростью (дама в шляпе величиной с таз шарахнулась от него) и заговорил ещё быстрее:
— Это же находка. Великолепная находка для художника… Я неделю ехал на верблюде… чтобы увидеть этот памятник…. Это же самое сердце Абиссинии… Я оружие отдал абиссинцам — пусть гонят итальяшек… Всё оружие… А они мне дали за это… осла… Я по горам на нём карабкался… Туман закрывал эту гору с памятником… Я приготовил три картона и два дня ждал с кистью в руке, чтобы написать его, и вот он, наконец, показался на пять минут… и снова скрылся… Вы видите, это же гранит…. гранит полированный… поёт красками… поёт…
— А почему тускло? — осторожно спросила Нина.
— Да как вы не понимаете? Тропическое солнце обесцвечивает, всё обесцвечивает, поглощает все цвета… Это же экватор…
В зале появился распорядитель, в смокинге, в скрипящих ботинках, зашептал что–то художнику. Тот извинился перед Ниной, сказал, что должен идти.
Пожимая руку Верзилину, разглядывая его, пообещал:
— А ваш портрет напишу… напишу… Вы мне и раньше импонировали своей силой… Видел я вас… видел… в цирке… В красном трико и с жетонами — очень хорошо получится…
Когда фалды его фрака взметнулись в дверях, Нина сказала Коверзневу с упрёком:
— У тебя всегда так: восхищаешься, а непонятно — чем? Король–то голый.
— Голый? Голый? — искренне возмутился Коверзнев. — А ты посмотри, какое настроение!.. Это же романтика!..
— Романтика биографии, а не картины. Ни одна из картин не окончена; это же всё этюды… на картоне. Недоноски.
— Ну и что? Ну и что — недоноски? Выкидыш — это преступление для художника, а другое дело — недоносок… И с женщинами так бывает: нервная, хрупкая натура не может доносить плод, а для грубой, здоровой — хоть бы что… Мы забываем о том, что Врубель не претворил в жизнь ни одного из своих громадных замыслов. А Серов, Серов? Что? Что?
— Глупости, — сердито сказала Нина. — Серов тут ни при чём. И Врубель тоже.
— Я ничего не понимаю в этом деле, — сказал Верзилин, — однако целиком присоединяюсь к Нине Георгиевне… Хорошо, выкидыш — преступление, я с вами согласен. А что же тогда недоносок? Несчастье? Не можешь написать картину, так и не берись за неё. Нина права. Странно было бы недоноска–спортсмена выпустить на арену цирка. Талантливый гимнаст, не отработавший номер, — недоносок. Выпустите его — и он на первом же представлении разобьётся… А что, если бы я выпустил неподготовленного Никиту (он кивнул на парня) против Александра Мальты? Преступление? Преступление и позор!
— Я идиот! — воскликнул Коверзнев, стукнув себя по лбу. — Рассуждаю о картинах, когда сейчас решается судьба русской славы!.. Мальта, Мальта… Да его давно и след простыл… Но зато Корда приехал и может уехать победителем. Это из страны — то, в которой полно богатырей!.. Идёмте!.. — сказал он повелительно.
17
Усадив Верзилина в старое пыльное кресло, Коверзнев снял с себя бант, дёрнул за воротник бархатной куртки. Забегал по просторной комнате, спотыкаясь о складки ковра, приговаривая:
— Почему Никита? Почему Никита?
Верзилин потянулся к столу, взял из груды хлама фарфоровую курительную трубку и, разглядывая её, ответил спокойно:
— Я же объяснял — у меня до сих пор не действует раненая рука. А Никита — это талант. И помимо силы обладает некоторой техникой. Работа грузчика заставляла его находиться в постоянной форме… Конечно, есть известный риск.
— Но тут рисковать нельзя!
— Вы так горячитесь, словно отвечаете за судьбы русского спорта. По крайней мере, петербургских цирков.
— А кто же будет отвечать, если не я? — удивился Коверзнев.
— Вы правы, — вздохнул Верзилин. — Барон Вогау отвечать не собирался.
— Вот то–то, вот то–то, — заволновался Коверзнев. — Вы на собственной шкуре испытали, какими патриотами являются эти бароны Вогау. — Он приблизился к Верзилину, зашептал: — И нечего себя тешить мыслью, что августейший покровитель Атлетического общества великий князь Владимир Александрович будет отвечать за судьбы русского спорта. Человек, расстрелявший девятого января тысячи людей, не патриот своего отечества, а враг.
— А Нина правильно сказала, — усмехнулся Верзилин, — о таких вещах вслух не говорят.
— Ах, дело не в этом! Кого бы мы ни взяли… Тумпаков… Тумпаков — это типичный буржуа, разбогатевший трактирщик, владелец сада «Фарс», хозяин оперетты и ресторанов. Заботиться о наживе — это естественно для него… Знаете ли вы, что чемпионат, в котором вы участвовали, обошёлся ему за три месяца в триста тридцать рублей? А в карман он себе положил сорок тысяч! Сорок тысяч! Триста тридцать рублей и сорок тысяч рублей! Каково?.. А ваш Вогау?.. То–то! Что для них стоит продать русскую победу Мальте или Корде… Ведь даже сами борцы, не желая обострять отношений с антрепризой и гонясь за деньгами, поддаются иностранцам, забывают о чести своего отечества. Я вас за то и ценю… за то и ценю, что вы не льститесь на деньги, не боитесь угроз. Не все решаются на это… В большинстве даже сильные борцы соглашаются на любые комбинации, в результате борьба из спорта превращается в водевиль…
Коверзнев подскочил к Верзилину, выхватил из его рук трубку, взмахнул книжкой в яркой обложке.
— Слушайте, слушайте, я вам прочитаю! — он перелистал страницы. — Вот. «Не при свете лучей солнца, не под взорами тысяч собравшегося народа, не из–за лаврового венка, а при тусклом свете театральной рампы, под неусыпным контролем антрепренёра, из–за жалованья состязаются в искусстве борьбы современные атлеты. Арену Олимпийских игр заменила пыльная цирковая арена, и не удивительно ли, что интересы цирковой арены поглотили без остатка интересы спортсмена?..»
Он устало швырнул книжку на стол и набил трубку. Бросив коробку с табаком на книжку, выпустил дым:
— Пф–пф.
«Я сразу понял, что мы с ним мыслим одинаково. За это я и полюбил его», — решил Верзилин.
А Коверзнев, усевшись на резной подлокотник кресла, проговорил задумчиво:
— Я усматриваю два основных положения в организации чемпионатов. Первое: полная независимость борцов от антрепризы. И второе: все дела чемпионата оценивает только судейский стол.
Положив ногу на ногу, Верзилин сказал с улыбкой:
— Вы забыли первое и главное: основным принципом чемпионата должно быть состязательное начало.
Коверзнев вскочил с кресла, ударил себя в лоб:
— Какой я идиот! Чего не смог сформулировать!
— И ещё одно, — сказал Верзилин. — Беспристрастным и объективным должен быть не только судейский стол. Но и пресса.
— Ефим Николаевич! Мы думаем с вами в унисон. Вот смотрите, — Коверзнев сунул в руки Верзилина газету. — Читайте! Читайте! Вот что пишут за деньги! Как вам это нравится? А мой материал не прошёл!.. Но ничего, я ещё найду место, найду такой журнал, где напечатают всё, что надо. Это же реклама! За неё громадные деньги уплачены. Да и имя Сципиона Чинизелли кое–что для газет значит. Как же, чемпионат проходит у него — ничего не поделаешь. Все памятуют о том, что его жена была любовницей великого князя Владимира Александровича. Попробуйте–ка поссориться с командующим гвардейскими войсками Петербургского военного округа… Попробуйте… Вот и печатают, что Чинизелли выгодно.
Верзилин прочитал, усмехнулся.
— Ну что? Ну что? — торопливо проговорил Коверзнев, — Пишут, что на вокзале закатывается в ресторан и заказывает десять обедов… Ведь смотря какие обеды…
— У меня Никита за троих ест, — снова усмехнулся Верзилин.
— Вот я и говорю, вот я и говорю!.. Выходит из вокзала и садится на первого попавшегося извозчика… Да ведь смотря какой экипаж выбрать… я не сомневаюсь, что для человека вашей комплекции можно выбрать такой экипаж, что он распадётся сразу же, как только вы в него сядете с маху… Перед выступлением усаживается за стол на арене и съедает поросёнка и выпивает четверть водки… Да, здорово! Но где спорт? Где сила и ловкость? Рвёт цепи? Так они перекалённые. Разгибает подковы? Так они маленькие… Знаем мы всё это. Вон Генри Томсон штангу поднимал, в шарах которой по человеку сидело… А она возьми да и сломайся — деревянная оказалась; а шары из веток сплетены, подкрашены под железо. А вместо мужчин мальчики с приклеенными бородами сидели… Я спрашиваю, где сила? Обман, один обман… Да, он побеждает всех, кто выходит против него. Но ведь это любители! Любители, а не профессионалы! Подумаешь, одного вызывает. Вон Иван Шемякин в Москве у Альберта Саламонского по десять человек в вечер вызывает и обещает награду тому, кто устоит против него больше минуты. Больше минуты! Совсем другое дело…
— Не один Шемякин, — пожал плечами Верзилин. — Пятлясинский, Спуль, да и другие тоже по десять человек вызывают.
— Вот я и говорю. Наша страна богата богатырями… Потому–то и обидно… Тут всё тонко подстроено. Иначе бы он не приехал в Петербург… Поддубный ушёл с арены; в деревню вернулся, крестьянствует. А Заикин с миллионерами Поташниковыми связался (они ему самолёт купили) — летает над Одессой. Вятского богатыря Гришу Салтыкова — отравили… Вахтуров борется за границей. Вот и некому проучить этого хвастуна. Ведь он из Турции едет непобеждённым. Нынче весной его Збышко — Цыганевич в Бухаресте уложил. После этого он в Турцию уехал, потом к нам, на юг… Переезжает из города в город — наводит на всех ужас. Вес колоссальный. Носит пятнадцать жилеток, какой–то мохнатый сюртук, засаленный складной цилиндр, огромные кожаные ботинки без застёжек, с ушками; в руках — железную палку… Рекламу себе создаёт с первой минуты, как появляется в городе — на вокзале… Едет в гостиницу. А там уже о нём наслышаны — говорят: номеров нет. Он не слушает, выбирает лучший номер, идёт в буфет — заказывает опять всего самого лучшего и снова не расплачивается. Если вызывают полицию — всё ломает, поэтому все предпочитают от него откупиться, просят переехать в другую гостиницу. А там тоже предлагают деньги — поезжайте в другую. Он и ездит из гостиницы в гостиницу — везде получает деньги… В городе какой–нибудь вшивенький чемпионат. Корда идёт туда. Вызывает всех борцов. До полицейского часа успевает положить нескольких. И так ездит из города в город. Ясно, что ему сопутствует реклама… Вот его Чинизелли и пригласил к себе… И уже приручил своими деньгами и властью. В бенефис будет бороться.
Коверзнев замолчал.
Верзилин поднялся, прошёлся по мягкому ковру, рассматривая тусклые картины в широких рамах.
— Вы не помните, Валерьян Павлович, в девяносто восьмом году в Москве, в саду «Олимпия», выступал американец Сампсон?.. Про него говорили, что он тренируется «из любви к искусству», что у него для тренировок есть гири чистого серебра, что он миллионер, и это его псевдоним… В общем реклама была… Так вот, он объявил, что заплатит десять тысяч рублей тому, кто повторит его номер (тоже цепи, подковы), но через пару дней испугался и сказал, что повредил руку, и потихоньку смотался из России… Так вот то же самое будет с вашим Кордой — он испугается Никиты Сарафанникова.
Коверзнев откинул штору и уселся на подоконник, поставив ноги на стул.
— Вот чего боюсь, того боюсь, — сказал он. — У меня была надежда на вас.
— Никита несколько лет по–любительски борется… с друзьями, с грузчиками хотя бы. Не пропустил ни одного чемпионата в Вятке. Ходил, приглядывался. И не думаете ли вы, что я два месяца отдыхал? Нет, милый мой Валерьян Павлович, мы времени зря там с Никитой не теряли.
— Шут с вами! — сказал Коверзнев, соскочив с окна. — Я вам верю!
18
Трамваи остановился на кольце — на углу Эстляндской и Рижского.
Дождь лил по–прежнему. С залива дул резкий ветер.
Верзилин натянул на глаза шляпу, поднял воротник. Пошёл в темноту, придерживая одной рукой вырывающиеся полы пальто, другой прикрывая воротником горло.
Доски мостика через Екатерингофку вздрагивали под ударами ветра. Речка вздулась и грозила выйти из берегов.
На Динабургской, перед домом Коверзнева, горел фонарь. Верзилин взялся за ручку двери. Но ветер и пружина оказались сильнее его. «Шалишь, брат», — подумал Верзилин и снова вступил в единоборство с дверью. Дождь хлестал по лицу, попадал за воротник. Рывок на себя, прыжок, — и дверь захлопнулась, пропустив его на тёмную узкую лестницу со стоптанными ступеньками. Пахло щами, подгоревшим постным маслом и кошками. Осторожно придерживаясь за ломаные перила, он начал подниматься на шестой этаж.
В коридоре и кухне было пусто. В ответ на стук раздалось странное мычание. Верзилин вошёл в комнату. Коверзнев стоял к нему спиной перед окном и зажигал спичку за спичкой. Дождливый ветер, врывающийся в форточку, не давал огоньку разгореться. Коверзнев полуобернулся, и Верзилин увидел в его зубах трубку. Трубка мешала ему говорить. Он промычал что–то, по — видимому означавшее «Раздевайтесь, садитесь», — и снова отвернулся к форточке. У самого носа зажёг спичку. Верзилин разделся, сел в кресло с вылезшей пружиной и стал наблюдать. Весь ковёр подле окна был забросан спичками. Коверзнев в сердцах отшвырнул пустой коробок, достал из кармана новый. Занятие его казалось бессмысленным. Ветер врывался в форточку и гулял по комнате. Прямо за стеной дома разыгралось Балтийское море.
Наконец Коверзнев добился своего и торжествующе обернулся. Выпустив клуб дыма, сказал:
— Дал себе слово — не отходить от окна, пока не прикурю.
— Зачем? — спросил Верзилин.
— Тренируюсь. Пф–пф. Моя профессия требует умения… пф — пф… прикуривать на ветру… А это, оказывается, дело нелёгкое. Природа сегодня сошла с ума. Пф–пф… За окном Финский залив — простор, есть где разгуляться… Чего стоят одни названия островов, которые лежат под моими окнами, — Резвый, Вольный, Гладкий. Вон, смотрите, — Коверзнев поманил пальцем Верзилина и, захлопнув форточку, посторонился. — Видите, как стихия разыгралась — море! Фонари — это гавань, а дальше уже ни черта не видно. Можно только предположить, где Кронштадт и Петергоф. А туда вон смотрите — Путиловский рельсопрокатный, и только угадываешь, где могила Путиловых и Автово. Ни черта не видно — буря, а ты один на шестом этаже, под самой крышей, как врубелевский «Демон сидящий»…
— То–то я смотрю, у вас и настроение демоновское.
— Пф–пф–пф, — выпустил дым Коверзнев и кивнул головой. — Вы угадали… Всё дело в том… Нет, горит… Всё дело в том… что я понял, что был свиньёй, когда посылал вам анонимные письма.
Верзилин хотел возразить, но Коверзнев движением руки остановил его:
— Молчите! Я сегодня пережил подобное чувство, — он подошёл к столу, сунул горящую трубку в пыльную хрустальную пепельницу и схватил со стола тоненькую яркую книжку. — Вот эту книжку написал я. (Верзилин увидел в его руках книжку, которую Коверзнев вчера цитировал). Я, — повторил тот. — Она вышла весной, когда вы уезжали в Вятку; вы её не знаете… А вот смотрите, что я получил сразу же, как она вышла.
Он выхватил книгу у Верзилина, бросил её на стол, разворот шил пачку писем и сунул ему открытку.
На открытке было написано: «Относительно отзыва о книге «Русские богатыри». Если это называется книгой, то с таким же успехом букварь является энциклопедией».
— Какая чушь, — сказал Верзилин. — И вы из–за этого портите нервы? Кого–то мало похвалили в книге, он вас и попытался уколоть. Это же укол булавкой, даже хвоинкой… Стоит ли обращать внимание.
— Да как вы не можете понять?! Дело не в этом. Когда я получил это письмо, я — поверьте — обрадовался: двадцати человекам понравилось, — Коверзнев подскочил к столу, приподнял и рассыпал по нему письма, — видите? Их не двадцать, их несколько сот… Пишут студенты, борцы, гимнасты, рабочие. Но дело не в этом… Когда пришла эта открытка, их было двадцать, и я подумал: хорошо, равнодушных нет — двадцати понравилось, одному не понравилось… И не понравилось именно потому, что там есть неприятная для него правда, иначе он поставил бы подпись… Но дело не в этом… Сегодня я был в редакции, и на столе одного человека вижу — лежит такая же открытка; почерк, расположение слов — всё, как на моей… Я узнал, но не подал вида. Мне стало гадко. Я всё понял. Пятнадцатого мая мы всей редакцией ездили на пикник в Сестрорецк. Этот человек был предельно любезен со мной, хвалил мою книгу, говорил, что она сыграет большую роль в популяризации спорта среди народа. А сам в это время сжимал в кармане сложенную вдвое открытку… Видите, видите сгиб? А штамп — Сестрорецк, пятнадцатого мая… Решил, что из Петербурга — я догадаюсь, а из пригорода — нет… Какая подлость! Я всегда и всем говорил о нём только хорошее…
— Бросьте, дорогой Валерьян Павлович, — сказал Верзилин. — Вы в ответ напишите новую книгу. Наше дело — работать и работать. Только своим трудом мы докажем, что мы чего — то добились.
— Нет, какая подлость… В страшное время мы живём… Этот прогнивший строй растлевает людей…
— Перестаньте, — сказал Верзилин, покосившись на дверь.
— А ваша оглядка? Это — что? Это то же самое растлевающее влияние царского строя… Мы боимся каждой голубой фуражки, мы напуганы столыпинскими галстуками… Смешно, даже такой сильный человек — возможно, самый сильный человек в мире — .боится… Люди должны жить без страха за свою шкуру, за завтрашний день, за деньги…
Он снова распахнул форточку. Ворвался грохот моря, и мокрый ветер растрепал Коверзневу волосы. Он резко повернулся спиной к окну, прочно упёрся ладонями в каменный подоконник и сказал взволнованно:
Смелость и сила — таким должен быть наш с вами Никита! И он победит Корду. Судьба нам дала ещё целую неделю.
Он резко оттолкнулся от подоконника, схватил со стола пахнущую краской афишу и протянул Верзилину.
И пока борец читал о том, что бенефис Корды в цирке Чинизелли состоится через неделю, Коверзнев рылся на своём столе. Чего там только не было! Глиняная игрушка лежала рядом с костяным бильярдным шаром; янтарный мундштук был воткнут в фарфоровый графинчик, украшенный французской этикеткой; из–под засохшего кленового листа выглядывал медальон филигранной работы… Коверзнев переворошил всю мелочь, отыскал длинную английскую трубку и, набив её табаком, закурил.
— Прочли? Видите, судьба благосклонна к нам… Недаром я по дороге в типографию… пф–пф… нашёл сегодня эту подкову… Кстати, я первую найденную подкову обещал подарить Нине. Пойдёмте к ней в гости?
«Он у неё свой человек», — тоскливо решил Верзилин.
— Согласны? — спросил Коверзнев.
— В такую непогодь?
— Эта погода как раз для нас с вами. И для Никиты. Но не для Корды. Он сидит сейчас в парном и дымном ресторане и глушит вино. А мы шагаем через разбушевавшуюся Екатерингофку, ревёт ветер, хлещет дождь! Грохот… Навстречу мчится жалкий трамвай… А мы — идём… Идёмте? Это рукой подать — семь минут, всё по Рижскому…
Едва только они оказались за дверью подъезда, дождь и ветер сразу же надавали им мокрых пощёчин.
— Чудесно! — прокричал Коверзнев.
Всё было так, как он обещал: ветер толкал их в спину, забегал вперёд, срывал с них пальто, шляпы; с испуганным звонком мчался навстречу лёгкий трамвай. И Верзилину стало весело.
— Хо–хо–хо! — прокричал он зачем–то в темноту. А Коверзнев ткнул его шутливо в бок.
Когда Нина открыла дверь, Коверзнев сделал вид, что ему попало по лбу, и нарочно выронил подкову на каменные плитки площадки — запредставлялся.
Разматывая шарф, стряхивая воду с пальто, рассказывал оживлённо:
— Знаете, Ефим Николаевич. У меня уже был подобный случай… Ниночка, держи подкову… Не такая, как в Риге, но всё — таки счастливая… Значит, был такой случай… Нина пригласила меня впервые на день рождения… Я — влюблён (сердце у Верзилина больно ёкнуло), но безответно — лицом в грязь ударить нельзя. Надо подарить дорогой подарок. А денег — мало. Понравилась ваза. Цена — с ума сойти. А глаз оторвать не могу — хожу вокруг неё, как кот вокруг сала. Хозяин магазина говорит: есть точно такая же, только разбитая; можно склеить; уступит задаром. Давайте — говорю. Расплатился. Мне её завернули. Будьте здоровы — и я направляюсь к имениннице. Она открывает дверь. Мне — в лоб; ваза — на пол и, конечно, вдребезги. «Ах, говорю я, такая уникальная штука, какая жалость». Причитаю. Нина развёртывает бумагу… и… представьте: каждый осколок завёрнут по отдельности… Ха–ха–ха!.. Конфуз полнейший.
— Не верьте ни одному его слову, — сказала Нина улыбаясь, поднося руку к губам Верзилина. — Он ещё и не такое сочинит. Он один раз заявил кому–то, что я — княжна; и даже потомок царицы Тамары… Мне большого труда стоило оправдаться…
Не слушая девушку, Коверзнев подошёл к столу, перелистал журнал. Спросил:
— Леван где?
— В цирке, — ответила Нина. — Присматривается к номеру Альберти. Он влюблён в воздушных гимнастов.
— А может, в одну из гимнасток? В младшую Альберти?
— Может быть, — сухо ответила Нина.
Не обращая внимания на её тон, Коверзнев сказал:
— А мы пришли поговорить с Леваном, чтобы он принял участие в наших тренировках. Чем больше спаррннгпартперов будет у Никиты, тем лучше.
— Он обещал завтра быть у вас, — сказала Нина.
Коверзнев кивнул головой и, раскачивая огромную подкову
на пальце, спросил:
— А ты знаешь, что это за подкова? Нет?.. Это подкова Петра Великого. У неё романтичнейшее происхождение. Когда Пётр разгромил шведов в Риге, он одним из первых ворвался туда. Узенькие улочки, мощённые камнем. Готика зданий… Огромный, как… Ефим Николаевич, император мчится на коне. Подковы цокают о камень. Дым. Пахнет порохом. Что–то горит. Раздаются выстрелы. Пётр скачет по узеньким улочкам. На повороте — раз! — с лошадиной ноги срывается подкова и… в окно к какому — то богачу… Вся семья бросилась к окну — девицы в платьях со шлейфами, сыновья в пристойных курточках… Сам глава семейства… «Русский император! Император!» — показывает кто–то на всадника… Представляете? Легендарный император!.. Хозяин впаивает подкову в толстое оконное стекло — это реликвия… И вот она у ваших ног, дорогая укротительница львов… Вот, видите, тут ещё остались следы стекла.
— Это подкова одного из коней Люции Чинизелли, в которую ты был влюблён в юности.
— К вашему сведению, дорогая Ниночка, если верить афишам, Люция «ездит высшую школу» на изящной лошадке Суженый завода его императорского величества великого князя Михаила Николаевича.
— Ну, тогда это от лошадей самого Сципиона.
— И его соловые жеребцы с конного завода польского магната Сангушко имеют более миниатюрные копыта… Это легендарная петровская подкова, и она принесёт тебе счастье.
— В таком случае вы можете объявить эффектный номер: «Единственный раз король цепей Ефим Верзилин разгибает такую–то подкову. Цены на билеты повышены».
— И номер можно повторить, — рассмеялся Верзилин. — Битюгов в Петербурге много. Вы где её нашли, Валерьян Павлович?
— Ах, вы разоблачаете мою тайну?! Так вот вам за это!
Коверзнев схватил с дивана бархатную подушку и шутливо запустил ею в Верзилина.
Подушка попала на Нинин письменный стол и сшибла с него груду безделушек.
— Вот задал себе работы, — засмеялась Нина. — Собирай теперь. И не забудь туда же водрузить знаменитую подкову…
Коверзнев стал на колени и, показывая Верзилину высохшую серую ящерицу, спросил:
— Знаете романтическую историю, связанную с этим маленьким крокодилом?
— Вы не слушайте его, Ефим Николаевич, — сказала Нина. — Тут десятки вещиц — всё подарил он. И про каждую из них он сочинил занимательную историю. У него редкий дар оромантизировать любую безделушку. И за это я его люблю. Он так помог мне в нелёгкие для меня времена, когда со мной не было вас — моего первого друга.
Верзилин благодарно поцеловал Нинину руку.
А девушка посмотрела на него долгим взглядом и погладила по щеке.
— Коверзнев, — сказала она, не выпуская руку Верзилина, — расскажите нам что–нибудь самое — самое интересное.
А тот, перекладывая безделушки, продолжал болтать:
— Вы знаете, Ефим Николаевич, что это за изумрудный камешек? Это из мозаичной иконы Исаакиевского собора… Стойте, стойте: с этой плюшевой обезьянкой связана одна из самых смешных историй…
Смеясь вместе с Ниной над рассказами Коверзнева, Верзилин подумал, что половина этих вещей, видимо, перекочевала из комнаты на Динабургской… Странная страсть у человека — собирать безделушки… Впрочем, почему странная: каждая из безделушек говорит, у каждой из них своя история… Ведь если изумрудный камешек и не из Исаакиевского собора, то — во всяком случае — с этой стекляшкой у Нины связаны какие–то воспоминания.
«Надо обязательно брать с собой Никиту, — решил Верзилин. — С Валерьяном интересно и весело. Надо, чтобы он присутствовал на всех тренировках».
19
Они сидели в сквере перед Знаменской церковью — Верзилин, Никита и Леван Джимухадзе. Ждали Коверзнева.
Стрелки на огромном циферблате голубой вокзальной башни показывали шесть часов. Солнце освещало одну сторону Невского. Вдали сверкала Адмиралтейская игла. На площади было шумно: дребезжали трамваи, кричали бородатые носильщики, ржали лошади.
— Вот он, — почти испуганно прошептал Леван, схватив Верзилина за колено.
Стараясь не выдать своего волнения, Верзилин неторопливо повернулся и посмотрел на подъезд гостиницы. Огромный усатый человек в безукоризненно сшитом чёрном костюме и шёлковом чёрном цилиндре стоял на ступеньках, помахивая за своей спиной палочкой.
— Ничего себе бегемот, — деланно спокойно сказал Верзилин.
— Десять пудов, — с радостным изумлением сообщил Леван. Покосившись на Никиту, который рассматривал Корду удивлёнными глазами, Верзилин заметил:
— Подумаешь, десять. Никита вон восемь пудов весит; да и ты около восьми. Слава богу, сила от веса не зависит.
Провожая глазами знаменитого атлета, они не заметили, как к ним подскочил Коверзнев.
— Ну, видели? Каково? А? — заговорил он. — Одно сплошное мясо и ни черта мышц. Никита расправится с ним, как сегодня на тренировке расправился с Леваном, — он похлопал Левана по спине.
— А где ваш обещанный рваный сюртук и пятнадцать жилеток? И грязные ботинки с ушками? — подмигнув, кивнул в сторону Корды Верзилин.
— Нету, — сказал Коверзнев, описав зажатой в руке камышинкой круг. — Это его так Чинизелли одел. Одна железная трость осталась.
— А всё–таки тяжёл, — вздохнул Никита.
— А! Брось — тяжёл, — сказал Верзилин. — Вон в Москве у Саламонского сейчас борется Томас Пик Блан — четырнадцать пудов весит. А Шарль Лоттер пятнадцать пудов и семнадцать фунтов весил. И что ты думаешь — всех побеждал? Ничего подобного. Прославился тем, что показывался зрителям в костюме балерины.
— Пятнадцать пудов — и костюм балерины! — воскликнул Коверзнев. — Это парадокс! И вообще это уродство какое–то.
— В том–то и дело, — сказал Верзилин, — Это монстры, а не борцы. Им место не в цирке, а в Петровской кунсткамере. Разве настоящие борцы имеют такое сложение! Дай–ка книжку, которую тебе сегодня подарил Валерьян Павлович. Вот смотри — Поддубный. Разве туша? Стройный, ловкий, — говорил Верзилин, листая книжку.
— А вот смотри, какое сложение! А? Древние греки позавидовали бы — Аполлон! А вот Иван Заикин! Ну, смотри, смотри… Георг Лурих, Аберг, Гаккеншмидт… Вес Поддубного — твой вес… Гаккеншмидт — легче тебя, а в своё время тоже был чемпионом мира…
— Знаешь, Никита, — воскликнул Коверзнев, вскочив со скамейки, — Корда похож на этот памятник, — он ткнул камышинкой в сторону памятника Александра III. — Не правда ли? Видишь, какую махину отгрохал скульптор Паоло Трубецкой… А помнишь, я тебе показывал Медного всадника?.. Кто сильнее — этот гиппопотам или стройный — весь порыв — Пётр в лавровом венке, на вздыбленном коне? Ну?
— Пётр, — сказал Никита, и глаза его загорелись.
— То–то, — удовлетворённо вздохнул Коверзнев. — Запомни это: сильнее — порыв.
А Верзилин пообещал:
— Завтра съездим на Охту, в сад «Светлана». Там Пётр Крылов чемпионат держит. Я не видел участников, но заранее знаю, что среди них есть толстяки вроде Корды, а побеждать их будут такие, как ты; и даже более лёгкие, чем ты… Да помнишь — в Вятке?.. Иван Татауров всех положил, а среди них были двое на десять пудов… А сам–то ты — забыл, что ли? А? Разве не тяжелее тебя был Ян Пытля? Да ты перед ним был как мальчишка.
Поставив камышинку на палец, балансируя ею, Коверзнев поддержал:
— Это идея — съездить в «Светлану». Жаль, что Леван с Инной заняты… Слушайте, поедем сегодня? А?
Он подбросил камышинку, поймал её и, крутя, как жонглёр, между пальцами, спросил:
— Поедем?
— Что ж, я согласен, — сказал Верзилин. — Нечего откладывать на завтра.
— Проводим Левана, пообедаем на Измайловском и — махнём.
«Тебе не Левана проводить надо, а с Ниной повидаться», — ревниво подумал Верзилин.
Никита всё смотрел на Корду. Тогда Верзилин спросил шутливо:
— Ты чего нос повесил? Уж не из–за Корды, конечно? Не грусти. Я тебе сейчас расскажу весёлую историю про самого печального человека. Был на свете такой меланхолик. Обратился он к доктору — ничто, дескать, его не может развеселить. Доктор долго осматривал его, прописал всякие вещи. Ничего не помогает. Тогда доктор говорит: остаётся одно средство — сходить в цирк и посмотреть на знаменитого клоуна Тони Грайса, от которого умирает со смеху весь Лондон. «Увы, — ответил меланхолик, — Тонн Грайс — это я сам». Ха–ха–ха! Так вот ты и напоминаешь мне этого клоуна… Ха–ха–ха!
Но Никита не засмеялся. Выражение лица его было необыкновенно суровое, посредине лба прорезалась упрямая складка. (Верзилин видел его таким впервые). Покосившись на знаменитого борца, он сказал зло:
— Ишь, стоит как хозяин… Всыпать бы ему по первое число — слетела бы спесь–то… Так руки и чешутся…
— Вот это правильно! — обрадовался Верзилин.
— Взять бы его да, как Пытлю… бросить! — сказал Никита. Потом резко сунул руки в карманы брюк:
— Поехали. Чего им любоваться–то.
Коверзнев весело хлопнул его по плечу и всю дорогу в трамвае рассказывал забавные истории. Придя к Нине, он на ходу сочинил историю о том, что камыш, который он ей преподносит, взят из декорации к «Князю Игорю».
— Ты восхищалась Кончаком — Шаляпиным и половецким станом. И вот тебе в память об этой опере…
— И тебе не жалко расставаться с таким сувениром? — спросила девушка.
— За одно родимое пятно красавицы можно отдать два города. Как — неплохая поговорка?
Позже, когда они вместе вышли на Невский, Коверзнев неожиданно сжал Никите руку, зашептал:
— Смотри, смотри: это цирковой бог — сам Сципион Чинизелли… с женой.
Верзилин ткнул Никиту в бок — навстречу в двухместном кабриолете со сплошным стеклянным передним кузовом ехал чёрный, носатый, с большой квадратной челюстью человек. Он сам правил лошадьми; рядом с ним сидела полная женщина в модном парижском платье и шляпке. Два пятнистых фокстерьера бежали следом.
Все встречные провожали коляску глазами.
— Видал? Вот под чью дудку пляшут все борцы. Да что там борцы! Даже арбитры вроде барона Вогау. Его доход за один сезон больше ста тысяч рублей. А жадность — непомерная. В прошлом году он запоздал на месяц с открытием сезона, потому что не приехали из–за границы артисты — испугались холеры. И за весь месяц он не заплатил ни копейки тем артистам, которые явились к нему в срок… А ведь у них семьи и маленькие ребятишки.
— Слушай, Коверзнев, — сказала недовольно Нина, — перестань обличать — надоело.
Тот надулся и до самого цирка не проронил ни слова. На углу Итальянской и Караванной они расстались.
В трамвае сидели молча — Коверзнев продолжал дуться, Никита рассматривал город, Верзилин думал о Нине.
Вдруг трамвай неожиданно остановился — Верзилин стукнулся затылком о стекло, повернулся. Путь преграждала толпа. Конные полицейские теснили её к пыльному забору. Это всё, что успел разглядеть Верзилин в первое мгновение. Со звоном разлетелось стекло, булыжник брякнулся на пол. Коверзнев выскочил на волю, замахал руками, закричал на полицейского. Тот, сдерживая лошадь, повернулся, пригрозил:
— Не лезь не в своё дело, господин хороший!
— Женщину! Женщину с ребёнком топтать! Хам! Убийца!
Полицейский оскалился, сбоку полоснул Коверзнева нагайкой — по щеке, в кровь.
Одним прыжком Верзилин очутился рядом, с силой схватил под уздцы лошадь, дёрнул на себя. Полицейский неуклюже повернулся — оказалось, его сшиб Никита. Большеглазая, растрёпанная женщина, прижимая одной рукой бледного, рахитичного ребёнка, неслушающимися пальцами рвала на себе ворот; наконец это ей удалось. Она выдернула нательный крест на тесёмочке, заголосила, подступая к лежащему полицейскому.
— Смотри, смотри, кого бьёшь. А ещё хрестьянин! Я одна, одна — с четверыми, а кормилец — в машину угодил… Убили кровопийцы!.. На заводе!.. Где бог? Где бог? — Крестик болтался беспомощно, скользнул в разрез, рядом с отвисшей грудью.
Кто–то столкнул Верзилина наземь; он увидел над своей головой занесённые копыта; чудом (а потом он узнал — по Никитиной воле) конь прянул в сторону. Мастеровой в фуражке с лаковым козырьком взмахнул рукой — швырнул ржавый болт в голову конника. Верзилин поднялся, подхватил женщину с ребёнком, толкнул на дорогу, к трамваю. Успел увидеть, как Никита выломил из забора тяжёлую доску и не наотмашь, а словно пикой, снизу, ткнул полицейского в подбородок. Прогрохотал выстрел. Раздался крик:
— Ничего! Придёт снова пятый год! Вспомните!
Ещё одного полицейского стянули с коня, отобрали у него револьвер.
Мужчина в чёрной кепке–блине вскочил на развилку низенького бородавчатого тополя, уцепился рукой за ветку.
— Товарищи! — звонко прозвучал над толпой его голос. — Когда все вместе — мы стали сила! Видите? Нам не страшны даже полицейские. Держитесь друг друга! Никаких уступок! Так жить нельзя! Шестьдесят копеек в день! А работаем по двенадцать часов! Хозяину выгодно. Ему нет дела до того, что мы голодаем и живём по вонючим углам! О машине он и то больше заботится! Машина денег стоит! А нас можно вышвырнуть — новые найдутся! Не позволим! Добьёмся, чтобы наших товарищей оставили на заводе и не заносили в «чёрные списки»! Недолго буржуям осталось властвовать! Придёт ещё пятый год!
Он спрыгнул с дерева, скрылся в толпе.
— Скачут, ироды! — крикнул кто–то.
Верзилин увидел: с Порохового шоссе, переходя на галоп, скакали полицейские.
— Эх, аллюр три креста! — крикнул молодой парень с чёрными усиками.
Другой, в фуражке с лаковым козырьком (Верзилин приметил: тот, что швырнул болт), дёрнул Коверзнева за рукав, кивнул Верзилину и Никите:
— Пошли! А то вы люди заметные, нездешние.
Толпа поредела.
Они пробежали мимо заводских ворот с тусклыми буквами по металлической сетке, мимо грязных лавочек, в которых продают квашеную капусту, осклизлые грибы, ржавую селёдку да мочёную пресную бруснику. Парень свернул к забору, нырнул в пролом; Никита бежал последним, не пролез, стал выламывать доски. Подскочил мужчина в кепке–блине — оратор, похлопал Никиту по спине, сказал:
— Силён, парень. Молодец, — и подмигнул их провожатому: — На ту сторону их, Ванюша. А то больно легко их запомнить… Спасибо, товарищи, от выборжцев за помощь.
Он пожал им руки, сказал Каверзневу: «Ничего, до свадьбы заживёт» — и скрылся за огромным покосившимся сараем. А они торопливо зашагали наискосок, через заросли крапивы и репейника. В пожелтевшей жёсткой траве ржавели части машин, гнили какие–то брёвна; всё было покрыто каменноугольной пылью. Мастеровой остановился у канала, вода в котором была покрыта чёрной плёнкой, и, держась за тёмные подгнившие сваи, спустился на покачнувшееся под его тяжестью полотно дверей. Оттолкнулся, пристал к другому берегу, послал плот обратно. Поочерёдно перебрались все. Шли вдоль чёрного канала; пахло зловонно; под ногами скрипел уголь.
— Ну вот и всё, братцы, — сказал парень. — Тикайте вон туда, в поле. В версте — кольцо трамвайное… Назад возвращайтесь не по Литейному, а по Охтенскому… Да щеку–то прикройте, чтоб не видно. Будьте здоровы, спасибо вам.
Шли по песку, тяжело проваливаясь. Тропка вывела к трясине. Помылись.
Соскребая со щеки засохшую кровь, Коверзнев говорил взволнованно:
— Слышали? Придёт пятый год! Трещит по всем швам этот прогнивший строй. Второй такой революции он не выдержит.
Склонившись, протирая его щеку носовым платком, Верзилин поддержал:
— Как ни затягивай петлю — народ не задавишь.
— Волнуются все, — сказал Никита. — У нас в губернии сплошь ингуши поселены для порядку.
— Вот–вот! — воскликнул Коверзнев, — А Леван рассказывает: был на гастролях в Тифлисе, так там казаки…
— Вот видишь! — взволнованно сказал Никита. — Казаки… Ингуши… А ведь каких стражников ни ставь — думать людям не запретишь. Глотку заткнуть — это ещё туда–сюда. А думать… Сейчас каждый думает, что и как… А у нас ещё ссыльных много, они всё объясняют: почему пароходчик Булычёв — миллионщик… Или, опять же, Александров… У него заводы по всей Каме, да и в Сибири. Спирт гонит… А я вот возил у него спирт — чуть с голоду не сдох, пришлось всё бросить, в грузчики податься. А он себе в Париже поживает… Сам ни разу ни на одном заводе не бывал…
«Ох ты какой у меня!» — с гордостью подумал Верзилин.
Так, в разговорах, они вышли на остановку, спокойно сели в трамвай; чтоб не привлекать внимания, заговорили о цирке.
В «Светлану» приехали в девять — было время успокоиться, прийти в себя. В буфете съели по порции яичницы, запили минеральной водой. Сидя за столом, весело, многозначительно переглядывались. Когда мимо прошёл жандармский ротмистр с дамой под руку, Коверзнев подмигнул в его сторону, обвёл всех торжествующим взглядом.
— Чтоб ни одного слова о случившемся, — шепнул Верзилин.
Коверзнев сделал пьяное лицо, пропел:
Эх, брошу я карты, заброшу бильярды,
Стану я горькую водочку пить…
— Ишь, как разукрасили господина арбитра, — сказал кто–то с восхищением, когда они поднимались из–за столика.
Коверзнев схватился за Никитин локоть, начал заплетаться ногами, пылить.
Играл духовой оркестр. Пахло распустившимся табаком. Тускло светили сквозь листву лампы.
Никита схватил Верзилина за руку: на скамейке против цирка сидел Иван Татауров.
— Ефим Николаевич! — воскликнул тот, дыша в лицо Верзилину винным перегаром. — Я к вам столько раз приходил, а хозяйка всё говорит: нету…
— Ну, здравствуй, здравствуй. Как живёшь? — обрадовался встрече Верзилин, совсем забывший об обиде, нанесённой ему этим человеком.
— Плохо, — махнул рукой Татауров.
— А что так?
— Да всё жалею — от вас ушёл, — Татауров ревниво посмотрел на Левана и Никиту. — Всё хочу назад к вам проситься.
— Э‑э, брат, ничего не выйдет — у меня вот Никита сейчас. Мы с ним готовимся.
— Как ваша рука? — покосился Татауров на знакомый саквояж с галькой. — Не боретесь?
— Нет, не борюсь. А ты? У Петра Крылова?
Татауров махнул рукой:
— У него.
Садясь рядом с ним, расчувствовавшийся Верзилин попросил:
— Ну, расскажи о себе. Как жил, где боролся?
— Дюперрен нас тогда бросил, сбежал; после Котельнича хватились. А в Вологде нас и не ждали. Это он всё врал. Сатана взял всё в свои руки, договорился. Стали бороться. Сатана мне не даёт, из гостиницы не выпускает. Говорит — буду «маской». Все переборолись, сборы стали падать, Сатана из чулка сделал мне маску. Я прихожу, говорю: вызываю любого борца. Сатана говорит: запишитесь в кассе, поставим имя в афише, через день будете бороться. Я — настаиваю. Публика шумит — требует разрешить. Купец один вскакивает, сто рублей ставит за меня… Я кладу одного за другим троих — они поддаются, так Сатана велел… Требую ещё, не удаётся — полицейский час… На другой день афиши — «чёрная маска»… Я. каждый день всех побеждаю. Все сами ложатся под меня… Сатана объявил: если «маска» победит Бамбулу, даёт награду — тысячу рублей. И говорит, сам будет бороться с победителем… На нашу борьбу с Бамбулой пришла вся Вологда. Чего только делалось — я такого не видел… Я положил по договорённости Бамбулу, потому что Сатана хотел бороться со мной и снять с меня маску… Все вскакивали с мест как сумасшедшие… На барьере сидели урядники с винтовками — для острастки… Публика сбесилась… Мне выдали тысячу. Я пошёл за кулисы — Сатана ко мне: отдавай. Я не отдаю. Хотел сбежать, думал, на всю жизнь обеспеченным буду… Он меня ударил. Собрались все подъялдыки — избили меня. Деньги отобрали… Зайцем уехал в Череповец, вот в таком же саду стал выступать — рвал колоду карт, вбивал в доски гвозди, гнул железо, работал с гирями… Узнал — в Тихвине чемпионат, поехал туда. Борцы плохие — все сорок второй размер воротнички носят. Думал, всех положу. Но тренировок не было, плохо питался — все положили меня… Денег нет. Один наездник посоветовал — я дал телеграмму в Пензу, директору Афанасьеву; он ответил — приезжай. Приехал, а его там арестовали, он бежал — увёз описанных лошадей и деньги. Я остался без копейки, и все, кто у него играли, — без копейки. Полиция отдала труппе инвентарь, и мы дали представление всем товариществом. Сто семнадцать рублей собрали. Я получил четыре пятьдесят. Товарищество дало десять представлений, но пошли дожди, а шапито было дырявое — сборов не стало. Мы стали давать телеграммы в разные города. Продали шапито, ковёр, семь униформ и семь балетных костюмов за сто рублей. Разделили деньги и разъехались. Я приехал в Петербург, пошёл к вам — просить, чтобы опять тренировали меня. А вас нет. Долго я искал работы. Нигде не мог найти. Потом сюда приехал чемпионат Петра Крылова. Я пошёл к нему. Взяли. Платят сорок рублей в месяц. Десять плачу за квартиру. Даже выпить не на что.
Верзилину было жалко Ивана, но Никите он был сейчас нужнее:
— Эх, Ваня, Ваня… Ничем тебе сейчас не могу помочь.
— Да я знаю. Я не буду на вашей шее сидеть. Я только прошу — потренируйте.
Коверзнев ткнул Татаурова в бок, воскликнул:
— Ох ты, Иван Татуированный! Тренировку — обещаем. Чем больше спаррингпартнёров будет у Никиты–тем лучше. Как, Ефим Николаевич?
— Что ж, пусть поборется. Только ведь ты не выдержишь, Ваня, а? Режим — это не по тебе. Потому и проиграл борцам, которые воротнички сорок второго размера носят. — Верзилин похлопал его по красной шее, притянул к себе. — У тебя–то какой размер воротничка?
— Да ладно уж, — сказал Татауров, стеснительно отстраняясь. — Пойдёмте. Сегодня интересно будет. Джентльмен комедию станет ломать.
Верзилину никогда не приходилось бороться с Крыловым, но понаслышке он знал, что его зовут «джентльменом» за пристрастие к этому слову.
Борьба была неинтересной, а Пётр Крылов вдобавок ко всему не явился на свою решающую схватку с сильным борцом Черновым. Публика начала бесноваться, кричать. Напуганный арбитр предлагал поставить любую пару чемпионата. Но его никто не хотел и слушать, все кричали:
— Никого не надо! Давай Крылова! Деньги плачены!
Недовольные, злые, зрители начали подниматься с мест. И в это время на арену ворвался растрёпанный Крылов. Жилетка его была не застёгнута, волочились малиновые подтяжки, на шее мотался чудом державшийся на одной запонке воротничок.
— Часы стали, джентльмены, подвели меня! — выкрикивал он. — Вот, видите, — одиннадцать!
Он подскочил к судейскому столику, рванул рубашку, открыв татуированную, как у Ивана Татаурова, грудь, начал расстёгивать брюки.
Арбитр придержал его за руку. В шуме не было слышно его слов, но и так было ясно, что он сказал борцу о времени. Крылов снова стал совать часы под нос арбитру, бил себя в грудь — клялся. Арбитр разводил руками. Тогда Крылов стал подскакивать по очереди к каждому из судей. Ничего не помогло.
Крылов сбежал с ковра, разбрасывая ногами опилки, перескочил через барьер, начал совать свои часы под нос зрителям, выкрикивая:
— Честное благородное слово, джентльмены! Видите — одиннадцать.
Вернувшись на арену, он снова стал бить себя в грудь и даже заплакал.
Разводя руками, арбитр объяснил галдящей публике, что через пять минут полицейский час — ничего сделать нельзя. Борьба переносится на завтра.
Крылов в сердцах хватил своими золотыми часами об стол.
— Да‑а, здорово играет, — сказал Коверзнев. — Почему не пожертвовать часами — они двадцать пять рублей стоят, а завтрашний сбор в десять раз больше даст.
Верзилин покосился на Никиту. Нет, ничего ему не дала сегодняшняя борьба. Напрасно сходили. Как гиревик, Крылов–, мастер, а борец…
20
Свой день они начинали зарядкой, которая у иного отняла бы все силы. Борцы по очереди становились в мост и, упираясь в ковёр ступнями и затылком, поднимали две пудовые гири. Потом обтирались тряпкой, намоченной в солёной воде, и растирались холщовым полотенцем.
Татауров помимо этого ещё бил себя по шее бутылкой. И если остальные каждое утро мерили бицепсы, то он мерил и шею.
Позавтракав и отдохнув, они отправлялись на прогулку — иногда на Крестовский остров, иногда — дальше. Чаще всего доходили до Лахты. Там, на взморье, за дачей графа Стембока — Фермора сама природа разостлала для них борцовский ковёр — мягкий, упругий торфяник, покрытый нежной травкой.
Четверо огромных мужчин с тяжёлыми саквояжами в руках, возглавляемые худощавым Коверзневым, облачённым в бархатную куртку и шляпу из морской мочалки, вызывали пересуды не только в Чухонской слободе, но и в Новой Деревне, в Бобылках, в Лахте.
Верзилин вспомнил свои прошлогодние прогулки, тоску которых не скрашивало и присутствие Татаурова. Теперь было всё иначе. Скучающий Леван, застенчивый Никита и несловоохотливый Иван смеялись над остротами Коверзнева, как мальчишки. Самая тяжёлая тренировка не вызывала утомления. Чувство бодрости ни на минуту не покидало борцов. Им просто некогда было думать об усталости. Интереснейшие истории, сообщаемые Коверзневым, следовали одна за другой.
Боролись они долго, на протяжении трёх и даже четырёх часов. К общей радости, Никита выиграл не только у Левана, но и у Татаурова. Проигрывал он одному Верзилину. Это заставляло Коверзнева настаивать на том, чтобы с Кордой боролся именно он. Но иногда раненая рука подводила Верзилина, и он терял верную победу.
Если рука начинала болеть, он уходил к морю, ложился на горячий песок и смотрел на город. Сквозь серую дымку едва просвечивали светлые дома Васильевского острова, краны гавани и заводские трубы.
Верзилин подвигал к себе книжку, написанную Коверзневым. Всякий раз, когда он её читал, его удивляло упорство, с которым этот хрупкий и внешне слабый человек отстаивал права мужественных, сильных людей на честную состязательную борьбу.
«Настоящая борьба профессионалов, проводящаяся без интриг и закулисных махинаций, должна являться школой для спортсменов–любителей. Демонстрация с широкой, доступной для народа арены сильных, могучих людей будет пробуждать в зрителях интерес к физическому развитию и спорту…»
Верзилин откладывал книжку и, устремив невидящий взор на зелёную воду, думал, как прав Коверзнев. Но чёрт бы побрал! — разве это сделаешь в обществе, где люди думают о наживе, а не о честном состязании?..
«В настоящих условиях, как бы ни были интересны чемпионаты, как бы прославленные борцы ни выступали в них, все они страдают общим недостатком: полным отсутствием спортивного интереса.
Антреприза идёт на всевозможнейшие махинации, лишь бы возбудить интерес в неискушённом зрителе, преподнося ему время от времени пикантные новинки и неожиданности. Появляются «непобедимые маски» всех цветов, выступают «вне чемпионата» «пещерные люди», ужасающие своей дикостью, и проч. и проч.
Для большей убедительности мы приведём ряд примеров и докажем безусловную справедливость наших выводов и заключений фактами.
Первое. Для того чтобы повысить сборы, антреприза часто выдаёт своих борцов за иностранцев. Лезгинский лудильщик самоваров Хасаев борется под именем французского чемпиона Рабинэ, умершего в России и «оставившего» Хасаеву свою любовницу, а вместе с ней имя, медали и дипломы, — т. е. всё, кроме происхождения и знания французского языка. Рабинэ — Хасаеву показалось мало медалей прославленного чемпиона, и он заказал ещё двести заграничных жетонов в Германии…»
Примеры следовали один за другим. Верзилин перечитывал их, думал с восхищением: «Вот чёрт, не боится никого на чистую воду вывести». Косился на Коверзнева. А тот, подставив свою грудь солнцу, говорил Никите:
— В Элладе существовал обычай: всех больных, тщедушных младенцев бросать в волны Эгейского моря… У них не было слабых людей… Как, правильно они поступали?
— Правильно, — осторожно ответил Никита.
— Нет, неправильно! — обрезал его Коверзнев, резко перевернувшись со спины на живот. — Правильна их система воспитания… И люди должны добиться того, чтобы из каждого больного ребёнка вырастить здорового духом и телом человека… И мы должны это пропагандировать!
Верзилин улыбнулся, стал листать книжку дальше. Странно было видеть своё имя рядом с именами Поддубного, Заикина, Вахтурова.
«Русское простое имя — Ефим. Крепкая, сибирской закалки фамилия — Верзилин. Ефим Верзилин. Два слова, — и возникает любезный сердцу образ могучего русского богатыря. Вот он, простой, усатый великан, сильный и добрый, горячо и нежно любящий свою мать‑Родину. Попросту, без затей, по–молодецки прославил…»
«Почему — сибирской?» — подумал Верзилин и как–то спросил об этом у Коверзнева.
Пересыпая с ладони на ладонь песок, не поднимая глаз, тот ответил:
— «Сибирская закалка» — лучше звучит. Если написать «псковская», никакого впечатления не произведёт.
«Он ещё и не такое сочинит. Один раз он заявил, что я потомок царицы Тамары…» — вспомнилось Верзилину.
А Коверзнев сказал извиняющимся тоном:
— О вас я должен был написать самые тёплые слова, а не получилось — сам понимаю… У меня всегда так: чем больше чувств, тем труднее писать… И стиль какой–то псевдонародный становится. И «простой, усатый великан» — к чему «усатый» — непонятно… Глупо… Вы извините меня — я ещё напишу о вас.
Он лёг рядом с Верзилиным на песок, взял у него свою книжку, сунул её под тяжёлый саквояж. Подняв голову, рассматривая подошедших Никиту, Левана и Ивана, сказал о другом, словно хотел, чтобы Верзилин поскорее забыл этот разговор:
— Вон дача Стембока — Фермора. Так с ним такая история во время войны была. Молодой, красивый корнет лейб–гвардии гусарского полка, миллионщик, оставшийся сиротой, влюбился в одну красавицу из кордебалета. Опекун граф Воронцов — Дашков категорически против. Сумел его отправить на позиции — в Маньчжурию. А девушка перекрасила цвет волос, сменила имя и паспорт, перешла румынскую границу, по океану на корабле попала в Маньчжурию с другой стороны. Отыскала Стембока. Пошли к полковому священнику. Так и так, перед лицом смерти, под пулями, хотим вступить в брак, любим друг друга и так далее… Ну и всё — пожалуйста, готово… Воронцов — Дашков волосы на себе рвёт, а ничего не изменишь — простая танцовщица, девчонка перехитрила его, распоряжается миллионами…
Глядя на дачные игрушечные домики с башенками и высокими крутыми крышами, Верзилин подумал: «Опять сочиняет». Взглянул на часы. Надо было продолжать занятия. Эх, а хорошо всё–таки, когда все вместе! Не может, видимо, человек быть в одиночестве… Вот бы всегда так. Чтоб не повторялся страшный прошлый год…
Солнце клонилось к западу. На облюбованной ими полянке появилась тень. Торфянистая почва упруго поддавала, как опилки под ковром. Верзилин подтолкнул Татаурова к Никите. Последовало их рукопожатие, быстрая смена местами, и они схватили друг друга в объятия.
— Передний пояс! Передний пояс! — требовал Верзилин, — Ты выше Ивана и выше Корды — используй своё преимущество.
Когда Татауров был пригвождён лопатками к земле, Верзилин, не дав Никите передышки, схватился с ним сам. Они долго ходили в стойке, потом Верзилин упал на бок, увлекая за собой Никиту, расслабился, сделал вид, что уступает, и неожиданно перебросил через себя, навалился, вжал в зелень.
Вставая, тяжело дыша, подумал: «Коверзнев прав — бороться всё–таки надо мне… Только не буду пока говорить об этом Никите, пусть занимается».
Он заставил Никиту бороться с Леваном, потом снова с Татауровым, потом с собой.
Возвращались домой поздно. Перед самой Чухонской слободой, на Смоленском кладбище, Коверзнев остановился перед бюстом Гаэтано Чинизелли. Осмотрев его со всех сторон, рассказал о том, как тридцать лет назад этот предприимчивый итальянец добился через любовника своей дочери — наследника престола — аренды на участок у Семёновского моста и основал самый крупный в России цирк.
Верзилин подумал: о чём бы они сейчас ни говорили, разговор всякий раз сводился к Чинизелли. А они ведь с Коверзневым негласно договорились не напоминать Никите лишний раз о предстоящей борьбе… Но от этого, видно, не убережёшься. Тем более что бенефис Корды через два дня.
Потом, глядя на жирных ворон, неподвижно сидящих на крестах, подумал: «А впрочем, теперь, когда бороться буду я, это не имеет значения».
Стало прохладно; солнце почти скрылось; тени от деревянных крестов лежали ломаными линиями на холмиках могил. Кричала какая–то птица — протяжно и резко. За оградой кладбища монотонно шумела фабрика.
По Чухонской слободе гнали коров. Обочь дороги, по мягкой пыльной тропинке, шла верзилинская хозяйка — несла дровину. Верзилин догнал женщину, отобрал дровину, кивнул Никите:
— Возьми бадью с молоком.
Она запричитала, начала благодарить, — как будто впервые ей помогал постоялец.
Коверзнев забежал вперёд, распахнул калитку. Опять начал болтать. Верзилин подумал: «Ага, догадался, что дал маху с Чинизелли».
Доставая из чемодана полотенце, Верзилин наткнулся на свистульки–раскоряки, на барынь в кринолинах. Забыл, совсем забыл о них! И, не вставая с колен, протянул Коверзневу:
— Это, Валерьян Павлович, по вашей части.
Глаза у Коверзнева загорелись, он хватал то одну игрушку, то другую, восклицая:
— Как горят краски!.. А золото!.. А форма–то, форма–то какая. Такая простота и такая выразительность!.. И всё своё, русское… Какой колорит!.. Ну, Ефим Николаевич, иметь такое богатство и держать его под спудом — это преступление…
— Да я совсем забыл об этих игрушках, — признался Верзилин, перекидывая через плечо полотенце и защёлкивая чемодан.
— Откуда они у вас? Откуда? Из Вятки?
— Ну да. Там, против города, слобода есть — Дымково; в разлив водой затопляется; бывает, по крыши… В ней мастера испокон веку этим занимаются. Так и называется — дымковская игрушка. А блестит — это они на яичном желтке краску разводят… Мне Никитин дядя объяснял.
— Вот о чём надо книгу писать. А не о вас — неблагодарных борцах, — шутливо говорил Коверзнев. — «Сибирской закалки», «сибирской закалки»… Да «сибирской закалки» звучит лучше, чем «псковской»! Ясно? — он сунул свистулю в рот, свистнул: «Фю–фю–фю», — зажимая пальцами отверстия, засвистел на все голоса.
21
Не оборачиваясь к Верзилину, продолжая причёсываться перед зеркалом, Нина сказала:
— В таких делах, по–моему, никогда нельзя советовать.
Глядя на её узкую худую спину, по которой сейчас были
рассыпаны чёрные волосы, Верзилин объяснил со вздохом:
— Мне толчок нужен. Я надеялся от вас его получить. Я сильнее Никиты, но у меня — рука. Однако я всё больше и больше склоняюсь на сторону Валерьяна Павловича. Противник сильный, вот видите: в один вечер будет бороться и под автомобилем лежать. Вот что пишут: «До чего дошли люди: завтра по живому человеку автомобиль проедет. Это называется бенефис Корды». А вот в другой газете: ««Человек со стальным животом и железной спиной» — это заграничная знаменитость Корда, которого на его бенефисе автомобилем переедут по стопудовой платформе».
Нина ничего не ответила. Откинув голову, так что в зеркале отразился один подбородок, она плавными движениями расчёсывала волосы.
В окно упал луч солнца, осветил розу, лежащую на скатерти, пронзил насквозь опавшие кремовые лепестки, заиграл на флаконе с духами «Карнавал»; крохотная яркая радуга вспыхнула на листе газеты, брошенной Верзилиным.
Рассматривая красную наклейку на духах, на которой было изображено домино в чёрной маске, Верзилин вспомнил, как в прошлом году мечтал об эффектной победе, над Мальтой. И маска, и дорогая шляпа, и перекинутый через локоть плащ — каким наивным всё это сейчас показалось ему! Неужели он ещё в прошлом году был таким чудаком?
На солнце набежала тучка, радуга погасла. Верзилин взял флакон, понюхал пробку; этими духами душилась только Нина; ему раньше казалось, что и от её львов пахнет «Карнавалом».
Снова в комнате стало светло. Он поставил флакон на стол, но не мог отыскать прежнего места — радуги не было.
«Смешно, о чём я мечтал в прошлом году — о личной славе… Мститель в таинственной маске».
Нина медленно повернула свою закинутую голову, глядясь в маленькое круглое зеркальце на костяной ручке; положила его на комод — солнечный зайчик прыгнул прямо в руку Верзилина. Пытаясь зажать его в кулаке, он спросил себя: «А не о личной ли славе я мечтаю и сейчас, думая бороться вместо Никиты?» Но сразу же опроверг: «Нет, просто мне Валерьян Павлович внушил, что я сильнее».
Зайчик никак не хотел попадать в кулак, прыгал по пальцам, по ладони.
«А ведь у Никиты хватит силы и упорства справиться с Кордой. Он так и горит желанием сразиться».
Верзилин резко поднялся, подошёл к комоду, взял зеркало, навёл им луч на флакон «Карнавала» — радуга опять заиграла на газетном листе.
— Одну минуту, я сейчас, — сказала Нина.
Заложив руки за спину, Верзилин закинул голову — упёрся взглядом в афишу, на которой Нина была изображена в окружении львов. Рядом висели крупные фотографии. Всё напоминало о прежней её профессии. Как–то она завтра понравится ему в цирке?
Позже, сидя в извозчичьей пролётке, Верзилин сказал:
— А я, Нина Георгиевна, решил, что бороться должен Никита.
— Я думаю, вы правы… Только всё же горько бывает, когда на твоё место приходят молодые… Вот и у меня так же. Мой номер тренирует какая–то Измайлова в Москве…
Думая о своём, Верзилин сказал:
— Меня может подвести рука, а здесь рисковать нельзя — речь идёт о чести нашего отечества… О своей славе в таком деле надо забыть.
И теперь, когда он окончательно решился, ему стало хорошо и спокойно. Захотелось как–то отпраздновать это своё решение, послушать музыку, полюбоваться Ниной. Он сказал ей, что хочет угостить её обедом; как она смотрит на это? Она не возражала.
Расплатившись с извозчиком, поднимаясь по ступенькам кафе, Верзилин посетовал:
— Первый раз жалею, что у нас нет телефона, — а то бы мы срочно вызвали. Никиту, Левана и — главное — Валерьяна Павловича.
На мгновение повернувшись к нему и взглянув в его глаза, Нина сказала:
— Я бы сегодня хотела остаться с вами.
И, опустив его руку, взбежав по ступенькам, объяснила:
— Мы и так слишком часто бываем на людях…
— Я рад, — сказал он, открывая дверь.
Они слушали румынский оркестр; пили холодное кислое вино. Потом прошли из конца в конец весь Невский, выбирали цветы в цветочном магазине; рассматривали в витринах фотографии Корды. Не заметили, как очутились на Марсовом поле. Солнце освещало горбатый Троицкий мост, бронзового Суворова в античных доспехах, шпиль Петропавловской крепости. Они сидели на скамейке, держась за руки, любуясь бело–жёлтым ампиром Павловских казарм и подстриженной зеленью Летнего сада. Игла Михайловского дворца маячила над деревьями в серой дымке.
Мимо прошла пара; девушка в длинном платье, жёлтом платочке напевала вполголоса:
Надев своё лучшее платье,
С толпою пошла и она…
И насмерть зарублена шашкой
Твоя молодая жена…
Стало грустно от этой песни. Почему–то вспомнился рассказ Феофилактыча о том, как Никита обезоружил стражника. Нина выслушала его молча, задумавшись. Они шли вдоль набережной. Пуская клубы дыма, по Неве тащились пароходики — тянули баржи с дровами, с камнем. У причала стояла большая яхта; ветер шумел в её стройных реях.
Ощущение грусти не покидало Верзилина и на другой день. Даже в цирке он сидел грустный. Ни бравурная музыка, ни помпезность помещения не могли изменить его настроения. Он без волнения смотрел на малиновый бархат лож и партера, на такие же ковры в проходах; хрустальные люстры заливали светом купол, на котором был изображён в самых разных видах основатель цирка.
На манеж вышел хромой чёрный человек с большой нижней челюстью и искусственным глазом — сам «Чипионе» Чинизелли. Пощёлкивая шамбарьером, он под звуки оркестра заставлял стройных блестящих лошадей танцевать, кланяться публике, маршировать, как на параде. Чинизелли всегда славились лошадьми. Покойный отец Сципиона — Гаэтано — давал уроки верховой езды самым знатным фамилиям Петербурга. Любовь к лошадям перешла от него и к сыну. Верзилин прекрасно знал его знаменитую конюшню.
Сципиона Чинизелли сменила жена — Люция. Штальмейстер почтительно передал ей шамбарьер. Выбежали чудесные маленькие шотландские пони. Коверзнев наклонился к Верзилину, рассказывая, как их везли из знаменитого зоопарка Гагенбека. Встряхивая длинными гривами и хвостами, они обежали арену. Оркестр заиграл вальс «Крутится, вертится шарф голубой»: два пони стали на деревянную качель, начали плавно качаться. Люция в прозрачном платье со шлейфом, сверкающим блёстками, пританцовывала по ковру, время от времени стреляя шамбарьером, и пони ходили по толстому канату, шагали по бутылкам. Один из них, одетый клоуном, словно передразнивал их, делая всё неловко и невпопад. Большое жабо его смешно вздрагивало, когда он подпрыгивал, пытаясь подражать своим братьям.
Музыка по–прежнему была плавной, когда объявили номер Джимухадзе. Всё было очень красиво и мило, и хотя Верзилин не мог ничего понять, ему очень понравилось. Леван с Ниной расхаживали по арене, играя какими–то катушками со шнуром; на шнурах взлетали вверх яркие кольца, падали назад, отскакивая от упругих шнуров, перескакивали от брата к сестре, снова взлетали вверх. На Леване и Нине были трико небесного цвета, маленькие плащи, усыпанные золотыми звёздами, и красные широкие пояса. Кольца тоже были голубые с красными поясками и золотом. Они взлетали всё чаще и чаще, потом Нина стала их ловить в одну руку; последнее взлетело под самый купол, упало на шнур, натянутый Леваном, подскочило несколько раз и, ловко пущенное им вдоль ковра, ударилось о препятствие — раздался неожиданный выстрел, и, развёртываясь в воздухе, из трубки вылетели ввысь два русских трёхцветных флага. Нина с Леваном поймали их и, размахивая ими, раскланиваясь, скрылись за кулисами.
Все последующие номера были также «пристойны», как выразился Коверзнев.
22
Конюшня в цирке Чинизелли исполняла роль театрального фойе. В антрактах по широкому её проходу, застланному малиновым ковром, прогуливались гвардейские офицеры, модные поэты и присяжные поверенные. Слышался щебет дам. Сюда допускалась только публика из лож. «Чернь» не имела права входа. Сплетничали о городских новостях, о туалетах, о театральных премьерах, о лошадях. Лошади из своих станков смотрели на толпу большими мудрыми грустными глазами; под ногами у лошадей лежали коврики. Униформисты опрыскивали конюшню духами. В свете крупных электрических ламп блестели золотые рыбки в аквариумах, золотые шнуры и погоны на гвардейских мундирах, апоплексические лысины чиновников, золотые позументы и пульверизаторы кучеров.
Татауров, попавший сюда впервые, бодрился — делал вид, что ему всё нипочём. Верзилин поглядывал на него с усмешечкой. Отыскивал глазами Никиту, которого должен был привести Коверзнев. Нина с Леваном стояли рядом.
Верзилина узнавали — раскланивались; подходили пожать руку, с удивлением спрашивали, откуда он взялся. Он отшучивался, а сам поглядывал поверх лысин, набриолиненных проборов, пышных дамских причёсок — где же Никита…
Неожиданно появился Коверзнев и, отведя Верзилина к артистическим уборным, в полумраке зашептал:
— В цирке знают о вашем присутствии и ставят его в прямую связь с бенефисом Корды… Думают, что вы будете с ним бороться, а это, по их мнению, означает его поражение, что, конечно, их никак не устраивает: во–первых, надо оправдать обещания, данные в рекламе; во–вторых… «по просьбе публики» Корда ещё должен дать гастроли. Мне удалось узнать, что в цирке посадили переодетого Тимофея Разгулова, он должен опередить вас и эффектно проиграть Корде… Наша задача — не дать ему выйти на арену раньше Никиты… У меня созрел план…
Мимо кто–то прошёл. Коверзнев замолчал, отодвинулся в тень. Потом снова зашептал:
— У меня созрел план: мы с Леваном и Ниной садимся недалеко от Тимофея (из–за популярности Джимухадзе по их просьбе кто угодно сменится с ними местами), и когда он выходит, Нина, будто случайно, загораживает ему дорогу. Боясь опоздать, он не очень вежливо с ней обходится; тогда поднимается Леван и с южным темпераментом вступается за Нину. Тем временем Никита первым подходит к арбитрскому столику…
Верзилин остановил его рукой, сказал:
— Сейчас я пошлю к вам Нину Георгиевну с Леваном. Вы всё взвесьте, а мы с Иваном и Никитой спокойно уйдём на места.
Сдерживая приятную предматчевую дрожь, он подумал; «Словно выступаю я, а не Никита. И откуда у меня такая уверенность в победе? Оттого что меня все помнят и считают за честь пожать мне руку? Или оттого что хозяева Корды испугались моего присутствия?»
Снова отвечая на приветствия, щурясь от яркого света, он отыскал Нину с Леваном подле аквариума и, отправив их к Коверзневу, повёл своих учеников из конюшни, объясняя им сложившуюся ситуацию. Положив руку на плечо Никиты и поняв, что и того бьёт предматчевая лихорадка, он говорил ему на ухо:
— Вот видишь, он уже тебя испугался. И вдвойне испугается, когда увидит, что ты его перехитрил и вышел раньше Тимофея… А то, что ты дрожишь, это хорошо. Когда Татауров выходил в цирке Коромыслова против Соснина, он ещё сильнее дрожал. А стоит только первый раз обхватить противника, как всё проходит.
Они уселись, оставив три места из шести свободными, ожидая новых соседей. Соседи пришли перед третьим звонком.
Верзилин отыскал глазами Левана и подумал, что никто так не умеет держаться, как цирковые артисты. Узенькие усики, длинные пышные чёрные волосы и безукоризненный костюм молодого Джимухадзе привлекали взоры женщин. Переводя взгляд дальше по ряду, Верзилин увидел Тимофея Разгулова; тот был острижен наголо, как Татауров, пепельная щетина покрывала его щёки. Серый пиджак висел на нём мешком.
В это время раздался раскатистый голос арбитра, зазвучал военный марш, и через строй униформистов вышел Корда. Он шёл медленно, вразвалку, пригнув голову. Медали и жетоны на его трико поблёскивали, трепетали. Появление этого гиганта вызвало гром рукоплесканий.
Переводя взгляд с Тимофея Разгулова на Никиту, Верзилин сейчас думал об одном: как бы не опоздать.
Корда под сплошной стон цирка подкидывал гири, рвал две колоды карт, сложенные вместе, ломал подкову…
Нина обмахивалась веером из страусовых перьев; Коверзнев склонился к ней, что–то рассказывая, теребя свой чёрный бант.
Арбитр объявил, что непобедимый геркулес Корда вызывает любого человека, желающего с ним бороться, и победитель, как об этом сказано в афишах, получает тысячу рублей, внесённых дирекцией цирка в депозит.
Не успел арбитр кончить своих слов, как Тимофей Разгулов поднялся с места. Верзилин подтолкнул к проходу Никиту; Нина Джимухадзе выронила веер; Коверзнев бросился его поднимать, ткнулся головой в живот Тимофея; тот толкнул худенькую фигурку вставшего на его дороге человека; вскочил разгневанный Леван, надменно закинул назад пышные длинные волосы; Коверзнев стал его оттаскивать от Тимофея; Нина сама подобрала веер, обиженно начала стряхивать с него пыль; Коверзнев вытащил из кармана карандаш и, оттесняя спиной Левана, стал что — то выспрашивать у Тимофея и записывать в блокнот. Сейчас Коверзнев сам подталкивал Тимофея к проходу и, семеня рядом с ним, всё писал и писал. Добежав с ним до барьера, он схватил борца за руку и долго её тряс.
Когда всё это произошло, Никита уже стоял на арене, перед арбитрским столом. Видно было по всему, что и Корда и арбитр были удивлены не столько опозданием своего подставного борца, сколько тем, что вместо Верзилина вышел неизвестный молодой парень. Это в конце концов и решило дело. После того как подскочивший к барьеру старик в дорогой поддёвке заявил, что он даст сто рублей вызвавшемуся бороться Сарафанникову, если он победит, арбитр пригласил Никиту переодеваться.
А старик, похлопывая ладонью по пухлому бумажнику, сказал вдогонку Никите:
— Держись, паря! Не ударь лицом в грязь перед чужими!
Гвардейский офицер из ложи, перегнувшись через её барьер,
выкрикнул:
— Против кого ставите? Корду ещё никто не побеждал после Збышко — Цыганевича!
— А ты поставь за своего Корду! — крикнул ему старик. — А? Чего не ставишь?
— Ставлю!
— Давай, давай, — усмехнулся старик, передавая на судейский столик деньги. А когда униформист поймал кредитный билет, брошенный офицером из ложи, и передал его арбитру, старик воскликнул:
— Пятьсот даю Сарафанникову, если победит! Знай наших!
Атмосфера накалилась до предела.
Офицеры кричали, что Корда непобедим. Подвыпившие купцы смеялись над ними, напоминали им о том, что русские — самые сильные. Галёрка была на стороне купцов.
Судьи, выбранные из публики, принимали деньги, советовались с арбитром о правилах схватки.
С первых же секунд стало ясно, что Корда рассчитывает на быструю победу. Он стал метать Никиту по ковру, как игрушку. Но это длилось не больше минуты. Потом они на протяжении получаса ходили в стойке. Известно, насколько неинтересно неискушённому зрителю наблюдать борьбу «бур» (то есть настоящую борьбу) вместо «шике», инсценированной борьбы, однако сейчас весь цирк притих, почувствовав, что за этим внешне спокойным хождением по ковру кроется нечто большее, чем обычная борьба.
Понял это и сам Корда.
Щипая и царапая Никиту, он шептал ему в ухо на ломаном русском языке, что если тот не уступит ему сейчас, то он доведёт его до обморока, а потом вывернет или переломит ему руку.
Никита молчал; думал об одном: как бы не попасться на приём. Он чувствовал, что спина его и бока покрываются кровоподтёками, но старался не обращать на это внимания. От железного объятия противника спирало дыхание.
А Корда продолжал шептать, что он тушировал Гаккеншмидта, Омера де Бульона и Педерсена — какой смысл сопротивляться, уступай сразу.
Никита по–прежнему молчал. Теперь уже трудно было понять: отчего не хватает дыхания — от объятий или от щипков.
Корда нырнул под него, схватил его за локоть, опрокинул на себя, начал выламывать руку. Отчаянно сопротивляясь, Никита почти ложился на лопатки. Боль заставляла забыть обо всём.
— Арбитр! Прекратить костоломку! — раздался звонкий от волнения голос Коверзнева.
И сразу галёрка обрушила на судью свой протест.
Снова в стойке. Какое счастье ходить так, а не лежать на ковре. Только бы он больше не ломал руку.
Опять щипок. Ещё. Что же это, куда смотрит арбитр? Разве кто мог подумать, что небритым подбородком можно сделать рану? Да перестань же бередить её — тут же одно сплошное мясо! Господин арбитр!
Ага! Стал смотреть! Это, видно, Валерьян Палыч. Он. За судейским столиком. И откуда–то слышен голос Ефима Николаевича. Над галёркой взлетают зелёные фуражки — это студенты. Картузы. Это фабричные… Ох, опять щипок! — «Да что же это, господин арбитр!» — Нет, это не мой голос. Эго голос Валерьяна Палыча. Ну да, он за столиком. И купец в поддёвке, который поставил на меня деньги. За столиком… Царапает — всеми ногтями по спине провёл… Ага! Остановили! Позвали к столику, что–то выговаривают ему… Пусть, пусть поразводит руками, а я отдохну… Ага, предупреждение!.. Сразу стало легче. Так. Сейчас мы попробуем приём.
— Давай, Сарафанников! Давай!
Ага! Хотят моей победы! Хорошо! Раз! Так его! Нет, братуша, шалишь! Ничего, ничего, походим с тобой, ты только не щиплись. Так! Нет, это ты брось — и мы не лыком шиты, знаем. Ефим Николаевич нам показывал этот приём. То–то… Ох, что это?!
Корда поймал его на передний пояс, резко приподнял над ковром и швырнул.
— Двойной нельсон! — прокричал арбитр. — Разрешается держать три минуты!
Корда подсунул под мышки руки, навалился всей тушей, ломал Никите шею.
— Сарафанников, держись! — закричал кто–то.
— Никита! Никита! Никита!
Снова в стойке… Нет, брат, ничего не выйдет! Ты силён, но и я недаром в мосте пудовые гири поднимал… Раз! Ну, что? Снова стоим? Кто был прав? А?
— Ложись… Я и не таких побеждал… Самого Иеса Педерсена… Ложись… — змеёй вползает в уши шёпот.
Что–то ты меня много уговариваешь. А ты вот возьми да положи. Что — выкусил? Ишь, какой барон нашёлся. Мы и не с такими на пристанях боролись. С крючниками, почище тебя. А ну!..
Обхватив Корду за пояс, Никита оторвал его от ковра. И, как они и предполагали с Ефимом Николаевичем, Корда, рассчитывая на свои десять пудов, постарался в этот момент накрыть Никиту, а Никита отпустил его, словно отказался от приёма, и когда Корда, не разгадав обмана, начал менять положение ног, чтобы стать на ковёр, Никита продолжил приём и бросил его на лопатки.
Огромная потная белая туша лежала несколько секунд неподвижно.
Потом Корда неуклюже поднялся и боком, нагнув бычью шею, озверев, пошёл на Никиту.
Но между ними уже стоял арбитр.
Под злым взглядом хозяина Корда отступил и, повернувшись, зашагал с манежа. И те, для кого он ещё час назад был кумиром, безжалостно его освистали.
Кто–то обнимал Никиту, целовал, поздравлял. Неистовствовала галёрка.
А он, уйдя в уборную, долго сидел там не шевелясь, держа в руках одежду. В тусклом исцарапанном зеркале виднелись его плечи в кровоподтёках и синяках, словно он был освежёван.
Больно было шевелиться.
Пахло пылью. Далеко, над головой, раздавался гул голосов. Тоненько жужжала муха.
За стеной перед кем–то оправдывался Корда.
Никита усмехнулся: «Что, брат? Сбили с тебя спесь? Не будешь в чужом городе как хозяин стоять… в цилиндре? То–то!»
Вбежал Коверзнев. Всплёскивая руками, воскликнул:
— Ох, что он сделал с тобой! Ну, ничего, — голос Коверзнева спустился до шёпота: — Сейчас, не предполагая того… за тебя… отомстят… Я узнал: его переедет автомобиль… Даст немножко вкось, и Корда с полгода… бороться… не сможет…
— Как переедет? — встрепенулся Никита.
— По договорённости… — прошептал Коверзнев. — Он кому — то… испортил дело… из–за него арбитр… потерял чуть ли не… два десятка тысяч…
Никита вскочил, воскликнув:
— Так его надо предупредить!
— Тише! Он рядом. Услышит.
Никита оттолкнул Коверзнева; пошатываясь, словно пьяный, пошёл к двери.
— Никита! Ты с ума сошёл?! Он тебя так изуродовал… Никогда не забывай о своих врагах!.. «Царь, помни про афинян!..» Персидский царь Дарий после поражения от афинян приказал своим слугам каждый день повторять: «Царь! Помни про афинян!» — говорил Коверзнев, топчась в дверях, дёргая Никиту за руки.
— Да что вы, Валерьян Палыч? Тут дело о жизни человека идёт, а вы о каком–то персидском царе…
— Никита!
— Ну что?
Коверзнев посмотрел на него восторженными глазами, воскликнул:
— А широкая у тебя душа, Никита!.. И будут тебя любить за это люди!
— Пустите!
Никита отстранил Коверзнева, вышел в коридор, толкнул дощатую дверь.
— Слушайте! Вы! — сказал он, устало упёршись руками в косяки. «До чего дошли люди: завтра по живому человеку автомобиль проедет». — Так вот — вы не ложитесь. Вас хотят задавить.
Корда порывисто шагнул к нему. Трусливо оглядываясь, словно его должны были сзади ударить, спросил:
— Вы… узнали?
— Да.
— Это есть… правда?
— Дурак, я тебе говорю, а ты…
— А если это есть обман?.. Шантаж?..
Корда приблизил лицо вплотную к нему, отчего Никиту передёрнуло, словно он прикоснулся к чему–то омерзительному; он толкнул борца в потное мягкое плечо:
— Я же тебе говорю!
— Это правда, а не шантаж! — поддержал Никиту появившийся в дверях Коверзнев.
Тогда Корда засуетился, полез во внутренний карман, стал рыться в нём, выронил гребень, коробку папирос. Прямо горстью достал пачку ассигнаций, сунул Никите:
— Берите. Я имею вам сделать благодарность…
Никита стукнул его по руке:
— Ты что?! Сначала щипать, потом — деньги? Откупиться хочешь?
— О, молодой русский борец, я знаю… — заговорил Корда, ползая по полу и собирая кредитные билеты.
Повернувшись к нему спиной, Никита спросил у Коверзнева:
— А где Ефим Николаевич?
— Да его же не пустили за кулисы… Он ждёт… — Коверзнев ткнул пальцем в потолок.
Никита наклонил голову, покачнувшись, вышел из уборной.
Корда перевёл растерянный взгляд на Коверзнева, протянул ему деньги:
— Передайте ему… Он юн и есть глюп…
Коверзнев откровенно рассмеялся ему в лицо:
— Он не глуп. Он умнее нас с вами, — и, наклонившись, подобрал коробку турецких папирос, попросил: — Вот что, отдайте на память. Не ему (он не возьмёт), а его учителю. Тренеру. Верзилину. Ефиму Верзилину.
— Верзилину?
— Да, Верзилину, — говорил Коверзнев, засовывая папиросы в нагрудный карман бархатной куртки, — Верзилину. Вот, смотрите, — он достал блокнот, открыл его и прочитал: «Бенефис Ефима Верзилина». Вот что будет завтра в газетах. Вы думали, бенефис Корды? Или бенефис Сарафанникова? Нет, бенефис Верзилина… Э, да что там! Вам не понять!
Он махнул рукой, надвинул шляпу на глаза и вышел.
Прошёл мимо Никитиной раздевалки, потом вернулся. Никита с перекошенным от боли лицом стоял у тусклого зеркала, пытался дотянуться руками до шеи — застегнуть галстук–пластрон. Руки падали как плети.
Увидев в зеркале отражение Коверзнева, он объяснил с виноватой улыбкой:
— Вот… устал…
— Я снимаю перед тобой шляпу, — сказал торжественно Коверзнев, склоняя голову.
Он помог Никите одеться, и они вышли из мрачной, пахнущей пылью раздевалки. В конце коридора горел яркий свет. На его фоне они увидели фигуру Верзилина. Ефим Николаевич шёл, заглядывая в каждую дверь, — разыскивая их.
23
Никита Сарафанников победил чемпиона мира. Эту весть возбуждённо обсуждали все любители французской борьбы. Журнал со статьёй Коверзнева о восходящей спортивной звезде расхватали в несколько часов. Однако в статье почти ничего не говорилось о Никите — она была дифирамбом учителю молодого борца Ефиму Верзилину. Из статьи явствовало одно: Никита — ученик знаменитого Верзилина, а раз его ученик, значит будет неподкупен. Поэтому в цирке Чинизелли предстояла честная борьба. Билеты на чемпионат брались с бою. По вечерам над цирком стоял гул. Его слышно было на Литейном и даже Невском. Сарафанников оправдывал надежды публики. Газеты с отчётами о чемпионате передавались из рук в руки. Читали вслух, захлёбываясь:
«1‑й день. Четвёртая пара была сплошным триумфом Никиты Сарафанникова (Вятка), который показал, что он в удивительной форме. В жертву Сарафанникову был дан сильный, ловкий татарин Али Сандаров (Казань). Едва борцы сошлись, как двумя — тремя могучими рывками Сарафанников начал кидать Сандарова по арене и уже через 2 мин. 9 сек. неотразимым грифом в партере перевернул отчаянно сопротивлявшегося Сандарова на лопатки».
«2‑й день. В последней, пятой паре был прямо–таки комический выход саженного претендента в чемпионы мира Никиты Сарафанникова (Вятка) против хотя и ловкого, но слабого Детлова (Ревель); не прошло и 15 сек., как могучим грифом Детлов был плотно уложен на лопатки».
«3‑й день. В цирке черно, негде упасть яблоку, и только потому, что борются два русских былинных богатыря — чемпион мира Вахтуров и Сарафанников. Микула Селянинович отбивает первенство у Ильи Муромца, а публика живёт вместе с ними, подбадривая то одного, то другого.
Оба угощают друг друга сильными трескучими «макаронами» и говорят, что им не больно.
А желание победить у обоих огромное. Чем дольше идёт борьба, тем более нервничает молодой Сарафанников. Вахтуров спокойнее, и это даёт ему большой перевес.
Правда, были моменты, когда Вахтуров почти касался обеими лопатками ковра, но благодаря тому что Сарафанников нервничал, Вахтурову удавалось уходить. Часовой срок оказался для них недостаточным, и им обоим зачтено по поражению».
«4‑й день. Гвоздём вечера была схватка двух великанов — Сарафанникова и Адама. Молодой богатырь совершенно неожиданно для всех поймал Адама на гриф и, несмотря на отчаянное сопротивление, сильным рывком бросил на ковёр».
Никитины успехи разжигали публику. Читатели сгорали от любопытства и требовали обнародования его биографии.
Монополистом этого материала являлся Валерьян Павлович Коверзнев. С первых дней чемпионата его осаждали редакторы. Он отмалчивался. Удивительно было, что он не написал ни одного отчёта о чемпионате. Видимо, задумал что–то более солидное. И действительно, когда чемпионат подошёл к середине, он опубликовал о молодом борце сразу несколько нашумевших очерков. За них ему заплатили тройной гонорар. Он мог потребовать и больше, но не торговался — оплата и так казалась ему баснословной. Деньги посыпались в его карман словно из рога изобилия.
И справедливости ради надо сказать — денег он зря не брал. Его короткие очерки о Сарафанникове были богаты фактами и отточены по форме. Экскурсы в древнюю историю читались с интересом и присяжными поверенными, и гимназистами.
И самое удивительное, что Коверзнев не повторялся. Разнообразие Никитиных подвигов вызывало у некоторых подозрение. Коверзнев пожимал плечами: он никогда ничего не выдумывал.
И очерки появлялись в журналах один за другим.
Рядом с газетными отчётами о чемпионате они казались литературными шедеврами.
«Шесть раз награждался Милон из Кротона олимпийским венком, сплетённым из ветвей священной маслины, — писал Коверзнев. — Легенда говорит, что его никто не мог сдвинуть с медного диска, смазанного маслом. И ещё сообщает легенда: он пробегал всю длину олимпийского ристалища с четырёхгодовалым быком на плечах… Никита Сарафанников о существовании диска, конечно, не слыхал. А вот корову он действительно вытащил из погреба, когда был мальчишкой…»
«Когда находчивый Гермес положил своего побочного брата Геракла к белой и упругой груди спящей Геры, — начинал он второй очерк, — она с гневом отшвырнула подкидыша, и брызнувшее в небо молоко образовало Млечный Путь; младенец остался без пищи, но, несмотря на это, вырос сильным и в первой же схватке с диким киферонским львом вышел победителем… Львов Никита Сарафанников не убивал — их нет в Вятской губернии. Зато свирепого бугая он уложил однажды ударом кулака. Бык, вырвав из стены цепь, бежал по улице деревни, сокрушая на пути все препятствия. Он мчался за ребёнком, на котором была красная рубаха. В два прыжка Никита догнал быка и схватил его за рога. Однако взбешённый зверь отбросил его, как пушинку. Новый прыжок — и стальной кулак Никиты обрушился на висок животного. Бык упал словно подкошенный…»
«Рассказывают, что Полидамас Фессалийский…»
Имена легендарных силачей уютно ложились на журнальные страницы рядом с именем Никиты. Молох — Никита, Ричард Львиное Сердце — Никита, Карл Великий — Никита, Август I — Никита, Пётр Великий — Никита, Васька Буслаев — Никита…
24
С недовольством читал эти очерки Ефим Николаевич Верзилин. Восстанавливая в памяти события последнего месяца, он пытался вспомнить, когда появилось это чувство. Он хорошо знал, что первые очерки его радовали. А потом? Когда они перестали ему нравиться? Когда он подумал, что раздуваемая Коверзневым слава только испортит Никиту? В самом деле, неужели Коверзнев этого не понимает? Однако эта деликатно высказанная мысль почему–то возмутила Коверзнева. Он сказал, что ожидал всего, кроме неблагодарности. Уж не завидует ли Ефим Николаевич славе своего ученика? Может, поэтому он и перестал его тренировать?
Верзилин удивился не столько резкости, с какой были произнесены эти слова, сколько тому, что в них была доля правды. Разве он уделяет столько внимания Никите, сколько уделял в Вятке? Конечно, нет. Нина взяла его всего без остатка. То он сидит у неё, то сопровождает её в цирк, то они гуляют по Петербургу. Сейчас он даже далеко не каждый день присутствует на борьбе. Выслушает дома рассказ счастливого Никиты, похвалит его за очередную победу и всё… И всё–таки…
— Всё–таки вы не совсем правы, Валерьян Палыч, — сказал он осторожно. — Дело в том, что Никита борется ежедневно… Борется «в бур»… И лишняя нагрузка, я думаю, ему сейчас не нужна…
Играя тонкой тростью с монограммой, Коверзнев произнёс горько:
— Эх, Ефим Николаевич, вы Никите теперь уделяете времени в десять раз меньше, чем я… А кто из нас его тренер?..
— Может, вы и правы. Но я думаю, это не столь большая потеря. А вот ваши статьи, боюсь, пойдут ему во вред.
— Они всем нравятся, кроме вас, — резко возразил Коверзнев. — И приносят они Никите только пользу… А я не виноват, что вы… — он не договорил, подбросил трость, поймал на лету и ушёл не простившись.
Разговор происходил в комнате Нины, на Измайловском. Верзилин вопросительно посмотрел на девушку. Она смущённо пожала плечами.
После этого случая получилось как–то так, что они реже стали встречаться с Коверзневым. Только иногда Нина говорила Верзилину, как бы между прочим, что журналист заходил к ней, видимо, он сознательно выбирал время, когда у Нины не могло быть Ефима Николаевича.
Ничего не понимая, Верзилин спросил однажды Никиту:
— Валерьян Павлович не сердится на меня?
— Валерьян–от Палыч? — удивился Никита. — На вас? Нисколько. Наоборот — нахваливает.
Верзилину стало неловко за свой вопрос, и он объяснил ученику:
— Мы тут с ним немножко повздорили. Он ругает меня за то, что мы с тобой тренироваться перестали.
Никита усмехнулся (как будто он был старший, а не Верзилин) и сказал:
— Да я ведь и сам не маленький: научился уж теперь заниматься–то.
И, словно стараясь успокоить учителя, взял из угла привязанную на полотенце двухпудовку, уселся на стул, повесил гирю на шею и начал упражнение.
Потом, перестав раскачиваться, сообщил:
— А мне Валерьян Палыч книжку подарил. Про древних греков…
Верзилин взял яркую детскую книжку, спросил с недоверием:
— Так ни с того ни с сего и подарил?
— Я у него про Геракла (кто он такой?) и разных там других расспрашивал… Вот он и принёс, — охотно объяснил Никита.
Верзилину стало обидно, что книгу подарил не он. Ясно было, что очерки Коверзнева возбудили в парне интерес к истории. А на черта ли история Никите?
Он решил, что подарит ученику какие–нибудь другие книги, но со временем забыл о своём намерении.
Да разве ему сейчас было до этого? Он ухаживал за Ниной, как гимназист. Он сопровождал её в цирк, неся её чемоданчик, и поджидал после выступления. Он был предупредителен и вежлив. Их любовь походила на юношескую. Он ничего от неё не требовал. Ему доставляло удовольствие любоваться ею. Высшим наслаждением для него было держать её руку. Он часто наклонялся к Нине, перевёртывал её трепещущую руку узкой ладонью вверх и целовал долгим поцелуем. За весь месяц он ни разу не обнял её. Когда его локоть случайно прикасался к маленькой девической груди, он торопливо отдёргивал руку и долго не решался после этого взглянуть на Нину.
Они часто ходили на отмель Васильевского острова и загорали. Нина раздевалась при нём стыдливо, как девочка, хотя каждый вечер он видел её в подобном костюме на арене цирка. Они часами лежали на горячем песке, разговаривая о чём угодно. Любая тема звучала для них многозначительно. Иногда они по кочкам добирались до взморья, срывая по пути болотные цветы. Глядя на мерцающий в синеве Кронштадтский собор, на пароходы и белые паруса, скользящие по морскому каналу, они мечтали о дальних странах и путешествиях. Нина рассказывала о родном Тифлисе, о Варшаве, Берлине. Прерывая рассказ, тянулась к Верзилину и прикасалась губами к его щеке — целомудренно, по–детски. Тогда волна восторга захлёстывала его. В эти минуты он любил её до слёз. Прикажи она ему переплыть Маркизову лужу, он, не задумываясь, бросился бы в воду.
Однажды Верзилин увёз Нину в Лахту. Было прохладно, купаться было нельзя, они сидели на песке против гранитной глыбы, глядя на белые барашки на гребнях волн.
В тумане почти не было видно города, лишь вырисовывался матово–бронзовый купол Исаакия. Дым от заводов висел в воздухе. Чайки проносились над водой… Верзилин вспомнил свои прогулки, одиночество и тоску. Он заговорил торопливо, словно боялся, что не успеет рассказать всего, что пережил в прошлом году. Он рассказывал о лаун–теннисном клубе «Клеверный листок» и о даче графа Фермора — Стембока, о деревне Бобылке и Конно — Лахтинском шоссе. На обратном пути он провёл Нину по посёлку, они понаблюдали за блестящими коричневыми оленями, разгуливающими в графском саду. За металлической оградой лениво бил фонтан, на лёгком балкончике похожего на замок дома стояла девушка в белом платье. Она посмотрела на них грустным взглядом. Нина просунула руку под локоть Верзилину, на мгновение прижалась.
В этот день она долго не отпускала его от себя. Несмотря на усталость, от вокзала они пошли пешком. На Самсониевском мосту молча остановились. Река была забита барками и плотами. Смеркалось. На Петербургской стороне зажёгся свет в окнах, вспыхнули фонари. Нина подняла на Верзилина взгляд, долго смотрела в его глаза, потом молча пожала руку. Резкий гудок пароходика заставил её вздрогнуть. Она медленно покачала головой, чему–то улыбнулась, попросила:
— Не уходите сегодня. Побудьте со мной. Вместе и поужинаем где–нибудь.
Теперь, когда у них появилась цель, они пошли быстро. Лишь у мрачной тёмной мечети замедлили шаги. Подле дворца знаменитой балерины, облицованного глазированными плитками, кто–то раскланялся с Верзилиным, спросил:
— Как Сарафанников?
Верзилин неопределённо помахал рукой.
С Троицкого моста сползал ярко освещённый трамвай. Фыркая мотором, промчался автомобиль. Сквозь липы в сквере виднелась старая деревянная церковь. За ней высоко в небо воткнулся шпиль Петропавловской крепости.
В «Аквариуме» было полно народу. Пока они стояли в проходе, кто–то их окликнул из глубины зала.
Нина испуганно сжала руку Верзилина, сказав:
— Нет–нет. Только одни.
Пришлось дать лакею целковый. Сразу появился свободный столик.
Они ели какой–то салат, запивая его искрящейся «Вдовой Клико». Потом им принесли кофе с воздушными пористыми горками сливок.
— Скажите, Ефим, — спросила задумчиво Нина, — теперь вам не так одиноко, как в прошлом году?
— Мне так хорошо никогда не было…
А она, не дослушав его, сказала печально:
— Я оттого такая, что не могу простить себе прошлый год.
Жалея её, он заверил проникновенно:
— Вы ни в чём не виноваты… Я же знаю это.
— Да. Но я не могу себе многого простить.
— Нина…
— Молчите, Ефим. Я всё понимаю.
25
— Зависть снедала Ивана Татаурова. В мировом чемпионате, проводящемся в цирке Чинизелли, он проигрывал большинство схваток.
Сокрушённо качая головой, борцы говорили ему:
— Эх, с твоей силой можно чудеса творить. Медведь ты этакий.
А Коверзнев как–то заявил небрежно:
— «Куража» у тебя не хватает.
Татауров вспомнил, что примерно то же самое говорил ему когда–то Верзилин. Не брось он своего учителя, не польстись на несчастные сто рублей, — кто знает, — он, может быть, выступал бы не хуже Никиты Сарафанникова. Ведь для роли чемпиона мира и готовил его когда–то Ефим Николаевич. Если Никита добился таких успехов за три месяца, то чего бы Татауров мог добиться за год?
После долгих размышлений он решил приложить все усилия для того, чтобы Верзилин взял его в Никитины напарники. Для этого он каждый день сейчас приходил в верзилинский домик в Чухонской слободе. Однако почти всякий раз случалось так, что они оказывались там вдвоём с Никитой. Верзилин дома не бывал. Никита говорил, что Ефим Николаевич проводит время у Нины Георгиевны Джимухадзе.
Завидуя Никите и понимая, что он служит для него спарринг — партнёром, Татауров всё–таки тренировался со своим новым приятелем, глубоко веря в то, что Никита занимается по системе Верзилина, которая вывела его в число лучших русских борцов.
Татауров стал так же настойчиво, как и Никита, вешать на шею двухпудовку и раскачиваться с ней, сидя на стуле, понимая, что от этого больше толку, чем от ударов бутылкой по загривку. Он снова начал заниматься гимнастикой и даже завёл саквояж и нагрузил его тяжёлой галькой.
На одной из тренировок, обтираясь полотенцем, намоченным в солёной воде, Никита сказал Татаурову:
— А здоров же ты, Ваня. Рёбра–то мне все чуть не сломал. Не знаю, кого я ещё боюсь так, как тебя… Разве что Вахтурова…
— Боишься, боишься, а побеждаешь, — проворчал Татауров, тяжело отдуваясь.
— А ты бы ещё за неделю приготовился проигрывать схватку, — рассмеялся Никита, — тогда ещё быстрее бы проиграл. Ты выходишь на арену и думаешь: «Ну уж сегодня я проиграю». А я, наоборот, всегда думаю: «Ну уж сегодня я выиграю…»
— Тебе хорошо так говорить, — вздохнул Татауров. — Когда у тебя такая силища.
— Ха–ха–ха! — рассмеялся Никита и, хлопнув приятеля по спине мокрым полотенцем, заверил: — Да у тебя силы–то не меньше… Говорю тебе — ты слушай, леший.
Он бросил полотенце в таз, повернулся, и взгляд его упал на окно. К дому подкатывал извозчик.
— Никак Валерьян Палыч.
Коверзнев вошёл быстро, оглядел комнату, заговорил:
— Здорово, богатыри. Как тренировка? Почему Иван опять расстроен? О чём речь?
— Да вот я всё говорю ему, что с его бы силой можно никого не бояться, — охотно объяснил Никита.
— Умные речи слушать надо, — сказал Коверзнев, разваливаясь в кресле.
Татауров молча потупился.
Разглядывая его насмешливыми глазами, журналист спросил с издёвкой:
— Упрям ты, что ли? Или в самом деле такой флегматик? Не пойму. Борец всегда холериком должен быть.
— Ты сам холера, — беззлобно огрызнулся Татауров.
— Чудачина! Да я не о том. Характер надо ломать. Ты, понимаешь, — квашня. А должен быть пружиной. Вот ты и сейчас сидишь, слушаешь меня, а сам глаза опустил. Я тебя ругаю, а ты боишься посмотреть на меня… И по улицам ходишь — глаза опускаешь перед каждым встречным. А ты заставь себя смело смотреть на каждого, кто идёт навстречу. Приучай себя к этому. Вмени себе это в обязанность, как вменил в обязанность саквояж тяжёлый таскать. Мышцы не заплывают жиром из–за тяжёлого саквояжа — это хорошо. Но для тебя сейчас другое важно. Смелость, понимаешь, выработать… Злость, нахальство — как хочешь понимай… А мышцы у тебя и сейчас — дай бог каждому борцу… «Кураж» тебе нужен. Понятно?
— Понятно, — угрюмо отозвался Татауров.
Коверзнев вытащил из кармана свою маленькую прокуренную трубку, покрутил её между пальцами и, неожиданно подняв глаза на Татаурова, спросил:
— У меня есть сила воли?
— Есть.
— А ты знаешь, как я её воспитывал? Вот, например, решил раскурить трубку на ветру и пусть десять коробков спичек истрачу, а всё равно раскурю… Вот и ты себя заставляй так же всё делать. Ясно?
— Ясно.
— Ты бери пример с Никиты. Так он — сплошное добродушие, а стоит выйти на ковёр — становится злым…
Татауров тяжело задышал, а Коверзнев, раскуривая трубочку, спросил у Никиты как бы между прочим‑
— А Ефим Николаевич опять у Нины?
— У неё, — вздохнул Никита.
— Да, не уделяет он тебе сейчас времени… — сказал задумчиво Коверзнев.
Никита промолчал.
Коверзнев пустил к потолку струю голубого дыма и засмотрелся на неё.
А Татауров, исподлобья следя за ним, подумал: «Этот тонконосый — не дурак. Надо к нему прислушаться. Он, по крайней мере, хоть что–то предлагает, не как Верзилин».
Неожиданный вывод, что Коверзнев не дурак, удивил Татаурова. Действительно, почему он до сих пор считал журналиста шутом гороховым? Только из–за одежды? Конечно, куда красивее одевается Нинин брат — Леван: фрак и галстук бабочкой. Но ведь дело не в этом. И, в конце концов, чем плоха коверзневская бархатная куртка с напуском и шёлковый бант? Наоборот, это, видимо, нравится многим. А главное, что он создаёт славу. Ведь Никиту сделал он, а не Верзилин.
«Он, а не Верзилин», — повторил мысленно Татауров, и этот вывод ошеломил его. Всё проще, чем он думал! Надо войти в доверие к Коверзневу, понравиться ему — и карьера сделана! Когда тебя распишут во всех журналах, как Никиту, все борцы сами ложиться под тебя будут, а не будут, так хозяин заставит. Заставляют же сейчас Татаурова ложиться под Ивана Яго и Стерса. А кто знает, может, он и сильнее их; они ведь ни разу всерьёз не боролись — пощекотит Иван Яго на двадцатой минуте ладонь, Татауров и ложится.
Татауров натянул рубашку, заправил её в брюки и зашагал из угла в угол.
— Ишь, как тигра забегал, ха–ха–ха! — рассмеялся Никита.
— Не тигра, а тигр, — равнодушно поправил его Коверзнев.
А Татауров обхватил Никиту, сжал железным кольцом и неожиданно положил на лопатки.
Отдуваясь, отряхивая опилки, Никита сказал удивлённо:
— Ну, брат, и хватка! Так меня один Вахтуров сжимал… Я же тебе говорил! Говорил? Нет?
— Говорил, — согласился Татауров и поглядел на Коверзнева.
Тот наполовину сполз с кресла — почти улёгся, загородил ногами двери. Глядя сквозь густые клубы дыма, сказал:
— Вот это другой коленкор, — потом затянулся, выпустил дым: «Пф–пф–пф» — и пошутил грустно:
— Ты этак и в чемпионы мира выйдешь.
Хмелея от коверзневских слов, понимая, что так и должно быть, Татауров неуклюже перешагнул через его ноги, вышел в кухню и там, над тазом, окатил свою голову холодной водой.
Отфыркиваясь, он поглядел в открытые двери на Коверзнева. Хотелось, чтобы тот ещё похвалил его и повторил свои слова.
Всё в таком же возбуждении Татауров вошёл в комнату, споткнувшись о ноги Коверзнева, ткнул Никиту в живот, переставил стул, распахнул створки окна, высунулся наружу, вдыхая запах смородины. Покосившись на Коверзнева, сказал:
— Ишь, какое солнце, растуды твою…
Коверзнев ничего не ответил. Курил, уставившись в потолок.
Тогда Татауров напомнил:
— А извозчик–то вас ждёт… Денег не жалеете.
— Ругаешься ты, Иван, отменно. Такому матерщиннику позавидовал бы не только Даль, но и сам Бодуэн де Куртенэ, который составил дополнительный том словаря… Пф–пф–пф… А деньги — тлен. Не в деньгах счастье.
Татаурову хотелось возражать горячо и много, но, как обычно, он не мог найти подходящих слов. Он сел на подоконник, загородил спиной свет, в волнении сжал пальцы. На гвоздике висел веер, он снял его, начал теребить перья.
Повернувшись к Никите, Коверзнев спросил кратко:
— Нинин?
— Она оставила.
— Пф–пф–пф‑пф…
Татауров помахал веером в возбуждённое лицо.
— Пф–пф–пф‑пф…
Татауров продолжал обмахиваться.
И тогда Коверзнев неожиданно рассердился:
— Повесь на место!
Выбил трубку о чугунную каслинскую пепельницу, проследил за тем, как Татауров выполнил его приказание, и попрощался с борцами.
26
Через несколько дней в цирке арбитр многозначительно сказал Коверзневу:
— Вас просил заглянуть господин директор.
— Чинизелли?
Арбитр высокомерно посмотрел на него и ничего не ответил.
Не зная, чем объяснить неожиданное волнение, Коверзнев поднялся наверх.
Отстраняя горничную, сам Чипионе Чинизелли, прихрамывая, шёл навстречу.
Шёлковый чёрный цилиндр на его голове смутил Коверзнева: любому артисту было известно, если «господин директор» надел цилиндр — значит, он гневается.
Но тот любезно улыбался, говоря:
— Господин Коверзнев, рад видеть вас у себя.
Костистая крепкая рука сжала руку Коверзнева.
Кланяясь ниже чем бы следовало, Коверзнев сказал почтительно:
— Тронут вашим вниманием.
Когда поднял голову, Чинизелли всё так же улыбался. Кончики воротника упруги и девственно белы. Дымится настоящая гаванна, хотя в руках зачем–то держит портсигар. Искусственный глаз смотрит печально.
Грум–карлик выглядывает из–за его спины; на поводке два фокстерьера.
Руки у Коверзнева сами вытянулись по швам.
Чинизелли, побарабанив пальцами по портсигару, сказал:
— Очень, очень хороши ваши очерки о Сарафанникове.
Радость заполнила Коверзневу грудь. Сам «цирковой бог»
похвалил его очерки.
— Я очень рад, Сципион Гаэтанович, что они вам нравятся.
— По стилю они стоят на голову выше всего, что до сих пор писалось о борцах. Отточены великолепно.
— Очень рад, — поклонился Коверзнев.
— Отточены великолепно, — задумчиво повторил Чинизелли. — Справедливо вчера заметил Алексей Сергеевич Суворин, что они сделали бы честь «Новому времени»… В самом деле, почему вы их публикуете в журналах? «Новое время» куда более тиражное и читаемое издание.
«Ну, в черносотенной газете, положим, я печататься не буду», — подумал Коверзнев, а вслух сказал:
— Знаете, влюблён в журналы. Свой открыть мечтаю.
— Да, хорошие очерки, хорошие, — снова похвалил «господин директор», словно ему больше нечего было сказать.
Коверзнев краешком глаза постарался рассмотреть гостиную. Обстановка богатая. На почётном месте бюст отца — Гаэтано Чинизелли.
— Да, стиль прозрачный. Очень, очень хорошо.
— Я рад, что вам нравится мой стиль, Сципион Гаэтанович, — сказал Коверзнев.
— Любому газетчику я бы заплатил за рекламу моих борцов. Вам я этого сделать не могу. Вы — не писака. Вы — человек моего круга. Мы с вами служим одному богу — искусству. Поэтому мой подарок примите, как дань ценителя вашего творчества, а не как гонорар за рекламу.
Чинизелли протянул Коверзневу золотой портсигар, который во время их разговора держал в руках.
— Благодарю, Сципион Гаэтанович.
— Очень, очень рад сделать вам маленькое удовольствие.
— Благодарю, Сципион Гаэтанович.
Коверзнев опять задержался в поклоне дольше, чем следовало.
Распрямившись, взглянув в лицо директора цирка, подумал: «Сдаёт старик».
А тот сказал:
— Неплохо, если бы вы дали такие же очерки и о других борцах. Читатель их очень ждёт и будет вам благодарен.
— Хорошо, Сципион Гаэтанович.
— О Вахтурове для начала.
— Будет сделано, Сципион Гаэтанович.
— Или о Иване Яго.
— Напишу, Сципион Гаэтановпч.
В комнате послышался шелест шёлка — вошла жена Чинизелли, Лиция, известная наездница и дрессировщица, недавняя любовница самого дяди царя, знаменитая красавица.
Коверзнев согнулся в поклоне. Но Чинизелли даже не представил его, пожал руку, распрощался.
Спускаясь по лестнице, Коверзнев подумал: «Лицемер. Говорит: одного круга, а с женой не познакомил… Что — я не достоин его общества? Ведь на их вторниках бывает кое–кто из писателей. Леонид Арнольдович говорил, что у них познакомился с Куприным. А разве мои очерки о Никите хуже купринского рассказа о борцах?»
Настроение упало. Однако, когда на улице он рассмотрел на золотом портсигаре искусно выгравированное своё имя, развеселился. Шутка ли — сам Чинизелли!
В приподнятом настроении он поехал к Нине.
В глубине души таилась надежда: «Верзилина у неё нет».
Надежда была глупой. Верзилин сидел у Нины.
Коверзнев нарочито шумно поздоровался с Ниной, преувеличенно любезно пожал Верзилину руку, иронизируя над Никитой, рассказал о его вчерашней победе над чемпионом мира Стерсом.
Нина забилась в угол дивана, куталась в пушистый платок, молчала.
Молчал и Верзилин, думая с неприязнью о приходе своего приятеля.
Тот расселся в кресле, вытянувшись, загородив ногами проход. Демонстративно достал папиросу, шумно щёлкнув крышкой портсигара.
— Трубку бросил? — с усмешкой спросила Нина.
— Да нет, — нарочито равнодушным тоном ответил Коверзнев, — обновляю портсигар… Сам Чинизелли подарил …Девяносто шестая проба. — И добавил, словно извиняясь: — Не бросать же… — Но не получив ответа ни от Нины, ни от Верзилина, сказал, ни к кому не обращаясь: — Для коллекции пригодится.
Он протянул портсигар Нине. Та не пошевельнулась. На мгновенье рука его неловко повисла в воздухе, затем он положил портсигар на край овального стола, прикрытого редкой плетёной скатертью.
Чтобы замять неловкость, Верзилин взял портсигар, рассмотрел монограмму, хотел похвалить, но не сдержался — поморщился.
Заметив это, Коверзнев сказал горько:
— Было время, вам нравились высоты, завоёванные мной, Ефим Николаевич.
— Юпитер, если ты сердишься… — начала Нина.
— То ты неправ, — торопливо докончил Коверзнев и усмехнулся.
А Верзилин, вздохнув, сказал:
— Это немножко расходится с вашими взглядами на спорт.
— Почему? — вспыхнул Коверзнев.
— Ну, не будем об этом говорить, — успокаивающе произнёс Верзилин.
Деланно спокойно Коверзнев возразил:
— Видимо, всё, что исходит от Чинизелли, вам кажется взяткой?
— Я не сказал этого, но…
— Но… подумали… И хотели напомнить наш разговор… Что ж, Сципион Чинизелли действительно хозяин цирка. Но плюс к этому он артист. И могу я, человек искусства, принять от него, тоже человека искусства, подарок в знак… дружеского расположения? Могу?
— Вот как? — вскинула чёрные брови Нина. — Вы стали друзьями?
— А что тут такого? Ты можешь выбирать себе друзей, а я нет?
Это уже было сказано грубо, и Верзилин не выдержал.
— Вы простите, Валерьян Павлович, — сказал он дрогнувшим от волнения голосом, — но мы все тут были друзья, и нам нет причин ссориться… Может, я вас чем–нибудь обидел, и вы сердитесь на меня?
— Вы? — высокомерно спросил Коверзнев. — О нет! Я сам себя обидел, — добавил он резко, — и сам на себя сержусь. Моё почтенье.
И он ушёл, так же, как несколько дней назад.
— Что с ним? — спросил Верзилин, взволнованно расхаживая по комнате.
— Вы чудак, Ефим, — задумчиво сказала Нина.
Он не понял — почему чудак.
Глаза ему раскрыл совершенно неожиданный случай.
Два дня спустя, как обычно, без стука открыв дверь в комнату Нины, Ефим Николаевич оказался свидетелем следующей картины. Нина сидела, забившись в угол глубокого дивана, сутуло кутаясь в большой пушистый платок. Коверзнев стоял перед ней на коленях, что–то горячо говорил ей, ловил её ладони. Она отстранялась от него, прижимаясь к податливой спинке дивана, покрытого персидским ковром, прятала руки под платок.
Всё это Верзилин успел рассмотреть в одно мгновенье.
— Никогда! Слышишь, Коверзнев, никогда! — горячо произнесла Нина и встретилась глазами с Верзилиным.
Он смущённо кашлянул.
Коверзнев круто повернулся. Поднявшись, отряхнул колени, сказал, паясничая:
— У вас редкий дар, Ефим Николаевич… попадать в неловкое положение.
— Перестань! — резко одёрнула его Нина.
Не зная, что сказать, Верзилин глупо потёр руки.
27
Ресторан «Вена», где собирались артисты, художники и писатели, был набит битком.
За столиком Коверзнева сидели незнакомые люди. С ненавистью глядя на них, он опрокидывал в рот стакан за стаканом. Нашли время говорить об искусстве! Весь мир рушится, как они не могут этого понять! Была у него одна радость — Нина, но пришёл этот борец, и он потерял её. А он ещё так расписывал ей Верзилина. На свою шею. Вот возьму и выплесну вам вино в лицо…
Один из незнакомцев испуганно покосился на сжатый в побелевшей руке Коверзнева стакан. Не спуская с него взгляда, продолжал разговор:
— Собинов в роли Лоэнгрина…
— К чёрту Собинова! — проскрипел зубами Коверзнев.
Он ожидал, что его одёрнут — напрашивался на ссору.
Но из глубины зала раздался радостный голос:
— Валерьян Палыч! Душка! Рад видеть тебя!
Между столиками пробирался Леонид Арнольдович Безак — известный художник.
— Только что вернулся из Неаполя… Какие этюды — голова кругом идёт!.. Восстановленная улица Помпеи… Колоссально!..
Он остервенело потряс Коверзневу руку:
— Сейчас — ко мне! По пятницам у меня журфиксы. Все — свои… А кого мы ждём!..
Он наклонился и шепнул на ухо имя модного поэта.
Не дав Коверзневу вымолвить и слова, он подхватил его под руку, потащил на улицу.
— Извозчик! До Пушкарской!.. Ты не можешь представить, как я рад, — говорил он, взбираясь в экипаж. — Едва приехал, сын мне под нос твои опусы о Сарафанникове… Умоляет познакомить… Жена тоже, дочки тоже… Все влюблены в борцов… Не отстают от моды… «Збышко — ах, Лурих — ах, Аберг — ах», — Леонид Арнольдович передразнил кого–то. — Я, признаться, прочёл с удовольствием… По стилю — отточены… По материалу — всех обскакал, новую звезду открыл… Ха–ха–ха… Ну и сделал ты имечко Сарафанникову!.. Одно слово — работа на совесть… У меня сын все журналы изрезал — все твои опусы в альбом наклеил… Вот будут рады, что я тебя привезу!.. Дочки — не знаю как, а сын тебе будет больше рад, чем поэту… Это уж точно!..
Коверзнев вздохнул. Сказал под цокот копыт:
— Разговоров много. Редакторы рвут с руками… Читателям… тоже нравится. По крайней мере — большинству.
— Ясно! Чего скромничать, — Леонид Арнольдович натянул ему на нос соломенную шляпу.
— Да нет. Есть такие, которым и не нравится, — сказал угрюмо Коверзнев, водворяя шляпу на место.
— Завистники, — безапелляционно отрезал Леонид Арнольдович, — Наплюй.
«Что ж, — подумал Коверзнев. — Он правильно подвёл итог. Просто Верзилин оказался хуже, чем я думал… Впрочем, чего не сделаешь из–за любви… Однако я‑то о нём Нине слова не сказал?.. А он? И ты, Брут?..»
— Да, ты прав.
— Э‑э, душка, мы, делающие искусство, всегда живём среди завистников.
«И опять прав», — растроганно подумал Коверзнев.
— Ты знаешь, — сказал Леонид Арнольдович, — как мне отказали когда–то в заграничной командировке после окончания академии?
— Ну, как же… А у меня был случай, анонимное письмо на книгу «Русские борцы» послали…
— А у меня…
— Нет, ты послушай, у меня опять…
Так они разговаривали всю дорогу, дёргая друг друга за галстук, размахивая руками.
Лифт не работал.
Поднимаясь по широкой лестнице, тускло освещённой через цветные квадраты стёкол, Коверзнев спросил себя: «А я не пьян? Может, поэтому и подпеваю ему?» Он оттолкнулся от перил, прошёл двадцать ступеней и, не покачнувшись, на двадцать первой попридержался за стену, но, решив, что это случайно, уверил себя: «Не пьян», и прошептал: «А Верзилин — интриган. Недаром старый Джимухадзе не любил его».
Коверзнев был встречен как желанный гость.
Сын Леонида Арнольдовича, красивый юноша с тонкими чертами лица, очень похожий на мать, забросал его вопросами, девицы–гимназистки не спускали с журналиста глаз, сама Александра Францевна высказала восхищение его статьями.
Тронутый вниманием, Коверзнев поинтересовался из вежливости новыми этюдами хозяина, но тот замахал руками:
— Нет–нет… Это сюрприз… Когда все будут в сборе… При свечах, в этом весь эффект.
Собирались гости. Почти все были знакомы Коверзневу. Многие из них поздравляли с очерками. Дряхлый профессор прошамкал беззубым ртом:
— Похвально, моой чеек… Когда про императора Коммода ввернули, меня даже в ваш цирк потянуло.
А какая–то красавица с белокурой чёлкой сказала кокетливо:
— Я ваша читательница и почитательница.
Когда хозяин пригласил в гостиную, девушка кивнула Коверзневу:
— Будьте моим рыцарем.
У неё были полные горячие руки, скрипящее, из тугого шёлка, платье и короткое имя — Рита.
В большой комнате прислуга опускала шторы, сам Леонид Арнольдович зажигал стеариновые свечи. Было сумрачно. Расплывчатые тени раскачивались по стенам. Гости с шумом рассаживались на лёгкие венские стулья.
— Прошу, господа… Прошу, — приговаривал Леонид Арнольдович, подскакивая то к одному стулу, то к другому. — Минутку терпения… Эти этюды созданы для свечей… В этом весь эффект… Юрик, давай.
На мольберте очутился четырёхугольный кусок картона, брошенный ловкими руками юноши; мелькнула в воздухе указка Леонида Арнольдовича, упёрлась в бурое пятно; раздался захлёбывающийся голос:
— Это Стабианские терема… Это второй век до рождества Христова. Если бы Фиорелли не раскопал, мы бы их знали только по описанию Плиния младшего… Из его писем к Тациту… Вы слышали, как спасся Плиний?.. Лава не догнала его… Он был засыпан пеплом… Слоем в десять метров… Он и описал гибель Помпеи, Стабия и Геркуланума… А вот это «Дом золотых амуров»… Видите, какие пурпурные краски?.. Они особенно эффектны при свечах… Это создаёт особое настроение. Смотрите, как они мрачно отливают… Так и чувствуется, что им две тысячи лет… Глубина веков… Юрик, дай–ка Форум… Ну что, не знаешь, что Форум там есть?.. С колоннами…
На мольберте появлялся этюд за этюдом. Громоздкие глыбы, куски стен и колонн были написаны в коричнево–красных тонах. Во мраке комнаты не было возможности их разобрать. Было странно, что настоящий художник, одна картина которого приобретена Русским музеем, с серьёзным видом восхищается этой мазнёй, а пятнадцать солидных мужчин и женщин качают головой и отпускают глубокомысленные комплименты. Всё это походило на пародию.
От нечего делать Коверзнев начал наблюдать за своей соседкой. Свет от двух свечей, косо воткнутых в бронзовое бра, освещал её пухленькую щёчку с ямочкой, длинные густые ресницы и светло–золотистую чёлку. Девушке, видимо, тоже было скучно; сначала она рассматривала публику, потом зевнула несколько раз подряд. Встретившись взглядом с Коверзневым, шёпотом извинилась, как бы нечаянно приласкалась к нему шёлковым коленом.
Когда все с грохотом начали отодвигать стулья и переговариваться в полный голос, горничная в беленькой наколке доложила, что явился долгожданный гость. В гостиной радостно зашептались. А тот вошёл, смущённо потирая руки, словно явился с холода.
Был он крупен, лохмат, длинные волосы упирались в воротничок не первой свежести, пенсне поблёскивало на мясистом пористом носу.
— Свет! Свет! — настойчиво потребовал кто–то.
Но вошедший запротестовал:
— Зачем свет? Прошу вас, не беспокойтесь. В этом доме всегда встретишь что–нибудь оригинальное. И потом свечи, вероятно, не идут вразрез с нашим общим настроением?
Последние слова он произнёс полувопросительно и мягко. А целуя руку хозяйке, извинился:
— Прошу прощения — задержался, не смог посмотреть новые талантливые вещи уважаемого Леонида Арнольдовича.
То же самое он заявил хозяину. И вообще казалось, что он каждому желает сказать что–нибудь приятное. Соседке Коверзнева он сообщил, что она молодеет и хорошеет с каждым днём, а когда его познакомили с Коверзневым, он демонстративно развёл руками, сказав:
— Ну, как я буду читать свои вирши, когда здесь присутствует господин Коверзнев? Вот кого надо просить о чтении. Его очерками увлечён весь Петербург.
Коверзнев с благодарностью смотрел в его одутловатое рыхлое лицо; поэт был очень похож на последний шарж на него художника Ре–ми, помещённый в журнале «Солнце России». Но руку выдернуть поторопился — у того были потные бабьи ладони. Надо было что–то сказать известному человеку, который во всеуслышанье похвалил его очерки, но на память не шло отчество пришедшего, а может Коверзнев просто его и не знал. И он пробормотал что–то о великой чести, которой удостоил его знаменитый поэт, и сделал вид, что знает его имя, произнеся одно слово «Александр» и проглотив отчество.
— Очень, очень талантливые очерки, — сказал ещё раз поэт, и Коверзневу это было чрезвычайно приятно.
Рита смотрела на Коверзнева откровенно влюблёнными глазами, а когда рассаживались за стол, опять заняла место рядом. Она даже попыталась шутливо ухаживать за ним, — перехватив у лакея бутылку вина и наполняя рюмку Валерьяна Павловича.
Поэт кокетничал, отказавшись читать, протирал замшевым лоскутком своё пенсне.
— После, после, — сказал он и поднял тост за талант хозяина.
Начали с шампанского, «Луи — Редерер» было превосходно, мужчины перешли на водку, завязался оживлённый разговор, он вспыхивал в разных концах стола, как в разных местах гостиной вспыхивали от колебаний воздуха стеариновые свечи. У всех на языке было недавнее убийство Столыпина; говорили, что его ухлопал агент охранки Богров. Многие считали, что в связи с этим в стране должны произойти какие–то изменения. Коверзнев с интересом следил за разговором, усмехался. Вот на другом конце стола кто–то вспомнил о сибирском конокраде и сектанте Гришке Распутине, введённом ректором духовной академии Феофаном в дом великого князя Николая Николаевича. Оказывается, Распутин приобретает всё больший и больший вес во дворце царя, и это почему–то на руку Сухомлинову, Кривошеину и Дурново…
Это заинтересовало Коверзнева, но хозяин не дал дослушать, заявив:
— В этом доме о политике не говорят.
После этого на протяжении нескольких минут слышались лишь выстрелы шампанских бутылок, звон бокалов да работа челюстей. На другом конце стола, нарушая запрет хозяина, кто — то, переходя с шёпота на полный голос, снова заговорил о политике:
— Да, но военный министр так и заявил, что спасение от революции только в дружбе с Гогенцоллернами…
— Нет, глубокоуважаемый, наша ориентация на Францию и Англию… Акции–то чьи вы имеете?
И снова о Столыпине:
— Помните, он заявил: «Пока в стране не будет установлено спокойствие — полевые суды и господа офицеры олицетворяют юстицию в империи». С этакой юстицией вылетишь в трубу…
Эти слова были прерваны резким звоном ножа по рюмке.
— Господа! — сказал, поднявшись, поэт. — Я прочитаю вам новые стихи… Они ещё не видели света… Вы, так сказать, первые их ценители, и я отдаю их на ваш суд…
Он ещё раз постучал ножиком о звонкий хрусталь и начал читать.
Слушая его, Коверзнев подумал, что у поэта не только бабьи ладони, но и голос. И было странно слышать, что в стихах его говорится о сильных мужчинах, которые, не моргнув глазом, убивают на дуэли своих соперников и без сожаления бросают влюблённых в них женщин. Как и картонная мазня Леонида Арнольдовича, это казалось чем–то несерьёзным, какой–то пародией на искусство. Но все азартно хлопали поэту, а Рита смотрела на него глазами, полными восторженного ужаса. Коверзнев от обиды зло сжал ей колено. Она удивлённо взглянула на него, но, видимо, истолковав по–своему этот жест, погладила его руку.
А в притихшей, освещённой свечами столовой раздавались зловещие слова:
Светлый ребёнок о боге спросил:
«Где он?», и я отвечал: «В небесах»,
Зная весь ужас и холод могил,
Зная предсмертный мучительный страх… Женщине–сказке, лазурной мечте,
Клялся я вечностью, солнцем, душой,
Зная, что завтра же, гад в темноте,
Этой пресытясь, я буду с другой…
Рита сжимала Коверзневу руку, и вдруг он подумал:
«Пусть! Назло Нине я буду с этой женщиной. Пусть я буду гадкий и грязный… Всё равно, сейчас один конец».
И он поднялся из–за стола, повелительно сказав девушке:
— Идёмте! Я не хочу слушать пошлости этого бабьеобразного старика.
— Тише! — прошептала она, испугавшись за него. Но, выбравшись следом из–за стола, похвалила: — А вы с характером. Недаром пишете о борцах.
В прихожей, пока Коверзнев отыскивал её накидку, она сказала:
— Ушли не попрощавшись, по–английски, — что заставило его поморщиться.
На улице было темно. Тускло светились фонари. Чуть блестел мокрый булыжник, — видимо, выпал небольшой дождик. Шаги их гулко отдавались в каменном коридоре улицы.
Шли молча. Лишь у Сытного рынка Коверзнев не вытерпел, возмутился:
— Баба, а не поэт, а тоже надувается, как старый павлин.
Крепко прижав его локоть к своей упругой груди, стараясь
попасть в ногу, Рита сказала:
— Признаться, он мне тоже не понравился. Похож на жабу. Но стихи — волнительные.
Коверзнев покосился на неё: «Волнительные! Не могла пошлее выбрать слова». Возразил:
— Что может волновать в человеческой грязи? «Холод могил», «мучительный страх», — передразнил он поэта. — Это противно человеческой натуре. Мы об этом не хотим думать. Мы думаем о жизни, о том, что красиво в жизни. Вы — красивы. Вами приятно любоваться. От этого приятнее жить. Схватка Никиты Сарафанникова с хорошим противником — красива. Я получаю удовольствие, когда наблюдаю за ней. Деревья этого сквера красивы, — он показал на Александровский парк (они вышли на Кронверкский). — Я любуюсь ими. Красив этот шпиль, — ткнул он в Петропавловскую крепость. — Именно шпиль, а не равелины, не темницы под ним… Ясно я говорю? Может, я пьян. Я взволнован. И вообще говорить трудно. Писать легче. Сказанную фразу не зачеркнёшь. От этого речь наша водяниста и косноязычна, не как то, что мы пишем… Я хочу сказать, что сфера искусства — это красота. Искусство должно быть красивым. Я люблю Борисова — Мусатова и Рябушкина… Или Малявина… Вы видели «Февральскую лазурь» Грабаря? Нет?.. Жалко. Я и хочу писать красиво. И о красивом и героическом… Понимаете, я не хочу писать о разлагающихся трупах, как этот старик!.. Я хочу, чтобы содержание моих очерков вызывало восхищение, а не омерзение… Нет ничего противнее бравады малодушного самоубийцы!..
Помолчав, он спросил ласково:
— Я надоел?
— Что вы, — сказала девушка горячо. — Говорите!
— Это сложно. Я не знаю, зачем заговорил… Мне, видимо, просто надо было выговориться… Я только что потерял друга…
Это был человек, с которым мы мыслили в унисон… Я имею в виду спорт, борьбу… И вот его не стало…
— Он умер? — испуганно спросила Рита.
— Нет, — вздохнул Коверзнев. — Мы поссорились, — и добавил, приослабив бант — словно задыхался: — Но это, оказывается, тоже тяжело.
— Бедненький, — она заглянула ему в глаза и приласкалась на мгновенье.
От этого слова его опять передёрнуло.
А Рита неожиданно сказала тепло и задушевно:
— Какая красота!
В её словах было столько искренности и непосредственности, что Коверзнев простил ей всё.
Они стояли на Биржевом мосту, перед Биржей и Ростральными колоннами. Пройдя мост, остановившись у гранитного барьера, Коверзнев произнёс шутливо под ленивый плеск невских волн:
— Пусть мудрый Нептун благословит нашу встречу, — и, простерев руки к тёмной колонне, у основания которой восседал зелёный бородатый бог моря, сжимающий трезубец, сказал: — О всемогущий…
Рита захлопала в ладоши, приговаривая:
— Да вы артист, артист…
Заблудший извозчик остановился подле них, подобострастно сняв валяную широкополую шляпу, и Коверзнев подсадил девушку в пролётку.
На противоположной стороне Невы, за выгнувшимся горбом Дворцовым мостом, темнел Зимний. Они ехали медленно, разглядывая спящий Петербург, и Рита сказала, что она впервые смотрит на него по–новому и в этом заслуга Коверзнева.
Он усмехнулся:
— Я просто жалкий болтун.
— О, не говорите так! Умоляю, — попросила она торопливо.
— Дайте ему адрес, куда вас везти.
Она назвала Лештуков переулок, а когда доехали, хотела сама расплатиться. Не дав ей этого сделать, Коверзнев взял её под руку. Они вошли в мрачную каменную коробку двора. Он не спрашивал разрешения её сопровождать, а она не приглашала его. То, что он идёт к ней, само собой разумелось. Открывая ключом дверь, Рита сказала глухо:
— Осторожно, здесь скрипит половица.
На цыпочках они пересекли тёмную кухню. У самой стены Коверзнев налетел на какой–то ящик и ушиб колено. Она крепко сжала его руку и остановилась, прислушиваясь. Но везде было тихо. Лишь еле слышно скреблась мышь.
Щёлкнул внутренний замок. Они вошли в тёмную комнату. Рита включила электричество, и Коверзнев впервые смог рассмотреть её при свете. Она оказалась гораздо старше, чем выглядела в полумраке квартиры Леонида Арнольдовича. Видимо, поэтому она поторопилась зажечь фарфоровый ночник–грибок с голубым абажуром.
Большую часть комнаты занимала пышная постель. Над ней висел небольшой рисунок — судя по чёрному болезненно–изогнутому силуэту женщины, это был Обри Бердслей. В углу, на табуретке, покрытой вышитой салфеткой, стоял фикус. Коверзнев уселся к столу. На столе в беспорядке валялись книги и журналы. Жёлтенький томик был заложен повядшей розой на длинном стебле. Уколовшись о шип, Коверзнев раскрыл книгу. Оказывается, хозяйка читала «Портрет Дориана Грея».
— Вы останетесь? — спросила Рита.
Он молча выложил на стол золотой портсигар и распустил свой бант. Всё было ясно.
Однако, когда девушка начала раздеваться, руки у неё дрожали.
Рита выключила свет.
Коверзнев лёг на краешек, стараясь не прикасаться к ней. «Зачем всё это? — думал он. — Зачем я здесь? Кто она? Почему я должен её любить?» Перед его глазами встала Нина. «Никогда, — сказала Нина ему сегодня. — Слышишь, никогда». Несмотря на это, он не мог ей изменить. «Видимо, я однолюб», — подумал он печально. Чтобы не обидеть девушку, потрепал её по полному плечу, поцеловал.
А когда встал с постели, она приподнялась на локте и сказала тоном, по которому трудно было понять, чего больше в её словах — злости или укора:
— Быть у воды и не напиться.
— Или выйти из воды сухой, — так же зло отшутился он.
Кутаясь в простыню, глядя на него исподлобья, она приказала:
— Больше никогда не приходите ко мне.
Коверзнев молча вышел, с трудом в темноте отыскал крючок на дверях, спустился по лестнице.
Через двадцать минут он был под Ниниными окнами.
— Спокойной ночи, — прошептал он в темноту.
28
Пока Нина переодевалась, Верзилин рассматривал развешанные по стенам афиши и фотографии. Удивительно было думать, что эта хрупкая женщина полтора года назад была единственной в России укротительницей львов.
Войдя в комнату и застав Ефима Николаевича за разглядыванием её портрета, Нина произнесла с грустной улыбкой:
— Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой.
А Верзилин, медленно повернув к ней своё грузное тело, не доставая рук из–за спины, сказал:
— Я мечтаю о том, чтобы увеличить этот портрет. Он сделан в тот день, когда я первый раз увидел вас в цирке.
Вдевая в ухо серьгу с маленьким кровавым рубином, Нина рассмеялась:
— О Ефим, я там такая страшная, что даже львы испугались бы меня.
Видя, что она не может нацепить серьгу, Верзилин попросил:
— Дайте я помогу.
И когда Нина протянула ему замысловатый золотой цветок, подумал: «Бедное, истерзанное ухо, как его истыкала безжалостная хозяйка».
Ему хотелось поцеловать нежную покрасневшую мочку, но он не решился.
— Какой вы ловкий, Ефим, — произнесла улыбаясь Нина. — Справились с таким тонким запором. Я и то другой раз мучаюсь несколько минут, а мои пальцы в десять раз тоньше ваших.
Она взяла в руку круглое зеркало на длинной ручке, повернула перед ним своё лицо несколько раз, поправила причёску.
Верзилин достал из гардероба Нинину шляпу со страусовым пером, ждал, любовался девушкой. В строгом тайере, с пышными чёрными волосами, она была очень красива.
— Я готова, — сказала она. — Держите булку.
Верзилин взял булку, осторожно положил её в карман визитки — уже привык к обязанности кормить голубей.
На Измайловском голубей не было, зато на шумном Никольском они вспархивали прямо из–под самого трамвая. Верзилин с Ниной остановились, искрошили булку, пошли дальше.
И лишь в синематографе, ожидая начала сеанса, Нина произнесла задумчиво:
— Почему же вы не спрашиваете меня, Ефим, что сейчас у меня произошло с Коверзневым?
— А разве я имею право спрашивать об этом? — сказал он осторожно.
— Глупый, — улыбнулась она ласково и погладила его руку. — А кто же, кроме вас, имеет на это право?
Верзилин хотел сказать, что Леван, но не сказал.
Молчание Нарушила Нина:
— Странное у нас с ним было знакомство. Он ведь познакомился со мной, собирая материал о вас для своей книги… Но у него хватило такта тогда не навязываться со своей любовью. Вообще он исключительно корректен и выдержан… Только сейчас, когда вы всё время подле меня, он стал проговариваться о своей любви. И вот, наконец, сегодня не сдержался… Но я сказала ему, что люблю только вас.
Кровь прилила к лицу Ефима Николаевича. А сердце его сладко заныло. Боясь спугнуть нахлынувшее чувство, он молчал. И на протяжении всего сеанса, не обращая внимания на склянки с серной кислотой, стреляющие браунинги и раздираемые в немом вопле рты, он, задыхаясь от счастья, перебирал в своей руке тонкие Нинины пальцы.
— Как всё просто на экране, — задумчиво сказала Нина, когда они выходили из душного зала. — Взял писатель и всех привёл под венец, хотя и выстрелы были, и даже Мадлен отравиться пыталась… Вот бы в жизни так удачно всё кончалось… Никто бы не страдал… Ни вы, ни я, ни Коверзнев…
Верзилин обернулся, перечитав афишу, сказал шутливо:
— А фильма названа «чрезвычайно интересной реалистической драмой». Значит так и бывает в жизни, — и добавил серьёзно: — Что касается меня, то я не только не страдаю, но, наоборот, счастлив. И даже в прошлом году, когда я не надеялся на встречу с вами, я был счастлив уже тем, что вы живёте на свете…
Нина промолчала, и Верзилин понял, что эта философия её не устраивает.
А через несколько шагов она сказала задумчиво:
— Я, как и всякая артистка цирка, суеверна… И вообще я становлюсь какой–то трусихой… Мне так хорошо с вами, что я боюсь: а вдруг что–нибудь случится. Счастье ведь так непостоянно… Меня всё время гложет какой–то страх… Что, если у вас остались ещё ваши враги?.. Я без ужаса не могу вспоминать ту набережную Мойки…
Верзилин посмотрел на неё с жалостью. Уж если здоровенные борцы боятся чёрных кошек, тринадцатого числа и пустых вёдер, то что можно требовать от хрупкой женщины, которая на протяжении пяти лет почти каждый вечер клала голову в пасть льва?
Задыхаясь от жалости к ней, он думал над тем, как сделать, чтобы она избавилась от страха. И вдруг неожиданная идея пришла ему в голову. Чтобы было убедительно, он заговорил нарочито бодро:
— Ну, со мной теперь никогда ничего не случится… Знаете, что я придумал? Мы сейчас совершим прошлогодний маршрут. И вы увидите, что ничего страшного в этом нет. Когда дети боятся темноты, их нарочно водят в тёмную комнату, и они понимают, что темнота нисколько не страшна.
— Я уж не такая трусиха, — печально улыбнулась она, — чтобы бояться этого… И потом — с вами мне ничего не страшно…
Крепче сжав её локоть, Верзилин повернул на улицу Гоголя. На углу Гороховой, у ресторана «Вена», он замедлил шаг.
— Не зайдём?
— Нет.
Ни один из них не подумал, что там сейчас сидит тоскующий Коверзнев.
Стараясь отвлечь Нину от грустных мыслей, Верзилин всю дорогу изощрялся в рассказах, а когда брызнул небольшой мелкий дождик, спросил, не пойти ли им домой.
— Нет, — снова упрямо качнула головой Нина.
И он продолжал говорить о чём попало.
Когда же замолчал, она спросила его о Никите. По тому, с какой торопливостью она это сделала, Верзилин понял, что чем ближе они подходили к набережной Мойки, тем больше Нина боялась; ей нужен был его бодрый голос, интересный рассказ, который бы позволил забыть о прошлом годе. И он снова заговорил нарочито беспечно:
— Процветает. Представьте, с восторгом прочитал книгу, которую ему подарил Валерьян Павлович. Благо, она детская, крупными буквами напечатана. И вчера спрашивает меня, почему в книге нет про Ричарда Львиное Сердце. Я говорю: так это книга о греческих мифах, а Ричард — это английский король, в двенадцатом веке жил. Возьми, говорю, мою энциклопедию, там найдёшь. А он взял и давай с первой страницы по порядку листать. Мне показалось смешно, что он не знает, как по алфавиту страницу отыскать, а потом подумал, что он ведь всего приходскую школу окончил… И что–то я так растрогался… Ведь он совсем мальчишка, девятнадцать лет ему, и совсем он не такой, каким его Валерьян Павлович описывает… Я спросил у него, как тебе очерки нравятся, а он и говорит: дык што, дескать, я знаю, что это вроде всё как не про меня. Правда, говорит, и погреб был, и корова, свалившаяся в него, была. Да только я, говорит, шею ей свернул, когда вытаскивал, а мамаша меня за это ухватом по спине выходила, черенок даже сломала… У Геракла, говорит, интереснее, хотя и про меня Валерьян Павлович занятно выдумал… Я говорю: не выдумал, раз всё это было. Правда, говорит, не выдумал, только выдумал. Всё, говорит, про меня и как будто не про меня…
Нервно кутаясь в тайер, сжимая у горла воротник, Нина сказала:
— Колоритный юноша…
Ожидая, что она закончит мысль, Верзилин молчал.
Они шли по набережной Пряжки; в тусклом свете, падающем из окон домов, блестел мокрый булыжник. Вода в речке была чёрной и неподвижной. Молчание томительно затягивалось. Сейчас уже Верзилин не мог подобрать слов. Глядя на громоздкие поленницы, виднеющиеся впереди, он в деталях припомнил, как где–то вот тут, в нескольких шагах отсюда, в прошлом году на него налетели два типа в крылатках, ударили свинчаткой в голову, сбросили в Мойку.
Верзилин ещё крепче сжал Нинин локоть и сказал уверенно:
— Всё будет хорошо, Нина.
Много позже, когда они уже вышли на Галерную, Нина, заглядывая ему в глаза, сказала:
— Я всегда с вами, Ефим, что бы ни случилось.
Он отыскал её ладонь и в ответ нежно сжал пальцы.
Она предложила:
— Пойдёмте ко мне пить чай… Братишка мой, наверное, опять потерял меня.
У Благовещенского собора они вскочили в трамвай и через десять минут были у Нины дома.
Леван, как всегда, обрадовался приходу Верзилина, и они мирно закончили вечер за любимой борцовской игрой в «шестьдесят шесть».
Тасуя карты, Верзилин исподтишка любовался Ниной, которая с увлечением вошла в роль хозяйки.
Они пили чай со сдобными сухариками и смеялись над рассказами Левана. Обычно молчаливый, Леван говорил много и азартно. Радуясь хорошему настроению сестры, он старался быть весёлым и даже острил и высмеивал себя.
— Мнэ говорят, у Тэрэзы Альбэрти приехал муж… Я говорю: это не в моих интэрэсах. Они смеются. Пачэму, спрашиваю… Оказывается, я хотел сказать: это меня нэ интэрисует… Нэт?
Они ещё долго сидели, лениво посмеиваясь над Леваном, и Верзилин ушёл домой во втором часу ночи. Николаевский мост оказался разведённым, и Ефим Николаевич по Английской набережной пошёл к Дворцовому, но опоздал. Опоздал и к Троицкому. Однако это не испортило ему настроения, и он встретил солнце, стоя у гранитного парапета. Оно всходило огромное и малиновое, окрашивая облака и серую воду Невы в радостный цвет.
29
— Ефим Николаевич, вас спрашивают. Говорят, что они ваш друг.
Верзилин проснулся, открыл глаза. \
Над ним стоял Никита и осторожно тряс его за плечо.
Рассвет едва брезжил.
— Ну зачем ты меня будишь? — проворчал Верзилин. — Я, наверное, и часу не спал. Знаешь ведь, что из–за разведённых мостов я пришёл на утре.
— Там вас спрашивают… Я на кухню проводил, потому как не хотят на улице оставаться.
— Кто?
— Говорят, доктор ваш знакомый.
Резким взмахом Верзилин опустил ноги на пол, вскочил и надел халат.
На кухне сидел его товарищ по Военно–медицинской академии.
Они не виделись целую вечность — с тех самых дней, когда он снимал с верзилинской руки гипс и водил его на консультацию к знаменитому Розенблицу.
В предутреннем полумраке Верзилин не сразу узнал приятеля, а узнав, удивился его до нитки промокшему штатскому костюму.
— Тимофей! Будь ты неладен, дорогой мой! Что это ещё за маскарад? И почему ты мокрый? С пьяных глаз в канаву, что ли, попал?
Неожиданно качнувшись в его сторону, пришедший ответил Верзилину заплетающимся языком:
— Ты — прозорливец… Мы компанией ездили на Стрелку… с девочками… Нажрались до чёртиков… Когда проезжали по Петропавловскому, я вспомнил, что за рекой твой дом, бросил компанию, отвязал лодку и махнул к тебе, да у берега опрокинулся и вот… вымок.
Он пошатнулся ещё раз и, приподняв плечи, вытянул руки, с которых на пол капала вода. Потом погрозил Верзилину пальцем, сказал:
— А ты здоров, как бык, и рука действует… Чего же ты не борешься, Ефим? Или состарился в тридцать лет? Не рано ли учителем заделался? Читал я, читал о тебе статью. Бойко написано. Всё думал, приеду в отпуск — обязательно Ефима навещу и отругаю. Что это он там каких–то Сарафанниковых учит?
— Ишь ты, какой занозистый! А это вот и есть Сарафанников.
Пришедший посмотрел на здоровенного юношу пьяными глазами, сказал, усмехнувшись в усы:
— Ну, ты не обижайся, брат. Мы с Ефимом друзья давние. И обидно мне было, что он перестал бороться, а свои секреты другим передаёт.
— Да уж это так, — охотно согласился Никита. — Если бы не Ефим Николаевич, я бы борцом не был.
Пришедший что–то хотел возразить, но Верзилин не дал ему этого сделать, сказав:
— Никита, дай–ка Тимофею Степановичу чего–нибудь переодеться… Да, там в гардеробе висит мой прошлогодний костюм, он не так широк, подойдёт… Дай трико… и поставь чай — а то простудится наш гость.
Он заставил гостя раздеться, дал ему сухое полотенце, трикотажное борцовское трико.
Когда тот облачился в мешковатый костюм, Верзилин ткнул его пальцем в живот, рассмеялся:
— Будешь ли ещё пить да по ночам на чужих лодках кататься? Ха–ха!
Тимофей Степанович по–театральному погрозил сам себе пальцем, шагнул за хозяином в комнату и, прикрыв осторожно дверь, неожиданно протрезвел.
— Ефим, ты должен меня простить, — сжав локоть Верзилину, прошептал он. — Но у меня не было иного выхода. От самого Выборга за мной идёт хвост. Я от него избавился или в Сестрорецке, или в Кангакюле (точно не знаю), в общем след замёл, но зато вот в каком виде.
Поражённый услышанным, а ещё больше тем, что Тимофей не побоялся доверить ему свою судьбу, Верзилин произнёс горячо:
— Тимофей, друг! Ты и представить не можешь, как ты обяжешь меня, если останешься здесь!
— А Сарафанников?
— О, на него ты можешь положиться, как на меня.
— Хорошо… Но всё–таки пусть для него останется моя пьяная версия.
— Ну что ж…
— Кстати, эту версию подсказал ты… А я было хотел сочинить что–нибудь насчёт рыбалки… Но, видишь, твой вариант правдоподобнее.
Тимофей Степанович приоткрыл дверь в соседнюю комнату, равнодушно окинул взглядом штанги, гири и бульдоги, стоящие на сером брезенте, спросил:
— У тебя — что? — тут много народу тренируется?
— Да нет, не беспокойся. Один мой прошлогодний борец заходит, Татауров, да писатель один иногда заглядывает.
— Коверзнев?
— Он.
— Что с ним? Преуспевает? Я знал его, когда он ещё рядовым репортёром был.
— Преуспевает вовсю.
— Ну, ты ему тоже ничего не рассказывай. Я сам посмотрю, кем он стал… А сейчас мне и в самом деле бы надо полечиться, а то знобит меня что–то. Однако водки ты по–прежнему не держишь? И Сарафанников не пьёт?
— Нет, — покачал головой Верзилин.
— Эх, аскет ты, аскет, — вздохнул Тимофей Степанович. — Люблю твою целеустремлённость.
Пропустив его похвалу мимо ушей, Верзилин сказал:
— Через полчаса откроется лавочка — я пошлю Никиту.
Время за разговором пролетело незаметно. И когда Иван Татауров около десяти заглянул к ним, они всё ещё сидели за столом. Глядя на пустую полбутылку водки, на обглоданные селёдочные хребты, парень решил: «По пьянке всегда люди сходятся, — и побежал в лавку, не обращая внимания на строгий окрик Верзилина. — Кричи не кричи, — думал Иван, — выпьем, так опять возьмёшь меня к себе». Вернулся он с целой батареей бутылок и полными руками закуски. Однако пить никто не стал, и только усатый гость сказал:
— Эх, добрая твоя душа, мы же непьющие.
А Верзилин объяснил, показывая на гостя:
— Это мой друг. Ты его люби и жалуй.
На что Татауров ответил простодушно:
— А я его знаю. Он в саду «Неметти» боролся. Господин Лопатин? — обратился он к Тимофею Степановичу.
— Ха–ха! — хохотнул тот. — Он самый.
— Так за ваши успехи, — почтительно сказал Татауров, наполняя себе стакан. — Никак, бороться у нас будете? Что ж, господин Чинизелли платит неплохо. И чемпионат солидный. Позвольте, я вам налью?
— Нет–нет, милый. И тебе бы не советовал. Мы вот, брат, с Ефимом Николаевичем совсем не пьём. И тебе бы с нас пример брать. Спорт — он требует быть аскетом.
— Да уж насчёт Ефима–то Николаевича я знаю, — вздохнул Татауров, снова наполняя стакан: — Скала!
От каждой новой порции он лишь краснел. Казалось, вино на него совсем не действует. Однако, когда появился Коверзнев, он был уже под хмельком и поэтому один не заметил, как тот смутился, застав Верзилина дома.
— Валерьян Палыч! — полез к нему Татауров. — Знаменитый ты наш писака…
Коверзнев оттолкнул его и удивлённо воскликнул:
— Смуров? Ты?
Протягивая руку, Тимофей Степанович ответил лениво:
— Он самый. Только я уж давно под именем Лопатина борюсь.
— Ну, от Лопатина–то у тебя, положим, одни усы, — рассмеялся Коверзнев. — И к борьбе… — и вдруг осёкся, увидев, как Верзилин делает ему знаки.
— Не правда ли — хороши усы? — так же лениво спросил гость, разваливаясь на стуле и закуривая. — Гордость. Ещё в цирке у Саламонского начал отращивать.
— Вот, понимаешь, память какая! — ударил себя по колену Коверзнев. — Да я же писал о тебе, когда ты был уже с усами… Это в Измайловском, что ли, было?
— Никак там, — небрежно ответил Тимофей Степанович.
А Татауров наклонился к Никите, спросил подозрительно:
— Он у Ефима Николаевича тоже учиться будет?
— Да нет, — прошептал Никита. — Просто загулял где–то и пьяный зашёл.
— А‑а, — протянул Татауров успокаиваясь.
Стараясь не глядеть на Верзилина, Коверзнев сказал многозначительно:
— А из тебя, видно, Тимофей, настоящий борец вышел. А было время, ты лишь смелые стишки рассказывал.
— Ты тоже рассказывал… смелые стишки, — ленивым тоном напомнил Тимофей Степанович и добавил неожиданно зло: — А борца из тебя не вышло.
Глядя на них, Верзилин восхитился: «Ишь, черти. Так в своём разговоре над пропастью и ходят. Словно канатоходцы. — И объяснил самодовольно: — Знаю, о каких борцах вы говорите».
Коверзнев же, распаляясь, читал:
— Патронов нет. Уходим!
Я слушаю приказ:
— Три бомбы–македонки
Остались про запас.
Одну — оставь драгунам,
Что нам грозят огнём,
Другую — «чёрной сотне»,
Что стала за углом.
А третью — офицеру.
Что скачет на коне.
Святой закон дружины
Нельзя нарушить мне.
Три бомбы–македонки…
И вдруг замолчал, не окончив стихотворения: к его удивлению, Тимофей Степанович неожиданно побледнел, потянулся к окну, хрустнул пальцами.
Коверзнев взглянул в окно.
За деревьями верзилинского сада, по соседскому двору, шли жандармы.
Тимофей Степанович уже взял себя в руки, с усмешкой сказал Коверзневу:
— Ну, так каков «святой закон дружины»?
— Это за тобой? — спросил встревоженный Верзилин.
— За мной. Ваш двор выходит на реку?
— Без паники! — приказал Коверзнев. — Все на манеж! И раздеваться! (Он подтолкнул Тимофея к дверям, дёрнул за руку Никиту). Великолепно, ты даже в трико! Иван, ты борешься с Тимофеем, Никита, займись гирями, мы с Ефимом Николаевичем–наблюдаем. Всё в порядке!
Иван Татауров не успел опомниться, как оказался в объятиях борца Лопатина, и только после этого подумал: «Обокрал кого–нибудь или подрался». И решил: «Что ж, выручим парня».
На соседнем крыльце появился щеголеватый офицер в лёгкой шинели, щёлкнул перчаткой по руке. От дровяника к нему подскочил пожилой жандарм, появилось ещё несколько жандармов, толпой вывалились из калитки, и через минуту раздался властный стук в дверь.
— Ни с места! — напомнил Коверзнев. — Там есть хозяйка. Не волнуйтесь. Разговоры — только о борьбе.
В открытую дверь они увидели, как на пороге вырос околоточный.
Верзилин с радушной улыбкой пошёл к нему навстречу. Увидев за его спиной жандармского офицера, учтиво спросил:
— Чем могу служить?
— Ба‑а! Господин Верзилин! — воскликнул он. — И Сарафанников! И ещё борцы! Мы попали в арену борьбы?
— Знакомьтесь, — любезно произнёс Верзилин. — Господин Коверзнев — писатель.
Коверзнев, сидевший в небрежной позе, неторопливо поднялся.
Сняв фуражку, офицер подхватил коверзневскую руку, тряся её, говорил:
— Счастлив познакомиться. Поклонник вашего таланта. А вот и ваш герой, — он протянул руку Никите. (Тот торопливо опустил на брезент двухпудовку). — Примите мои поздравления. Не пропускаю ни одного дня чемпионата… Как вы Стерса–то в последний раз поставили на колени своим грифом… А?..
Никита смутился, подтянул лямку борцовского костюма.
А Коверзнев указал на две замершие фигуры:
— Иван Татуированный и Лопатин готовятся к чемпионату… Да вы встаньте, братцы! Видите… тут пришли!
Иван Татауров тяжело, неохотно поднялся на колени, выпрямился, помог подняться Тимофею Степановичу.
Из соседней комнаты с любопытством таращились жандармские морды.
Офицер оглядел просторный зал, застланный мягким брезентом, ткнул лаковым носком сапога в штангу. Привычным движением поправил зачёсанные на лысину пряди волос, сказал:
— Прошу извинить за вторжение, ищем одного… преступника. Прочёсываем всю слободу. Следы его где–то здесь оборвались… Не обессудьте — долг службы… Но лично я рад вторжению, ибо и Сарафанников, и господин Верзилин за кулисами цирка неприступны, как и Корда, так что впервые могу их видеть не на манеже. А вообще, знаком с Вахтуровым и со Збышко… С Под — дубным, Шемякиным… Очень, очень рад…
Он мельком взглянул на Татаурова и «Лопатина», но, видимо, они его не интересовали, — и перевёл взгляд на Никиту.
— Рад, очень рад знакомству. Надеюсь, станете чемпионом мира.
— Вы истинный знаток борьбы, — великодушно похвалил Коверзнев офицера. — Мы с Ефимом Николаевичем тоже ждём того дня, когда сможем поздравить Сарафанникова с этим званием.
— О, сейчас мало кто сомневается в этом! — воскликнул офицер. — Единственные соперники Вахтуров и Корда, видимо, не в форме…
Он ещё раз оглядел зал (скорее по привычке, чем по обязанности), шагнул назад к дверям, погрозил пальцем:
— Никак и господин Коверзнев иногда лжёт в угоду публике, говоря, что ни Верзилин, ни Сарафанников не пьют?
Он пощёлкал ногтем по внушительной батарее бутылок, как по клавишам.
Коверзнев виновато развёл руками.
— Знаем, знаем, как они не пьют! Ха–ха–ха! Каждую тренировку начинают с четверти водки на брата! Ха–ха–ха! И раньше мы это видали, да‑с.
Коверзнев нашёлся, шагнул к столу, наполнил стаканы.
— За здоровье будущего чемпиона мира! Прошу!
— Никак не могу, — щёлкнул каблуками офицер. — При исполнении служебных обязанностей. А побеседовать рад. Саламаткин! — крикнул он. — Идите дальше, я вас догоню.
Усатый унтер поднёс руку к фуражке, повернулся, кивнул жандармам.
Когда они скрылись, Верзилин скомандовал:
— Иван! Продолжайте с Лопатиным занятия, — и добавил небрежно: — Да не закрывайте дверь — я буду следить отсюда.
Это было как вызов: смотрите, господин офицер, я не боюсь их оставить на ваших глазах, а удалил потому, почему и вы удалили своих нижних чинов.
— Ну что ж, сейчас все свои… — сказал Верзилин. — Итак, за будущего чемпиона!
Звякнули стаканы.
И они столпились подле стола: Никита — в борцовском костюме, Коверзнев — в бархатной куртке, с бантом, Верзилин в халате, и жандармский офицер в шинели.
— За будущего чемпиона мира!
Татауров замер в хватке, глядя в открытую дверь. Проглотил слюну. Подумал с завистью про Никиту: «Не пьёт, не пьёт — а целый стакан опрокинул и не поморщился».
Офицер осторожно поставил стакан на край стола, соорудил бутерброд из хлеба, колбасы и ломтика репчатого лука и, закусив, произнёс:
— Недаром русская пословица гласит: не бывать бы счастью, да несчастье помогло. Шёл в этот дом с неприятной миссией, а встретил знаменитых борцов.
Он ещё поболтал немного, потом простился и ушёл.
Когда он скрылся в сенях соседнего дома, Тимофей Степанович порывисто бросился к Коверзневу, сжал его руку.
— Ну, не ожидал, Валерьян! Ты просто–напросто гений. Выручил — никогда не забуду. Это действительно «святой закон дружины». А то пришлось бы мне сейчас по этапу в места не столь отдалённые…
Коверзнев прервал его:
— Ну да чего там. Хватит, хватит, — и показал глазами на Татаурова.
А тот, не обращая внимания на их разговор, подошёл к столу, и все услышали, как горлышко бутылки забрякало о стекло чайного стакана.
30
После памятного разговора с Коверзневым Иван Татауров начал тренировать свою волю.
К его удивлению, это оказалось не так трудно. Не хочется просыпаться рано — прикажи себе, и встанешь. Надоело упражняться с гирями — пересиль себя, и получится. Опускаются глаза в разговоре с арбитром, а ты не опускай их, смотри нахально.
Расхаживая по улицам, Татауров старался нарочно скрестить взгляд с каждым встречным. Сначала это ему не удавалось, взгляд сам опускался, встретившись с надменным взглядом какого–нибудь барина, но со временем он приучил себя к этому так, что мог пройти из конца в конец Невский с гордо поднятой головой, не опуская глаз ни перед кем. А маленькие дети под его взглядом даже плакали. Увидит — сидит ребёнок один, подойдёт к нему, вытаращит глаза — и тот в рёв. Заставляя себя побороть врождённую застенчивость, он заходил в самые дорогие магазины и, нагло глядя в глаза приказчику, просил показать какую–нибудь вещь, которую вовсе не собирался покупать. Сейчас ему ничего не стоило швырнуть на прилавок такую вещь, небрежно перечислить несуществующие её недостатки и даже поругаться с приказчиком. А ведь совсем недавно он мог уйти из магазина, не купив, например, булки, если не была указана цена, потому что стеснялся об этом спросить.
Он даже перестал бояться примет и, увидев чёрную кошку, нарочно ждал, когда она перебежит ему дорогу, и смело шёл даже в том случае, если ему предстояла борьба, в результате которой он не был уверен.
И откуда только у него взялась вера в свои силы! Действительно, прожил на свете тридцать лет, ото всех слышал, что самый сильный, а вот веры–то в эту силу не было. А оказывается, это очень просто — верить в себя. Да и кого бояться, в самом деле? Ивана Сатаны? Бамбулы? Сандарова? Яго? А стоит ли? А вдруг они сами его боятся?
Приглядываясь к борцам, он понял, что его предположение правильно. За их репликами: «Ты поосторожнее, Иван», — он увидел самую настоящую трусость. И когда Пруста, обладатель полдюжины медалей, сказал ему: «Ты рёбра мне не ломай, как медведь, по договору всё равно тебе лежать», — он стал «ломать» ему рёбра и, неожиданно для себя, положил его на десятой минуте. Пруста обозлился, полез было драться, но их растащили, однако этому событию никто не придал значения. А через день так же неожиданно для себя он положил великана Адама. И что было странно, он не собирался этого делать, произошло всё это как–то само собой. Он сбил Адама в партер, подсунул руки под мышки, сцепил их на шее великана и стал ломать шейные позвонки. Он был уверен, что Адам, как это бывало не раз, освободится от его двойного нельсона, но тот почему–то безвольно свалился на бок, и Татауров безо всяких усилий опрокинул борца на лопатки и прочитал в его вылезших из орбит глазах удивление и страх.
Арбитр похлопал Ивана по мощному татуированному плечу и похвалил. А через несколько дней увеличил гонорар и, не обращая внимания на договор, приказал Тимоше Медведеву лечь под Татаурова.
Это сразу подняло Ивана в своих глазах. В его поведении появилась развязность. В борцовских уборных он стал держаться шумно, задирал соперников, которых раньше боялся, даже напрашивался с ними на ссору.
И однажды, нагло глядя в глаза арбитру, потребовал:
— Прибавьте денег.
— Ты что–то, брат, нахален стал, — строго произнёс арбитр. — Не по силе требуешь.
На что Татауров спокойно ответил:
— Так я же на Тимоше отсыпаюсь, на Адаме, на Цыпсе, на Жиго, на Коббинге…
Арбитр притворно вздохнул, покачал головой:
— Избалую я тебя, — но денег прибавил и ещё двум борцам приказал лечь под Татаурова: солдату Уколову и небольшому, но сильному Аррокюлю.
Конечно, он это делал не из личных симпатий к татуированному геркулесу, — он просто видел, что Татауров обрёл форму и поэтому может стать популярным.
Сейчас, когда в газетных отчётах стали писать не о поражениях, а о победах Татаурова, он возомнил о себе ещё больше и даже сказал как–то Каверзневу:
— А ты бы написал обо мне, Валерьян Палыч…
Коверзнев холодно взглянул на него:
— Я отчётов не пишу — ты знаешь.
Татауров хотел возразить: «Я не про отчёты говорю (их и так стало довольно), а про статейку», — но не решился, промолчал, только так посмотрел на Коверзнева, что тот первый опустил глаза. Было обидно, что Валерьян Палыч с таким презрением указал ему на своё место. «Сморчок несчастный, — подумал Иван. — Двумя пальцами, как ножницами, можно шею ему перестричь, а вот поди ж ты, все борцы боятся его». И объяснил себе, вздохнув: «Да и как не будешь бояться — он славу делает. А слава деньги даёт и положение».
С горя, что Коверзнев не желает о нём писать, Татауров напился в фешенебельном кабаке на Невском и до закрытия бильярдной гонял шары.
В двенадцатом часу ночи он чуть было не попал в историю, но всё обошлось благополучно — он дал пострадавшему четвертную, и тот шутливо подставил свою лысину, сказав:
— Ещё прошу разок ударить.
И когда Татауров усмехнулся, он почтительно приподнял его кий и похлопал им себя по блестящему темени, приговаривая:
— Ещё четвертную, ещё четвертную.
Иван рассмеялся, выдернул кий, нацелился и забил такой невероятный шар, что даже похвастался:
— А всё–таки я его умыл!
Лысый партнёр подобострастно поспешил опорожнить потяжелевшую сеточку, вывёртывая из неё пьяными, дрожащими пальцами шар. Но Татауров вдруг снова размахнулся кием и хлёстко ударил его по лысине, оставив на ней вторую красную полосу. Потом двумя пальцами достал из жилетного кармана ассигнацию и бросил со словами:
— Никогда не вытаскивай из лузы! Оставляй на приманку! На развод! Понял? Запомни, что у меня такое правило! Запомни! — и он с силой послал в металлические щёчки лузы костяной шар, словно поставив восклицательный знак после слова «запомни».
Под бильярдом, впритык к толстой ножке, стоял полуштоф водки; Татауров наклонился, взял его за горлышко и, закинув голову, хлебнул порядочную порцию. Передал лысому.
Когда они выходили на улицу, Татауров ковырнул пальцем под ребро привратника:
— Этакий Голгоф! В цирк бы тебе надо. Был бы, как я, знаменитым борцом.
На панели он облапил партнёра по бильярду, захрипел ему на ухо:
— Видал, какая у меня сила воли?.. Человек с силой воли делает всё, что захочет… Ему всё разрешается… Захотел тебя по плеши огреть — огрел, хоть бы что… Захотел эту витрину сломать — сломал… На это каждый гимназист или там антилигент не решится… Тут нужна сила воли…
— И деньги, — визгливо поддакнул партнёр; он вспотел, задыхался под тяжестью Татаурова, еле передвигал заплетающиеся ноги.
— Деньги — что… Деньги — тлен, как говорит мой лучший друг — знаменитый писатель Коверзнев… Слыхал о нём?.. Так вот он сейчас книгу обо мне пишет. С портретами и вообще с метранпажем, и с прочими… тудыт тебя по сопатке… штуками… Не веришь? Не веришь? Думаешь, я не достоин этого? А ты знаешь ли, кто я? А? Может, я чемпион мира?.. Уйди, зараза! Убью!
Он схватил своей лапой маленькую потную мордочку партнёра, провёл по ней снизу вверх, выжимая из носу кровь, и оттолкнул его к бетонному цоколю шестиэтажного дома. Пошёл, ругаясь вслух, по пустому каменному ущелью улицы.
Кружилась голова. Поэтому он свернул в Михайловский сквер, сел на скамейку. Ветер шумел в полусухих кронах деревьев, срывал листья. Небо было покрыто облаками; в одном месте они расползлись, обнаружив чёрную пустоту с несколькими мерцающими звёздочками. Так же чёрны и пусты были окна Русского музея, и в них тоже, как на кусочке обнажённого неба, мерцали звёздочки — отражения фонарей.
От одиночества стало грустно. Хотелось кому–нибудь излить. свою душу, он пожалел, что прогнал бильярдного партнёра. Долго рылся по карманам, наконец отыскал папиросы, закурил.
В глубине сквера, на укромной скамейке, сидел человек и, видимо, дремал. А может, у него такое же настроение, тогда они пойдут куда–нибудь и проговорят всю ночь, и от этого станет легче. Деньги есть, а у Чувашова и Коноплихи водку можно достать в любое время суток.
Татауров поднялся и пошёл нетвёрдой походкой по аллее. Под ногами шуршали сухие листья; где–то далеко заржала лошадь; потом копыта её медленно простучали в темноте.
Он осторожно сел рядом с человеком. Тот спал. По запаху сивухи Иван понял, что человек пьян. Мятая шляпа его была сдвинута на затылок, торчали космы нечёсаных волос, серая щетина покрывала щёки.
Татауров ткнул его в бок. Тот качнулся молча, продолжал спать. Тогда борец затянулся так, что затрещала папироса, н вдул струю дыма в нос сидящему. Тот помотал головой, не открывая глаз, и промычал как телёнок — обиженно и беззащитно. Татауров повторил эту операцию снова и снова. Но в ответ было одно мычание.
Он щелчком отшвырнул окурок, закурил вторую папиросу. Огонёк, брошенный им минуту назад, всё не гас и тлел на чёрной клумбе, как цветок. Татауров долго смотрел на него, потом наклонился к соседу, приподнял рукой его лицо и снова пустил струю дыма в его волосатые ноздри.
— Да проснись ты, морда!.. Пономарь… растудыт тебя в нельсон!
Ответное мычание окончательно вывело его из себя. Он поднёс к лицу спящего папиросу и хотел опалить его щетину. И вдруг какой–то посторонний голос шепнул ему: «А ты в глаз… Не решишься?.. Тогда он сразу проснётся». От этой мысли у Татаурова словно оборвалось сердце. А голос продолжал шептать: «Что — боишься? А где твоя сила воли? Ты же только что говорил, что человеку с сильной волей всё разрешается». И опять у него оборвалось сердце. «Вот когда ты можешь быть самым сильным человеком на свете. Ты можешь быть сильнее Збышко — Цыганевича… Потому что в твоих руках человеческая жизнь. Захотел — задави этого человека, захотел — уйди… И в том и в другом случае ты всех сильнее, потому что всё зависит только от тебя одного. И тебе ничего за это не будет. Никто не будет этого знать».
Он откинулся на спинку, прислушиваясь к внутреннему голосу, который шелестом отдавался в его мозгу. Казалось, он протрезвел. Голова была ясной. Он покосился на соседа. Спокойно подумал: «Да, я действительно сильный. Я сильнее всех, потому что я распоряжаюсь чужой жизнью».
Но голос шептал:
«Нет. Это ты только воображаешь, что ты самый сильный человек. А на самом деле ты даже побоишься прижечь своей папиросой глаз у соседа».
«Да, я боюсь», — ответил мысленно Татауров.
«Ну, значит, всё это только слова, что ты выработал в себе силу воли, — насмешливо сказал голос. — Так ты никогда не будешь чемпионом мира».
«А если я выжгу ему глаза, то буду чемпионом?» — спросил он у своего внутреннего собеседника.
«Конечно будешь, — уверенно заявил голос. — И тут дело вовсе не в глазах этого бродяги, а в том, что ты можешь владеть собой».
«Нет, я не могу», — чуть не простонал Татауров.
«Трус! Несчастный трус ты, а не чемпион! Тряпка! Размазня!»
Не помня себя, Татауров ткнул папироской в дряблое веко соседа и замер в ожидании на секунду. И в это время медленно открылся второй глаз несчастного — в нём было удивление и ещё что–то такое, чего Татауров не мог понять, но запомнил на всю жизнь. Татауров с ненавистью вдавил окурок в открывшийся глаз и под раздирающий душу стон бросился через сквер, разрывая могучими руками тернистые ветки кустов, шарахаясь от деревьев, цепляясь ногами за сучья.
31
В последнюю встречу, когда Коверзнев отвёл беду от Тимофея Смурова, между ним и Верзилиным произошло как бы примирение.
Через день Коверзнев, как ни в чём не бывало, явился к Нине. Он застал её с Верзилиным и Леваном в дверях–они собирались на взморье, пользуясь последними тёплыми днями «бабьего лета». Пригласили его с собой. В трамвае он много шутил, как в былые времена, рассказывал о новом балете Игоря Стравинского «Жар–птица», о чемпионке–фигуристке Ксении Цезар, победившей в прошедшем сезоне нескольких мужчин, о жеребце «Гаявата» знаменитого лошадника графа Рибопьера, получившем первый приз на скачках, о медиуме Цайтоллосе, приехавшем в Петербург по приглашению царя и царицы, увлекающихся спиритизмом.
У Витебского вокзала он неожиданно выскочил из трамвая: Верзилин вопросительно посмотрел на Нину, та пожала плечами. И вдруг все увидели среди снующих мужиков с мешками и баулами огромную фигуру Ивана Татаурова. Он стоял неподвижно, задумавшись, руки в карманах брюк. Толпа обтекала его, как вода обтекает каменную глыбу. Коверзнев пробрался к нему. Трамвай надсадно прозвенел, мягко тронулся, но чуть не налетел на ломового извозчика и затормозил. В последний момент Коверзнев с Татауровым успели заскочить на подножку.
Глядя в опухшее, небритое лицо своего бывшего ученика, Верзилин спросил брезгливо:
— Опять пьёшь?
Тот отвернулся, засопел, ничего не ответил, Коверзнев же сказал вызывающе:
— На радостях можно и выпить. Он на прошедшей неделе положил Медведева, Цыпса и Уколова.
— И проиграет всем «яшкам» подряд. Потому что пьёт, не высыпается. У него уже руки дрожат, как у алкоголика.
Коверзнев знал, что не прав, но ничего не мог с собой поделать, сказал тем же раздражённым тоном:
— Не к лицу вам, дорогой Ефим Николаевич, быть ханжой.
— У вас раньше для этого был другой термин — спартанский аскетизм, — усмехнулся Верзилин.
— Спартанцы, между прочим, не были ханжами. И вино входило в их радости жизни, которых, кстати говоря, у них было немало.
Он ещё хотел наговорить всяких глупостей, но сдержался, замолчал. И только часа через полтора, на пляже, боясь показаться смешным, глядя на Нину с Верзилиным, сказал шутливо:
— Эх, Нина, Нина! Ведь я бессилен
Душевный сохранить покой,
Когда великолепный наш Верзилин
Слегка касается тебя рукой.
Он и ещё пробовал шутить, но когда Нина подсунула свою узкую ладонь под локоть Верзилина, Коверзневу захотелось истерически закричать, ударить Нину, броситься с кулаками на Верзилина, разбиться об него. Но он ничего этого не сделал, он лежал тихо, как мышка в норке.
Недалеко от них расположилась компания — женщины расстилали скатерти, доставали из плетёных корзинок всякую снедь и бутылки вина, мужчины раздували самовар, действуя сапогом, как кузнечными мехами.
Коверзнев наблюдал за ними, лёжа на животе, прижавшись ухом к своей руке, и неотступная мысль, преследовавшая его последнее время, билась в голове, как осенняя муха. Он думал о том, что, несмотря на завязавшуюся с Верзилиным дружбу, несмотря на их общие интересы и взгляды, конечно с дружбой ничего не выйдет, потому что между ними встала Нина. Коверзнев любил эту хрупкую, мужественную женщину, но, видимо, Верзилин любил её так же сильно, и вот она остановила свой выбор на Верзилине, и все мечты Коверзнева полетели к чёрту. Поддавшись всеобъемлющему чувству, он думал наивно, что Нина должна ему ответить тем же, и вот они — оба сильные и честные — пойдут через жизнь рука об руку, и её любовь будет окрылять его и помогать ему писать о сильных людях, которых он любил и которые его любили Он всегда чувствовал в себе силу, и, конечно, она у него была — недаром все знаменитые «геркулесы» и «циклопы» гордились дружбой с ним, и неужели эту силу он сейчас растеряет, столкнувшись с первым препятствием? Неужели он не сможет держать себя в руках и будет делать глупости перед Верзилиным, Ниной?..
Он лежал и смотрел, как на поляне перед ним женщина возится со сверкающим на солнце самоваром и как синий дымок поднимается в небо, и трудно отличить этот невесомый дымок от дрожащего, струящегося воздуха. А почему самовар такой формы? А если воду налить в середину, а угли насыпать по бокам? Но тогда огонь будет отдавать часть температуры наружному воздуху. А если его сделать в форме банки из–под керосина и её разделить пополам — в одной стороне вода, в другой — огонь… Нет, это, по существу, первый вариант, не выйдет… А если сделать в форме бидона, внизу — огонь, вверху — вода?.. Но это уже получится чайник на примусе… Может быть, самовар прошёл через все эти формы, и столетний опыт сделал его таким… Скорей всего, что так… Это — закономерность… Вот женщина достала хлеб и нарезает его… Интересно, почему каравай хлеба имеет такую форму? А если сделать его круглым столбиком? Расплывётся тесто? Но ведь оно же в чаруше? Такой каравай будет падать? Значит, форма его тоже закономерна?.. До чего всё–таки Нина красива, и как ей идут эти пышные волосы и до чего они черны… И неужели Верзилин — это закономерность? Боже! Как тяжело!
— Не пора ли домой? — спросила Нина.
— Пойдёмте, — отозвался брат. — Мы сегодня выступаем.
— Идёмте, Ефим? Коверзнев, ты что притих?
Он усмехнулся, ничего не ответил. Подумал: «Интересно, что бы они сказали, проследив за течением моих мыслей? Подумали бы, что я сумасшедший?..»
— Мы одеваемся, Коверзнев. Ты что?
— Оставьте меня. У меня родилась идея по книге.
— Можно, я останусь с тобой, Валерьян Палыч? — попросил Татауров
— Идём–идём, — потянул его Леван. — Видишь, Валерьян Палыч собирается писать.
Коверзнев достал серебряный карандашик на цепочке, с ластиком на конце, и блокнот. Вывинчивая грифелёк и пряча его обратно, он наблюдал за тем, как Нина одевается.
Когда они ушли, он устало лёг на песок и засунул свои писательские принадлежности обратно в куртку; швырнув её на груду белья, он сшиб свою шляпу из морской мочалки, и, подхваченная ветром, она медленно покатилась к воде. Он смотрел на неё. Можно было десять раз её догнать, но он не пошевелил и пальцем. Шляпа улеглась плашмя у самой воды, словно маня его, но он усмехнулся ей, как живому существу. Тогда волна подхватила её, подняла на свой гребень и швырнула в море…
Волны тихо играли ею…
Куда ему идти? Где найти друга? Иван Татауров. его не устраивал… Оставался один Никита. Этот не по возрасту умён и серьёзен, и у него будущее.
Коверзнев не торопясь оделся, дошёл до Лахты, взял билет до Новой Деревни, сел в поезд… Мысли по–прежнему вертелись вокруг Верзилина. Ясно, что рано или поздно они крупно поссорятся — у Ефима Николаевича лопнет терпение. Нельзя же в самом деле без конца испытывать его добродушие мальчишескими выходками.
В Новой Деревне Коверзнев пересел на трамвай и наконец добрался до Никиты. Он застал парня беседующим со Смуровым, о существовании которого сегодня совсем забыл.
Послушав немножко Тимофея Степановича, он сказал горько;
— Вот вы, социал–демократы, твердите все: народ, народ… А у вас ведь так получается, что народ — враг отдельного человека. В самом деле, что мне до какого–то абстрактного понятия «народ», когда у меня трагедия.
Смуров рассмеялся.
— Нет, ты не смейся. Вот я люблю женщину. Люблю больше всего на свете. А она любит другого, и он достоин этого. Если бы он был плохой, мне было бы легче. Но в том–то и дело, что он самый хороший. Я хуже, и она выбрала его, и мне хочется выть волком… У меня такое на душе, что я готов пустить пулю в лоб, а ты мне будешь говорить о горе, о страданиях какого–то отвлечённого народа… Ты говори о страданиях одного человека, о том, как ему помочь…
Смуров встал, засунул руки в карманы брюк и, наклонившись над Коверзневым, сказал грубо:
— Стыдно, Валерьян, ныть о неразделённой любви, когда полевые суды ежедневно выносят смертные приговоры десяткам людей, когда народ стонет по всей нашей стране.
— А кто виноват в этом? — огрызнулся Коверзнев. — Кто? Виноваты только вы. Озлобили правительство и царя. Вы все ведь считаете, что жизнь можно изменить хирургическим вмешательством, и забываете о том, что жизнь — это не язва желудка.
Коверзнев и сам не ожидал, что может сказать такое — слова вырвались как–то сами собой. Но начав говорить, он уже не мог остановиться.
— Каракозов стреляет в царя и платится за это жизнью. Пятёрку декабристов вешают на кронверке Петропавловки за то же самое. Гриневицкого убивает осколком той же бомбы, которой он ухлопал государя… Вера Засулич стреляет в Трепова, Степняк — Кравчинский — в Мезенцева, Тамара Принц — в Кульбарса, Татьяна Леонтьева — в Дурново… И совсем на днях — Богров — в Столыпина… И никто не понимает, что это только озлобляет всех, никто не понимает, что ничего из этого не выйдет!
Не доставая рук из карманов, раскачиваясь, Смуров сказал спокойно:
— Вот именно, ничего не выйдет. Мы идём другим путём.
— А к чему привёл ваш путь? К тому, что Трепов даёт команду «патронов не жалеть»? К тому, что Столыпин вешает направо и налево? К тому, что Дубасов расстреливает бунтовщиков пачками? К тому, что Думбадзе расправляется с людьми без суда и следствия? К тому, что в них снова стреляют? И кто стреляет? Ваши воспитанники — Воробьёв, Березин, Вноровский, Богров?
— Ты сам себя убиваешь своими словами, — с усмешкой произнёс Смуров. — Ты приводишь имена эсеров, с которыми мы ведём такую же борьбу, как и с самодержавием. Лучше было бы, если бы они не стреляли в царя и генералов, а пропагандировали, воспитывали мужика. Ленин не раз говорил, что бланкизм, заговорщичество ни к чему не приведут. Мы прекрасно понимаем, что нельзя борьбу масс подменить борьбой одиночек.
— Опять борьба масс, — устало сказал Коверзнев. — А разве нельзя без борьбы, без крови? Разве нельзя заняться тем, чтобы прививать народу культуру, учить его? Вон Павел Иванович Милюков, которого вы ругаете, потому что он, видимо, не признаёт вашей классовой борьбы, всю жизнь занимается тем, что ведёт работу по культурному воспитанию народа. По его инициативе знаменитые профессора читают в провинциях лекции, издаётся великолепная «Программа домашнего чтения». Вот это правильный путь. Сделать надо из нашего человека европейца, отвлечь его от ненужной борьбы, бессмысленность которой я тебе наглядно показал пять минут назад… Я согласен с теми, кто считает, что самодержавие не оправдывает себя. Но кто может встать во главе страны? А? Только такие люди, как Милюков, как Гучков. И наше счастье, что они сидят в Думе…
— Хорошо счастье, — оборвал его Смуров. — Ты знаешь ли, полтора года назад Милюков на завтраке у лорд–мэра Лондона заявил, что пока существует Дума, русская оппозиция останется оппозицией его величества, а не его величеству? Ты что, разве не знал этого? Не знал, что Гучков открыто защищал Дубасова, потопившего Москву в крови, открыто защищал политику Столыпина? И ты не думаешь о том, что оба они защищают свой класс — класс помещиков и промышленников?
— Да что мне твой абстрактный класс! Я знаю, что Гучков добровольно уехал в Трансвааль, когда буры дрались со своими завоевателями, и рисковал там жизнью. Я знаю, что он был уполномоченным Красного Креста и попал в плен к японцам. Мне эти факты дороже, чем его происхождение.
— Ох, удивил! Да знаешь ли ты, что Ленин ещё пять лет назад писал в газете «Пролетарий», что «господин Гучков» — человек не совсем глупый, что он мечтает после окончательного поражения революции взять власть в свои руки, чтобы соединить «деловой буржуазный либерализм» с беспощадными полицейскими репрессиями против недовольного народа, ибо иначе они (а Ленин так и говорил: они, то есть гучковы, романовы, столыпины)… иначе они потеряют свои помещичьи владения, остатки своего благосостояния… И разве не так и вышло? Разве Гучков, завоевав авторитет своей позой, не добился поста председателя Государственной думы? Отстаивая таких людей, как Гучков и Милюков, ты скатываешься на позиции ренегата Изгоева, который в «Вехах» заявил, что в Государственных думах огромное большинство депутатов, за исключением трёх–четырёх десятков кадетов и октябристов, не обнаружило знаний, достаточных для того, чтобы управлять Россией.
— И правы «Вехи», утверждающие это!
— Нет, дорогой мой. Если ты идёшь по дорожке этих предателей и клеветников, ты попадёшь в лагерь хозяев, так как у интеллигенции один путь: или с хозяевами, или с пролетариатом.
— Хозяева… Пролетариат… Ах, как мне это надоело! — вскрикнул Коверзнев. — Как это нелепо — делить мир на хозяев и их рабов! Не те и не другие двигают его. Мир развивается благодаря талантам. Тарас Шевченко был крепостным, то есть рабом, а Лев Толстой — графом, то есть хозяином… Пушкин был камер–юнкером, а Михаил Ломоносов — мужиком…
— И не думаешь ли уж ты, — спросил раздражённо Смуров, — что ты — талант и двигаешь мир?
— Думаю, думаю! — чуть ли не в истерике выкрикнул Коверзнев. — И буду пропагандировать силу и красоту! Буду прививать народу вкус! Буду восстанавливать традиции древней Эллады!
32
Всего четыре месяца назад Никита Сарафанников работал грузчиком на вятской пристани, ходил в холщовых штанах, лаптях и онучах. Сейчас на нём ловко сидела пиджачная пара, волосы от левой залысины были расчёсаны на аккуратный пробор, на ногах поблёскивали штиблеты стоимостью в восемнадцать рублей. Перед ним заискивали гвардейские офицеры, присяжные поверенные и дамы из общества. Знакомством с ним гордились, а открытки с его изображением покупали нарасхват. Вместе с Коверзневым он успел побывать в опере и филармонии, был на вернисаже в музее и на проповеди модного священника в Казанском соборе. На него столько всего сразу навалилось, что у другого бы закружилась голова. С ним же этого не случилось потому, что он не пытался разобраться во всём, что слышал. Ему не было дела до «прыжка Пантеры» и до Гришки Распутина. Он знал одно: зарядку, чемодан с галькой, умение побороть страх при выходе на манеж. Это давало славу. Это давало деньги. А с тем и другим было легко и приятно жить. Он мог обедать в лучших ресторанах и заказывать одежду у лучших портных. Он даже мог посылать часть денег своему дяде. Это было так же приятно, как приобретать новую вещь; может, даже приятнее. Такая жизнь его вполне устраивала.
Тем большую неприязнь у него вызывали поучения Смурова. Несколько дней подряд они оставались с ним с глазу на глаз, и Тимофей Степанович расспрашивал его о жизни и давал советы. Говорил Смуров осторожно, тщательно подбирая слова, с паузами, и всё было понятно в его речах, но шло вразрез с тем, что для Никиты уже было решённым.
— Боюсь, не превратился бы ты в буржуя, — сказал он как–то Никите. — Отрываешься ты от своего брата — грузчика… Мне Ефим говорил, что тебя на родине любили земляки за то, что ты заступался… за правду… Не боялся постоять за неё. И был честным и прямодушным… И в цирке публика любит тебя за то, что ты не идёшь ни на какие сделки ради денег… Так тебе и надо держаться. Только тебе, вероятно, и среди публики надобно видеть своих… друзей, что ли… Видишь ли, борьба, сама по себе, потому так и нравится простому люду, что сейчас, — в период, когда царь вешает всех подряд, — она напоминает народу о… силе русских людей, о непокорности, о желании сопротивляться, о возможности бороться, постоять за себя… И не только простой народ так думает… Но и студенты, гимназисты, многие из интеллигентов… Но, видишь ли, есть такая публика, которая ходит на борьбу, потому что это модно, потому что за любованием красивым телом… животной красотой… она забывает о кошмаре действительности… Так вот ты только, брат, будь с первыми, а не со вторыми. Боюсь я всё–таки, чтоб не купили тебя вторые, не соблазнили своими «радостями жизни» — не ищи у них славы, ищи её у народа…
Смуров прошёлся по комнате, качнул пальцем Нинин веер, висящий на косяке, помолчал. Потом спросил, показав на книжку, подаренную Никите Коверзневым:
— Так понравилась она тебе?
— Понравилась, — ответил Никита и почесал за ухом‑
— Что ж, Геракл был хороший парень… Он ведь такой был, что всех угнетённых защищал, а сила–то у него была, как у тебя. Вон и Валерьян об этом пишет… Недаром о нём греческий народ предания сохранил, как наш народ об Илье Муромце… А я тебе о других таких же героях дам почитать. Например, о Спартаке. Не слыхал о таком?
— Нет.
— Ну‑у, это, брат, был человек, скажу тебе! Он всех рабов объединил да и двинул их на своего императора… вроде как на нашего Николая в декабре девятьсот пятого… Задал ему жару!.. Вот тебе надо о каких людях читать. И вообще тебе учиться надо, а то вон купил себе на зиму каракули, а пишешь тоже каракулями. Учти: у тебя положение такое — сломают тебе на манеже руку, и прощай цирк; да и грузчиком работать не сможешь. Вот и останешься не у дел.
У Никиты кровь прилила к вискам, хотелось сплюнуть через правое плечо, как это он привык делать, но он постеснялся. Особенно он обиделся из–за каракулей. Он показал их Смурову от чистого сердца — вещь хорошая, досталась дёшево, по случаю, а хорошая вещь — это всегда деньги, как учил его Макар Феофилактыч — родной дядя; если не придётся шить шубу, шкурки всегда можно продать выгодно…
Хотелось думать о Смурове плохо: неудачник, ввязался в политику, сейчас не может выпутаться, поэтому и брюзжит.
Никита с радостью встретил Коверзнева и ещё с большей радостью выслушал, как он отчитал Смурова. «Надо быть дураком, думал Никита, чтобы не понять Валерьяна Павловича. Конечно, какое дело человеку до миллионов других, когда он сам себе помочь не может? Действительно, стань Никита инвалидом, как пророчит Тимофей Степанович (тьфу–тьфу!), поможет ему тогда революция?..»
Коверзнев волновался, кричал на Смурова. В конце концов он вскочил, поправил у зеркала свой бант, приказал Никите одеваться.
Вечерело; над Немецким и Армянским кладбищами тяжело кружили галки; за деревьями садилось огненное солнце; фабричные дымы висели в воздухе неподвижно.
Коверзнев шагал, заложив руки глубоко за спину, играл тростью, ворошил ногами сухие листья, насвистывал. На перилах мостика через Смоленку сидели мальчишки. Увидев Никиту с Валерьяном Павловичем, они ринулись навстречу к ним с криками. Никита подхватывал их на руки, хлопал по плечу, называл по именам.
Когда свернули на Малый проспект, Коверзнев спросил отрывисто:
— Помнишь Леонида Арнольдовича Безака?
Никита припомнил длинную сухую фигуру художника, с которым познакомился в день приезда в Петербург.
— Да.
— Идём к нему. Он тебя звал. Вся семья — твои поклонники. У них бывают интереснейшие «пятницы». Собираются художники, писатели, артисты. Один раз была даже великая княгиня. Сегодня там медиум Цайтоллос. Это такой человек, который разговаривает с потусторонним миром, с душами умерших.
У Никиты от удивления открылся рот, Коверзнев же продолжал:
— Это, конечно, обман. Однако многие заверяют, например сам Леонид Арнольдович, — и, потянувшись к Никитину уху, шепнул: — Царь с царицей верят. Это по их желанию приехал в Россию Цайтоллос.
Сообщив это, Коверзнев засвистел. До самой Пушкарской он насвистывал два мотива. Никита знал оба: «Ой–ра» и «Трансвааль».
Дом был огромный, серый. С лёгким шипением скользил лифт, тянул за собой резиновую кишку. Никита не привык к этой штуке, но стоял невозмутимо — знал, что их прокатит лифтёрша, а если она останется внизу, Валерьян Павлович расправится сам с замками и кнопками.
Когда поднимались, он отсчитывал этажи, заглядывал через голову Коверзнева и лифтёрши на просторные лестничные площадки.
Стоп. Клац! — щёлкнула металлическая дверца. Коверзнев впился пальцем в кнопку электрического звонка. Дзинь,
— Гав–гав–гав, — залилась за дверью собака.
— Шантан, фу! — распахивая дверь, отпихивая собаку, говорил длинный Безак. — Валерьян Палыч, душка! Молодцы, что пришли раньше гостей. Дорогой чемпион! Рад вашему приходу. Девочки, Юрик! Пришёл ваш долгожданный Сарафанников!
Коверзнев сунул трость горничной, фамильярно потрепал её по щеке, наклонился над рукой стройной гимназистки, шутливо поцеловал ладонь её сестре, пошёл с распростёртыми объятиями навстречу хозяйке.
Никита старался держаться с достоинством, поклонился девушкам, пожал руку художнику, похлопал по спине Юрика.
Юноша провёл его в свою комнату. В ней было два больших красно–коричневых книжных шкафа, на полу лежала медвежья шкура, над кроватью висело ружьё, над ним — оленья голова с ветвистыми рогами и старинная картина в золотой раме, такая тёмная, что на ней ничего нельзя было рассмотреть. Всё говорило о состоятельности и вкусе родителей, и лишь постель была заправлена грубым больничным одеялом.
Юноша торопливо забросил на шкаф рулон чертёжной кальки, задвинул под кровать гантели, попросил:
— Садитесь, пожалуйста, Никита Иванович.
Никита покосился на стулья. Они почему–то были покрыты белыми накидками, и кто знает, может быть, надо убрать эти накидки, чтобы сесть? В оправданье сказал:
— Спасибо, не устал, — и пошутил: — Борцу сидеть вредно — мышцы оплывают жиром.
Подошёл к шкафу, по слогам, про себя, с трудом прочитал мудрёные названия: «Гаргантюа и Пантагрюэль», «Тиль Уленшпигель», а рядом и совсем что–то не по–русски. Никита опять не подал вида, что это ему в диковинку. Однако из–за молчания испытывал неловкость. Чтобы побороть её, спросил, кивнув в сторону кровати, под которой лежали гантели:
— С гантелями возитесь?
Юрик покраснел и объяснил:
— Борцом мечтаю быть.
Никита критически оглядел его узкие плечи, сказал, сам удивившись своему самоуверенному тону:
— Надо очень заниматься. Очень.
В комнату стеснительно вошли девушки, замерли у дверей, с восхищением глядя на Никиту.
Тот, испытывая чувство неловкости, взял со стола два альбома. В одном оказались марки, в другом — вырезки о борцах. Листая второй альбом, Никита начал пересказывать анекдоты, сообщённые в своё время Коверзневым, добавляя к ним то, что видел своими глазами. Рассказывая, удивлялся тому, что говорит складно и интересно От этого появилась уверенность, хотелось только сесть. «Нелепо уж больно торчу я посреди комнаты». Но никто не садился, и он так и не узнал, убираются накидки со стульев или нет.
Выручил хозяин. Он вбежал в комнату, одёргивая фрак, поправляя бантик. Никита подумал, что Безак похож на кузнечика.
— Никита Иваныч, — говорил он отрывисто, с короткими паузами, — видел, видел я, как вы положили знаменитого Стерса… И схватку с Вахтуровым видел… Этакий медведище… Ничья с ним — почётнее всякой победы…
Говоря это, он подталкивал Никиту в гостиную, где уже собрались гости.
Никита обрадовался полумраку; в свете свечей он разглядел Коверзнева, сидящего с какой–то красавицей, и хозяйку. Остальные были незнакомы.
Леонид Арнольдович подводил Никиту к каждому из присутствующих, выкладывал сразу десяток комплиментов в адрес борца, жестикулировал, подмигивал, поднимал указательный палец; в его речи всё время слышалось: «о!», «ах!», «знаменитый», «известный».
Гости жали руку Никите, восхищались его плечами, силой рукопожатья, ростом.
Шумной толпой все направились в столовую; там много ели и пили, и Никита, прежде чем взять вилку или нож, поглядывал на соседей, проверял, то ли он делает. Из–за этого он не наелся, но зато был рад, что не уронил себя ни в чьих глазах. За столом много говорили о театре, о музыке и картинах, но стоило выбритому старику сообщить о Вырубовой и о том, что она с Алисой предаётся какому–то «лесбийскому пороку», как хозяин застучал ножом по бокалу и предупредил:
— В этом доме о политике не говорят.
Почему какие–то бабы были «политикой» — Никита не мог понять.
Однако, когда кто–то назвал имя Гучкова, Никита прислушался: это из–за него сегодня спорили Коверзнев со Смуровым. К его удивлению, и здесь Гучков был обруган и назван буржуем. Никита посмотрел на Валерьяна Павловича, но тому было не до Гучкова — он увлечённо разговаривал с красавицей.
После этого снова сидели в гостиной, при свечах, ждали медиума.
Никита разговаривал с двумя дамами, расспрашивающими его о том, правду ли написал о нём Коверзнев.
Наконец явился долгожданный Цайтоллос; он чем–то напоминал молодого священника и был очень утомлён.
Все уселись вокруг овального стола и взялись за руки. Горничная погасила свечи. В соседней комнате заиграл орган — тягуче, заунывно. Медиум усталым голосом почти на правильном русском языке сообщил:
— Ставьте вопросы духу так, чтобы он отвечал кратко: «да», «нет». Ни в коем случае нельзя размыкать цепь.
А Леонид Арнольдович добавил:
— Просьба — особенно соблюдать неразмыкание цепи… И вообще порядок… Господин Цайтоллос сегодня уже был на одном сеансе и очень утомлён, ибо материализация духа требует огромного душевного напряжения… И поэтому очень легко сорвать сеанс… Кроме того, размыкание цепи опасно просто физически… для произведшего его… Ибо дух материализуется до полной осязаемости… и может наказать провинившегося…
Рука, державшая Никиту слева, дрожала; от этого и от печальной музыки стало тоскливо; кто–то задел Никиту под столом и отшатнулся в сторону.
Никита не расслышал, что сказал медиум. Женский голос ответил непонятно, тихо.
Потом медиум сказал без выражения:
— Спросите у духа, сколько лет было вашей матери.
Женщина повторила вопрос шёпотом.
И вдруг под звуки органа ножка стола начала отсчитывать год за годом. У Никиты пробежали мурашки по спине.
А медиум приказал бесстрастно:
— Спросите у духа, сколько вам было лет, когда вы вышли замуж.
Опять шёпот, и опять ножка отсчитывает годы. Восемнадцать.
— Если вы не удостоверились, не убедились, спросите, какого цвета волосы были у вашего мужа.
Шёпот.
— Задавайте вопрос в такой форме, чтобы дух мог ответить: «да», «нет».
— Какого цвета волосы были у моего мужа, — прошептала дама: — Рыжие?
— Нет, — ответила ножка около Никиты, и опять что–то прикоснулось к его ноге.
— Чёрные?..
— Нет, — снова ответила ножка.
— Светлые?
— Да, — стукнула в ответ противоположная ножка.
— О боже! Совершенная правда!..
Звуки органа заглушили это восклицание. Музыка была торжественной, печальной, усыпляющей. Никита подумал, что всё, что происходит здесь, чем–то напоминает церковь. Он стал раздумывать над тем, почему ему не понравилось в Казанском соборе, потом мысль его перешла к выставке картин, на которой он познакомился с хозяином этого дома, и он задался вопросом, почему Леонид Арнольдович не держит дома своих картин.
33
Встреча с Ритой была для Коверзнева неприятной. Возвратившись в ту злополучную ночь домой, он понял, что совершил поступок, которого женщины никогда не прощают. Но каково было его удивление, когда девушка встретила его радостно и ничем не напомнила о случившемся.
И он забыл о ссоре с Тимофеем Степановичем, забыл о том, что собирался весь вечер опекать Никиту, и даже убедил себя в том, что забыл о Нине и Верзилине. Он был прежним Коверзневым. Он острил и каламбурил напропалую, он шутил и цитировал неизвестных поэтов.
— Дорогая Рита, дайте вашу длань, — сказал он, увидев, что она улыбается ему, и благодарно поцеловал её руку.
Его речь была пересыпана словами «ланиты», «перси»… Вместо того чтобы сказать: «Разрешите, я сяду на подлокотник кресла», он говорил: «Разрешите, я сяду на прясло»…
Рита смеялась, хлопала в ладоши, не обращала внимания на гостей. Постепенно подле них начала группироваться компания. Коверзнев рассказывал историю за историей. Рассматривая золочёную фарфоровую тарелку, он говорил:
— О, да у вас сервиз не хуже, чем у Базиля Захарова! Слышали, как во время грандиозного пожара на Всемирной выставке в Брюсселе он уцелел? Семь миллионов стоит!.. Человек романтичной истории. Ведь этот миллионер — сын профессора Московского университета… Карьеру он сделал у Виккерсов… Жена — красавица, вдова испанского военного министра маркиза Марчена…
Слушая Коверзнева, гости охали, качали головой.
Леонид Арнольдович радовался, называл Коверзнева душой общества.
А тот, перехватывая у лакея тарелки, галантно ухаживал за девушкой, подливал ей вино. Во время спиритического сеанса, в темноте, она сказала ему на ухо:
— Насколько вы благороднее других, духовно тоньше, выше.
Он напомнил ей шутливо, что разговаривать во время сеанса нельзя, но она настойчиво, серьёзно говорила ему, что любит его, что он самый лучший и чистый; она поняла это после той ночи и ждала встречи с ним и даже разыскивала его в редакции журнала «Спорт». Шепча ему на ухо эти слова, Рита освободила свою руку и стала гладить его по голове.
Он опять шутливо сказал ей, что цепь размыкать нельзя, а то дух материализуется почти физически и за нарушение правил может дать по шее.
Рита не слушалась его, он поймал её руку и сжал, но в это время на них шикнули, и они притихли.
А в общем они прекрасно провели вечер и нацеловались вдоволь, пока какая–то молодящаяся старуха беседовала со своим покойным мужем. Органная музыка и барабанная дробь деревянных ножек были хорошим аккомпанементом для их поцелуев.
И опять он не спрашивал разрешения у Риты сопровождать её, а она не приглашала его, так как снова всё это само собой разумелось.
Уже поднимаясь по лестнице, он прочитал ей:
— «Не вздыхать же целые годы у ног неприступных дев, и я изо всей колоды избрал только даму треф…»
А она сказала серьёзным тоном:
— Я бубновая.
Они пришли к Рите раньше, чем в тот раз. На кухне горела керосинка; когда они на цыпочках проходили мимо, она злобно фыркнула, закоптила. Коверзнев хотел подкрутить фитиль, но Рита торопливо затащила его в открытую дверь.
Всё, что должно было случиться в тот раз, случилось этой ночью без трагического надрыва и клятв, и только было удивительно, что Рита, словно в оправдание, рассказала о том, как потеряла невинность.
Луч луны упал на стену и осветил рисунок Обри Бердслея. Глядя на эту томно–порочную, изогнувшуюся чёрной змеёй женщину и вспоминая об откровенных ласках Риты, Коверзнев гадал устало о том, зачем ей понадобилось оправдываться. Женщины их круга и поколения воспитывались не на целомудренных образах Тургенева — школой для них были циничные книги Арцыбашева, Пшебышевского, Каменского, Вербицкой. Невинность считалась предрассудком, чистая любовь поднималась на смех. Женщины, как и мужчины, хвастались друг перед другом списками побед.
В окно виднелся кусок тёмно–синего неба с россыпью звёзд; луна угадывалась за крышей. На этом фоне чернела железная грань с ажурной верхушкой водосточной трубы. На крышу вышел кот, выгнул спину, поднял хвост, остановился.
Рита положила голову на грудь Валерьяна, от этого ему было неудобно, волосы её лезли в нос, загораживали кота. Она шептала, её горячее дыхание щекотало обнажённую грудь.
— …Отец был предводителем дворянства и очень любил меня… Была гувернантка–француженка… Меня учили музицировать и готовили большое приданое… Но мать умерла, отец неожиданно женился на соседней помещице… Потом умер от грудной жабы… Хорошо, что успел написать завещание… Мачеха не отпускала меня ни на шаг, и всё читала нотации, и каждый день говорила, что для девушки лучшее приданое — её честь и что беречь её нужно смолоду… А мне так всё надоело, что я отдалась сыну управляющего… Он плакал, умолял меня выйти замуж, а я не хотела связывать себя и уехала в Петербург, на Бестужевские курсы… Он бросил Московский университет и приехал сюда, сказал, что покончит с собой, а я заявила, что пожалуюсь в полицию, как он не может понять, что ничего не случилось, оттого что я принадлежала ему, мир не перевернулся, светило не остановилось… И он уехал обратно и всё–таки застрелился.
Капли слёз её падали в ямочку под ключицей, скапливались там в лужицу. Коверзнев осторожно убрал голову девушки в сторону и, гладя её пышные волосы, подумал о том, что эта пикантная история рассказана для того, чтобы пощекотать его нервы: «Как острая приправа к горячему блюду».
Кот всё сидел на крыше, неподвижно, как изваяние. Вскоре показалась луна и залила комнату голубым светом.
Рита заснула первая, обняв его за шею полной рукой. Упругие груди её свесились в одну сторону, а рот так трогательно приоткрылся, что Коверзнев не утерпел, потянулся к нему и совершенно искренне поцеловал.
Подумал печально: «Вот и разрублен гордиев узел».
Утром, стоя перед зеркалом, сказал спокойно:
— Не мешало бы узаконить наши отношения.
Она спрыгнула с постели и, обхватив его горячими руками за шею, заговорила:
— Я знала, что ты благороден. Насколько ты чище других. Я всю жизнь буду любить тебя за это и буду верной твоей помощницей, даже в горе.
Брак его произвёл на знакомых впечатление разорвавшейся бомбы — его любовь к Нине Джимухадзе не была ни для кого секретом. А он принимал поздравления с усталой, загадочной улыбкой.
Рита потребовала снять другую комнату и за большие деньги обменяла свою на соседнюю с коверзневской. Пришли мастера в холщовых фартуках, пробили в стене дверь, навесили деревянные полотна, покрасили их белой краской. Ломовик привёз широкую кровать красного дерева, какие–то столы, стулья, торшеры. Чужие люди ходили по комнатам, расставляли вещи, вешали шторы, натирали паркет, расстилали ковры.
Всё с той же загадочной улыбкой Коверзнев оплачивал счета, давал чаевые, благодарил за работу. Появились лакей во фраке и горничная. Для них Рита отвоевала ещё комнату и разделила её переборкой.
Квартира засверкала бронзой и полированным деревом. Гости удивлялись, качали головами:
— На какой–то захолустной Динабургской отделать так квартирку… Ну, знаете ли, для этого мало одних денег — нужен вкус.
Коверзнев ходил из комнаты в комнату, задумчиво глядя на новшества, и, казалось, какое–то удивление застыло на его лице. Рита, подбегая к нему, целовала его в щёку, в затылок, говорила:
— Ты хороший, ты великодушный, я надоела тебе своими приставаниями, тебе некогда писать. Погоди, всё закончим, и я перестану тебе мешать. Ты будешь заниматься своими делами. Я ни в коем случае не хочу стеснять твою свободу.
Он ложился на кушетку, в тоске заломив руки.
— Ты лежи, — говорила она, — отдыхай. Только штиблеты надо снимать.
— Но я же не кладу ноги на пуфик, — раздражался Коверзнев.
— Да я ничего не говорю, миленький. Тебе самому так удобнее отдыхать.
— Пожалуйста, перестань меня опекать.
— Ну не сердись. Я гадкая, нехорошая, надоедливая. Я мешаю тебе думать. Ложись, как хочешь, не отвлекайся на разговоры со мной.
— Да я уже належался.
— Ложись, ложись, милый.
— Я належался.
— Нет, ты ложись.
— Нет, я не лягу.
— Нет, ты ляжешь. Я заставлю тебя лечь, раз я провинилась перед тобой.
И он ложился, и мечтал о Нине и о другой — простой и уютной — обстановке, и думал, как бы они с Ниной могли жить счастливо, если бы не Верзилин, и у них непременно был бы ребёнок. Валерьян бы тогда писал книгу об истории русской борьбы и, утомившись, поднимался бы и подходил к грудному сыну, и склонялся бы над кроваткой, и целовал бы его в розовый носик–пуговку.
Мимо прошёл лакей со лбом Сократа, с серым, болезненным цветом лица. Коверзневу хотелось закурить, надо было приказать лакею, чтобы он принёс трубку и табак, но он постеснялся — не привык. Лакей прошёл обратно, стараясь не встречаться с хозяином глазами, и Коверзнев встал и направился за трубкой.
Когда он задумчиво набивал трубку, его окликнула Рита.
— Ты не сердись, — сказала она приторным голосом, — но я для нашего же счастья стараюсь. Зачем из–за каждого пустяка звать горничную? Поправляй сам. Полежал — и поправь подушки.
Коверзнев молча ушёл в другую комнату и встал к окну. В груди у него всё кипело. Он прижался лбом к прохладному стеклу. Перед глазами раскинулся до горизонта Финский залив; вода была серой, и на гребнях волн всплывали белые комочки пены — словно качались чайки.
— Пф–пф–пф, — выпустил он дым прямо перед собой. Дым заклубился по стеклу, потянулся под штору.
Надо было писать, но не хотелось подходить к письменному столу — после вмешательства Риты он принял такой же неуютный, чопорный вид, как и вся комната. Прежде Коверзнев с трудом отыскивал подточенный карандаш и зачастую в чернильнице высыхали чернила, но писалось хорошо. Теперь отточенные карандаши стояли в стаканчике (подарок Риты), обе чернильницы были полны (забота Риты), хрустящие четвертушки бумаги с золотым обрезом лежали в бюваре — но он не мог писать. Его раздражали и полная чернильница, и вышитые салфеточки под атрибутами чернильного прибора, и шёлковая тряпочка на абажуре настольной лампы. Сейчас нельзя было разбросать карандаши, вставочки с перьями, вырезки из газет и заготовки для своей рукописи на разноцветных обрывках.
Как хорошо работалось прежде, когда перед тобой валялась хохломская ложка, дымковская игрушка, мозаичный камешек из иконы Исаакиевского собора, затейливо изогнутый сучок, высохший кленовый лист, ржавая подкова, палехская коробка. Это были все любимцы и друзья, на них отдыхал глаз, они помогали сосредоточиться. Сейчас они лежали в общей груде на ломберном столике, и когда Коверзнев на первых порах пытался было переносить их обратно, они снова были убраны с письменного стола. Он не сдержался и нашумел на горничную, но та резонно ответила, что такова воля барыни…
Коверзнев пересилил себя, сел за стол и взял в руки перо. Подошла на цыпочках Рита, нежно поцеловала его в шею, сказала:
— Кончишь работать — поставь лампу на место…
Он вскочил, словно облитый ушатом холодной воды.
— Ну–ну, не буду, — сказала она примиряюще и так же на цыпочках вышла.
Он хотел лечь на кровать, но она была застлана белоснежным покрывалом, и днём к ней не разрешалось подходить. А какая уютная коечка была у него раньше! На солдатское одеяло можно было ложиться даже в пальто, недаром Леонид Арнольдович Безак завёл такое же одеяло своему сыну, «будущему спартанцу», как говорил он… Сейчас вместо спартанского ложа была постель, предназначенная для наслаждений капризной бабёнки, которая воображала себя римской матроной. В этой постели Рита завтракала, пила кофе, проснувшись в час, в два дня. На завтрак — омары, кофе — горячий, со сливками. Среди ночи она будила Коверзнева для любовных утех, и он после этого, убогий в своей наготе, должен был идти к буфету и доставать яблоки и виноград, так как она не могла уснуть без них.
Рита пыталась заговаривать о собственном выезде и о заграничном курорте, но Коверзнев вспылил: ни лошадей, ни конюшни, ни кучера он заводить не намерен — у него на это не хватит денег, и о курорте она тоже пусть не мечтает — вместо того чтобы ехать в какую–нибудь грязную немецкую деревню, где русские бабы, воображающие себя аристократками, умирают со скуки, ехала бы она на берег Луги и пила там молоко и загорала.
Остынув, он сказал:
— На будущее лето снова будем ездить на дачу Стембока — Фермора — там великолепный пляж. Мы с Ниной и с Ефимом всё время туда ездили.
Рита вскочила:
— Ты не можешь не вспоминать при мне эту цирковую шлюху?!
— Перестань, пожалуйста. И прошу при мне так о ней не говорить.
— Буду говорить! Буду! Нашёл, в кого влюбляться, — цирковая шлюха, борцовская подстилка.
— Перестань! Или я тебя ударю!
— Ударь! Ударь! Ты способен на это!
Она разрыдалась и выскочила из комнаты.
Коверзнев закурил, жадно затянулся. «Нет, это надо как–то кончать». Остановился перед окном, глядя на тёмный залив. В соседней комнате разбилась какая–то склянка. «Не отравится», — уверенно подумал он о Риге и не пошёл к ней.
Смеркалось. Внизу, в хибарке, зажглись огни; на воде качался красный бакен, двигались разноцветные фонарики — это шёл пароход из Петергофа.
Не включая света, Коверзнев открыл окно, лёг на подоконник. Курил, глядел в ночь, думал…
Она не выдержала, пришла к нему, молча обвила его руками, потёрлась мокрой от слёз щекой о его лицо. Укутала его пледом:
— Простудишься… Бедный мой… Я гадкая, нехорошая, развратная баба, я мешаю тебе жить… Прости меня, я переменюсь… Я буду жить ради тебя… Я буду потакать твоим капризам… Ну, чего ты хочешь? Скажи… Скажи, пожалуйста…
Она тяжело сползла на пол, обхватила его ноги, начала их целовать.
Всё это вызывало чувство стыда и досады. Коверзнев неуклюже пытался схватить её за плечи и поднять. Она вырывалась.
Подобные сцены повторялись почти каждый день, а все знакомые поздравляли Коверзнева со счастливым браком, и он загадочно улыбался в ответ.
34
Всемирный чемпионат в цирке Чинизелли вступил в третий месяц своего существования. В матчах на звание чемпиона мира уже встретилось около ста борцов. За шестьдесят дней сбор составил семьдесят пять тысяч рублей.
Всё реже и реже боролись Сарафанников, Вахтуров и Корда — они уже сделали своё дело. Поэтому интерес к борьбе начал ослабевать; однако ещё не было такого дня, чтобы в кассе оставались билеты. Фанерная табличка с надписью «Все билеты проданы» была так же привычна, как афиши с изображением борцов–чемпионов.
И вдруг 25 сентября рядом с этой табличкой появилось объявление, извещающее о прибытии Красной маски и о закладе в тысячу рублей против любого чемпиона мира.
Эта новость заставила многих задуматься. Даже Верзилин отложил вечерний чай у Нины и договорился с ней, что они пойдут в цирк, несмотря на её свободный день.
Коверзнев пытался разнюхать новости, но ничего не узнал. Однако «маску» он видел в коридоре гостиницы. По той поспешности, с которой она, заметив журналиста, скрылась в номере, он сделал вывод, что это кто–то из борцов, гастролирующих в России и знающих его.
Забыв о распрях, он пришёл к Верзилину. Они долго перебирали в памяти имена знакомых борцов, но так ни на ком и не остановились.
— Надо быть готовым ко всему, — сказал Верзилин. — Я думаю, Никита сначала воздержится. Пусть её вызывают Коля Вахтуров или Корда.
Коверзнев поднялся с дивана, долго раскуривал трубку. Потом заговорил:
— Мудрое решение. Видимо, «маска» серьёзная, если Никите никто не предлагает лечь под неё. Одно из двух: или они надеются на чистую победу «маски», раз не уговаривают Никиту, или «маска» должна по замыслу проиграть Никите.
— Первое маловероятно, — возразил Ефим Николаевич. — Поддубный не любитель переодеваний… Шемякин — не зная броду не сунется в воду…
— Шемякина бы я узнал в любом костюме.
— А больше никого с уверенностью не выпустят против Никиты… «Железный венгр»?..
— Чая Янос? Нет, не выдержит против Никиты.
— Кто же?
— Да‑а… задача. Остальные борцы по комплекции не подходят.
Сказав это, Коверзнев задумался, глубоко заложил руки за спину, прошёлся по комнате. Остановился.
— Пф–пф–пф… Чёрт! Погасла!.. Пф–пф… Всё–таки, я думаю, сильный борец отпадает. Тогда остаётся загадкой… почему не уговаривают Никиту…
— Подождём, что покажет вечер, — сказал Верзилин. — Может быть, и узнаем.
В цирк они пришли ко второму отделению — к борьбе.
Ложи сверкали золотым шитьём мундиров, лысинами, белизной пластронов, драгоценностями дам. Пестрели яркими рубахами мастеровых и платками женщин верхний ярус и галёрка.
И вот появился арбитр. И чем ближе к середине манежа он подходил, тем тише становилось в цирке. Шум схлынул, арбитр поднял руку:
— Уважаемые госпожи и господа! Мне удалось выписать знаменитого чемпиона мира, который будет бороться под красной маской, причём всякий желающий может вытребовать на свой счёт любого чемпиона в противники «маске». За «маску» господин Чинизелли ставит заклад в тысячу рублей, который будет пожертвован в одно из благотворительных учреждений города Санкт — Петербурга в случае поражения знаменитого борца!
В это время, как бы случайно, словно она не знала, что арбитр говорит о ней, — в цирке появилась «маска».
Это был крупный стройный борец, и хотя фигуру его нельзя было рассмотреть, так как её скрадывал свободный мохнатый редингот, в нём угадывалась большая сила.
И несмотря на то что Никита уже десятки раз видел борцовские маски, эта почему–то заставила его вспомнить иллюстрации к книге из верзилинской библиотеки — романе об инквизиции. Почему — он так и не мог понять.
Раскачивающейся походкой «маска» прошла по проходу, застланному малиновым бархатным ковром, и направилась к пустым крайним креслам первого ряда левой стороны. Это были места Чинизелли.
«Маска» пропустила вперёд маленького старичка во фраке и с брильянтовой булавкой и, усевшись в третье кресло, склонила к нему голову. У старичка были острые, глубоко сидящие глаза, а лицо его напоминало печёное яблоко.
— Менеджер, антрепренёр, — объяснил Коверзнев.
— Сарафанникова! Сарафанников пущай борется! — закричал кто–то.
— Вахтурова!
— Стерса!
— Сарафанникова!
— Вахтурова!
— Татуированного подавай!
— Сарафанникова!
Арбитр поднял руку, восстанавливая тишину.
— Господа! — сказал он. — Вызов делать официально! Или у судейского столика, или в кассе! С закладом денег в депозит!.. «Маска» начинает борьбу завтра!
Никита вместе с другими борцами наблюдал за «маской» из–за кулис. Сердце его приятно и в то же время тоскливо заныло — но не из–за этой «маски» (она не произвела на него впечатления), а из–за выкриков публики. И хотя он был популярен не больше Вахтурова, он самолюбиво отметил, что его, Никитино, имя произносится чаще. Впрочем, возможно, будь он на десять лет старше — он этого бы не думал.
Когда шум улёгся, арбитр объявил: — Парад, алле!
Борцы вышли на манеж, и начался обычный церемониал представления, а затем борьба очередных пар.
Перед полицейским часом вся публика партера повалила на конюшню, которая использовалась в антрактах как театральное фойе. Зрителям второго яруса путь сюда был заказан — отделённые барьером, они могли общаться лишь с галёркой. Цирк Чинизелли являлся единственным в России цирком, где привилегированные зрители имели отдельный уличный вход.
«Маска» начала бороться на следующий день. На ней было телесное трико и башмаки такого же цвета; башмаки были украшены фестончиками. В борцовской раздевалке детально обсудили её костюм, и злой и ехидный Мюллер сказал, что если «маска» борется так же, как одевается, то кое–кому придётся протирать ковёр своими лопатками.
Никита понял, что Мюллер намекает на него и на Вахтурова, но ничего не сказал, сделал вид, что не слышал этих слов.
Представляя «маску» публике, арбитр заявил, что этот борец имеет победы над Збышко — Цыганевичем, Заикиным, Гаккеншмидтом, Эберле, Педерсеном, Кохом и ничью с Поддубным. Это звучало внушительно и, видимо, не было ложью: в первый же день на четвёртой минуте «маска» положила сильного Уколова. На следующий день она припечатала к ковру Тимошу Медведева; и тоже ей понадобилось для этого не больше десяти минут. На третий день под «маской» лежал Макдональд… И пошло, и пошло, что ни день, то победа.
Охотников «вытребовать» на свой счёт любого чемпиона в противники «маске» было мало. Вахтуров отказался бороться, сославшись на вывих руки. Корда был положен на сороковой минуте. Оставался один Никита, и когда компания гвардейских офицеров внесла за него необходимые деньги, он вышел на манеж.
Противник не вызывал в нём страха, но сердце всё–таки билось гулко и тревожно. Никита с любопытством оглядел фигуру борца; трико и башмаки его были анемичного салатного цвета, отчего кожа казалась белой, как полотно, и красная маска со шелками для глаз походила на капюшон факельщика из книги о «святой» инквизиции.
Расставив ноги, касаясь своим лбом лба противника, Никита старался схватить его за руки, но тот, видимо, знал о знаменитом Никитином грифе и всякий раз выхватывал свои запястья. Так, в стойке, они проходили минут пять, стараясь поймать друг друга на приём, побывали несколько раз в партере, снова перешли в стойку. Противник оказался гораздо слабее Вахтурова и Корды, и Никита ждал лишь возможности применить один из приёмов, но тот неожиданно захватил правой рукой его голову и, резко повернувшись спиной и наклонившись, оторвал его от ковра и бросил через бедро. Какой–то странной перекаткой Никите удалось уйти от его стальных объятий, но тот всё–таки поймал Никиту у края ковра и навалился на спину. Однако все его попытки оторвать Никиту от земли были неудачны. Они долго напрягались и пыхтели в таком положении, и вдруг Никита вскрикнул от боли… Старый, известный приём — противник перетирал ему уши… Наконец, Никита поймал его за запястье, повернул к земле, прижал под мышку голову и опрокинул через спину, но не смог сломать моста. Они вскочили, тяжело дыша, снова упали и покатились по ковру. В один из таких моментов противник зажал Никите рот и нос, и когда тот последним усилием сбросил его руку, снова стал перетирать уши. Потом они замерли, свернувшись в клубок, испытывая, кто первый потеряет терпение. У Никиты ломило уши, казалось, они были раздроблены, и ныла скула. Но силы ещё не иссякли, и Никита был уверен, что сумеет победить. Надо было только остерегаться, чтобы противник не поймал его на какой–нибудь приём. Один раз Никите удалось его бросить ответным тур–де–ганшем, но борец сделал «скамейку», и Никита подсунул свои руки ему под мышки и сцепил их на затылке, стал ломать ему шею, но тот обманул его, резко опустившись на живот, и вынырнул из его рук. Силы всё ещё были, и Никита боялся одного — вдруг не хватит времени… Немного позже он стал метать «маску» по манежу и оказался явно на верху положения, но раздался звонок, и арбитр засвистел над самым ухом. В пылу борьбы Никита швырнул «маску» резким движением рук через себя, но был остановлен арбитром.
Публика засвистела и затопала ногами, и Никита был очень удивлён, что освистывают не его, а «маску». Оказывается, зрители не могли ей простить того, что она так непочтительно обошлась с их любимцем.
Когда через несколько дней «маска» боролась с Вахтуровым, публика вновь освистала её, и во время борьбы раздавались крики:
— Положи его, Никандр! Вышиби из него дух!
Никита сидел со своими друзьями, и ему было обидно, что маску снимает с этого борца Вахтуров. Все эти дни тело ломило, оно было покрыто массой царапин и кровоподтёков, и особенно болели распухшие уши, но Никита был уверен, что он всё равно положил бы «маску», будь менее самонадеянным в начале схватки. Если бы ему разрешили бороться сейчас, он пошёл бы не задумываясь, несмотря на то, что до сих пор был не в форме.
«Я её измотал, а Никандр положит», — с обидой думал он о Вахтурове и неприязненно смотрел на весёлого Коверзнева. Тот острил напропалую, обращаясь то к Никите, то к своей жене, и рассказывал занятные истории.
Когда Татауров заявил, что нелегко сейчас приходится «маске» в вахтуровских объятиях, и рассказал, как Вахтуров сломал ему ребро, Коверзнев рассмеялся:
— Без ребра жить можно! Ха–ха–ха! Женщины живут же. И не тужат, как будто. А ведь у них на одно ребро меньше. Читал библию? Знаешь, что женщина сотворена из ребра Адама?
Никите показалось странным, что на одно ребро меньше у женщины, тогда как господь–бог вынул ребро у Адама; это у мужчины, значит, должно быть на одно…
В это время Вахтуров поскользнулся, неуклюже, огромный, как медведь, упал боком на ковёр, и «маска» в один прыжок бросилась на него и опрокинула на лопатки.
35
Широкий проход конюшни сразу заполнился нарядной толпой. Но никто сегодня не обращал внимания на холёных, сбрызнутых духами лошадей, не толпился подле аквариумов — все хотели видеть Никиту Сарафанникова — ведь он один сумел выстоять против Красной маски положенные час двадцать минут.
Коверзнев тряс его руку, бил по плечу гвардейских офицеров в чихчирах и с киверами, говорил захлёбываясь:
— Будем требовать вторую схватку… Кто–то должен же снять маску с этого борца…
Все посмотрели в сторону раздевалок — ждали победителя; большинство было уверено, что он уйдёт из цирка, не покажется на глаза публике. Кто–то послал за ним делегацию. Пьяный офицер известной графской фамилии, стройный и бледный, как легендарный Монте — Кристо, привёл в конюшню старика–антрепренёра. Тот смотрел надменно на графа и, только увидев Никиту с Верзилиным и Коверзневым, несколько смутился. Маленькие, глубокопосаженные глазки на его лице, напоминающем печёное яблоко, забегали тревожно. Он нервно теребил пальцами сверкающую огромную булавку на галстуке и силился понять, что ему говорит блестящий гвардейский офицер. Наконец тот догадался перевести свои слова на французский язык, и антрепренёр радостно закивал в такт его словам, ответил, как показалось Коверзневу, не на чистом французском языке:
— Правила не допускают второй схватки.
— Но это формальная сторона дела, — горячился бледный офицер.
Антрепренёр заговорил о чём–то быстро–быстро, и Коверзнев не понял половины его слов.
Во время этого разговора, раздвигая толпу, появилась «маска»; она была в своём нерусском мохнатом пиджаке, и только вместо сорочки с галстуком на ней был шерстяной свитер; левая рука борца висела как плеть.
Антрепренёр сказал «маске» что–то тихо, видимо тоже по–французски, и борец ответил отрывисто:
— Согласен.
Коверзнев впился в него взглядом, стараясь заглянуть в узкие прорези, сделанные в красном трикотаже, плотно обтянувшем голову, но ничего не увидел, кроме настороженных глаз.
«Кто же это всё–таки может быть?» В любом другом цирке Коверзнев добился бы своего, но у Чинизелли умели хранить тайну. Недаром «маска» до сих пор ни разу не бывала в общей раздевалке, ни разу не ходила в ресторан вместе с борцами.
На манеже боролась очередная пара, но из конюшни никто не уходил.
«Маска» смеряла Никиту равнодушным взглядом и что–то сказала антрепренёру, кивнув на висящую руку.
Тот сказал офицеру:
— Имейте только в виду, что в матче с Вахтуровым мы получили вывих. Борьба может состояться только после того, как разрешит врач.
Он дотронулся до вывихнутой руки борца, потом раскланялся во все стороны и, взяв его под локоть, решительно направился к выходу.
— Добьёмся! — сказал уверенно Коверзнев. — Пойдёмте договариваться. У меня есть идея!
Он пригласил всех в ресторан, но Верзилин с Никитой отказались.
— Мы пойдём отдыхать, — объяснил Ефим Николаевич. — У Нины Георгиевны завтра выступление, — и добавил: — Никита тоже не пойдёт — режим.
Коверзнев усмехнулся и, достав трубку, спросил:
— Вы, по крайней мере, Ефим Николаевич, согласны с тем, чтобы сделать вызов «маске» через прессу?
— Вполне.
Коверзнев демонстративно взял под руку нарядную жену и, сопровождаемый офицерами, пошёл вслед за Ниной, Ефимом и Никитой. На углу Невского и Караванной они распрощались.
Но стоило Никите скрыться из глаз, как он отпустил Риту и пошёл один, позади весёлой толпы…
…Через день в газетах появились вызов Никиты Сарафанникова Красной маске и согласие её бороться.
Рита считала, что она должна показаться в цирке с героем дня — Сарафанниковым. Как же иначе может быть, ведь она жена Коверзнева, который, собственно, сделал Сарафанникова борцом. И она заставила Коверзнева ехать с ней в Чухонскую слободу.
Когда они приехали к Верзилину, там уже все были в сборе, и Рита мило поцеловала Нину, ничем не выдавая своей ревности, преувеличенно восхищённо похвалила её тайер и начала разглагольствовать об отличном вкусе цирковых артистов, об их умении держаться.
Коверзнев удивился, увидев в руках у Смурова борцовский саквояж, но не подал и вида.
Заметив незнакомого мужчину, Рита, по своему обыкновению, начала с ним кокетничать.
«Это уж какая–то прирождённая страсть, — подумал брезгливо Коверзнев. — Ей всё равно кто: офицер, борец или кучер, — лишь бы проверить свои чары ещё на одном».
У цирка Смуров пожал Коверзневу руку, поцеловал Никиту, пожелав: «Ни пуха, ни пера», — и смешался с толпой.
Схватка Никиты с «маской», как и предполагали, оказалась захватывающей, и в начале второго часа Никита победил противника, зажав его руку и голову и перекинув через спину.
Под маской скрывался знаменитый чемпион мира — француз Омер де Бульон, победитель Збышки, Заикина, Гаккеншмидта, Педерсена и других.
Держась за распухшие уши, Никита раскланивался, сиял улыбкой. К его ногам служители поставили корзину цветов, передавали записки и подарки. Смяв униформистов, публика бросилась на манеж и подхватила Никиту на руки. Потом, помывшийся, причёсанный на пробор, в новом костюме, он появился в конюшне, и Коверзнев растрогался, увидя, как Верзилин со слезами на глазах поздравляет своего ученика.
Составилась большая компания — чествовать победителя, и Верзилин, добродушно улыбаясь в усы, дал согласие ехать. Однако он не разрешил Никите пить вина, а около часу ночи увёл его домой; с ними ушла и Нина.
Кутили долго, и Рита всё требовала ехать на острова и не хотела слушать, что на улице октябрь. Часа в четыре утра она всё–таки уговорила всех, и граф в корнетских погонах звонил куда–то, чтобы послали лошадей.
Было холодно. Вода сердито плескалась о камни Стрелки. Деревья стояли голые. Было так темно, что нельзя было рассмотреть, что делается в пяти шагах.
Рита всё время порывалась забраться на гранитного льва, и все её уговаривали, чтобы она этого не делала.
Домой приехали под утро, но она всё не хотела распрощаться с графом. Коверзневу, в конце концов, это надоело, и он ушёл спать. Лёжа в постели, он воображал, как корнет обнимает и целует его жену. Он так ярко представил эту картину и так разбередил своё самолюбие, что не выдержал и, взяв одеяло и подушку, ушёл в другую комнату и закрылся на ключ.
Потом пришла Рита и стала стучаться в дверь.
— Нам надо объясниться, — говорила она в замочную скважину. — Не делай вид, что ты ревнуешь. Что это значит?.. Никогда ни слова, а сегодня — изволь радоваться… Валерьян, слышишь? Открой.
— Разбудишь прислугу.
— Не откроешь, так разбужу.
Он не выдержал и открыл дверь. Шагая в одном белье из угла в угол, говорил взволнованно:
— Нет! Я больше так не могу! Ты превращаешь меня в истерика! Я не знаю, до чего ты можешь меня довести! Это ужасно, но мне иногда хочется ударить тебя. Так жить нельзя. Мы должны объясниться. Живи одна. Хочешь, я отдам тебе квартиру и все деньги, какие у меня есть?
— Ну прости, прости, милый. Хочешь, я никуда не буду ходить? Хочешь? Мы будем жить тихо, как отшельники.
Как обычно, всё закончилось откровенными ласками в постели. Но эти ласки не казались ему выражением страсти, а заученными приёмами опытной развратницы.
36
Никита был в зените славы. Получение звания чемпиона мира, почётной ленты и золотой медали было уже простой формальностью. Ещё несколько дней, и всё будет закончено. Последний противник — Алек Корда — не был страшен после Вахтурова и Омера де Бульона.
Памятуя о том, что он всем обязан Верзилину, Никита решил ему сделать дорогой подарок. Выбор его остановился на золотом подстаканнике. Никита решил, что он выгравирует на нём какую–нибудь тёплую надпись и преподнесёт его в тот день, когда получит звание чемпиона мира.
У ювелира произошла странная встреча. Там сидел Корда. Положив свой мощный обтянутый пикейным жилетом живот на стол, он рассматривал какой–то золотой кружок, держа его в вытянутой руке и откинув голову в сдвинутом на затылок цилиндре. На толстом стекле перед ним лежало ещё много кружочков и металлических пластинок.
Увидев Никиту, он закрыл своими лапищами стекло и тяжело засопел.
Ненависть его не была в диковинку Никите, и он, договорившись с ювелиром о подстаканнике, ушёл, не придав значения происшедшему.
В цирк он явился, как обычно, перед десятью часами. Борцы уже надевали свою форму. Одни встретили его радостными приветствиями, другие — молча, третьи — неприязненно.
Заняв два стула, сидел огромный Вахтуров, рядом с ним стоял всегда весёлый Тимоша Медведев, квадратный бельгиец Стерс расправлял перед зеркалом свои усы. Оплывший жиром, с длинными, как у женщины, волосами, Луи Телье раскладывал пасьянс.
Корда, в чёрном трико, увешанный иностранными медалями и жетонами, стоял насупившись. Он потрогал свою волосатую грудь, подошёл к Никите. Сказал:
— Я имею пара слов поговорить к вам.
— О чём? — спросил Никита, ожидая подвоха.
— Мы будем выходить раздевалка. Коридор. Там имею разговор я.
— Не о чем нам с тобой говорить, — сказал с улыбкой Никита. Сказал громко, чтобы слышали все.
— Очшень, очшень важная разговор, — настаивал Корда. И, потянувшись к Никитину уху, прошептал: — Речь идёт о ваша судьба.
— Не пойду, — упрямо отказался Никита.
Тогда Корда властно притянул его шею и прохрипел в ухо:
— Если послезавтра будешь молчать, я даю тебе большой деньги.
Никита оттолкнул его и произнёс громко, сердито:
— Ишь, какой купец нашёлся!
— Не согласишься — плохо будет!
— Не распускай руки, урод! Отойди!
Никита резко толкнул его ладонями.
Ударившись о стену, Корда сжал кулаки и, нагнув голову, пошёл на него.
Несколько человек бросились к чемпиону и оттащили ею в сторону. Он отбросил их от себя, сказал Никите веско, словно ударил молотом:
— Пожалеешь!
И вышел из общей раздевалки в свою.
Никита остался. Тяжело дыша, сказал:
— Мне Омер не предлагал… А этот… толстопузый… Да я его, Якуня — Ваня!
— Ты вот что, Никита, — произнёс Вахтуров, тяжело наклоняясь, зашнуровывая башмак. — Того… осторожнее будь послезавтра… чтоб руку тебе не сломал… Ты везучий, в сорочке родился… однако… в нашем деле всё бывает…
— Да что он, не знает, что ли? — сказал Медведев. — Верзилин уж ему всё обсказал. Но ты это, правда, Никит, держись послезавтра… чтоб там руку или ногу…
— Ишь, как он по–русски–то заговорил, — сказал Уколов. — Всё тихо–мирно около нас, бочком, бочком, а сам всё понимает…
В дверях показалось озабоченное лицо арбитра.
— На манеж! Пошевеливайтесь!
Вахтуров тяжело поднялся со стульев. Неуклюже повернув могучую шею к борцам, сказал:
— Пошли, братва.
В коридоре их догнал Омер де Бульон, без маски, не страшный, не таинственный.
Из боковых дверей вышел Корда, плечом прижал Никиту к стене. Некоторые из борцов обернулись, замедлили шаги. Корда посмотрел на них угрюмо — они ушли.
— Уходи из цирка! — прохрипел он в лицо Никите.
— Да что ты ко мне пристал? Я и других кладу, не только тебя, — тяжело дыша, сказал Никита.
— Уходи! Нет нам вдвоём места здесь!
— Почему?
— Уходи… Не то не сдержу себя — убью… Знаю тебя, праведника… Всё по закону тебе надо, а ты попробовал бы…
Нагнув голову, Корда приближался к Никите, взгляд его был безумен. Никите стало страшно,
— Уйди! — вскрикнул он.
— Знаю! Разболтать всем хочешь!
И вдруг Никита вспомнил ювелирную лавку и блестящие кружочки и понял всё.
— Дура! Так бы и сказал, — обрадованно заговорил он. — Да никому я не скажу. Заказывай себе медали, сколько хошь…
Никитина улыбка окончательно вывела Корду из себя. Приблизившись, он ударил парня в скулу, навалился всей тушей, приговаривая:
— Праведник чёртов… Маменькин сынок… Удачник… Любимец публики…
Никита старался вырваться, объясняя:
— Да не говорил я никому про твои медали. Пусти!
Но Корда не пускал, царапал его в кровь.
Наконец Никита изловчился и ударил его головой в подбородок.
Корда грохнулся, сломав деревянные декорации, подняв тучу пыли.
Сидя, держась за ухо, рычал:
— Лучше бы сказал всем… Все бы поняли — каждый заказывает себе медали… Все грешные… Один ты с пустой грудью… Праведник, а хуже всех. Не хочу от тебя зависеть, сволочь… Ложиться под тебя… Подо всех лягу, а под тебя не буду…
— Тьфу ты! — плюнул Никита на пыльный пол. Отирая со щеки кровь, взволнованно дыша, он подошёл к борцам, толпившимся у занавеса, и на их вопрос: «Что случилось?» — ничего не ответил, только махнул рукой.
Они уже выстроились, когда появился Корда.
— Поправьте причёску, — сказал ему арбитр. — Пошли, пошли!
Всякий раз, выходя на арену, Никита испытывал волнение. Сегодня, выбитый из колеи случившимся, он волновался сильнее обычного.
Он окинул взглядом цирк. Огромные хрустальные люстры освещали его купол, и при желании можно было рассмотреть картинки, на которых был изображён папа теперешнего Чинизелли. Облокотившись на малиновый бархат царской ложи, на борцов смотрела в лорнетку оголённая дама. «Не иначе — княгиня какая–нибудь», — подумал Никита. Он перевёл взгляд на свитскую ложу, задержался на знакомом офицере; пошарил глазами в ложах бельэтажа; и в партере, на обычном месте, отыскал Верзилина. Тот смотрел настороженно. Встретившись взглядом, они оба улыбнулись.
— Первый претендент на звание чемпиона мира, молодой… — объявлял арбитр… — Неоднократный чемпион мира, волжский матрос… Гордость нашего спорта…
Привычные слова скользили по поверхности сознания и не отвлекали от мыслей о Корде.
Борцы разошлись по раздевалкам, чтобы одеться и выйти — посмотреть на борьбу Алёка Корды и Омера де Бульона.
По зову арбитра француз легко выскочил на манеж. А Корда распахнул занавес, медленно, грузно неся свой живот, подошёл к барьеру.
Подождав, когда цирк затихнет, сказал отрывисто:
— Хочу разоблачить Сарафанникова!
Словно взорвалось что–то в цирке: раздался смех, хлопки, улюлюканье.
Корда угрюмо посмотрел на людей.
Арбитр гневно позвал его на манеж.
— Не кричи, — равнодушно сказал ему Корда. Переждал шум.
Какой–то человек во фраке метнулся к Чинизелли, затем подскочил к Корде.
Тот отмахнулся от него, как от мухи:
— Уйди, зараза.
— Ишь, как по–русски шпарит! Вот те и иностран!. — крикнул кто–то с галёрки.
Грянул оркестр.
Корда медленно, с трудом поднял голову на бычьей шее, погрозил кулаком.
Запахло скандалом. Многие из тех, кто ещё пять минут назад боготворил Сарафанникова, кричали:
— Дайте сказать! Шпарь! Чего жалеть их!
Никите было неловко, стыдно. Не за себя, он — честен, его разоблачать не в чем, а за товарищей, за борцов.
Омер де Бульон стоял в центре арены, видимо недоумевая, чего хочет противник.
Арбитр бросился в сторону Корды, вернулся обратно:
— Господа!..
— Молчи! — оборвал его Корда хриплым басом.
Оркестр замолк.
— Но при чём Сарафанников? Вы боретесь с Омер де Бульоном! — сжав виски ладонями, отчаянно крикнул арбитр.
— С Бульоном и бороться не хочу… А Сарафанникова ненавижу. Мальчишка, гордец… Монаха строит из себя, праведника, а хуже всех, сволочь… Удачник, маменькин сынок… воспитанный… Корчит из себя чемпиона, победителя Корды… А я и не Корда — пусть не радуется! Я Евстигней Пантюхин… Я одиннадцать лет назад боролся под именем Маркиза, тоже был удачником… Да избили меня… Я был в сумасшедшем доме… Вот справка…
Он запустил руку под трико, вытащил какие–то бумаги, скомкал их, швырнув зрителям.
Поднялся шум, но снова смолк, когда он начал говорить:
— Смотрите на мои портреты… Я был молодой и не носил усов… и живота этого не было… Изменился, но сила осталась… Я в монастырь ушёл, а оттуда меня один антрепренёр вытащил, и мы с ним по всему югу проехали… И деньги большие огребли… И нас Чинизелли выписал… Он всё знал… И обещал, что все под меня ложиться будут… Про Сарафанникова тогда никто и не знал… А он всех стал побеждать, и я стал не нужен: сборы делал он, а не я… Сначала с ним хотели договориться, но узнали, что он с писателем, а тот всё разоблачает в газетах… книгах. Говорить ничего нельзя — у них компания за правильный спорт… А тогда для сборов стали всем приказывать, чтоб ложились под Сарафанникова… Если не всем, так некоторым… А он не знал и радовался, белоручка… и всегда в форме и весел… и синяков нет, и кровоподтёков… Думает, честный, а сам хуже всех, сволочь… И я не лягу под него…
В это время четверо полицейских налетели на Корду сзади и, скрутив ему руки, повели за кулисы. Он вырывался, хрипел, брызгал слюной.
Арбитр взял брошенные Кордой бумажки, с недоумением рассматривал их. Пожимая плечами, передал их в судейский стол.
Поднятой рукой остановил шум.
— Господа! Действительно, справка из больницы для душевнобольных есть. Видите — он не в своём уме, и верить ни одному его слову нельзя. Он сам признался в этом. Здоровый человек не стал бы выступать против Сарафанникова, выходя для встречи с другим борцом. Конечно, он сумасшедший. А как боролся Сарафанников — вы видели сами, и никто никогда не поверит, чтобы под него надо было ложиться по уговору… — он сделал паузу. — Господа! Чемпион мира Омер де Бульон ждёт себе пару! Господа! Мы предоставляем право любому борцу или желающему из публики сделать ему вызов!
Корда хрипел, порывался вернуться на арену, ловил рукой бархатный занавес. Полицейские падали, висли на нём, утирали расшибленные носы.
37
— Ефим! Это неслыханно! Это позор! Что подумают о нас?! Надо писать опровержение!
Верзилин закусил нижнюю губу — думал.
— Вы правы, Валерьян Павлович, и я рад, что вы вернулись к своим прежним взглядам.
— Да что там вспоминать нашу ссору. Мы жизнь свою на то кладём, чтобы отстоять правду.
Рита смотрела расширенными глазами, переводила взгляд с одного на другого. Удивлённо спросила:
— Это что же? Значит, ты незаслуженно хвалил Никиту?
— Отстань, — отмахнулся от жены Коверзнев.
Он вскочил, дёрнул себя за бант — задыхался. Пошёл, шагая через ноги сидящих, расталкивая тех, кто поднялся.
Никиты в раздевалке не было, видимо ушёл домой. Борцы сидели нахмуренные; кое–кто уже был в пальто. Скандал мог сорвать сборы в цирке, а это значило, что они останутся без денег.
— Ты того, Валерьян Павлович… — сказал старый Луи Телье, глядя на него маленькими глазками. — Никита, конечно, ни при чём… С Бульоном боролся «бур»… и с Кордой тоже… А тут уж так вышло… бесполезно нам сопротивляться… Себя жалели… Конечно, не все из нас и знали об этом… Однако ставка у антрепризы на Никиту была… когда он ещё появился… Новое имя всегда сбор делает…
— Конечно, что мне с Никитой «бур» бороться — он мне рёбра переломает. Медведь! — сказал Аррюкиль. — Мне арбитр приказал ложиться, я и лёг. Мне же легче.
— Себя берегли, — пояснил Тимоша Медведев.
— Цирк есть цирк. Для публики, — вздохнул Телье. — Конечно, мы понимаем твоё желание… чтоб без подделок.
Коверзнев сел на край стола, слушал угрюмо, качал ногой. Полез в карман, достал трубку, закурил.
Картина выяснилась неприглядная. Было обидно до слёз, что его провели, как мальчишку.
Борцы говорили, поглядывая на дверь, боясь арбитра.
— Под Никиту не обидно лечь, а вот когда заставляют…
— О Корде мы вообще не знали. Раздевался в отдельной раздевалке, говорил мало…
— Я Маркиза знал. Ещё в Казани на выставке с ним боролся. Только это не он, по–моему…
— Судьба наша такая… Вот только, чтоб не обидно… Поддубный, Збышко, Никита, конечно… Нам тоже свои рёбра жалко…
— Опять же зрители… Им подавай интерес…
Злость закипела в груди Коверзнева. Но — молчал. Курил. Покачивал ногой.
Выслушав всё, пошёл в участок.
Пришлось дать взятку, чтобы пустили к Корде. Тот встретил его злорадным смехом:
— Что, господин писатель? Промашку дал?
— Дал, — сказал Коверзнев. Так же, как в цирке, он уселся на конторку, качал ногой. Воротник пальто поднят, шляпа надвинута на глаза, в зубах трубка.
— Ну, и как? Больно радостно, что твой Сарафан победил Евстигнея Пантюхина?
— Представь — радостно. Став Пантюхиным, ты Кордину силу не потерял?
— Чего? — растерялся борец.
— Пф–пф–пф. Силу.
— Силу? А‑а… нет.
— Пф–пф.
— Ну?
Коверзнев усмехнулся, не объяснил.
Борец насупился.
Докурив трубку, выбив её о ломаную чугунную пепельницу, Коверзнев спросил:
— Ты мне скажи: зачем ты это сделал? Всё потерял и ничего не выиграл.
Опять волосатые ноздри борца стали раздуваться, шея налилась кровью.
— Сволочи вы все! Чистюли! Честно хотите жить! Ненавижу!
— Дурак, — спокойно сказал Коверзнев.
— Ты!.. — задохнулся борец. — Я тебя… одним пальцем…
Коверзнев спрыгнул со стола и ударил перчатками по красной морде борца…
Статью он написал прямо в редакции. Это для него было парой пустяков. Он писал о том, что в угоду публике совершаются сделки между борцами, антреприза помыкает ими, как рабами, и даже самый солидный цирк Чинизелли, который мог бы гордиться тем, что несколько лет назад провёл первые в России мировые чемпионаты, скатился до подобных инсценировок, пытаясь замешать в это дело настоящих честных борцов — гордость русского спорта.
Когда статья была отправлена в набор, а копии её отданы репортёрам других газет, Коверзнев направился в цирк и попросил доложить господину Чинизелли, что хочет его видеть. Лакей сказал, что «господин директор» приказал его не принимать, а Коверзнев с усмешкой вырвал листок из блокнота и написал, что жалеет об их знакомстве и, как честный человек, не может хранить подарок от обманщика. Он положил записку в золотой портсигар и попросил лакея то и другое передать господину Чинизелли.
Наутро весь Петербург обсуждал статью Коверзнева, а через день в газетах появилось опровержение, в котором была сфотографирована справка, выданная Пантюхину психиатрической лечебницей. «Ясно, — говорилось в опровержении, — что ни одному слову сумасшедшего верить нельзя; господин же Коверзнев попался на удочку, и напрасно он становится в позу защитника Сарафанникова — талантливый молодой борец, выпестованный в нашем чемпионате, в этом не нуждается». Опровержение было подписано группой лучших борцов чемпионата.
Однако опровержение не помогло — цирк перестали посещать.
Прочитав газету, Коверзнев сразу же написал ответ, в котором доказывал, что этим подписям верить нельзя — они поставлены без ведома борцов — и что вообще всё это грубая, ложь и инсинуация. Но редактор не взял у него материал, вежливо сказав, что он считает спор оконченным и больше не намерен к нему возвращаться.
— Да, но… — заикнулся было Коверзнев, но, встретившись с его вежливо–холодным взглядом, всё понял. Тогда он извинился, медленно спрятал листочки в карман, медленно вышел из кабинета, медленно спустился по лестнице. Оглянувшись по сторонам и не заметив никого из знакомых, он бросился к извозчику и приказал:
— Гони!
Но торопился он напрасно — ему отказали и в другой газете. Он поехал в третью — отказали и там. Он побывал в десятке редакций, но ответ везде был стереотипным: «Вопрос считаем законченным и возвращаться к нему не будем».
Под вечер, сидя у своего бывшего приятеля, с которым они когда–то занимались судебной хроникой, он услыхал то, чего не решался сказать ему ни один редактор:
— Тут, видишь ли, оказался замешанным не только Чинизелли… Так что… в общем, понимаешь: своя шкура дороже… Моя газетёнка и так висит на волоске… В долги я залез… Да и возраст не тот, чтобы рисковать…
— Ну извини. Не знал.
Коверзнев встал, поднял воротник пальто, закурил.
— Прощай.
— Не обессудь, Валерьян. Если ничего не получится — приходи. Хронику тебе дам; там подпись не ставится.
Коверзнев молча вышел.
Придя домой, бросился не раздеваясь на кушетку. Рита стояла над ним, приговаривая:
— Я воображала, что ты смелый, а ты трус. Вообще, ты духовный банкрот, опустошённый человек, у тебя нет ничего за душой… Ты эгоист! Ты никого не любишь, кроме себя. Тебе и женщина даже не нужна. Ты не способен на любовь.
«При чём тут женщина? — думал он тоскливо. — При чём любовь?.. Нет, надо кончать… Оставить ей всё, взять себе только на дорогу и уехать куда–нибудь».
Ночью он осторожно подсчитал деньги и удивился, что их осталось так мало. Что же делать? Он долго сидел у стола и курил; комната наполнилась дымом. Очерки печатать не будут. Остаётся книга; она в наборе; под неё он взял очень мало, значит, будет огромный куш…
Утром он поехал в издательство, но директор не смог его принять. Не принял он его и на другой день. Коверзнев упорно ездил к нему целую неделю. Наконец тот пригласил его в кабинет и, стоя, перебирая какие–то бумаги, не отрывая от них глаз, заявил:
— Вот что, дорогой мой. Рукопись придётся почистить. Там всё построено на Верзилине и Сарафанникове, а последние события… понимаешь сам. Когда перепишешь — посмотрим… Аванс можешь не возвращать… А сейчас — всего хорошего, я занят.
Дома Коверзнев сказал Рите:
— У нас осталось мало денег. Придётся их как–то растянуть… до новой книги.
Рита насторожилась:
— А когда выйдет книга?
Коверзнев помялся:
— Видишь ли… определённого срока нет…
— А ты что–нибудь другое не смог бы написать?
Он вздохнул:
— Тут так получилось, что о борцах у меня брать не будут… Отрезал я себе пути… Да ещё портсигар Чинизелли вернул…
— Идиот! — вспыхнула Рита. — А когда ты это делал, думал, что у тебя есть семья?
— Риточка…
— Как это подло: соблазнить девушку, посулить ей горы золота, а потом обмануть… И когда, когда обмануть? Ах, как это похоже на тебя!.. Ведь я, может быть, беременна…
— Ты не врёшь? — спросил он обрадованно.
— Как это глупо — подозревать жену во лжи. Ты думаешь, что только ты один честный, а другие нет, и этой своей честностью ты хуже других… Трубить во всех газетах о том: «Ах, какой я честный», вместо того чтобы пойти на уступки и обеспечить свою семью…
— Риточка, я ведь не знал об этом… Я понимаю, что если это так, то надо приложить все усилия, чтобы у нас были деньги… Тебе нельзя волноваться… Ты успокойся, всё будет в порядке.
Он обошёл всех знакомых издателей, но никто на этот раз не заинтересовался рукописью, и только хозяин одного из спортивных журналов, сутулый старичок с красным личиком, белые бакенбарды на котором казались наклеенными, сказал, что он попробует рискнуть, но для этого надо переждать, когда уляжется шум, поднятый Кордой — Пантюхиным.
Дома Коверзнева ждали два письма. Они были вскрыты и валялись на столе. Стоя у окна, спиной к мужу, Рита сказала:
— Извольте радоваться. Книгу вашу издавать не будут.
Ему хотелось обругать её за то, что она читает его корреспонденцию, но он сдержался. Не раздеваясь, он прошёл к столу и прочитал письма.
В первом говорилось о том, что издательство отказывается от книги, считая издание её невыгодным. Второе было из газеты, в которой он сотрудничал: господина Коверзнева просили зайти по важному делу.
Он осторожно подошёл к Рите и обнял её за плечи, потёрся холодной щекой о её щёку.
— Не горюй, Риточка. Вот зовут зачем–то в газету. Может, что–нибудь и выйдет.
Она всхлипнула, порывисто прижалась к нему, откинув полы его пальто.
— Прости, Валерьян. Ты знаешь мой характер.
Он сдвинул на затылок шляпу, поцеловал жену в мокрые глаза, щёки.
На Невский поехал на трамвае, решил с этого дня экономить. В газете ему предложили отказаться от своей статьи и в опровержении написать, что все факты, сообщённые им, — выдумка; сейчас он разобрался во всём и берёт своё заявление обратно.
— Цирк прогорает. Ваше опровержение будет кстати, оно поднимет сборы.
Коверзнев сидел в кресле в пальто с поднятым воротником, попыхивая трубкой.
— А если я этого не сделаю? — спросил он с усмешкой.
— Так что ж, Валерьян Палыч, на себя пенять будете,
Он докурил трубку, спокойно выбил её о пепельницу, поднялся:
— Я предпочитаю пенять на себя.
Через день в «Вечернем времени» появилась статья, подписанная Сувориным–сыном, Борисом, в которой тот не оставил камня на камне от творений Коверзнева.
Оставался хозяин спортивного журнала. Он был антипатичен Коверзневу — немощный селадон, любитель девочек из кордебалета и скаковых лошадей. Но надо было побороть свою неприязнь, и Коверзнев это сделал и добился договора. В договоре был один необычный пункт: гонорар выплачивается по выходе книги в свет, то есть через год. Коверзнев пошёл и на это.
— Вы потерпите, — сказал старичок. — Зато уж через год так грохнем, что миру станет жарко.
Началось трудное время.
Чтобы растянуть свои средства на возможно больший срок, Коверзнев рассчитал лакея и горничную. Это вызвало у жены истерику. Но, даже зная, что ей сейчас вредно волноваться, он держался стойко. Рита отказалась готовить. Он сам ходил с судком в трактир и брал два рублёвых обеда. Рита или не притрагивалась к пище совсем, или презрительно ковыряла в тарелке вилкой. Она целые дни сейчас валялась в постели, непричёсанная, неумытая.
Через некоторое время Коверзнев отказался от гостиной и лакейской и оставил лишь свою комнату. Продажа лишних вещей дала возможность не заботиться ещё об одном месяце. Иногда ему удавалось сунуть в какую–нибудь дешёвенькую газету репортёрскую заметку, это тоже кое–что давало.
Он решил, что они протянут как–нибудь до гонорара, но хандра у Риты кончилась, и она каждый вечер стала ходить развлекаться, а для этого ей нужны были деньги. Если он уговаривал её не тратиться, ссылаясь на то, что у них будет ребёнок, который потребует расходов, она говорила, что он скряга, эгоист, думает только о себе, но она не намерена замуровывать себя в четырёх стенах, потому что молодость даётся только один раз, а когда состаришься, то никакие наряды и рестораны на ум тебе не пойдут.
А он думал только об одном, что весь этот год денег не будет, а родится ребёнок, как тогда быть? И он отказывал себе в извозчике, в хорошем табаке, в новой книге.
38
Любя Нину самозабвенно, Верзилин в то же время не добивался более интимной близости. Они встречались каждый день, и им радостно было сидеть рука об руку и читать одну книгу или даже просто молчать.
Когда Никиту Сарафанникова прогнали из чемпионата, объяснив это тем, что его имя вызывает у зрителей ненужные воспоминания о Корде, Верзилину пришлось потратить два дня на переговоры с Чинизелли. Переговоры ни к чему не привели, и тогда Верзилин затеял переписку с московским цирком Альберта Саламонского. На всё это ушло несколько дней, и Нина не выдержала и приехала к нему в Чухонскую слободу.
Они встретились так, словно один из них был в длительной поездке.
Нина упрекнула Верзилина, что ради дел он забыл её, но он объяснил ей, что это для него вопрос жизни, ибо сейчас он живёт на деньги Никиты, как летом Никита жил на его.
Они поехали в цирк, и Верзилин снова любовался, как она с братом выбегала на арену и начинала жонглировать разноцветными кольцами. На Нине были красное трико, голубая безрукавка, обшитая золотом и усыпанная шестиконечными звёздами, и красный кушак. Кольца взлетали вверх, под самый купол, и Нина их ловила, а потом ловил Леван, затем они швыряли их друг другу, и нельзя было разобрать, чьи кольца в воздухе и сколько их. Нина поймала все их одной рукой, припечатывая одно к другому, но последнее упало мимо, вкатилось по какой–то металлической трубке, стукнулось о препятствие, раздался выстрел, и из трубки вылетели два русских национальных флага. Развёртывающиеся, они были подхвачены Ниной и Леваном. И артисты, сделав круг по арене, весело раскланялись на все стороны.
Как всегда, Верзилин не стал смотреть остальных номеров, а пошёл за кулисы ждать Нину.
На улице хлестал ливень. Они взяли извозчика. Поднятый верх коляски не спасал их от дождя, и Ефим Николаевич раскрыл зонтик. Нина прикорнула у него под боком, и он осторожно обнял её правой рукой. На выбоинах пролётку подбрасывало, отчего Нина прижималась сильнее, и всякий раз он придерживал её в таком положении на некоторое время. Невский был пустынен; тускло горели витрины магазинов; спрятавшись в подъезд, стоял городовой в клеёнчатом капюшоне; навстречу промчался автомобиль, пассажиров его не было видно из–за чёрных зонтиков; глухо шлёпали подковы по торцовке, неслышно разбрызгивали воду резиновые шипы. В коляске пахло кожей.
— Вы сумасшедший, Ефим, — проговорила Нина. — В такую погоду без перчаток. Дайте вашу руку и немедленно дайте мне зонтик.
Он перехватил её ладонь, прижался губами к маленькому кусочку запястья между перчаткой и рукавом ватерпруфа. Дождь прорвался к ним, ударил струями в их лица.
— Боже мой, какой потоп, — сказала Нина.
Она отобрала у него зонтик и, загораживаясь им от дождя, другой рукой взяла его ладонь, подышала на неё, стараясь согреть, и положила к себе на колени.
— Гадкая, непослушная ладошка, — сказала она шутливо.
— Послушнее этой ладошки нет на всём свете, — возразил улыбающийся Верзилин.
— Замёрзла вся. Мокрая, — продолжала приговаривать Нина, ударяя по ладони своим кулачком.
Верзилин начал осторожно стягивать с кулачка перчатку, отгибая пальцы один за другим; Нина не давалась, тихо смеясь:
— Ещё борец, силач.
— Все силачи бессильны перед женской красотой.
— Льстец, дамский угодник.
— Неправда. Вы знаете, как я отношусь к другим женщинам.
— Не знаю. И знать не хочу. Не признаю других.
Наконец она прекратила сопротивление, и Верзилин нежно разжал пальцы, стянул лайковую перчатку и стал целовать ладонь.
Нина прижалась к нему. Ветер опрокинул зонтик, обдал их дождём. Тогда Верзилин настойчиво отобрал у девушки оправленную в кость рукоятку зонта, и они снова отгородились от всего света чёрным шёлком, упруго натянутым на металлические спицы.
Дома, раздеваясь, опуская мокрый жакет на руки Верзилину, Нина посмотрела на него в зеркало. Он почему–то смутился, отвёл глаза. Вытерев носовым платком усы, он прислонился спиной к печке, водя пальцем по граням кафелей.
Переодевшись в капот, поставив на спиртовку кофейник, Нина подошла к Верзилину, прижалась к его груди. Он осторожно обнял её одной рукой и гладил другой по волосам. Стоял, переполненный счастьем, боясь спугнуть его, слушая, как взволнованно бьётся Нинино сердце.
Было тепло; дождь ударял в стекло, ветер скрипел за окном какой–то проволокой; скреблась мышь; монотонно шипела спиртовка; её фиолетовое пламя не рассеивало мрака; свет из соседней комнаты падал узкой полоской в приоткрытую дверь.
Нина подняла блестящие глаза, и Верзилин в полусумраке разглядел в них всё: и счастье, и мольбу, и ожидание.
Он наклонился и поцеловал их — горячие, прикрытые мохнатыми ресницами. Она протянула ему губы. Они были податливы и трепетали. Сердце билось в груди Ефима, словно хотело вырваться. Он поднял Нину на руки.
— Погоди, — шепнула она, пряча глаза, выскальзывая из его рук, — я закрою дверь.
Всё остальное было безумием.
Потом оно кончилось, и они лежали в объятиях друг друга неподвижно, боясь неосторожным движением нарушить очарование этой минуты.
Так они лежали долго, и Ефим начал беспокоиться, что скоро вернётся Леван.
— Мне пора уходить?
— Нет.
— А Леван?
— Он не придёт сегодня.
— Почему?
— Он у Терезы. Они решили пожениться.
— Мы должны их опередить.
— Мы сегодня поженились.
— Нет, по–настоящему.
— Что же может быть более настоящим?
— Церковь. И всё, что там положено.
— Это ничего не изменит.
— Правда.
— Мы с сегодняшнего дня муж и жена.
— Да.
— Ты рад?
— Я счастлив.
— Скажи ещё раз. Это так приятно слышать.
— Я счастлив, счастлив, счастлив.
— Скажи: я люблю Нину.
— Меня не надо учить говорить это. Я повторяю это день и ночь.
— Скажи сейчас.
— Я люблю Нину. Я люблю Нину. Так никто не любит, как я люблю Нину.
— У тебя такой красивый голос, когда ты говоришь это.
— Я люблю Нину…
Потом, когда Ефим уже уснул, она долго лежала усталая, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить любимого. Улыбалась в темноту, думала: какое это счастье — встретить предназначенного тебе человека. Она до сих пор, по существу, была одинока. Росла без родительской ласки, детство прошло в Тифлисе у злой бабки, родители взяли её к себе поздно и никогда не пытались с ней сблизиться. Нина видела их редко, и даже тогда, когда мать стала обучать её своей профессии укротительницы, у них не было общего языка. Девочка росла замкнутой, а ранние выступления в цирке с дрессированными львами сделали её не по годам взрослой. Вместе с осторожностью они выработали в ней гордость и неприязнь к толпе, ради которой она почти каждый вечер рисковала своей жизнью. Замкнутость и надменность отталкивали от неё окружающих мужчин, которые не привыкли тратить много усилий ради привычного мимолётного флирта. Кроме того, они были недалеки, самонадеянны и неумны, а за их внешней изысканной вежливостью были лишь грубость и равнодушие. Ефим оказался первым человеком, которого интересовало не её красивое тело, а душа. Он смотрел на неё преданными и восхищёнными глазами, был почтителен и нежен, едва осмеливался. взять её под руку или поцеловать ладонь. Дерзкий силач, от одного имени которого трепетали «геркулесы» и «пещерные звери», Ефим в её присутствии вёл себя как неопытный гимназист. В те редкие минуты, когда девушка оставалась с ним наедине, она чувствовала, как оттаивает её застывшее сердце. Нине было с ним хорошо — остального она ещё не знала; страсть была ей ещё не понятна. Потом произошло то страшное, от чего и сейчас её бросало в дрожь. Убийцы в крылатках, зловонная вода Мойки, горячка, чужой город, где она, придя в себя, узнала, что Ефим мёртв, трагическая гибель отца — всё это сломило девушку. Она уже не жила, она — существовала. Она механически жонглировала, механически садилась за обеденный стол, механически обсуждала с портнихой фасон нового костюма. Если бы брат не следил за ней, она бы бросила всё. По как Леван ни старался — не мог же он, в конце концов, жить за неё. И вот в это время вездесущий Коверзнев сообщил, что Ефим жив. Потрясение от известия было так велико, что Нина разрыдалась в истерике. Плача и смеясь, она требовала сейчас же ехать в Чухонскую слободу. Ефима не оказалось дома, но сейчас это уже не имело значения: огромное спокойствие охватило Нину. И всё началось сначала. Ефим был по–прежнему кроток и внимателен, а она чувствовала себя его старшей сестрой. Они не стремились к большей близости, и лишь гулкие удары в висках, когда он нечаянно касался её груди, заставляли девушку смотреть в его глаза напряжённо и ожидающе. И, может быть, потому, что они поднимались к своей любви от ступеньки к ступеньке, а не бросились навстречу разгоравшейся страсти, Нина сейчас испытывала всепоглощающее счастье.
39
Коверзнев обивал пороги редакций, доказывал, что печётся не о себе — отстаивает будущее спортивной борьбы в России. Он везде и всюду писал, что коммерсанты типа Чинизелли развращают спорт и это аукнется через много лет. В одной из статей он назвал Чинизелли «растлевателем борьбы».
В газетах по–прежнему вежливо, но упорно отказывали. Издатели, ранее рвавшие у него материал из рук и платившие тройной гонорар, предпочитали печатать бездарные брошюры о «волжском крючнике» и «человеке с мускулами льва». Имя Коверзнева в борцовских обзорах обливалось грязью.
Он возвращался домой усталый и голодный, равнодушный ко всему. Садился на стул, тяжело облокачивался на колени. Снег обваливался с полей шляпы, таял на ковре. Если Рита была дома, она ругалась. Он сидел, не слушал — думал о своём.
Впрочем, дома она бывала редко. Приходила под вечер, раскрасневшаяся от мороза, красивая, со вкусом одетая. Обычно приносила какую–нибудь новую вещь — статуэтку балерины, модное бра. Коверзнев осторожно напоминал, что денег у них мало, их надо растянуть ещё, по крайней мере, на полгода, а то, с грудным ребёнком на руках, они окажутся у разбитого корыта.
Она останавливалась посреди комнаты, надменно смотрела на него через плечо, говорила, что не для того выходила замуж, чтобы отказывать себе во всём.
Глядя на то, как она пытается обставить комнату, Коверзнев думал: «Уж не надеется ли она в самом деле на то, что я уйду и оставлю ей квартиру? Но как же ребёнок?»
«Если бы не ребёнок, я бы ушёл». Коверзневу казалось, что он уже ненавидит своего будущего сына, как ненавидит жену. Но чувство долга не позволяло ему бросить Риту в таком положении.
Она меняла дневной туалет на вечерний и отправлялась развлекаться. Внешне, видимо, ничего не изменилось. Она осталась такой же красивой, платья она не продала. А о рассчитанной прислуге и потерянных комнатах, наверное, никто и не предполагал. Значит, она не потеряла своего места в свете, а муж, если и не показывался с ней, так, видимо, только потому, что был занят работой над новой книгой.
Она уходила, а Коверзнев сидел в тоске, курил, читал. За это время он узнал много новых книг — сочинения Гольбаха, Ламетри, Мелье. Развалившись в кресле, окутавшись дымом, он думал о бренности всего земного.
Однажды ночью Рита возвратилась домой пьяная и, не найдя на комоде каких–то денег, заявила, что их взял муж, чтобы купить своего дурацкого табаку.
— Сутенёр! Кот! — выкрикивала она истерически. — Ты живёшь на мои деньги!.. Банкрот!.. Мне не для того посылает их мачеха, чтобы ты их тратил на свой «Сльд–юдж»… Ты довёл меня до того, что мне и возвращаться домой не хочется. Дождёшься, что как–нибудь не приду.
И действительно, на другую ночь она не пришла. А вместо неё в дверь протиснулся усач в шинели с фельдфебельскими погонами, с изъеденным оспинками лицом. За ним — пожилой, с пепельной щетиной на щеках ротмистр. А вслед ввалились жандармы в шинелях коробами, полицейский чин, околоточный надзиратель, двое понятых.
Комната сразу стала тесной, запахло ваксой, мокрыми шинелями и махоркой.
В одном из понятых Коверзнев узнал соседа, который занял бывшую лакейскую, — старика–немца, коммивояжёра фирмы «Зингер». Он прятался за спины, видно, стеснялся.
Фельдфебель выдвинул из–за стола стул. Ротмистр грузно опустился на него, оглядел комнату, позвал пальцем адъютанта. Тот положил перед ним большой плоский портфель, щёлкнул замком.
Не глядя на Коверзнева, ротмистр спросил без выражения:
— Коверзнев?
— Да, — ответил Коверзнев, недоумевая, что бы это могло значить.
— Журналист–писатель?
— Да.
Фельдфебель, наклонившись, подвинул ротмистру пачку рукописей, вырезок, бумажных обрывков с заготовками для будущей книги.
Играя темляком, позванивая шпорой, ротмистр откинулся на спинку стула, взял в руки исписанный листок, отставил далеко от глаз.
— Н‑да, — сказал непонятно.
Жандармы брали книги с полок, раскрывали их, трясли за корешки, швыряли на пол. Одна из книг разлетелась по листочкам, жандарм наступил на них мокрым сапогом.
Чувствуя, как кровь приливает к вискам, Коверзнев сказал, с трудом сдерживая гнев:
— Поосторожнее. Это — книга, продукт человеческого ума.
— Что‑о? — удивлённо спросил ротмистр. — «Человеческого ума»? Ха–ха–ха! Насмешил! — и вдруг неожиданно рявкнул: — Молчать!
— Вы не кричите, — сказал Коверзнев. — Я вам не подчинённый.
Он старался говорить спокойно, но голос его дрожал.
— Тихо! — приказал ротмистр равнодушным тоном и, навалившись грудью на стол, стал читать рукопись. Не отрывая от неё взгляда, достал пеньковый портсигар, сунул в рот папиросу, вытянул в сторону губы. Фельдфебель подскочил, дал огня.
Выпустив клуб дыма, ротмистр сказал:
— Вот вы тут совершенно справедливо пишете, что император Пётр Великий обладал огромной силой, и рисуете обаятельный, мужественный и, я бы сказал, человечный его образ… А вот здесь, дальше, подчёркиваете ту мысль, что в Римской империи патрицианки любили рабов–гладиаторов, и, больше того, пишете, что рабам ставили памятники за одну силу, прощая им, так сказать, борьбу против империи… Это что же получается? Можно понять так, что вы возвеличиваете бунтарей, которым всё прощается только за то, что они удачно выступают на арене? Так можно понять? А?
— Тут же ясно проводится мысль, — сказал, успокаиваясь, Коверзнев, — народ восхищается силой, будь то император Пётр Великий или Васька Буслаев… Император Коммод или раб Спартак.
— Нет, вы уж насчёт Спартака мне бросьте! — возразил ротмистр. — Возвеличивать римского Емельку Пугачёва я не позволю! Не позволю‑с! Поняли? И подрывать устои государства! Проводить параллели! Помним, что Рим погубили рабы. И чтобы Россию погубили рабы?.. Вы к этому призываете? Так‑с?
— Я далёк от политики. Ни в одной из моих статей нет призыва к свержению власти. Я как раз за то, чтобы спорт, например, отвлекал народ от… пьянства, что ли… от всяких увлечений политикой… что спорт — это вообще отвлекающий стимул…
Он сел на край ломберного стола. Потом подумал, что это невежливо, но всё–таки не встал, ибо это походило бы на трусость. Закурил трубку, жадно затянулся.
Ротмистр покосился на него, но ничего не сказал. Докурив папиросу, швырнул её на пол.
Коверзнев сказал жандарму, роющемуся в книгах:
— Не видите, что поднять надо, ковёр можно прожечь.
— Подними, Семёнов.
Потом сгрёб в беспорядке все бумаги в портфель, рассыпал часть из них, многие смял. Кивнул фельдфебелю:
— Сложить.
Глядя на Коверзнева, сказал:
— Вот вы говорите, что не касаетесь политики, а клевета на систему русского спорта, например, или выпады против хозяина цирка… или против редактора газеты, поддерживающего наш строй?.. А? Как это понять? Как это понять, я спрашиваю? Что? Одевайтесь. У нас ещё будет время обо всём поговорить.
Коверзнев надел пальто, нахлобучил шляпу, закурил.
В это время в дверях появилась Рита. Щёки её пылали, золотистая чёлка была припудрена инеем, снежинки, как карнавальные звёздочки, лежали на горжете. Она остановилась в нерешительности, взглянула на обнажённое дерево кровати, на порванную, выпустившую из себя пух подушку, на разбросанные книги. Прошипела в лицо мужу:
— Достукался?
— Всё в порядке, Риточка, — сказал Коверзнев. — Я чист, как агнец. Я вернусь, не беспокойся.
— Жена? — спросил ротмистр.
— Да.
Фельдфебель дописывал протокол.
Коверзнев подписал его, хотел поцеловать жену, но она закрылась в страхе руками. Тогда он поднял воротник пальто и решительно шагнул к двери.
На всю жизнь он запомнил эту позу жены: заломленные руки, вытянутая шея, полные ужаса глаза.
Идя по пустой улице, прислушиваясь к звону шпор, жалел её. В самом деле, жизнь жестока: наградив Риту красотой, она не дала ей счастья, связала с нелюбимым человеком, неудачником…
Оттого что бичевал себя, было легче.
Лёжа на грубом колючем одеяле, глядя на кусочек света, от которого он был сейчас отгорожен решёткой, Коверзнев думал о несправедливости жизни, о непостоянстве счастья.
Подвальная, убогая, пропахшая креозотом камера заставила его вспомнить о знаменитом «Рижском музее», о тех пытках, которые там применялись; какую шумиху подняли газеты, когда царское правительство объяснило, что орудия пыток в камере Рижского сыскного отделения находятся с музейной целью… Да, легко было писать такое в девятьсот пятом году… А сейчас ни одна из газет не согласится поместить даже разоблачение Чинизелли, не то что карикатуру на государя… Может, прав Тимофей Смуров, ратующий за революцию? В самом деле, в какой стране мы живём? Приходят ночью жандармы, уводят ни в чём не повинного человека, и никто не смеет пикнуть… Мыслимо ли такое в другой стране?
Так шёл день за днём.
Коверзнева больше не беспокоили. Кормили трактирным обедом, приносили читать Евангелие.
На шестнадцатый день здоровенный вахмистр угрюмо сказал;
— Вытряхивайтесь.
Жандарм подтолкнул узника к выходу во двор, ввёл в приземистый каменный дом.
За огромным письменным столом сидел знакомый ротмистр; пепельная щетина его была сбрита, но от этого он не казался моложе; у него был сизый нос и мешки под глазами. За спиной его возвышался портрет Николая II во весь рост, в форме полковника Преображенского полка.
Сцепив напоминающие сосиски пальцы в замок, ротмистр ссутулился, наклонился навстречу Коверзневу и, дождавшись, когда тот сядет, спросил осторожно:
— Ну‑с?
От яркого света кружилась голова; в кабинете пахло табаком — страшно захотелось курить.
— Что вы имеете в виду? — сухо спросил Коверзнев, глядя на его этишкет, свесившийся из–под погона.
— Выводы, которые подсказал вам отдых.
Ротмистр откинулся на высокую резную спинку кресла.
«Словно в раме… как Николай», — подумал Коверзнев. А тот, побарабанив толстыми пальцами по подлокотникам, сказал:
— Кого вы скрывали у борца Верзилина?
— У Верзилина?
— Да. У него. Большевика, перешедшего шведскую границу и преследуемого нашими агентами?
Ротмистр потянулся к маленькому столику, взял длинный ящик с карточками, достал одну из них, прочитал:
— «Выдаваемый за борца Лопатина, каковой в это время, как показывают данные, боролся в киевском «Гиппо–паласе», он жил в Чухонской слободе у борца Верзилина…»
Коверзнев пожал плечами:
— У Верзилина живёт борец Сарафанников. Очень часто бывает второй его ученик — Татуированный. Заглядывают иногда потренироваться и другие…
— В том числе и Лопатин?
— Не помню.
— А не помните, когда вы рассказывали анекдот, в котором высмеивалась особа государя императора? В ресторане «Вена», в обществе борцов и так называемый «золотой молодёжи»? А?
— Я вообще люблю исторические анекдоты. Может, и рассказывал что–нибудь из эпохи… Ивана Грозного.
— А не помните, — перегнулся через стол ротмистр, — как нынешним летом вы на Выборгской стороне встали на сторону бунтовщиков и выступили против конных полицейских?..
— Нет.
Ротмистр громко хлопнул ладонью по столу:
— Всё!.. Хватит! В наших руках десятки фактов… За которые можно послать вас куда Макар телят не гоняет!..
Он резко отодвинул кресло, встал. Начал ходить по комнате. Потом снова сел, подтолкнул портсигар Коверзневу, сказал брюзгливо:
— Курите… Нервы всё… Работа такая… С вами, с глупыми, возишься, вас же оберегаешь, чтоб не споткнулись, а вы, как мальчишки, пистолетами размахиваете, маратами себя воображаете…
Коверзнев закурил с жадностью; за несколько затяжек выкурил всю папиросу. Снова закружилась голова. Взял вторую.
— Вот видите, как по табаку стосковались… Разве нельзя не бунтовать?.. Сидели бы себе, пописывали, «Мартель» потягивали да «Ольд–юдж» покуривали.
«Всё знает, — равнодушно подумал Коверзнев, — даже какой табак курю». А ротмистр, словно прочитав его мысль, небрежно выхватил из ящичка десяток карточек и, машинально раскладывая их веером, говорил:
— Мне известны ваши взгляды… Вы за конституционную монархию, за культурное воспитание народа нашего, за экономическое улучшение его положения, за просвещение… И как же вы, человек с такими взглядами, прячете большевика, рассказываете анекдоты, подрывающие самодержавие? Беспринципность, — снова повысил он голос. — Беспринципность! — повторил он. — Вы беспринципны, как плебей! Во всём! — выкрикнул он, стукнув ладонью по столу. — Во всём… Расписываете Корду как английского чемпиона, чтобы повысить акции Сарафанникова, а потом разоблачаете того же самого Корду, а вместе с ним и господина Чинизелли. К чему? Чтобы вызвать недовольство у народа? Всё равно против кого, лишь бы против хозяев. Так?
У Коверзнева кружилась голова, он не мог понять, чего от него хотят, причём тут Чинизелли, Корда, если речь идёт о Тимофее Смурове? Он понимал, что кто–то на него донёс, но понимал также, что, если Смуров на свободе, ничего доказать нельзя. Снова хотелось курить, но жандарм убрал папиросы, а трубку отобрали ещё в первый день. Хотелось на свободу, на снежную улицу, домой, за письменный стол, заваленный сувенирами и рукописями. Он вспомнил Риту, вспомнил, что она убрала со стола безделушки, а рукописи унёс жандарм, от этого волна злости прилила к груди:
— Как это подло, хватать ни в чём не повинного человека! Ворваться к нему ночью…
— Молчать! — хлопнул ротмистр рукой по столу, вскакивая. Он вышел в соседнюю комнату. Вернувшись, ткнул пальцем в кнопку звонка, кивнул на Коверзнева вошедшему нижнему чину.
Коверзнева подхватили под руки, провели через заснеженный двор, втолкнули в карцер. Без причины, ни с того ни с сего, жандарм ударил его в лицо зажатой в руке связкой ключей. Коверзнев отлетел к стене, скользкой, противной, оттолкнулся от неё, получил ещё удар, потом его топтали, и он потерял сознание.
40
Почувствовав, что он один, Ефим повернулся в постели, откинул свежую простыню. Сквозь полусомкнутые ресницы следил за Ниной. Стройная, белая, словно высеченная скульптором–эллином из мрамора, она стояла перед зеркалом и причёсывалась. Глядя в цирке на её волосы, гладко уложенные на пробор и собранные сзади в тугие кольца косы, невозможно было бы догадаться, что они так густы.
Она откидывала голову в такт движениям руки, и волосы чёрной волной ложились на спину.
— Ты не спишь?
— Нет.
— Спи. Ещё рано. Я ещё не готовила завтрак.
Около месяца продолжалось это блаженство. Ефим потянулся, повернулся на другой бок, снова заснул. Ему приснилась широкая, без конца и края, степь, расплавленный шар солнца, опускающийся за ковыли, и два всадника на быстрых конях; всадники мчались в закат, и ветер свистел у них в ушах, и сердце замирало от скорости, и восторг распирал грудь, и Ефим со стороны увидел, что всадники — это он и Нина…
— Я видел чудесный сон, — сказал он, проснувшись. — Кто это говорит, что цветные сны видят только в детстве?
— Наука, мой милый.
— Я опровергаю науку.
— Как же ты можешь опровергать, когда ты видишь цветной сон законно, — ты же малыш.
— Тогда усыпи своего малыша, он досмотрит сон.
— Ш–ш–ш… Ш–ш–ш… Ш–ш–ш…
Он снова закрыл глаза. И снова ему приснилась Нина. Они стояли на поляне, и в лучах солнца сверкал прозрачный ключ, и берега его были голубы от незабудок; к живой воде родника припал трогательный мягонький козлёночек; ястреб–стервятник делал круги над ним — всё ниже, ниже, и когда он падал камнем, сердце у Ефима тоже упало, и жалость, и страх сдавили ему горло, но Нина спокойно подняла лук, и сверкающая золотом, трепещущая тетива неотвратимо послала оперённую стрелу в чёрного стервятника, а Нина поцеловала Ефима в губы, и радость и спокойствие вернулись к нему.
Не раскрывая глаз, он поймал Нинину шею и ответил на поцелуй.
Она выскользнула из его рук и, счастливо смеясь, напомнила:
— А кто–то сегодня мне хотел наколоть дров?
— Разве уже поздно?
— Слава богу. Ты спал, как спящая красавица.
Он вскочил и, как обычно, сказал:
— Уйди, пожалуйста, в ту комнату — я буду делать зарядку.
Зарядка и обтирание как рукой снимали с него желание понежиться в постели. С огромной вязанкой дров он взбегал на четвёртый этаж, вызывая восхищение дворника и пугая жильцов.
— Послушай сердце, — говорил он с гордостью Нине после нескольких рейсов.
Она прикладывала ухо к его груди:
— Механизм. Мотор… Ты это хотел услышать от меня?
— Это.
— Безотказная машина.
— Эх, если бы к этой машине да здоровую руку…
Нина вытерла ладони о фартук, подошла к нему, прижавшись, заглянула в глаза:
— Что? Опять плохо?
— Колол дрова, понимаешь… и опять отказала… Ударов десять великолепно… Я не вспоминал о ней, и… вдруг опять… вырвался топор, и она как плеть…
— Может быть, тебе вернуться к чемодану с галькой? — осторожно посоветовала Нина.
— Боюсь, что бесполезно.
— А ты попробуй. Ты всё из–за меня забросил. Никита–то носит не за тебя. Как говорят англичане: на скачках скачет всяк сам за себя.
— Ладно, попробую.
— И потом, врачу надо показаться… Тому самому, который лечил тебя.
Он улыбнулся печально, покачал головой:
— Боюсь, Ниночка, что с карьерой борца для меня теперь навсегда покончено.
Женщина снова заглянула в его глаза, нежно погладила больную руку.
— Не горюй. Всё, что надо, ты передал Никите… Как писал Коверзнев в «Бенефисе»: ты снова родился в Никите.
Верзилин усмехнулся:
— Это не совсем то, когда сам мечтаешь стать чемпионом мира.
Продолжая нежно гладить его, она проговорила:
— Я бы хотела, чтобы ты выслушал меня. Видишь ли… Леван женится на Терезе, и она, вероятно, будет работать с ним в паре. Правда, он этого не говорит… Но так всегда бывает: муж работает с женой… И не попробовать ли нам тогда с тобой сделать какой–нибудь свой номер?
— Подбрасывать в воздух мячики? — горько спросил Верзилин, отстраняясь от Нины и с упрёком глядя на неё. Но, увидев в её глазах тоску, сказал горячо: — Прости, прости меня! Я жалкий себялюбец.
Она опустила глаза.
А он, чувствуя, как сердце его разрывается от её молчания, пристыдил себя:
«Ты лжёшь, если говоришь, что так любишь её! Она была укротительницей, а ей пришлось жонглировать мячиками».
— Прости меня.
— За что? Я понимаю твою боль лучше, чем кто–либо… Иногда жизнь ломает нас… и мы делаем то, что нам кажется, немножко позорным… А потом привыкаем к этому, — она нарочито беззаботно тряхнула небрежно заколотыми волосами. — Но я тебе хотела предложить не мячики. А почему бы, например, нам с тобой не сделаться дрессировщиками? Это бы импонировало твоей солидной фигуре.
— Первый в России дрессировщик зайцев — Ефим Верзилин? — решил он всё свести к шутке.
— Не обязательно.
— Или ещё лучше: белых мышей.
— А если медведей?
— О! Это уже мужественно.
— Вот видишь.
— Или…
Он хотел сказать: «Или львов», но вовремя спохватился и произнёс:
— Или слонов.
Видимо, поняв, что он может заговорить о львах, она поторопилась закончить разговор.
— Ты всё–таки подумай об этом, — сказала она.
Верзилин видел, что она заботится не о себе, а о нём, и от этого его сердце переполнялось благодарностью.
Он вообще с восхищением отмечал эту её черту — заботиться о других.
Как–то ночью, проснувшись оттого, что оказался один, он был невольным свидетелем знаменательного разговора. Было темно; свет из соседней комнаты падал узким лучом в замочную скважину; звучали приглушённые голоса. Кутаясь в прохладную чистую простыню, Верзилин подумал, что, видимо, вернулся Леван и Нина открывала ему дверь. В последние дни Леван приходил в середине ночи. Сначала Верзилин не мог разобрать их слов. Потом, вслушиваясь, различил Нинины слова:
— Может быть, настало время вам пожениться?
— Она этого от меня не требует, — отвечал Леван. — Нэт?
— Видишь ли, не каждая девушка об этом скажет. А для многих из нас это бывает очень важно.
— Это условности.
— Это для тебя условности. Ты — мужчина. Тебя никто не осудит за это. А в неё любой может бросить камень.
— Поторопишься, свяжешь жизнь. Ей же будет неприятно. Нэт?
— Поторопились и связали вы себя раньше. Сейчас пора думать о другом…
Засыпая, Верзилин решил: «Надо завтра договориться насчёт венчания».
Наутро, помогая ей чистить картошку, он спросил осторожно:
— Во время поста свадьбы играть не разрешают?
— Нет, — подтвердила она равнодушно, нарезая на дощечке кубики овощей. — А что?
— Да просто подумал, когда нам удобнее всё оформить.
— Не понимаю, что это тебя так занимает? Мы и так с тобой муж и жена… друг перед другом. Это больше, чем перед людьми и… богом.
— Не кощунствуй, — сказал он шутливо.
— Ну не сердись, — она потянулась к нему и поцеловала в щёку. — Когда захочешь, тогда и сыграем свадьбу. А сейчас очисти–ка лучше мне три луковицы. От них чернеют пальцы, что мне совершенно противопоказано.
После молчания, под завывание огня в плите, она сказала:
— Давай устроим свадьбу так, чтобы всем было радостно на ней. Весёлую, с огнями, с фейерверком, с подарками. — И помолчав, добавила: — Только для этого надо много денег, а у меня сейчас нет.
Верзилин вздохнул:
— Мы с Никитой безработные… Если будет какой–нибудь зимний чемпионат, пойдём туда. Деньги будут.
— Я не для того совсем и сказала.
— Я знаю. Однако раньше ты все деньги тратила на себя.
— И не была счастливее.
Пропустив её слова мимо ушей, он сказал:
— Весной мы съездим с Никитой в провинцию и привезём целое состояние.
— Ты же не хотел возвращаться к борьбе, а хотел подумать насчёт дрессировки?
— А для этого тоже будут нужны деньги.
— Ефим, — вскинула она на него глаза. — Это ты серьёзно?
— Да.
— А может, можно не ездить? Может, мы пока бы прожили на мои деньги? Да и. в конце концов можно не устраивать пышной свадьбы.
— Ну хорошо, хорошо. Там посмотрим, — сказал он, немножко раздражаясь.
«Для полноты счастья мне не хватает денег, — подумал он. И тут же упрекнул себя: — Я говорю: «для полноты»? Какая чушь!.. Сейчас я счастлив, как никогда. Однако как бы хорошо иметь много денег, чтобы каждый день делать Нине подарки».
Для того чтобы не быть обузой для Нины, он продал часть ненужных вещей и деньги отдал ей. Ему казалось этого мало, потому он и не сдержался сейчас.
— Сейчас вынести очистки — и вы свободны, — прервала его мысли Нина. — И марш домой. Нечего тут мешаться.
Он раскладывал свою коллекцию папиросных коробок, когда Нина вошла в комнату с женой Коверзнева.
Глядя на осунувшееся лицо Риты, Верзилин понял: «Что–то случилось».
— Коверзнева арестовали, — сказала убитым голосом Нина.
— За что? — воскликнул Верзилин.
Рита опустилась на диван, нервно сбросила горжетку и, поглаживая злую, оскалившуюся морду зверька, заговорила:
— Пришли. Ночью. Наследили. Порвали книги. Выпустили из подушек пух. Ах, я ничего не знаю! — заломила она руки. — Я не могу так. У меня тоже нервы. И у каждого человека есть своя мечта… Помогите мне.
Опустив голову, Нина сказала:
— Что же это, Ефим? Надо хлопотать. Узнать — за что, в чём его обвиняют?
Уткнувшись лицом в коленки, Рита заплакала. Нина дала ей воды, стёрла носовым платком слёзы с её лица, села рядом, обняла за плечи, приговаривая:
— Не плачьте. Мы всё сделаем, что сможем… У нас есть знакомства… Да и у Валерьяна было много друзей… Даже в жандармском управлении… Верьте, всё будет хорошо.
— Загубить жизнь… — прервала та Нину. — И в таком возрасте… Мне ведь всего двадцать пять, и я ничего–ничего ещё не испытала… Не добилась….
Боявшийся женских слёз Верзилин встал, зашагал из угла в угол.
«Валерьян… За что? Неужели из–за того, что встал на дороге у Чинизелли?.. В чём его могут обвинить?.. Нет, конечно, все нити держит одна рука».
В жандармском управлении ничего не сказали, даже не приняли передачу. Все, кто был близок к этому учреждению, на вопрос Верзилина пожимали плечами. И лишь через неделю знакомый товарищ прокурора объяснил по секрету:
— Видимо, рядом с ним есть осведомитель. Он рассказал о каких–то мелочах, но ни одну из них доказать невозможно. Инкриминировать ему ничего нельзя, и поэтому его, очевидно, скоро выпустят. А вообще это дело путаное, и просто боюсь, что его кто–то хотел убрать с дороги или запугать…
С этой новостью Нина и Ефим направились к Рите, но её квартира оказалась заперта на ключ, и сосед–немец, узнав их, сказал, что хозяйка уехала и оставила ему ключ для Коверзнева…
— Если он вернётся, — неуверенно добавил старик.
— Может, оставим записку? — предложила Ефиму Нина.
Они вошли в комнату, и их глазам представился полный развал: Ритиных вещей не было.
Нина взяла с письменного стола незапечатанный конверт, достала письмо и прочитала:
«Милый Валерьян, я больше не могу. Прости за всё плохое. Я ухожу от тебя — видимо, такова воля провидения. Мне тоже хочется жить — красиво и интересно. Твоя капризная Рита».
— Какая мерзость, — сказала Нина, брезгливо бросая письмо. — Ты не читай. Это не для мужчины. Она — ушла и всё… Давай приберём. Не может же он возвратиться в такую комнату.
Когда всё было закончено, Нина села к столу и написала:
«Валерьян! Мы с Ефимом уверены в том, что ты ни в чём не виновен и тебя скоро освободят. Помни о своих друзьях и зайди сразу же к нам. Нина и Ефим».
41
Заросший щетиной, со струпьями на теле, лежал Коверзнев в камере. Приказание идти в баню и к парикмахеру выслушал недоверчиво. Позже спросил:
— Уж не выпускают ли?
— Это нам неизвестно, — угрюмо ответил брадобрей, водя бритвой по туго натянутому ремню.
На улице падали крупные хлопья снега; капало с крыши; прыгали весёлые воробьи; на втором этаже духовой оркестр играл вальс «На сопках Маньчжурии».
Пока шли через двор, Коверзнев ртом ловил снег.
Ротмистр, видимо, куда–то спешил. Не садясь, засовывая какие–то папки в портфель, не глядя на заключённого, сказал:
— Распишитесь в получении своих бумаг. Вот здесь. Так, хорошо… Ознакомился я с вашей рукописью детально… Направление правильное… Мы вместе с вами не должны допустить того, чтобы… культурная борьба переросла в политическую… А посему советую прекратить всякие выпады против господина Чинизелли и обивать пороги редакций… с разоблачениями в руках… А пока вам придётся дать подписку о невыезде из Петербурга… Хорошо… Так… Ну, вот и всё… Извините, но ещё разик вас придётся как–нибудь побеспокоить…
И несколькими минутами позже Коверзнев шагал по улице. Всё было как прежде, и никому не было заботы, что над ним издевались, лишали его свободы, держали в мрачном карцере. Так же катили по Невскому экипажи; проехал гвардейский офицер в бобрах, держа между колен саблю, рысак его неслышно выбрасывал стройные ноги — плыл над улицей; грузно прополз трамвай, на застывших его стёклах пассажиры протёрли дырки–и в одну из них, приложив варежку к губам, выглядывала красавица под расписным платочком; обочь панели прошёл барин с доберман–пинчером на сворке; пробежала компания весёлых гимназисток; девица с накрашенным лицом равнодушно скользнула по Коверзневу взглядом… На память ему пришёл Блок, и Коверзнев прочитал горько: «И никому заботы нет, что людям дал, что ты дала мне; лишь люди на могильном камне напишут прозвище — поэт». Подумал: «Действительно, никого — никого нет у меня, и лишь будущим сыном мы связаны с Ритой, и что бы ни было между нами, — должны любить друг друга и прощать друг другу всё… Любить в унижениях, горестях, в бедности… Ради сына».
Он представил, как Рита встретит его, но он будет нежен и терпелив и заслужит её прощение. Он будет из кожи вон лезть, чтобы восстановить потерянное.
Коверзнев пошарил в карманах, но они были пусты — не было денег ни на трамвай, ни на папиросы. Впрочем, и пешком было неплохо пройтись — посмотреть город, — только ноги дрожали под коленками и немножко кружилась голова. На Покровской площади он прислонился к столбу и отдохнул. К его башмакам, рядом с урной, упала наполовину не докуренная папироса — бросивший её студент прошёл не обернувшись, и Коверзнев подобрал её, оторвал половину бумажного мундштука и жадно затянулся. Только докурив, догадался, что сделал это не думая, механически. Но и эта мысль была встречена им равнодушно.
Дверь квартиры оказалась закрытой; чтобы рассеять огорчение, он доказывал себе: «Чудак, а откуда она знала, что ты вернёшься именно в это время?»
Он пошарил по полке — ключа не было. Постучал к соседу–немцу. Тот радостно встретил его, но смутился. Коверзнев не нашёл в этом ничего удивительного: три недели назад старику пришлось быть понятым.
Комната поразила его строгостью. Это была не его комната. Коверзнев остановился у дверей; не снял ни пальто, ни шляпы, ни галош… Раньше комната была уютной, мебель стояла в ней в беспорядке, на столах лежали его сувениры и зачастую слой пыли покрывал их; потом, при Рите, появились салфеточки и занавесочки, а сувениры исчезли, и вещи стояли в геометрическом порядке. Сейчас было чисто и необжито. Он прошёл к столу. Прочитал Ритину записку, равнодушно положил её на стол. В душе его не шевельнулось ничего. Пошлыми словами записка рассказывала ему о чьей–то чужой судьбе; это его не касалось. Он разделся, поискал трубку, но вспомнил, что её отобрали в жандармском управлении, и достал ящик с папиросами. Закурил.
Он долго сидел так. Потом взгляд его случайно остановился на другой записке, и он так же равнодушно взял её.
Но вдруг слова расплылись, превратились в пятно, пелена застлала глаза, и он заплакал. Плакал навзрыд, так, что сотрясались его плечи, плакал о попранном человеческом достоинстве, униженной правде.
Коверзнев нашёл старьёвщика, продал ему груду ненужных вещей, в цветочном магазине на Садовой купил букет свежих цветов и на извозчике подкатил к Нининому дому.
Он был тронут её искренним участием и, чтобы не портить ей настроения, представлял всё в иронических тонах. Она прибирала в комнатах, и Коверзнев ходил за ней по пятам, боясь спросить о Верзилине. Но в спальне он увидел подтяжки, и по тому, что они висели на спинке стула вместе с Нининой ночной кофтой, понял всё. И две смятые подушки на двуспальной постели помогли ему дорисовать картину.
«Так вот откуда в её глазах счастье, — усмехнулся он. — А ты — то, чудак, думал, что она рада твоему приходу».
Чтобы не показаться неблагодарным, он решил посидеть немного, но боязнь столкновения с Верзилиным всё–таки заставила его уйти.
«Конечно, нет никому заботы до твоих переживаний», — подумал он, простившись с Ниной. На лестнице он горько рассмеялся, чем испугал какую–то девицу.
Дома вытащил Рабиндраната Тагора, Конфуция, Лукреция Кара, Фридриха Ницше, Шопенгауэра, подвинул к кушетке фанерный ящик с папиросами и улёгся.
Комната пропахла табаком, пыль вскоре покрыла все вещи, в углах появились тенёта, но какое дело было Коверзневу до всего этого?
Он перестал бриться; как–то написав на пыльном зеркале Нинины инициалы, он стёр их, и на него глянуло серое заросшее лицо, с ввалившимися, лихорадочно блестевшими глазами; Коверзнев поглядел на своего двойника и, встретившись с его любопытным взглядом, вздохнул и отошёл.
Обед он брал в трактире; иногда ограничивался одной колбасой, а другой раз у него во рту не бывало ничего, кроме хлеба.
Зато на столах и в шкафах у него всё больше и больше появлялось книг, они заполняли углы. Продав какую–нибудь вещь, он шёл на Александровский рынок и зарывался в подвалы букинистов.
Он любил читать о великих людях, и сам иногда воображал себя одним из них. Он рисовал себе картину, как выпустит через полгода книгу и прогремит на всю Россию, его наградят каким–нибудь самым важным орденом, и сам царь пожмёт его руку, а ему наплевать будет на это рукопожатие — он сильнее и популярнее царя…
Иногда он представлял себя знаменитым писателем — что перед ним Куприн! — он пишет блестящие романы о мужественных людях; он пытался представить своих героев, и они рисовались ему не в образе Сарафанникова, Верзилина, Поддубного, Вахтурова, а напоминали героев из драм Анатолия Амфитеатрова и из стихов Николая Гумилёва… Закинув руки за шею, глядя в опутанный тенётами потолок, читал: «Старый бродяга в Аддис — Абебе, покоривший многие племена, прислал ко мне чёрного копьеносца с приветом, составленным из моих стихов. Человек среди толпы народа, застреливший императорского посла, подошёл пожать мне руку — поблагодарить за мои стихи…» Потом он решил, что будет писать воспоминания — он знал Врубеля, бывал у Рериха, Безака — столько интересных людей!.. Мысль его почему–то перешла на Иоанна Кронштадтского, на Евно Азефа, Георгия Гапона, Распутина; он собрал все вырезки о них в одну папку, стал рыться в старых журналах. Под руку попали репродукции с картин «мироискусников» — решил коллекционировать их.
Он читал день и ночь, иногда сутками не выходя из дому; от голода и усталости он чувствовал себя разбитым. В таком состоянии он метался от одной крайности к другой: то считал себя бездарностью и неудачником, то приступ малодушия сменялся подъёмом, и он видел уже в своих руках книгу, которая принесёт ему славу.
Вдруг он решил, что за книгу надо бороться, и лихорадочное желание деятельности заставило его вытащить единственную непроданную фрачную пару и побриться. Он оставил остренькую бородку, которая удивительно шла ему, и, надев фрак, вдруг убедился, что стал похож на тех героев, о которых мечтал последнее время.
Спортивный издатель–старикашка с белыми баками на розовом лице–встретил его так, словно ничего не случилось; впрочем, может быть, он и в самом деле не знал, что Коверзнев отсидел в жандармском управлении около месяца. Он охотно выдал Коверзневу пятьсот рублей в счёт аванса, и тот закатился в «Вену» и заказал все свои любимые блюда; он не смог съесть и половины принесённого, и пьяный не столько от вина, сколько от сытости, откинулся на спинку стула и закурил.
В таком состоянии и увидела его Рита; было за полночь, и она приехала в ресторан с компанией офицеров, решивших покутить, видимо, после театра. Она была поражена его фраком и интеллигентной бородкой, поцеловала при всех и уехала с ним ночевать.
Он пожалел, что вновь потерял свободу, но мысль о ребёнке — о его будущем, о его цели жизни — заставила Коверзнева быть с ней нежным и внимательным. На другой день в его комнату снова перекочевали все её безделушки и вышитые тряпочки, и вскоре всё пошло по–прежнему.
Однако, привыкнув к новому образу жизни, он сейчас решительно отказался изменить его, и она не смогла уже вышвырнуть его книги и сувениры. Это приводило к ссорам, но он теперь уже не обращал на них внимания и лежал целыми днями на кушетке, обложившись пожелтевшими фолиантами, и курил.
Как–то, глядя на тонкую талию жены, он осторожно спросил её о ребёнке, но она рассмеялась и ответила, что мужчины глупы и ничего не понимают в таких делах.
Пятьсот рублей, полученные под книгу, начали уплывать сквозь пальцы, и Коверзнев опять напомнил ей об экономии. Рита сделала надменное лицо и обругала его скупым рыцарем и нытиком.
Отныне мысль о том, что им не на что будет покупать для малюсенького сына молоко, опять не давала ему покоя.
В сочельник они были у Леонида Арнольдовича Безака.
Как всегда, там было всё оригинально. Хозяин решил сделать «золотую ёлку», все игрушки были на ней из сусального золота, свечи были жёлтые, и китайские фонарики, свешивающиеся с потолка, были тоже только жёлтые и золотые. Гости говорили о Шаляпине, о триумфе дягилевской оперы в Париже и о том, что Гришка Распутин умеет заговаривать кровь венценосному наследнику.
Толстый художник с волосами до плеч по этому поводу прошамкал набитым ртом:
— У меня в детстве нянька в таких случаях говорила: «Встань на камень — кровь не канет, встань на железо — кровь не полезет».
Дряхлый университетский профессор пропищал фальцетом:
— И вот конокрад с интеллектом вашей крепостной няньки правит нами.
Их перебил хозяин:
— В этом доме о политике не говорят.
Все вокруг шумели, спорили, смеялись, а Коверзнев думал о том, что стоит кончиться у них деньгам, как им откажут от дома… Время идёт, и такой день неумолимо приближается.
В середине рождества Коверзнева вызвали в жандармское управление. Ротмистр спросил его, не надумал ли он чего–нибудь им сообщить, предупредил его, чтобы он ни во что не вмешивался, выдал оставшиеся листки рукописей и трубку и на прощанье напомнил, что с него взята подписка о невыезде.
Ничего не шевельнулось в душе Коверзнева.
А вернувшись домой, он обнаружил исчезновение Ритиных вещей и примерно такую же, как в тот раз, записку. Он бросил её на стол и вдруг на обороте увидел постскриптум, в котором Рита сообщала, что у неё не будет ребёнка и что она поняла, что он терпел её лишь из–за будущего сына, а раз его не будет, то им нет смысла жить вместе.
У него словно свалилась гора с плеч, и он снова погрузился в книги. Его интересовало всё — и происхождение моногамного брака, и сражение при Ватерлоо, и биография Феофана Грека.
В букинистической лавке ему случайно попался первый том «Истории Рима» Теодора Моммзена на немецком языке, и Коверзнев в течение двух месяцев прочитал его весь, начиная от описания япигского племени и кончая битвой при Пидне.
В университете он изучал французский, и поэтому ему сейчас пришлось вооружиться словарём. Сначала он часто заглядывал в словарь, затем всё реже и реже, а со временем даже смог разговаривать по–немецки со своим соседом–коммивояжёром фирмы «Зингер».
Он по–прежнему жил впроголодь. Как–то, оставшись без денег, он попросил было взаймы у Леонида Арнольдовича Безака, но тот ему отказал и вообще принял его сухо — видимо, узнал о том, что Коверзнев сидел в жандармском управлении.
Коверзнев отнёсся к этому равнодушно, только подумал: «Го — мо гомини — люпус эст» — человек человеку — волк.
42
Никита Сарафанников остался один: Верзилин почти совсем перебрался к Нине, Коверзнев и Татауров перестали приходить.
Из чемпионата пришлось уйти.
Никита подумывал уже о том — не уехать ли ему в Вятку, но Ефим Николаевич отговорил, резонно заметив, что зимнего цирка там нет.
Сразу появилось много свободного времени. Потренировавшись, сделав обтирание, он садился за стол и клал перед собой книгу. Он ещё раз перечитал рассказы о героях Эллады и «Русских борцов» В. П. Коверзнева, а потом взялся за энциклопедию, изданную товариществом «Просвещение». Под вечер у него болела голова от всех этих «Агыштанов», «Адажио» и «Адай–ханов», но вдруг среди ночи ему вспоминалась цветная картинка, изображающая нелепого гигантского кенгуру, и наутро он снова садился за энциклопедию.
Чтобы не потерять формы, он занимался с верзилинским чучелом, по–прежнему считал, что одной зарядки мало, поднимал штанги, гири и бульдоги и даже колол дрова. У хозяйки это уже не вызывало удивления — она привыкла к этому за прошедший год.
Охотно соглашался колоть дрова у соседей. Другому бы за это предложили деньги, но Никита в их глазах был знаменитым чемпионом и состоятельным человеком.
Однако деньги, заработанные в цирке Чинизелли, причём деньги большие, — уплывали. Не одну сотню Никита послал своему дяде в Вятку, накупил себе ненужных брелоков и золотое кольцо, над которым смеялся Коверзнев, завёл кое–что из одежды. Недёшево достался и массивный золотой подстаканник. Подстаканник, между прочим, был уроком того, как нельзя торопиться. Во–первых, в надежде на большие деньги Никита выбросил на него изрядную сумму, и, во–вторых, он заказал на нём такую надпись, из–за которой сейчас сгорал со стыда. Надо же было додуматься: «Учителю Ефиму Николаевичу Верзилину от чемпиона мира»! Его прогнали из чемпионата, он не получил ожидаемых денег и, конечно, не получил звания чемпиона мира.
С подстаканником и расстался Никита в первую очередь, когда у него вышли деньги.
В пище он себе не отказывал, памятуя о словах Верзилина: «Доктор Краевский говорил Гаккеншмидту: жрите, если не хотите быть мусорщиком или фонарщиком». Ни мусорщиком, ни фонарщиком Никита не хотел быть и заставлял хозяйку из пяти фунтов мяса готовить ему тарелку бульона и целую гору кровавого ростбифа.
Прожив подстаканник, он начал продавать запонки и брелоки. Время от времени он давал денег Верзилину, — видел, что тот потихоньку от Никиты тоже кое–что продаёт.
Чтобы не прогореть окончательно, Никита как–то пошёл в порт и работал целый день на разгрузке. Это дало хорошие деньги и, главное, убедило Никиту в том, что не настолько уж он популярен, если никто в порту его не узнал… А Коверзнев–то расписывал ему бог знает что… И вдруг Никита вспомнил слова Тимофея Смурова: «Не ищи славы у буржуев, ищи у народа». Он горько усмехнулся: в самом деле, не велика же была у него слава, если его знала лишь сотня–другая расфуфыренных дам да гвардейских офицеров… А вот про его земляка Гришу Кощеева говорили другое: будто бы стоило ему появиться на улице или на ярмарке, как все узнавали его и старались пожать руку. Никита вспомнил, что в Вятке у него было много искренних друзей. Да, в конце концов, что вспоминать Вятку — и здесь, в Чухонской слободе, его любят… Он шёл в порт сейчас без стыда, не боясь, что его узнает какой–нибудь знатный поклонник, и проще держался с грузчиками. Работая с ними, он пел новую песню:
Дал гроши нам за работу,
Чтоб работали до поту…
Ты живи и наслаждайся,
Трудом нашим похваляйся…
Эх, дубинушка, ухнем!
По хозяину бухнем!
Утирая пот, любовался грузчиками.
Работал он в эту зиму и на электростанции — грузил уголь и дрова.
Усталость его после тяжёлой работы была приятной, и он чувствовал сам, что становится ещё сильнее.
Он работал сейчас только ради того, чтобы прокормить себя. Но зато и любил же поесть! Хозяйка просто диву давалась, как это всё в него входит.
Костюмы его сейчас не интересовали, обстановка — тоже, над тем, что некоторые люди покупают книги, он даже и не задумывался. Да и к чему ему было задумываться, если к его услугам была целая энциклопедия — двадцать один толстенный том?!
Под вечер он садился за стол и читал всё подряд, начиная с «аа», что по–датски значит «вода», с египетской царицы 18‑й династии — Аа — Готеп и турецкого государственного деятеля Аали–паши. Потом он вдруг как–то подумал о том, что всю энциклопедию ему всё равно не осилить и стоит ли себя насиловать, читая по порядку. Он брал первый попавшийся том и, листая его, останавливался на какой–нибудь занятной картинке и читал объяснение. Сколько интересных вещей он узнал за эту зиму! Он и не представлял раньше, что мир так огромен и разнообразен…
Никита по–прежнему не знал римских цифр, не знал, руками или ложкой едят торт и снимают ли со стульев чехлы, прежде чем сесть, но зато он мог рассказать о путешественнике Колумбе, реке Амазонке и лошади Пржевальского.
Была у Никиты и ещё одна радость — его вырезки. Он завёл сафьяновый альбом и наклеил в него все отчёты о чемпионате и газетные заметки; журналы со знаменитыми очерками Валерьяна Павловича он хранил отдельно.
Как–то он пошёл к Коверзневу, но не застал его; не было дома и его жены. Сосед подозрительно посмотрел на Никиту и сказал:
— Господин Коверзнев уехал в дальний путь.
Никита извинился и ушёл.
Позже на его вопрос Верзилин ответил:
— Арестовали нашего Валерьяна…
— За что? — удивился Никита.
— За то, что он честный человек.
Никита подумал и спросил:
— А ему ничем нельзя помочь?
— Чем?
— Ну, деньгами, может быть… Я бы продать всё мог…
Верзилин улыбнулся горько:
— Нет, это не поможет.
— Хлопотать, может быть?..
— Да мы уж хлопотали… Такие хлопоты бесполезны, ни к чему не приводят… Тут, наверное, могут всё изменить лишь хлопоты Тимофея Смурова.
Не всё было понятно в этом намёке, но Никита спросил всё–таки:
— А он хлопочет?
— О‑о! Вовсю… Он из тех людей, которые не жалеют жизни ради этих хлопот.
Никита понял, о чём говорит Ефим Николаевич, и подумал, что именно такие хлопоты не признавал Коверзнев. «А ведь Смуров–то был прав: он о всех заботился, в том числе и о Коверзневе».
Видя, что Никита задумался, Нина сказала:
— Ты не горюй. Выпустят нашего Валерьяна Павловича.
Она была рада Никитиному приходу и угощала его чаем с сухариками.
Судя по всему, Ефим Николаевич с Ниной были счастливы. «Если бы мне пришлось выбирать себе жену, я выбрал бы себе такую же, как Нина», — думал он, сидя у них на свадьбе и гордясь тем, что, кроме него, они никого не позвали.
Он ходил по комнатам и рассматривал фотографии и афиши. «Такая женщина должна быть смелой, как мужчина. Положишь голову в пасть льву, а он зевнёт — и вместо человека — мёртвое тело. Я бы и то не решился. Это потруднее, чем бороться с Вахтуровым».
— Ты почаще заходи к нам, — пригласила его Нина, когда он уходил домой.
Он пообещал заглядывать. В трамвае всё время думал о Нине. Потом его мысли перескочили на Коверзнева, припомнился его спор со Смуровым. Смуров сказал тогда Никите: «Сломают руку — прощай цирк». Сейчас у него и рука целая, а с цирком пришлось распроститься.
Дома хозяйка сказала:
— Вечером заходила какая–то курсистка. Спрашивала тебя и оставила книги.
Никита развернул газету и по обложке «Спартак» понял, что это посылка от Смурова. Значит, не только Никита помнил его — и Тимофей Степанович думал о парне. В свёртке ещё были «Овод», «Андрей Кожухов» и «Записки Лоренцо Бенони».
Сев за стол, Никита положил перед собой «Спартака» и углубился в чтение. Пафос борьбы заразил его с первых же страниц, и он читал до утра. С трудом заставил себя сделать зарядку и обтирание и снова принялся за книгу. На работу он не ходил до тех пор, пока не перевернул последнюю страницу. Поработав несколько дней, он взялся за «Записки Лоренцо Бенони»; эта книга понравилась ему меньше, но зато от «Овода» он не мог оторваться. Он плакал вместе с Джеммой Болла в эпилоге, и этих слёз не было стыдно. Потом долго стоял у окна, повторяя двустишие: «Живу ли я, умру ли я — я пташка всё ж счастливая». Ему казалось, что именно сейчас должна появиться смуровская посланница. Но она не шла. Никита рисовал в голове её образ, и она всё время казалась ему похожей на Нину Джимухадзе. Он представлял, как будет сидеть с ней у стола и читать книгу; когда она привыкнет к нему, она распустит косу и разрешит ему погладить её волосы… Потом она останется у него, и они пойдут… Впрочем, если она приятельница Смурова, то к священнику она не пойдёт. Дойдя до этих рассуждений, он смутился. В самом деле, почему она будет читать с ним книги, как Нина с Верзилиным? Он обругал себя за эти мечты и решил больше не думать о девушке. Однако ночью видел сон: девушка, напоминающая Нину, мыла над тазом волосы, и солнце падало в окно и освещало её крепкие загорелые плечи… Проснувшись, он вспомнил сон и сообразил, что видел не Нину, а Дусю, жену Макара Феофилактыча, — действительно, летом она так же мыла волосы, а Никита лежал и равнодушно смотрел на неё в открытую дверь; тогда это совсем не волновало…
Он прочитал «Андрея Кожухова», а девушка всё не шла. Он придумывал для неё разные оправдания, и все они сводились к тому, что её арестовали жандармы, как они арестовали Коверзнева. От этого девушку было жалко до слёз, и было обидно, что он не знает даже её имени.
Хотелось поделиться с кем–нибудь своими опасениями, и он пошёл к Ефиму с Ниной, но о девушке умолчал и рассказал лишь о прочитанных книгах.
Верзилин похвалил его, но предупредил:
— Ты смотри, с этими книжками осторожнее. Во всяком случае, не афишируй их…
Нина дала Никите несколько небольших книжек Максима Горького, и он прочитал их дома все. В них рассказывалось о Никитиных друзьях — о бесшабашных и бескорыстных парнях, и вдруг Никита с удивлением подумал, что они тоже, оказывается, герои.
43
Чем меньше оставалось вещей в квартире Коверзнева, тем больше у него появлялось книг. Они стояли на стеллажах из неструганых досок, лежали вдоль стен, возвышались целыми горами в углах.
Он читал с одинаковым интересом и «Критику чистого разума» Иммануила Канта, и исторические романы графа Салиаса, и записки русского сыщика Ивана Путилина. И, как всегда, его память удерживала вычитанные анекдоты, имена и даты. Закончив одну книгу, он брался за вторую, и пыль ещё не успевала покрыть их, как он уже раскрывал третью. Понравившиеся куски врезались ему в память дословно, некоторые места он выписывал в клеёнчатую тетрадь.
Ему по–прежнему нравилось читать о великих людях, и букинисты Александровского рынка об этом знали и частенько приберегали для него редкую книгу. Монографию о Наполеоне на французском языке Коверзнев прочитал с особым интересом. Он стал вспоминать судьбы великих людей и примерять к ним свою жизнь. Оказывается, многие из них прошли тяжёлый жизненный путь. Это укрепило веру в свои силы и опять развило в нём горячую жажду деятельности. Он написал ядовитую статью, в которой не пожалел и себя, ярко описав все мытарства, через которые ему пришлось пройти. Статью, конечно, не напечатали, и, видимо, как ответ на неё, он получил анонимку, в которой говорилось, что если он не прекратит свои нападки, то ему придётся в этом раскаяться. Он равнодушно встретил эту угрозу и даже пошутил:
— «Ежели кто получит безымянное письмо или пасквиль, — проскандировал он, глядя, как пламя охватывает бумагу, — то, не распространяя оного, или уничтожает, или же отсылает в местную полицию для сыскания сочинителя, а буде таковой найден не будет, то объявляется за бесчестного, пасквиль же предаётся сожжению через палача».
Эту цитату он вычитал как–то в Своде законов и хотел прочитать Верзилину. Теперь она пригодилась самому.
Однажды он совсем остался без денег. Он продал на барахолке своё последнее пальто и взамен его тут же приобрёл по дешёвке какую–то хламиду. То ли потому, что он долго переодевался на морозе, то ли потому, что его организм уже был подорван голодом, — он простудился и слёг. Сосед–немец застал его в жару, вызвал врача и купил лекарства. Придя в себя, Коверзнев восполнил его расходы, а на остальные деньги велел купить ситника и колбасы; но есть не хотелось, и он снова впал в забытьё.
Так лежал он целыми днями; не было сил затопить печку, проветрить комнату… И лишь по вечерам заходил сосед и, кряхтя, приносил дров; становилось тепло, от горячего бульона кружилась голова, Коверзнев медленно потягивал клюквенный морс и слушал старика; они давно уже договорились беседовать только по–немецки, а это было великолепной школой языка для Коверзнева.
Кризис кончился, Коверзнев стал бодрее, у него появился аппетит. Он попросил соседа позвать букиниста, и когда тот пришёл, продал ему мешок приключенческой литературы и фантастики. На эти деньги он ещё жил некоторое время, но кончились и они.
Коверзнев выздоравливал, сосед стал заглядывать к нему реже, и он опять лежал сутками один в нетопленной комнате, голодный.
В один из таких дней на имя Коверзнева пришёл денежный перевод на сто рублей. На бланке не было штампа ни редакции, ни издательства — перевод был от частного лица. Коверзнев долго ломал голову, пытаясь определить имя благодетеля, и наконец решил, что это жена. Потом ему вспомнилось, как сосед рас — спрашивал его об адресе Нины. Он всё понял и горько, как в детстве, заплакал. Плакал до тех пор, пока не уснул.
Наутро он почувствовал себя почти здоровым и долго ходил по комнате, получая болезненное удовольствие от того, что слегка кружилась голова.
Через несколько дней Коверзнев получил приглашение из редакции, в которой оставил последнюю статью. В хламиде идти туда было нельзя, и он хотел было купить пальто, но оно стоило слишком дорого, и он пожалел денег. Пальто он взял у соседа. Перед зеркалом критически оглядел себя, остался доволен; особенно ему нравилась его острая бородка.
Редактор его сразу же принял.
Сбросив пальто, поправив бант, Коверзнев вошёл в кабинет. В глубоком кресле подле стола сидел высокий чёрный мужчина. Он был косым на левый глаз и походил на иезуита в костюме английского лорда.
— Знакомьтесь, — сказал редактор, вставая.
— Коверзнев.
— Джан — Темиров.
Это имя не вызвало у Коверзнева никаких ассоциаций, а такое знакомство позволяло думать, что они играют на равных, иначе его бы просто–напросто не представили.
Коверзнев разлёгся в кресле, вытянул ноги. Закурил трубку.
Редактор принял это как должное и бесстрастно сообщил:
— Мкртич Ованесович занимается цитрусовыми, чаем, вином и табаком…
Коверзнев слушал невозмутимо.
— Мкртич Ованесович решил вложить часть капитала во… французскую борьбу…
— Пф–пф–пф, — выпустил Коверзнев клуб дыма.
— В цирк… Я рекомендовал ему вашу фигуру в качестве организатора и арбитра.
— Не пойду, — небрежно ответил Коверзнев, глядя не на редактора, а на Джан — Темирова.
— Я ожидал такого ответа, — с лёгким армянским акцентом сказал тот. — Он меня вполне устраивает…
— Пф–пф–пф.
— …устраивает… Вы не хотите размениваться на мелочи. Отлично. Арбитров сейчас полная Россия. У меня будет совершенно другое дело. Я строю цирк. Ничто сейчас не даёт такого дохода, как французская борьба. Цирк строится специально для борьбы…
Его слова были прерваны телефонным звонком.
Джан — Темиров поднялся и взял Коверзнева под руку.
— Не будем мешать.
Когда одевались, окинул взглядом коверзневское пальто. У подъезда его ждала собственная коляска. Он приказал кучеру следовать за ними, держа Коверзнева под локоть, повёл по Невскому.
— Я человек дела, поэтому сразу перехожу к делу. Мне рекомендовали вас вчера как человека умного, упорного, эрудированного и мужественного. Не веря никому на слово, я перечитал все ваши произведения и убедился, что никто в России не знает профессиональную борьбу так, как знаете её вы. Я коммерсант, а не меценат. Поэтому от цирка я жду доходов, доходов и доходов. Я не буду вмешиваться ни на йоту в ваши дела — выдавайте мне только доход. Комбинируйте как угодно, выписывайте Поддубного и Готча, заставляйте чемпионов протирать лопатками наш новый ковёр — это зрителям нравится, надевайте на парней какие угодно маски, сделайте так, чтобы небу стало жарко, затмите Чинизелли, Маршана, Саламонского, Петрова и «дядю Ваню». У вас есть авторитет среди борцов и публики. Вы спортивный Дон — Кихот, и вам будут верить. За это вы получите такие деньги, каких не получает «дядя Ваня». У меня всё подсчитано и взвешено. Я вам буду платить в три раза больше, чем Маршан платит «дяде Ване». Обещаю сразу же издать вашу книгу — я её читал; тираж утроим, получите в пять раз больше, чем вам обещали. Кроме того, вы будете редактором журнала о французской борьбе — будете получать за редакторство и печататься на его страницах.
— Я согласен, — неожиданно для себя сказал Коверзнев.
Джан — Темиров остановился, посмотрел на карманные часы:
— Завтра в двенадцать подпишете контракт и получите деньги… К завтрашнему дню придумайте хлёсткое название для журнала. Сегодня двадцать первое марта — в середине апреля должен выйти его первый номер. Цирк откроется пятнадцатого мая. В течение месяца журнал должен поднять такую возню вокруг предстоящего чемпионата, чтобы ни один петербуржец не остался к нему равнодушен.
— Это мне нравится! — воскликнул Коверзнев.
Глядя одним глазом в небо, другим на Коверзнева, Джан — Темиров сказал:
— Борьба — зрелище народное. Мы исправим ошибку ведущих цирков и построим свой в рабочем районе, за Нарвскими воротами. Для чистой публики будут ложи. Сейчас я уезжаю — тороплюсь: пришёл вагон апельсинов. Завтра в двенадцать.
Он занёс ногу на подножку коляски, задумался. Потом произнёс:
— Да. Я слышал, с вас взяли подписку о невыезде и… всякие такие вещи… Когда начнёте по–настоящему работать — всё это будет ликвидировано.
По–демократически пожал руку. Минутой позже его коляска скрылась за горбом Аничкова моста.
Всё это произошло так быстро, что Коверзнев не мог опомниться.
Усмехнувшись, упрекнул себя за поспешность. Но в тот же момент попытался успокоить себя: ведь, конечно же, его идеи о честной борьбе не что иное, как никому не нужное донкихотство. Не надо забывать, что речь идёт о борьбе профессионалов, которые, по существу, являются теми же артистами, а не о борьбе спортсменов–любителей. Чемпионат — это труппа, и чтобы публика не скучала, надо труппу хорошо подобрать. Как и во всякой труппе, в ней должно быть строгое распределение ролей. Не им заведёна классификация борцов на «чемпионов», «гладиаторов», «апостолов» и «яшек». Главное, чтобы на все эти роли подобрать соответствующих артистов. Публика — дура, она не понимает борьбы.
Этот последний аргумент окончательно успокоил его. Ради чего он лез из кожи, голодал, сидел в кутузке, унижался перед редакторами, ломал копья?
Он отхлещет сейчас по щекам публику за все унижения! Он выставит на роль чемпионов самых настоящих «гладиаторов» с импонирующим сложением!
— Эврика! — воскликнул он вслух, остановился, не обращая внимания на движущуюся по Невскому толпу. Достал огрызок карандаша, подобрал обрывок газеты и, прижав его к стене, записал: «Гладиатор».
Так родилось название журнала; оно было мужественным и беспокоящим и понравилось Джан — Темирову.
Коверзнев с головой ушёл в дело; он почти не сходил с извозчика. Он гнал на Пушкарскую к Леониду Арнольдовичу Безаку — заказывал эскиз обложки для журнала. С Пушкарской надо было попасть на Суворовский — договориться об аренде или приобретении типографии. С Суворовского он мчался к Джан — Темирову согласовать текст рекламы; хозяин оказался на товарной станции (у него гнили апельсины) — Коверзнев скакал во весь опор туда. До шести вечера надо было успеть на Гороховую, № 16 — у портного Дальберга, поставщика всех борцов и артистов, взять фрак; вечером в новом фраке, с надушенной бородкой, в перчатках от «Боэ Сарда» он был в опере — разыскивал модного поэта, обещавшего для журнала стихи.
Дел у него сейчас было столько, что не оставалось времени на чтение газет. Однако сообщение о расстреле рабочих на Ленских золотых приисках заставило его забыть обо всём. Телеграмма на имя членов Государственной думы Милюкова и Гегечкори подействовала на Коверзнева ошеломляюще. Происшедшее казалось повторением девятого января.
В день получения телеграммы весь Петербург говорил о Надеждинском прииске. Коверзнев жадно прислушивался к случайно оброненным словам — старался найти объяснение случившемуся. Он сидел в «Вене», мешая ложечкой кофе, слушал. Повторяли имена Алексея Ивановича Путилова, барона Гинсбурга, знатных сановников, членов царской фамилии. Говорили, что таким людям нет смысла кормить рабочих гнилым мясом. Виноват во всём Белозеров — жестокий, жадный человек, дослужившийся от должности конторщика до должности администратора с окладом 150 тысяч в год. Рядом с ним называли имена прокурора Преображенского и следователя Хитуна. Однако всех больше ругали жандармского ротмистра Трещенкова, встретившего делегацию свинцом; откуда–то стало известно, что шесть лет назад он руководил кровавой расправой над сормовскими рабочими.
От всего этого хотелось выть… Успокаивало лишь одно: Государственная дума не оставит так это дело, виновники будут наказаны. Но воспоминание о 9 Января заставило Коверзнева подумать, что до виновников не так–то легко добраться.
На Невском появились усиленные полицейские наряды, дворники закрывали ворота, народ толпился стайками, беспокойно гудел.
Утром на Новообводном канале возникла демонстрация: толпа направилась к Варшавскому вокзалу, остановила трамваи. Коверзнев с трудом нашёл извозчика — помчался по делам.
В городе было беспокойно. Говорили, что бастовали десятки заводов. В эти дни министр Макаров на Запрос о Ленских событиях ответил: «Так было — так будет».
Но Коверзневу некогда было задумываться над происходящим — он крутился как белка в колесе, готовя к выпуску первый номер «Гладиатора». Наконец журнал был свёрстан. Коверзнев принёс его Мкртичу Ованесовичу и, обмакнув перо, дал подписать к печати.
— Про глориа эт патриа, — сказал он полуторжественно, полушутливо. — За славу и отечество.
Журнал — его детище — лежал на столе; во всю обложку была изображена цветная фигура гладиатора — в золотой каске, котурнах, с мечом.
Джан — Темиров поднял один глаз в потолок, замер на мгновение и размашисто вывел по гладиатору свою фамилию. И, небрежно швырнув курьеру журнал, сказал, обернувшись к Коверзневу:
— Едемте смотреть цирк.
Площадь перед Нарвскими триумфальными воротами была запружена народом. Толпа колыхалась, над ней вспыхивали кумачовые флаги, конные полицейские наступали на толпу, кричали что–то. Джан — Темиров привстал в пролётке, с любопытством рассматривал людей. Коверзнев с ужасом подумал, что полицейские пустят в ход оружие, но те, видимо, пока не решались этого делать.
Над толпой поднялась фигура оратора. Он взмахнул рукой, выкрикнул:
— Товарищи! На далёкой Лене провокаторы расстреляли наших мирных братьев и сестёр, когда измученные люди пошли, чтобы пожаловаться… Девятого января царь расстрелял веру в себя! А четвёртого апреля, на далёкой Лене, была расстреляна вера в «новое», «обновлённое» самодержавие! Нет, товарищи, мы не должны верить никаким конституциям! Никто не даст нам избавленья: ни бог, ни царь и не герой!
Конные полицейские пытались пробраться к оратору, но их затёрли в огромной толпе, Джан — Темиров заспешил, приказал кучеру:
— Давай от греха стороной.
В нескольких кварталах от Нарвской площади, рядом с Петергофским шоссе, на пустыре, который упирался в полотно Балтийской железной дороги, а за ним — в Митрофаньевское кладбище, шла стройка. Цирк ещё не имел крыши и напоминал римский Колизей.
— Через месяц он будет готов, — твёрдо сказал Джан — Темиров. — Готовьте чемпионат.
Умело прикуривая на ветру, Коверзнев сообщил:
— Я переговорил уже с тремя дюжинами борцов и послал в разные города столько же приглашений. Будем надеяться, что чемпионат будет интересным.
Глядя одним глазом на часы, Джан — Темиров сказал:
— Подумайте о чемпионе.
— Хорошо, Мкртич Ованесович.
— Денег вам не надо?
— Благодарю, пока есть.
Действительно, несмотря на то что он снял на Невском квартиру из пяти комнат, деньги у него были. Он покрыл стены зала дубовыми панелями (он вообще любил дерево), а над панелью сделал через весь зал узкую рамку в виде ленты; в эту рамку, вплотную друг к другу, вдвигались открытки — портреты борцов. Портреты, подписанные Верзилиным, Сарафанниковым, Поддубным и другими знаменитыми борцами… Комнату Коверзнев выделил под арену — любой из его друзей–борцов мог прийти сюда потренироваться: вдоль стен уже стояли штанги, бульдоги и гири.
В прихожей и коридоре висело множество красочных цирковых афиш; Коверзнев их скупал сейчас с удовольствием.
Кроме того, он собирал коллекцию скульптур, воспевающих красоту и силу человеческого тела. У него были небольшие копии со скульптур Микеланджело — «Скованный раб», Карли — «Омфала с дубиной», Родена — «Поцелуй», Бьересона — «Союз» и т. д. Репродукции с картин на те же темы висели по стенам; среди них особенно выделялась картина Ихновского «Сила и любовь», на которой была изображена обнажённая женщина, прижавшаяся к огромному льву. Опытный глаз мог бы подметить, что эта картина висит неспроста — в квартире можно было встретить немало фотографий известной в прошлом укротительницы львов Нины Джимухадзе.
Коверзнев преуспевал и был счастлив.
К открытию цирка должна была выйти его книга; во втором номере «Гладиатора» шёл рассказ о борцах, который должен был понравиться читателям; Джан — Темиров обещал переиздать книгу «Русские борцы».
Коверзнев забыл об обидах. Нападать на Чинизелли теперь у него не было никакого желания. Как–то он цинично подумал:
«Лучший способ заставить человека замолчать — это купить его». И добавил печально: «Сик транзит глориа мунди» — так проходит мирская слава. Но, подумав, спросил себя с надеждой: «А может — приходит?»
44
Иван Татауров не видел ещё ни разу такого грандиозного чемпионата борьбы, какой Валерьян Павлович Коверзнев организовал в цирке «Гладиатор».
Только одних чемпионов мира съехалось около десятка. Среди них гремели «чухонские боги» Алекс Аберг и Георг Лурих, негр с острова Мартиника Анастас Англио, чернокожий красавец Мурзук, лучший техник Клементий Булль, квадратный бельгиец Альфонс Стерс, новая спортивная звезда — Иван Яго, великан Гриша Кощеев.
Своего земляка Кощеева Иван Татауров считал самым опасным противником. Успокаивало лишь одно — его почему–то недолюбливал Коверзнев. Но — чёрт возьми! — сколько ещё соперников, кроме Гриши! Что стоит один зверь Адам! А Циклоп! Знаменитый Циклоп, от удара которого замертво падает ломовая лошадь!.. Остальные, правда, были послабее — громадный Казбек — Гора, такой же Луи Телье… Святогор, Варяг, Быков… С этими Татауров справлялся в любое время, несмотря на их рост… И остальные тоже были не особенно страшны.
Однако Валерьян такой подлец, что от него можно ждать любого подвоха; недаром его за глаза сейчас звали Каверзневым, а не Коверзневым. Кто знает, какую каверзу ему захочется выкинуть? Выберет нового любимчика и сделает его чемпионом. Татаурова тут учить нечего — он знает все эти махинации; как ни рекламируй чемпионов мира — половина из них всё равно останутся липовыми. Неважно, что Коверзнев ещё год назад сам разоблачал дутых силачей и самозванцев — нынче он раздувает их славу. Давно ли он издевался над репортёрами, которые восхваляли цыгана Жиго, а нынче в своём журнале сочиняет небылицы: будто какая–то принцесса ради него оставила придворную жизнь. А в последнем номере «Гладиатора» написал, что если Жиго так же хорошо играет на скрипке, как выступает в чемпионате, то, наверное, очень многие заслушиваются его игрой. С Валерьяна станется: сделает этого цыгана чемпионом — скрипач, тонкая натура, понравится публике…
А не его, так другого облюбует. Недаром выкопал и других великосветских борцов — графа Чикоша и князя Митику — Дону. Даже татарина Али Сандарова именует князем. Тоже мне «князь»… Да мало ли кого ему взбредёт в голову выдвинуть в чемпионы… Хоть бы Ваньку Каина — этого выродка, этого беглого каторжника… А знаменитый техник — голландец Ван — Риль? А финны — Туомисто, Кобинг и Ярвинен?.. Сколько их нынче собралось! Чемпион Европы Оскар Шнейдер, «железный венгр» Чая Янос, Пётр Крылов, Иван Спуль, Лука Копьев, Тимоша Медведев, Ван — Крамер, Антон Кречет, Анатэма, Лассартес, Бландетти, Турбас, Роланд… А красавец из красавцев — чернокожий Джоэ Моро!.. А Поддубный?! Чемпион чемпионов! Ждут и его!..
Да, шикарный чемпионат отгрохал Валерьян. Недаром с десяти до двенадцати цирк ломится от народа. Хорошие денежки текут в карман Джан — Темирову. И, видимо, немалая толика их перепадает Валерьяну. Он завёл серый шёлковый цилиндр и светлый лёгкий плащ. К цирку подкатывал на лихаче, демонстративно давал баснословные чаевые извозчику, торопливо шагал к входу, раскланивался с многочисленными знакомыми, приподнимая цилиндр. В это время униформа уже засыпала стружкой арену, приколачивала зелёное сукно. Коверзнев останавливался, тростью указывал на недостатки.
Перебросившись с кем–нибудь шуткой, рассказав короткий анекдот, он по–хозяйски входил в борцовскую раздевалку и на ходу, не глядя, спускал с плеч плащ. Татаурова поражала эта его самоуверенность, и он с надеждой ждал, что плащ хоть раз очутится на полу. Но этого не случалось — кто–нибудь подскакивал к арбитру, подставлял руки, а затем принимал трость и цилиндр.
Через несколько минут Коверзнев выходил на манеж — приветствовал публику, каламбурил, мило шутил, объявлял борьбу.
Его звали «артистом», «эрудитом» и «профессором». Последнее прозвище со временем оттеснило два первых и репортёры в отчётах стали даже величать его «профессором атлетики».
Коверзневская бархатная куртка с напуском, шёлковый бант и аристократическая бородка нашли много подражателей.
Побывать в его арене на Невском любители борьбы почитали за счастье.
Татауров старался не терять с ним дружбы. Специально перебрался с Выборгской стороны — устроился по соседству на углу Литейного, в меблированных комнатах Марии Ивановны Глебовой. Каждое утро он спешил к арбитру, чтобы поразмяться там, — играл двухпудовками, вешал их на шею, поднимал штангу; если приходил кто–нибудь из борцов — боролся. Иногда Коверзнев давал ему какое–нибудь поручение — Татауров не отказывался, исполнял всё.
Многие из борцов считали Татаурова подхалимом. Кто–то даже соглашался спорить на любую сумму, заявляя, что Коверзнев сделает Ивана Татуированного чемпионом мира.
Однако сам Коверзнев Татаурову об этом ничего не говорил; было похоже, что он облюбовал на роль чемпиона «чухонского бога» Алекса Аберга.
Татауров лез из кожи вон — одерживал такие победы, о которых год назад даже и не мечтал. Коверзнев похваливал его, заставлял заниматься, прибавлял денег.
Чемпионат перевалил за середину, на счету Татаурова было несколько блестящих побед «в бур», а Валерьян Павлович по–прежнему избегал с ним серьёзных разговоров.
Восьмого июля они сидели в ресторане «Тироль» на углу Офицерской и Прачешного. Борец Бландетти играл на цитре грустную мелодию. Татауров был сильно пьян и, может быть, поэтому решился идти ва–банк. Наклонившись через столик к Коверзневу, разрывая жёлтую коробку папирос «Нева», он брякнул:
— Ты, это самое, Валерьян Павлович… Давай так, чтоб я чемпионом стал… Приз там… и почётная лента… и всё, что полагается… В общем, чемпионом мира, — повторил он.
Коверзнев усмехнулся, ничего не ответил. Подумал: «Дорогие папиросы курит — 25 штук–15 копеек. Будет чемпионом — будет курить гаванну».
Заметив усмешку, Татауров произнёс угрожающе:
— Ты эти смешки брось! А то можно так сделать, что опять в охранку пойдёшь…
— То есть? — сухо спросил Коверзнев.
— Не то есть, а вполне определённо. По холодку. И месяцем не отделаешься. Понял?
Коверзнев затянулся. Выпуская дым, посмотрел в потолок. После паузы спросил мрачно:
— Это твоих рук дело?
Татауров опустил глаза, сказал угрюмо:
— Моих.
— А я так и предполагал, что ты подлец.
— Ну ты это брось. Я в руках тебя держу. Захочу — жизни решу.
— И ты это делаешь из личных побуждений? Служишь царю и отечеству? Или ради денег? — с холодным любопытством спросил Коверзнев.
— Об этом говорить не разрешается. И ты лучше не спрашивай.
— А то у тебя могут быть неприятности по работе? Так, что ли?
— Хватит душу выматывать! — стукнул Татауров по столешнице кулаком. — Не сделаешь чемпионом мира — донесу. Так и знай. Я на всё способен, когда разозлюсь.
Борцы, сидящие за соседним столиком, замолчали, с удивлением посмотрели на арбитра.
— Не скандаль, дурак, — презрительно сказал Коверзнев, — Сделаю чемпионом. — И, подозвав лакея, бросил ему деньги: — Плачу за обоих.
Не попрощавшись, он вышел, на ходу надевая цилиндр. Угроза Татаурова, конечно, его не испугала. Но, в конце концов, разве не всё равно, кто будет чемпионом? Плевал он на все заботы, интриги и комбинации. В самом деле, чем Татауров хуже Алекса Аберга? Он в форме, публике нравится, поражений не имеет… В неожиданности есть элемент сенсации, а сенсация приносит деньги.
Коверзнев уже не любил борьбу так, как любил прежде, и, не кривя душой, мог сделать чемпионом кого угодно. У него теперь появились новые привязанности. Лишь наедине с книгами и коллекциями он, пожалуй, забывал обо всём. Он любил повторять строки Брюсова:
Мы дышим комнатною пылью,
Живём среди картин и книг,
И дорог нашему бессилью
Отдельный стих, отдельный миг.
У него сейчас появились замечательные вещи, для которых в любом музее всегда нашлось бы место. На последней выставке Сомова он купил его чудный «Каток в Летнем саду». Серебрякова специально по его заказу написала вариант «Автопортрета перед зеркалом». В Мариинском театре ему удалось приобрести рисунок Бакста «Восточный танец». Леонид Арнольдович достал ему миленький акварельный пейзаж Якунчиковой. Были у него Рерих, Грабарь, Бенуа, Борисов — Мусатов, Безак. А небольшой картине Пикассо мог бы позавидовать даже москвич Щукин — владелец знаменитой коллекции западных мастеров. Был у него даже настоящий Поль Гоген.
Но больше всего он любил сейчас старинные изделия из дерева. Ему удалось раздобыть несколько языческих идолов, сделанных из одного куска. Он собирал деревянные колодки для узников, ажурные оконные наличники, столетние расписные дуги, иконы, половинки резных дверей иконостасов и царских врат. От каждого из приобретений у него захватывало дух, словно это была встреча не с вещью, а с Ниной.
Он по–прежнему тосковал по Нине, хотя и не показывал виду. Многие из женщин предлагали ему свою любовь — он шутливо отказывался. Это создавало вокруг его имени ореол неприступности, тем более что борцы были в моде. После чемпионата дамы света и полусвета увозили к себе своих фаворитов. Даже у волосатого расплывшегося гиганта Луи Телье была какая–то купчиха. Один Ванька Каин не имел никого — лошадиная голова, львиная челюсть, приплюснутый нос и репутация беглого каторжника отталкивали от него женщин.
Холодность Коверзнева объясняли его любовью к жене; ходили слухи, что она ушла от него к гусарскому офицеру — последнему отпрыску известной графской фамилии. Когда эти разговоры дошли до Коверзнева, он только усмехнулся. Окинув взглядом свою библиотеку и картинную галерею, подумал: «Не доставало ещё того, чтобы она вернулась. Нелепо было бы сейчас, после всех испытаний, лишиться свободы».
Свободой он дорожил теперь больше всего. Он часами лежал на кушетке в одной позе, раздумывая о бренности всего земного, или подолгу простаивал перед деревянным идолом. Если бы старые друзья Коверзнева увидели его в домашней обстановке — они бы его не узнали.
Но никто не видел его дома, а в цирке он был таким, как и раньше. В общем–то, он, видимо, всё–таки любил борьбу. Кроме того, ему нравилось распоряжаться огромными сильными мужчинами, видеть их подобострастные взгляды, вершить их судьбами.
Под аплодисменты публики он выходил на манеж, поднятой рукой прерывая бравурный марш.
— Сегодня шестьдесят второй день международного чемпионата французской борьбы за звание чемпиона мира на 1912 год! Чемпионат проводится для борцов–профессионалов всех стран! В нём принимают участие… — и он представлял борцов.
— Запрещено применять следующие приёмы в борьбе: «Колье де форс»!.. Сидоров и Кронберг, покажите!
Сидоров захватывал шею Кронберга рукой и отгибал её в сторону.
Удостоверившись, что публика видела приём, продолжал:
— «Колье де форс ан арьер!»
Кронберг вставал на четвереньки, а Сидоров старался задрать его голову вверх.
— Американский пояс!
Сидоров вывёртывал руку Кронберга за спину.
— Подножка в стойке!
Когда все приёмы были продемонстрированы, Коверзнев произносил вежливо:
— Благодарю вас.
И объявлял:
— Парад, алле!
Медленно, раскачиваясь, борцы один за другим уходили с манежа.
Проводив их взглядом, снова остановив оркестр, он сообщал:
— Первая пара!
Кивок в одну сторону кулис:
— Оскар Шнейдер!
В другую:
— Анатема!
Борцы сходились. Он представлял их ещё раз, свистел в свисток, висящий на груди, под шёлковым бантом.
— Алле!
Проходило необходимое количество минут — Коверзнев объявлял:
— Приёмом бра–рауле в партере на тридцать седьмой минуте победил чемпион Европы Оскар Шнейдер!
Вызывал вторую пару. Затем третью.
Так всё шло своим чередом изо дня в день.
Женщины осаждали чемпионов красоты — негра Джоэ Моро, студента Степанова, Петра Крылова… Степановский номер демонстрации мускулатуры приводил зрителей в восторг. Крылов по–прежнему был самым самолюбивым. Он просил Коверзнева перед выходом объявлять его громче, чем других; во время борьбы рычал, подражая дикому зверю, выбрасывал вставную, мешающую бороться челюсть, сыпал «макароны», которым позавидовал бы сам Твардовский; однажды закричал на весь цирк своей жене: «Валерия! С кем ты пришла? У него же сорок второй размер воротничка!..» Прекрасное впечатление произвела на всех борьба двух техников — Ивана Яго и Турбаса; они продемонстрировали великолепные пируэты и мельницы.
Были и неприятности. Ванька Каин разодрался на манеже с татауровским земляком Гришей Кощеевым; чтобы замять скандал, пришлось дать «катеньку» дежурному помощнику пристава. Однажды по красной гусарской шапке Коверзнев узнал Ритиного графа; к счастью, её не было. Но обиднее всего был отказ Поддубного. Лаконичная его телеграмма: «В нечестной борьбе не участвую», — вывела Коверзнева из себя.
Словно в своё оправдание, он всё чаще выпускал Татаурова «в бур». Тот скрипел зубами, сверкал злыми глазами, но молчал. Шёл на всякие ухищрения, чтобы не проиграть схватки. Добродушному Чая Яносу разбил головой лицо, но так артистически извинялся, что все решили: не нарочно. А после этого каждый раз незаметно ударял рукой в зубы. «Железный венгр» растерянными, телячьими глазами смотрел на арбитра, даже пытался жаловаться, но Коверзнев взглядом заставил его молчать. Победа оказалась за Татауровым.
Однако на другой день он угрюмо пожаловался Коверзневу:
— Этак и проиграть можно.
— А ты бы хотел, чтобы ленту чемпиона мира я принёс тебе на тарелочке? — сухо спросил Коверзнев.
Татауров засопел тяжело, ничего не сказал. А в схватке с Чемберсом Ципсом хотел его ударить головой с разбегу в грудь. Но тот отскочил, и Татауров пролетел по инерции несколько шагов и упал. Негр скользнул руками по его спине, заложил двойной нельсон. Татаурову казалось, что у него хрустнет шея, кровь прилила к голове, лёгкие сжались. Ещё мгновение — и он бы сам перевернулся на лопатки. Но Коверзнев присел на корточки и что–то шепнул негру.
Победа снова была за Татауровым.
Плюясь кровью, он сказал хозяину:
— Чего уж так–то? Всё едино победа за мной… Здоровья жалко…
Коверзнев с ненавистью посмотрел на него:
— А я, думаешь, не харкал кровью в охранке? Меня там коваными сапогами топтали.
— Так я же…
— Молчи! Хочешь быть чемпионом мира — терпи. Понял?
— Так я же, Валерьян Палыч…
— Всё! — вспылил Коверзнев. — Выбирай одно из двух: или ты на меня доносишь, или ты — чемпион мира.
Татауров понимал, что Коверзнев над ним издевается, отводит душу, но ничего не мог поделать. А тот снова и снова заставлял его бороться всерьёз и в самый последний момент, когда казалось, что уже ничто не спасёт Татаурова от поражения, давал команду, и противник ложился на лопатки.
День ото дня Татауров становился злее. Он рассыпал «макароны», краватты, бил в скулу, перетирал уши.
Когда из публики кричали с возмущением:
— Арбитр, купи очки! Уродуют человека, — Коверзнев успокаивал:
— Это не больно! У них шеи тренированные! Приём незапрещённый! Он применяется для того, чтобы вывести борца из себя!
Татауров зверел, ломал противника.
А Коверзнев жестоко говорил обессиленному человеку:
— Борись! Не бегай по арене!
Брошенного на себя атлета отталкивал обратно к Татаурову!
— С ним борись, а не со мной!
Публика смеялась, забыв о грубостях Татаурова. И Коверзнев рано или поздно объявлял:
— Победил Татуированный…
Поклонники через оркестр передавали победителю корзины цветов. Женщины дарили ему футляры с кубками, перстнями, запонками, булавками. После борьбы он ехал пьянствовать.
А Коверзнев через несколько дней снова объявлял торжественно:
— Моритури те салютант! — и объяснял каждый раз: — Идущие на смерть приветствуют тебя! Так говорили гладиаторы!
Эти слова звучали зловеще, и Татауров злился, но почётное звание маячило где–то совсем уж близко, и он молчал.
45
Никита почти каждый вечер ходил в цирк «Гладиатор». Наблюдая за борьбой, думал, что Верзилин зря ругает Коверзнева: боролись «в бур». Он сам видел, как после двойного нельсона Ципса у Татаурова шла горлом кровь. Да и сам Татауров не давал спуску другим — сыпал «макароны», ломал рёбра, — шёл к почётной цели напролом.
Ясно, что он стал сильнее. Но даже сейчас Никита был уверен в своём превосходстве. И лишь боязнь доставить неприятность Верзилину удерживала его от вступления в чемпионат. Впрочем, видимо, Коверзнева сейчас не интересовала, его кандидатура.
Конечно, это было обидно. Но ещё больше его огорчало пренебрежение тех самых людей, которые совсем недавно были счастливы познакомиться с ним.
Чтобы доказать им, что он остался прежним Сарафанниковым, Никита собирался бросить вызов Татаурову.
Такой случай представился в конце июля.
На арену вышел Коверзнев — бархатная рубашка с напуском, шёлковый бант, холёная бородка.
Борцы, наклонив бычьи шеи, отставив руки с гипертрофированными бицепсами, шагали медленно. Играла музыка. Сверкали лампы. Публика волновалась.
Начинался церемониал представления:
— Виртуоз технической борьбы чемпион Европы Иван Яго (Эстляндия)!
Небольшой, но словно высеченный из мрамора, Яго сделал порывистый шаг вперёд, поклонился во все стороны.
— Иван Яго одинаково хорошо борется как в стойке, так и в партере. Отличается бесстрашием. Его девиз: «Без страха на любого!»
Снова поклон. Шаг назад.
— Гордость чернокожих — приехавший с острова Ява Мурзук!
Он не так порывист, как Яго, но улыбчив, зубы сверкают, блестят чёрные щёки.
— Сильнейший борец, прозванный «железным венгром», Чая Янос!
Тоже улыбается; через лоб идёт малиновый шрам — память от Татаурова.
— Непобедимый турок, обладающий огромным весом, Казбек — Гора!
— Ого–го! — кричат из публики. — Да из него можно пять человек выкроить!
На нём широченные шаровары, пояс, чалма. Неповоротлив. Глаза злые.
— Несокрушимый, как скала, претендующий на первое место — пан Твардовский!
Иронию Коверзнева поняли. В цирке свист, крики:
— Долой! Подбери панское брюхо!
Его не любят — никто не борется так грубо, как он.
— Необыкновенный самородок с острова Сахалин!.. Ванька Каин!
В цирке снова свист — знатокам известно, что ему ничего не стоит сломать противнику руку, выбить челюсть.
Вид его страшен — не спортсмен, а дегенерат.
— Обладатель невероятной силы Циклоп. На мускулах разрывает цепи! Одним ударом сваливает быка!
Голос Коверзнева делается торжественным:
— Непобедимый чемпион мира!.. Алекс Аберг!
Чемпион улыбается. Он, как и Яго, не велик, белокур, лицо круглое.
И наконец:
— Краса и гордость нашего чемпионата, претендент на звание чемпиона мира, на почётную ленту и золотую медаль — Иван… Татуированный!
Татауров, не дожидаясь, когда арбитр закончит фразу, выходит, торопливо, неловко раскланивается во все стороны. Усы его нафиксатуарены, волосы подстрижены под бобрик, торс в мутно–синей наколке.
Ему аплодируют всех сильнее; он медлит уходить и кланяется снова и снова.
Коверзнев пережидает, когда смолкнет шум.
— Иван Татуированный предлагает три тысячи рублей тому, кто победит его во французской борьбе!
Хотя и давно этой минуты ждал Никита, сейчас его бросило в дрожь.
Расталкивая людей, он начал спускаться по проходу. Любопытные, один за другим, поворачивались в его сторону.
Не слушая, что они шепчут, Никита приговаривал:
— Принимаю… Согласен… Борюсь я… Валерьян Палыч, это я! Слышь! Бороться буду…
Боясь, что его не заметят, он махал над головами людей рукой.
— Эй! Валерьян Палыч! Это я! Принимаю!
Услышав знакомый голос, Коверзнев испугался — он знал силу Сарафанникова лучше, чем кто–либо. Но вдруг в следующее мгновение чудесная мысль пришла ему на ум: «Вот кто отплатит этому подлецу Татаурову за всё!»
И он торопливо пошёл через манеж навстречу Никите. Взял его за руку, вытягиваясь на цыпочки, поднял её, объявил звонко:
— Вызов Ивана Татуированного принял… Никита Сарафанников!
Татаурову стало жарко. На память пришёл сегодняшний сон: в головах крест, как на могиле, деревянный, покрашенный масляной краской; вдруг он становится меньше, меньше, превращается в нательный, блестит золотом; Иван оглядывается по сторонам — никого нет — хватает его, прячет в карман… Надо же присниться такому сну. Недаром он утром подумал, что не к добру это. Вот и оказался сон в руку.
Он шагнул к Коверзневу, спросил угрожающим шёпотом:
— Подстроил, Валерьян?.. Смотри…
Не обращая на него внимания, Коверзнев отошёл в сторону:
— Парад, алле!
Оживлённо переговариваясь, борцы уходили с манежа. С ними уходил Татауров. Это было той ошибкой, которую Валерьян Павлович впоследствии никогда не мог себе простить.
Уже в проходе Татауров оттолкнул Яго, вцепился в плечо Ваньке Каину:
— Тёзка, растуды твою так! Чего хотишь — хоть изуродуй, хоть убей — но Никита не должен бороться… Братцы, вы же соображаете, ежели он возьмёт?.. Не будет сборов… Братцы — отблагодарю… Уважьте…
Каин усмехнулся. Протиснулся Циклоп; тяжело сопя, проговорил веско:
— Убью!
— Братцы… — растерянно просил Татауров.
Луи Телье хлопнул его по плечу, пообещал:
— Пересчитаем ему рёбра.
И когда взволнованный Никита вошёл в уборную, чтобы переодеться, Ванька Каин шагнул ему навстречу.
— Ах ты, сволочь, сборы наши сбивать?! — выкрикнул он. — На нас отыграться хочешь?! — и он грязно выругался.
Никита остановился в растерянности, и в это время «беглый каторжник» наклонил свою лошадиную уродливую голову и самым теменем ударил его в подбородок; Никита отлетел к стене, едва устоял на ногах.
— За что? — выкрикнул испуганно.
Циклоп пудовым кулаком ударил его в ухо; пол вырвался из–под ног Никиты и плашмя стукнул его по лицу. Чувствуя, что оглох, парень поднялся и, столкнувшись с полным ненависти взглядом Татаурова, спросил с ужасом:
— Иван? Ты?
Тот отвернулся. А Ванька Каин страшным ударом снова отправил Никиту на пол. Когда он поднимался, Луи Телье ударил его в грудь ногой.
— Звери! — крикнул Никита, обливаясь кровью. — Заступитесь кто–нибудь!
Но его прежние товарищи стояли потупившись. Были среди них такие, которые радовались унижению бывшего коверзневского фаворита, однако большинство просто боялись Ваньки Каина и Циклопа — попробуй встань им на дороге, в первой же борьбе сломают руку, куда пойдёшь инвалидом? Но больше всего они боялись Татаурова и думали, что всё это делается с ведома Коверзнева.
Поняв, что помощи он ни от кого не дождётся, Никита бросился под ноги неуклюжему Луи Телье, опрокинул его, швырнул стулом в голову Циклопа и побежал к запасному выходу. Униформист метнулся в страхе в сторону, испуганный пожарник прижался к стене. Никита сорвал с него каску, ударил ею Каина, навалился на деревянную дверь. Удар всем телом! Удар! Она заскрипела, и кулак Циклопа уже не настиг Никиту: он вывалился в темень, в грязь, под дождь.
Окровавленным ртом он ловил упругие струи, закидывал голову.
Потом пошёл вперёд — по пустырю, увязая в топкой почве. Речку перешёл вброд по колено, взобрался на насыпь железной дороги. Внизу, ощетинившись крестами, лежало Митрофаньевское кладбище. В будке стрелочника горел мутный свет.
Никита пошёл прямо, по шпалам, зная, что этим путём выйдет к Балтийскому вокзалу. По содроганию насыпи понял: идёт поезд. Отошёл в сторону. Поезд полз мимо, большой, чёрный. Никита закрыл здоровое ухо и ничего не услышал. «Оглох… Сволочи…»
Смешавшись с толпой, сошедшей с пригородного поезда, он вышел на площадь перед вокзалом, свернул направо по набережной, по мосту вышел на Измайловский.
Дверь открыла Нина. В ужасе отпрянула назад.
Ефим Николаевич выслушал рассказ, не разрешил Никите ни умыться, ни переодеться, накинул пальто — повёл в редакцию. Оттуда связался по телефону с квартирой редактора; тот явился вскоре, прихватив фотографа. Стряхивая с плаща воду, говорил:
— Ну, мне этот Коверзнев, было время, попортил крови… Сейчас мы ему попортим…
Снял трубку, вызвал типографию:
— Высвободи мне на первой полосе четыре колонки… Нет, солдат–сапёров оставь… Что? Ну, а как иначе?.. Мы же две недели назад давали материал о Ташкентском восстании… Ленские события? Ты что, с ума сошёл! — закричал он. — Не соображаешь? Да… Вот то–то… Нет, итало–турецкую войну тоже оставь… Что?.. Вот и выброси «На темы дня». Мало?.. Что?.. Выброси Курского архиепископа — нечего ему предвыборной агитацией заниматься.
Он швырнул трубку на рычаг, поставил локти на стол, сцепил пальцы. Обругал кого–то идиотом. Потом, обратившись к Верзилину, объяснил:
— Сенатор Манухин закончил ревизию Ленских приисков. Мы получили первые сведения, а один идиот у меня в типографии хотел сократить этот материал. Его весь Петербург ждёт… Оказалось, договоры были так составлены, что рабочие находились целиком в руках компании, правление могло им платить, как хотело, могло рассчитать по любому поводу. Материальное положение рабочих, которые даже хорошо зарабатывали, сильно страдало оттого, что все предметы им приходилось приобретать у компании — платили не деньгами, а талонами. Нарушения закона явные и грубейшие. Охраны труда и гигиены — никакой… Сейчас понятно, почему вспыхнула забастовка… Вот ко времени и оказался этот материальчик, а то тут у нас многие стремились придать движению политический характер, государя обвиняли… Завтра кой–кого мы огреем этим материалом по голове.
Он потёр от удовольствия руки, затем спохватился:
— Прошу извинить — увлёкся… А время позднее — не терпит. Садитесь–ка, пишите. Что не получится — я помогу.
Он кивнул фотографу на Никиту — с заплывшим глазом, с разорванной губой, в синяках.
«Коверзнева купили, — написал Верзилин. Задумался. Вздохнув, стал писать, не останавливаясь: — Ради положения и денег он предал не только свои идеалы, но и своего молодого друга, которому год назад посвятил дюжину очерков. Боясь, что Сарафанников положит дутого чемпиона Татуированного, он приказал группе борцов — подонкам общества — избить молодого борца и тем лишил его возможности выступить…»
Редактор ждал. Заложив руки за спину, ходил по кабинету. Потом уселся на стол — против Никиты, — и, видимо, от скуки выслушал рассказ из его уст. Когда Верзилин кончил писать, сказал:
— Нуте–ко, нуте–ко, что там получилось?
Взяв карандаш, исправил фразу, вопросительно посмотрел на Верзилина.
Тот прочитал и удивился: стало лучше.
Ещё исправлена фраза. Ещё и ещё… Короче, выразительнее и — удивительно! — всё осталось на своём месте.
Редактор встал, потянулся, зевая. Заправил галстук за жилетку, пошутил:
— Ну а сейчас, чтобы Сарафанников не простудился, ему следует выпить водки и растереться бутылкой.
Заявление Верзилина не вызвало того резонанса, на который он рассчитывал. Произошло это, видимо, потому, что рядом с заявлением была опубликована беседа с фабричным инспектором Горбуновым и вице–директором горного департамента Митинским, о которой вчера рассказывал редактор. Ленские события заслонили для читателей всё остальное…
А на другой день «Биржевые ведомости» опубликовали опровержение Коверзнева, в котором знаменитый арбитр писал, что всю свою жизнь он выступал против закулисных махинаций и обвинять его сейчас в том, с чем он боролся сам, может лишь личный враг. «Видимо, у г. Верзилина есть какие–то свои причины, в силу которых он выдвинул чудовищное обвинение, что он, Коверзнев, дал команду избить Сарафанникова. Действительно, Сарафанников принял вызов Татуированного, но, очевидно, испугавшись, сбежал из цирка, что и подтверждают все борцы чемпионата. На фотографии, правда, видны следы избиения. И если это не чудеса ретуши, то очень жаль, что молодой борец стал пьянствовать и драться…» Письмо было написано очень взволнованно и кончалось предположением о том, что нелепый выпад знаменитого в прошлом борца объясняется его недалёким умом; своё заявление Коверзнев закончил злой эпиграммой:
Статьёй честь цирка не охаяна,
И видит публика сама,
Что экс–борцу у Ваиьки Каина
Неплохо б призанять ума.
Интеллектуальный уровень Ваньки Каина был известен всем любителям французской борьбы. Опровержение перепечатали многие газеты.
Редактор, принявший горячее участие в судьбе Никиты, разводил руками.
Недели через две после этого, идя по Невскому с Верзилиным, Никита услыхал позорное слово «трус»:
— Вон идёт трус… Это он сбежал из «Гладиатора», а потом хотел наклеветать на них…
Кровь прилила к лицу Никиты, кулаки сжались сами собой; Верзилин шёл молча, насупившись. После долгого молчания сказал:
— Уедем в провинцию. Ну их всех к чёрту.
Никита обрадовался, начал собираться, но Ефим Николаевич больше не возвращался к этому разговору. Он совсем перебрался к Нине и с Никитой почти не виделся. Тоскливые потянулись дни. Татауров получил звание чемпиона мира, его портрет напечатали в газетах. Никита отнёсся к этому событию равнодушно; день его был занят работой в порту или на электростанции, вечером он читал или ходил в кинематограф, к которому очень пристрастился; тренировался он сейчас не систематически.
Так прошла осень, а за ней и зима. И только летом Верзилин, наконец, надумал выбраться на гастроли с Никитой.
46
Они выехали в Липецк, но Верзилин простудился в дороге, и Никите пришлось выступать одному. Он играл гирями, ломал подкову, сворачивал полосовое железо в баранку, завязывал «пояс Самсона», поднимал на плечах оркестр.
Просторный зал Народного дома всё время был полон, сборы были хорошие, но Верзилин хандрил. Он часами сидел в номере гостиницы, разглядывая случайно приобретённые папиросные коробки. Все эти дни чувствовалось приближение грозы, притихли животные, большие зарницы полыхали за городом. Присмиревшие люди сидели на завалинках, на скамейках — лущили семечки. Лениво, вполголоса играла гармошка. Под окном гостиницы с сухим треском лопались стручки акации; тревожно шелестела листва.
С самого дня отъезда Никита докучал Верзилину разговорами. Тот отмалчивался, задумчиво рассматривал свою коллекцию. В руках его была плоская коробка с голой девицей с распущенными золотистыми волосами; папиросы назывались «Ева» и стоили 25 копеек… По глазам Никита понял, что Ефим Николаевич думает никак не о Еве; было жалко учителя, но чем помочь ему, Никита не знал. Потом вспомнил о золотом подстаканнике и рассказал ему.
Ефим Николаевич растрогался; они полночи просидели у открытого окна гостиницы, мечтая о будущем. Проснулись поздно и впервые за эти дни гуляли по городу. В палисадниках перед домишками росло много цветов, и Ефим Николаевич досадовал, что никто их не продаёт. Наконец они увидели пожилого мужчину подле большой клумбы; заложив ладони за лиловые подтяжки, он стоял над цветами в позе созерцателя. Верзилин вежливо постучался в калитку, объяснил, кто они такие, и попросил уступить букет.
Хозяин всплеснул руками, заторопился, срезая огромными садовыми ножницами стебли, стал собирать букет. От денег он, конечно, отказался.
— Почту за счастье… — говорил он. — Как, значит, вчерась, любуясь вашей силой… то есть их силой… и вообче… как любитель французской борьбы… — он запутался, засмущался вконец, и им большого труда стоило понять, что он приглашает их откушать вместе с ним чаю. Они долго отказывались, но, увидев, как искренне он огорчился, наконец согласились. Сидели на террасе в окружении его домочадцев, испытывая неловкость от их любопытных взглядов. Мирно пел тоненьким голоском самовар, над вазочками с вареньем вились пчёлы, под ногами бродили одичавшие от жары кошки.
Когда Верзилин с Никитой, пожав всем руки, вышли в переулок, в каждой из калиток толпились люди, таращились на них, шептались.
Пришлось уйти к пруду. Сев на его берегу, Верзилин положил цветы на траву, стеблями в воду. На севере клубилась синяя туча, качались огненные сполохи — всё то же самое изо дня в день. Никита лёг рядом с учителем. Запустив руку в рыхлый песок, перебирал гальку.
Разомлев от духоты, они сидели до тех пор, пока их кто–то не окликнул.
Это был служитель из Народного дома.
Он был чем–то немножко напуган и тяжело дышал.
— Извольте ийтить, — выпалил он. — Сказали, чтоб чичас.
— Кто сказал? — лениво спросил Верзилин, глядя на него снизу вверх.
— Так что Иван Финогентыч…
— А‑а… Ну и что? С какой надобностью?
— Так что господа купцы собрамшись. И вас спрашивают.
— Купцы?
— А кто это — Иван Финогентыч?
— Как то ись?
— Кто он?
— Главный коммерсант тутошний.
— А‑а…
— Требуют.
— А зачем?
— Силу хотят ихнюю пытать, — служитель показал на Никиту.
Верзилин поднялся, отряхнул брюки, аккуратно собрал рассыпавшиеся цветы. Кивнул Никите.
Туча плыла за ними — дымчато–синяя, огромная; ослепительные молнии пронизывали её; погрохатывал гром.
— Дождь будет, — вздохнув, сказал служитель.
Ему никто не ответил. Никита с Верзилиным прибавили шагу. Служитель отстал, испуганно оглянувшись на тучу, догнал их вприпрыжку.
Всё вокруг замерло: собаки забились в подворотни; косолапо раскачиваясь, утка уводила свой выводок под защиту пахнущего смолой сруба. Улеглась пыль, деревья стояли неподвижно.
Туча надвигалась быстрее, чем они шли. Она закрыла почти всё небо. Стало темно. Вспышки молний уже слепили глаза. Грохотало рядом — за спиной.
У Народного дома толпились люди. Большинство в поддёвках, сапоги бутылками, по животу золотые цепки. Выше всех на голову бородач в картузе, глаза бегают.
— А! Силачи явились!
— Ждём вас!
— Пришли–таки!
— Давай, давай!
— Похвастай силой, Сарафанников!
— А ну, как да одолеет тебя наш Микола? Ась?
Верзилин сухо поклонился, Никита — тоже.
— Чем можем служить? — спросил Верзилин официальным тоном.
— Служить? Ха–ха! Ить ведь насмешил!
— Не служить, мил человек, а силёнку свою показать!
— Сразись–ка с нашим Миколой! Ась?
— Это тебе не железы гнуть!
— Трусишь, Сарафан?
Микола мялся, переступая с ноги на ногу — видно, чувствовал себя не в своей тарелке.
— Но, господа, — сказал Верзилин, — чтобы бороться, надо взять разрешение у исправника.
— Это как понять? Струсили?
— Никакой и силы–то в них нет! Железы–то каждый гнуть сумеет, а ты вот поборись!
— Мы вот нарочно Миколу привели! Сразись!
— Он покажет твоему Сарафанникову!
Чувствуя, как в нём всё закипает, Никита шагнул вперёд, к Миколе, спросил с вызовом:
— Бороться? Аль рёбра свои не жалко?
— Вот эт–то заговорил! А? Знай наших! Микола, держись!
Купец с широкой чёрной бородой азартно хлопнул руками по коленям:
— Озолочу! Ничего не пожалею!
Верзилин схватил Никиту за плечо, но тот сбросил его руку, подступил к детине:
— Бороться? А ну — давай! Я тебе покажу, как мы трусим!
В это время молния вспыхнула совсем рядом, и небо треснуло над их головами. Купец с чёрной бородой, машинально перекрестившись, ткнул Миколу в бок, напомнил ему:
— Победишь — озолочу!
Ветер рванул пыль с дороги, закружил её волчком.
— Господа, — сказал Верзилин, — что же мы стоим здесь? Идёмте, по крайней мере, в залу.
Упала первая капля, ещё несколько, полил сильнейший дождь.
Толкаясь, все повалили в помещение. Там было полутемно, пахло пылью и мышами.
Молнии полосовали мокрое лиловое стекло, освещая ряды стульев и сцену с чёрным роялем.
— Нужно что–то подложить, — сказал Верзилин.
Опять все зашумели, засмеялись над тем, что приезжие атлеты боятся упасть лопатками на голые доски. Только сейчас Верзилин понял, что купцы изрядно подвыпили.
— Как будет бороться ваш представитель? — спросил он холодно.
— На поясах! На поясах!
Сразу появились откуда–то пояса.
Беспокоясь о Миколиной спине, Верзилин развернул ковёр, поправил ногой отогнувшийся угол.
Купцы притихли, толпились подле сцены, пьяно дыша.
Верзилин проверил на обоих противниках пояса, дал сигнал.
Никита поднял огромное тело над головой, крутанул два раза и швырнул на помост. Навалился, вжал Миколины лопатки.
Все охнули, но гром заглушил голоса.
Микола вцепился в Никиту, не отпускал. Тому пришлось ударить его по рукам. Поднявшись, тяжело дыша, Никита вытирал рукавом пот. В это время Микола вскочил и выхватив из–за голенища нож, бросился на Никиту.
Верзилин, стоявший рядом с ним на сцене, инстинктивно загородил своего ученика.
— Что ты? Опомнись!
И удар, предназначавшийся Никите, угодил Ефиму Николаевичу в живот.
Никита бросился к озверевшему парню, но прежде чем справиться с ним, получил несколько ран, последнюю — в висок. Обливаясь кровью, он, наконец, схватил его за запястье и начал выворачивать руку. От Никитиного грифа ещё никому не удавалось уйти, и Микола начал извиваться, кривиться от боли; выронив нож, стал на колени.
Купцы навалились на него сзади, проводом скрутили ему за спиной руки.
— Мы тя по–хорошему, а ты… варнак…
— Доктора скорее!
— Полицию давай!
— В тилифону звони, в тилифону!
— Жгут надобно!
Никита растолкал толпу, склонился над Верзилиным. Тот не дышал. Парень положил его голову в свои ладони, беспомощно заплакал. Потом к вкусу слёз примешался вкус крови, и он потерял сознание.
Пришёл в себя, когда санитары уже укладывали его на носилки. Он уселся на тугом брезенте и, отстранив усача в халате, потребовал:
— Сперва Ефима Николаевича.
Верзилин лежал на полу, закинув голову, на его мощной шее почему–то особенно выделялся острый кадык, которого прежде Никита не замечал.
— Его, — повторил парень слабым голосом.
Носилки подняли в воздух, и у Никиты снова всё поплыло перед глазами.
Второй раз он очнулся уже в больнице. Вокруг толпились какие–то люди. Он снова сел и спросил, что с Верзилиным.
Верзилин лежал в этой же комнате — Никита его сразу увидел — но никого не было подле него.
Никита заявил, что не даст себя осматривать до тех пор, пока не займутся Верзилиным. Потом у него опять кружилась голова, и он лежал, радуясь, что все ушли к его учителю. Голоса звучали приглушённо, трудно было разобрать, о чём идёт разговор.
Позже, когда его перебинтовывали, в палату ввалились купцы, и чернобородый, с сожалением глядя в Никитины глаза, сказал:
— Мы — хозяева своему слову: победил — получай.
И он положил ему на грудь большую хрустящую ассигнацию с изображением императрицы.
Никита молчал.
Купцы потоптались немножко. Один произнёс:
— Дух вышибли из парня. Не соображат, што «катеньку» заработал.
Другой вздохнул:
— До смерти убили.
А чернобородый признался угрюмо:
— Миколу жалко, забреют ему затылок, варнаку такому.
— Опять же хозяева на нас в претензии будут.
— Ты вот что, ежели супротив Миколы — ничего, ещё «катеньку» дадим… Соберёмся всем миром и дадим, а? — попросил чернобородый.
Никита закрыл глаза.
«Скорее бы они ушли», — подумал он устало. И они действительно ушли, но вместо них пришли другие люди, и все толпились подле его койки и говорили, что он знаменитый чемпион, и что у него четыре раны, и что «варнака Миколу» — сторожа с завода минеральных вод братьев Миловановых — сошлют на каторгу.
Потом он уснул, а когда проснулся, на дворе стояли сумерки и в палате, кроме них с Верзилиным, никого не было.
Держась за спинки кроватей, морщась от боли, Никита пробрался к Ефиму Николаевичу.
Тот посмотрел на него провалившимися глазами и слабо улыбнулся.
47
Дела Коверзнева процветали: на всех трёх больших чемпионатах не было отбоя от публики, журнал «Гладиатор» раскупали нарасхват. Рассказы Коверзнева о борцах, печатавшиеся в журнале, получали самую высокую оценку критики. Джан — Темиров предложил ему собрать их все в отдельную книжку. Иллюстрации к ней сделал Леонид Арнольдович Безак. Книжка произвела фурор. Её читали взахлёб, как выпуски о Нате Пинкертоне и Нике Картере.
Однажды чемпионат удостоил своим посещением великий князь Кирилл Владимирович. Коверзнев ускорил выпуск очередного номера журнала, поместив в нём его портрет. Портрет был отпечатан на мелованной вкладке. Великий князь заказал Коверзневу несколько десятков экземпляров журнала, пригласил к себе.
Леонид Арнольдович Безак ввёл Коверзнева в дом военного министра Сухомлинова. Этот дряхлый старик из–за своей молодой жены не был принят в высшем свете. Обиженная бабёнка делала вид, что это её нисколько не трогает. Для того чтобы её салон был интереснейшим в Петербурге, она окружала себя знаменитыми людьми. В их число и попал Коверзнев. Он встречал здесь поэтов и художников, иностранных консулов и миллионеров. Нефтяной король Леон Манташев был в салоне Екатерины Викторовны своим человеком. Она только что ездила с ним в Египет, где у седых пирамид ставила спектакли. Манташев был высок и красив, но — говорили — у них были чисто дружеские отношения. Скорее всего их связывали деньги: Леон Манташев полгода назад только от одного случайного скачка биржи положил в карман десять миллионов. Он был весельчак и рубаха–парень и очень понравился Коверзневу, потому что держался с ним, как равный с равным. Кроме того, он любил спорт, правда, борьбе предпочитал лошадей.
Всё время тёрся здесь и Сергей Николаевич Мясоедов. Говорили, что он очень помог Сухомлинову, когда тот ещё был командующим Киевским военным округом, в переговорах с первым мужем Екатерины Викторовны во время развода. Коверзнев знал его раньше, когда он носил мундир жандармского подполковника; сейчас, после того как газетчик Борис Суворин публично ударил его по щеке, а думец Гучков вызвал на дуэль, обвиняя в шпионаже в пользу Германии, ему пришлось подать в отставку. Говорили, что Сухомлинову стоило больших трудов замять этот скандал. Однако благодарность влюблённого старика, видимо, победила чувство долга, и Мясоедов оставался завсегдатаем салона Екатерины Викторовны. Несмотря на худую славу, он держался с достоинством, и на журфиксах любил исполнять романсы Чайковского. Он был щеголеват, красив, всегда гладко выбрит и нравился женщинам…
Приходили сюда и другие, и каждый из них был чем–нибудь знаменит. Все они кружились вокруг хозяйки, как пчёлы вокруг цветка. Она же была весела, остроумна, умела принять гостей. У неё в доме всё было по–европейски. Стол с закусками и вином отсутствовал. Вино подавали за обедом лакеи; графины не признавались; бутылка, наполовину обёрнутая салфеткой, повёртывалась к гостю своей наклейкой; наклейки, как паспорта, хвастливо заявляли о возрасте вина. К супу подавали мадеру и херес; к паровой рыбе — охлаждённое столовое белое; к ростбифу с овощами — столовое красное комнатной температуры; к муссу из малины — «Луи Редерер» (или «Вдову Клико») замороженное; к сыру — десертное. После этого в гостиной к кофе и сигарам подавали ликёр.
Трудно было поверить, что эта утончённая женщина всего несколько лет назад жила с бедным полтавским чиновником и зарабатывала на хлеб щёлканьем на «ундервуде». Глядя на неё, Коверзнев думал, что именно о такой карьере мечтала его жена. «Вообще, ей здесь очень бы понравилось, — решил он и вдруг испугался: — Не бывает ли уж и она здесь? Только бы не столкнуться с ней. Глупо было бы после всего лишиться своей независимости. Один — сам себе хозяин».
Но жизнь сама избавила его от Риты. Как–то, читая газету, он наткнулся в отделе происшествий на её фамилию.
«Позавчера в третьем часу ночи дворник дома № 6 по Калашниковскому проспекту прибежал до смерти перепуганный в участок и заявил, что в 23 квартире произошло убийство. Околоточный надзиратель Храпунов и нижний чин Синцов, явившись на место происшествия, обнаружили следующее. Дверь в квартиру, находящуюся на шестом этаже, была закрыта. Когда они открыли английский замок, их глазам предстал маленький коридорчик, на вешалке висело зелёное манто и шинель гвардейского офицера. Как выяснилось со слов дворника, шинель принадлежала корнету графу К. Квартира была снята на его имя и служила ему местом встреч с артисткой театра «Буфф» Маргаритой Новокайдацкой.
В свой последний приезд граф К. был хмур и приехал без обычных свёртков. Дворник поэтому дежурил у дверей и рассчитывал, что граф пошлёт его за шампанским. Однако этого не последовало, а вскоре раздался выстрел, вслед за чем граф появился на лестнице и шатающейся походкой начал спускаться вниз; он был без шинели.
Граф К. на допросе признал себя виновным.
Он познакомился с покойной в прошлом году в цирке Чинизелли, когда она ещё не была актрисой. Он часто встречался с ней и, наконец, сделал ей предложение. Однако, зная, что его родители не согласятся на этот брак, он не решился сказать им об этом, а Новокайдацкой заявил, что так как не добился их согласия, то ему остаётся одно — покончить с собой. Он всё чаще говорил ей о своём намерении лишить себя жизни. Новокайдацкая же, охотно рассуждавшая о кончине и потустороннем мире, поддерживала эти разговоры и не раз показывала банку с ядом. Её поездка на гастроли в Москву нынешним летом вызвала его ревность. Между ними произошло несколько ссор, которые окончательно укрепили их решение о самоубийстве. В последнее свидание Новокайдацкая предложила графу К. принять яду, а затем, когда она будет в забытьи, убить её из револьвера и покончить с собой. Они выпили шампанского с опием, и Новокайдацкая намочила в хлороформе два платка и накинула их себе на лицо. Засыпая, она приложила его револьвер к своему сердцу. По его словам, он долго сидел, не отнимая револьвера от её груди, и не помнит, когда нажал курок. После выстрела им овладел ужас, и он, не закрыв квартиры, бросился вон».
Коверзнев отложил газету. Противоречивые чувства овладели им: было жаль Риту, но он подумал, что именно так она и должна была кончить свою жизнь. Жалко было и графа: попал в переплёт, дурак, мальчишка; сейчас — самое меньшее — разжалуют в рядовые. И вместе с тем он не мог не признаться себе, что всё это не вызвало в нём и глубокого огорчения: будто сейчас он узнал лишь подробности о смерти человека, который давным–давно для него был потерян.
Резкий звонок заставил его вздрогнуть.
Коверзнев одёрнул халат, открыл дверь. Перед ним стоял Леван Джимухадзе. Это было так неожиданно, что Коверзнев отступил в замешательстве.
Леван шагнул, дверь захлопнулась, клацнув язычком американского замка.
У Коверзнева оборвалось сердце: «Что–то случилось с Ниной».
Растрёпанный фрак Левана подтверждал его догадку.
— Что случилось? — спросил он срывающимся голосом.
Леван нервно дёрнул воротник пальто, сказал, задыхаясь:
— Нина лишилась рассудка… Я ничэго нэ могу с нэй сдэлать… Только вы в силах ей помочь. Пришёл тэлэграмм из Липецка — Верзилин тяжело ранэн… Нина прочитала тэлэграмм, сразу упала, и сэрдцэ было нэ бито… Нэт?
В каком–то странном оцепенении Коверзнев повернулся, медленно пошёл по коридору, пошатнулся, как пьяный, придержался рукой за стену и только в спальне понял весь смысл происшедшего, стал лихорадочно переодеваться. Левой рукой застёгивая манишку, правой налил стакан воды, половину пролил на ковёр, не обратив на это внимания, выпил, стуча дрожащей челюстью о стекло.
— Идёмте! — приказал он Левану. Всё ещё застёгивая манишку, сбежал по лестнице.
— Извозчик, сюда! Гони к Троицкому собору!
Пуговица всё не попадала в петлю, тогда он вырвал её с мясом, переломил и выбросил на дорогу.
«Нина… Ниночка, — повторял он отчаянно, — мужайся, не всё потеряно… Не отчаивайся… Мы всё сделаем, чтобы Ефим выздоровел… Всё сделаем…»
Он швырнул извозчику трёшницу, вбежал в подъезд, скачками поднялся по лестнице. Дёрнул дверь, она не поддавалась. Тогда он стал остервенело рвать её на себя. Запыхавшийся Леван открыл её ключом.
Кутаясь в платок, в полумраке коридора стояла Нина. Огромные чёрные глаза полны боли, тоски.
— Коверзнев! — сказала она тихо, почти прошептала. — Коверзнев, — и зарыдала, и припала к нему, словно в нём одном сейчас было спасение.
Леван засопел, тяжело задышал, ушёл в другую комнату.
Сидя на диване, по–прежнему зябко кутаясь в платок, Нина говорила Коверзневу о том, что необходимо ехать.
— Поедем… Я верю… Этого не может быть…
— Собирай вещи… Я готов… Сейчас — на железную дорогу, узнаю, когда поезд…
— О, не бросай меня… Вещи соберёт Леван, а я поеду с тобой… Не бросай…
На улице, успокаиваясь, она заговорила:
— Я совсем потеряла голову… А Леван, когда я ему сказала, что надо ехать, говорит, что нельзя: с Чинизелли заключён контракт, надо платить неустойку… Говорит, что я подвожу не только себя, но и его… О, как это низко…
Задыхаясь от злости, Коверзнев решил: «Вернёмся с вокзала, я швырну ему деньги в морду — подавись, щенок…» О том, что сам бросает чемпионат на произвол судьбы, он не думал.
— Гони, извозчик!
Было душно, ветер не мог охладить разгорячённого лица; Коверзнев расстегнул воротник.
От Нининых слов хотелось плакать.
Сжимая его руку, придерживая на хрупком горле газовый шарф, она говорила, что Коверзнев всегда был её лучшим другом и она всегда огорчалась, что он отошёл от них с Ефимом, но она никогда не теряла веры в него…
Они проезжали мимо часовни, и Нина попросила остановить лошадь.
— Я помолюсь… А ты с вокзала зайди сюда за мной…
Часовенка стояла ниже тротуара, и на маленькой площадке у её входа монах в поношенной рясе зажигал свечи перед иконами. Широкая дверь была распахнута, в глубине было сумрачно, и только трепетные огоньки восковых свечей и лампад виднелись отчётливо. Монах обогнал Нину, и она спустилась за ним по каменным ступенькам. Старуха в лохмотьях стояла на коленях перед большой иконой богоматери и истово клала поклоны. Монах гасил догоравшие и зажигал новые свечи. Нина опустилась на колени подле иконы. Люди поминутно входили, склонялись, шептали молитвы, выходили на улицу; еле слышно скулил маленький ребёнок, мешая сосредоточиться…
«Господи, господи, помоги мне… Сделай так, чтобы Ефим остался жив… Я прошу тебя, потому что знаю, что ты милосерд, ты делал столько чудес, сделай ещё одно, — чего тебе стоит?..»
Она коснулась лбом холодных камней пола, но успокоение не шло к ней.
«Будь справедлив ко мне, господи… Ты сделал так, что мы зачали ребёнка, так сохрани ему отца… Ты пожертвовал своим сыном ради нас и знаешь цену человеческому страданию, так сделай так, чтобы не было больше страданий…»
«О господи! — прошептала она. — Неужели ты бессердечен и жесток? Неужели ты не можешь простить людям того, что они распяли твоего сына?..»
Она била поклоны один за другим, но ледяные плиты не охлаждали её лба; голова словно разрывалась.
«Господи! — сказала она в отчаянии. — Ты жесток и мстителен, ты не можешь простить нам того, что ребёнок зачат нами в прелюбодеянии… Но разве мы не любим друг друга?.. Тогда почему же кара коснулась нас, господи?.. Или ты не можешь простить мне, что я никогда не молилась и не знаю молитв, о господи?.. Почему за всё должна отвечать одна я?»
Она снова прикоснулась лбом к каменной плите и замерла так на некоторое время.
«Я кощунствую, — простонала она. — О господи! Не буду, только сделай так, чтобы Ефим был жив…»
48
Приходя в себя, Верзилин спрашивал у Никиты одно и то же:
— Не приехала ещё?
Раны Никиты были неопасны, и доктора разрешили ему сидеть подле Ефима Николаевича. Глядя на осунувшееся лицо своего учителя, парень напряжённо думал, чем бы его отвлечь от тоски по Нине: «Ишь, как мучается, сердешный… Одно жалеет: как бы не умереть, не простившись с ней… Присказку бы ему, что ли, рассказать какую?..» Но «присказки» на ум не шли… Тогда он догадался читать вслух оказавшуюся под рукой книгу. Читал он плохо, но старательно, и трогательная история итальянского школьника, рассказанная Амичисом, увлекла их с Верзилиным… Особенно тщательно Никита старался выговаривать труднопроизносимые имена героев, словно от этого зависела жизнь Ефима Николаевича…
Бессильно сжимая ему ладонь, Верзилин прошептал:
— Будь всегда справедливым и честным… Ставь это всегда превыше всего, — добавил, смежив веки: — Ведь ты для меня — как младший брат…
Комок подступил к горлу Никиты от этих слов, и мутная пелена застлала его глаза.
Пришёл доктор — горбоносый, с большим животом, на тонких ногах. Взял Верзилина за руку, вытащил из кармана часы.
Верзилин устало открыл глаза, спросил взглядом.
Доктор, не выпуская запястья из цепких пальцев, сказал:
— Поезд приходит через час.
Верзилин поблагодарил его движением век. Снова забылся.
Нина с Коверзневым приехали под вечер. Она была тщательно одета в дорожный строгий костюм, в простую, но дорогую шляпу. Предупреждённая обо всём доктором, она вошла в палату со спокойным лицом и даже с подобием улыбки.
Верзилин встретил её сияющими глазами и сделал попытку встать, но не смог даже приподнять руку.
— Ну, что же ты? — сказала Нина, склоняясь над ним. — А?
Он сделал движение ресницами. Она села рядом и прижалась щекой к его горячей щеке.
— Невезучий ты мой.
— Везучий, — сказал он шёпотом. — Тебя встретил я…
Она не смогла сдержаться, и слёзы брызнули из её глаз. Чтобы скрыть их, она уткнулась ему в грудь.
Не в состоянии видеть её мучения, Коверзнев вышел из палаты, а Никита натянул на голову простыню.
— Ефим, — сказала Нина, — Ефим… Зачем так?
Он еле–еле сжал её ладонь. Сказал с улыбкой:
— Теперь уж всё…
— Ефим!
— Нет, теперь уж всё… Я держался только ожиданием тебя..
— Ефим!
— Жжёт… там, — он показал взглядом на живот. — Это конец… — голос его прервался. — Слушай меня… Сына… чтобы был честный… и помнил, что я тебя любил… Всё… Позови Валерьяна… '
Она припала губами к его лицу, но он нашёл в себе силы, чтобы отстранить её.
— Позови Валерьяна… и выйди… Люби его… Он будет настоящим мужем и отцом…
Вцепившись тонкими пальцами в горло, стараясь сдержать рыдание, она вышла за дверь.
— Иди… Он зовёт тебя…
Ткнулась лбом в стену; узкие плечи её вздрагивали.
А Коверзнев подскочил к Верзилину, сжал его большую, тяжёлую руку, заговорил горячо:
— Ефим! Ты должен жить ради неё! Разве ты не видишь этого?! Она умрёт без тебя…
Верзилин высвободил руку, сказал:
— Молчи… а то не успею… Я много думал и понял, что… по–прежнему люблю тебя… Не твоя вина, что ты изменился… Жизнь ломает каждого из нас… И тебя сломала сильнее, чем других… Одного не могу простить… Как ты бил Никиту?..
— Я?
— Ты понял, о чём я… Не ты, а по твоей указке…
Коверзнев сжал руками виски; подумал с ужасом: «Это — Татауров! Его нельзя было отпускать с манежа!»
— Ефим! — воскликнул он. — Ты с ума сошёл?! Я не знал, что его били! Наоборот, я думал, что всё это инсценировано вами, и был очень огорчён… Никита! — сказал он, сдёргивая с парня простыню, словно желая призвать его в свидетели. — Ты же знаешь, что это не так?! Скажи Ефиму Николаевичу!
Верзилин пошевелил рукой: не надо.
— Валерьян, — сказал он, — не обижай его… Помни: он — наше будущее. И люби Нину… Ей цены нет… Душа у неё… всем на коленях перед ней… Люби… Вспомни, как она посылала тебе деньги, когда ты голодал…
— Зачем ты так говоришь?! — воскликнул Коверзнев. — Ты же знаешь, что я люблю её больше всего на свете… Но ничего не требую от неё…
— Помни, Валерьян, о наших идеалах… Поклянись, что ты снова будешь честным… Спорт должен быть…
— Ефим! О, Ефим…
Подошёл доктор, взял Верзилина за руку, обернулся и кивнул Нине.
Когда она подошла, всё уже было кончено.
Она приложила ладонь к своим сухим глазам, наклонилась и поцеловала мужа в мёртвые губы. Коверзнев с доктором взяли её под руки и вывели из палаты. С этой минуты больше никто не видел у неё слёз. Когда Валерьян Павлович сказал, что не покинет её ни на минуту, она сама послала его хлопотать о гробе и вагоне до Петербурга.
Дома их встретил Леван и, убедившись, что она спокойна, сказал:
— Ну вот и хорошо.
Она только взглянула на него непонятно и промолчала.
Большинство газет дали сообщение о смерти бывшего чемпиона России; некоторые даже поместили его портрет. Вынос тела был из Нининой квартиры. Собралось много народу — борцы, артисты, газетчики. Женщины были в чёрных платьях, мужчины — в чёрных костюмах, некоторые в мундирах, при орденах. В руках — букеты нарциссов, левкоев, лилий, белых роз, перевязанные внизу флёром. Их сладкий запах наполнял Нинины комнаты и смешивался с запахом ладана. Гроб сносили осторожно четверо силачей. Шесть лошадей светлой масти, покрытых траурными попонами, были запряжены цугом. Хор запел «Вечную память», оркестр заиграл торжественно и заунывно. Городовые и жандармы стояли вдоль тротуаров и отдавали честь. Кони тронули привычно медленно, катафалк с серебряными украшениями покатился ровно, без толчков.
«Всё это никому не нужно, — думала Нина. — Ни оркестры, ни нарядные лошади, ни цветы… Всё это выдумки Коверзнева… Но не будь его — куда бы я делась?»
Она благодарно сжала его руку, торопливо зашагала за катафалком.
«Всё это ни к чему… Никто не может вернуть отца моему сиротке… И никто не может заменить его… Если бы ты был милосердным, — обратилась она к богу, — ты не сделал бы этого… Ты жестокий и мстительный, и нет моих сил умолять тебя…»
Священник в ниспадающей тяжёлыми складками ризе раскачивал кадило, и голос его словно дразнил Нину:
— В землю изыдеши…
Потом снова играл оркестр. Толпа росла, расплывалась по улице, встречные спрашивали: «Кого хоронят?»
«Одно любопытство, — думала она, — и никому нет заботы, что он умер… Кто искренне сожалеет, что он умер?» Она покосилась на Коверзнева и, увидев его землистое лицо, снова сжала его руку. «А Никиту оставили, — впервые вспомнила она о друге своего мужа и ужаснулась. — Оставили, оставили… Забыли о нём, не взяли в Петербург, бросили одного в чужом городе…»
— Осторожно, Ниночка, здесь ступенька книзу, — услыхала она заботливый голос Валерьяна Павловича. Опёрлась о его руку. «Сегодня же выписать его… И пусть Коверзнев возьмёт его в чемпионат и заботится о нём».
Она словно пришла в себя, когда услыхала голос священника:
— Во блаженном успении живот и вечный покой подаждь, господи, усопшему рабу твоему Ефиму…
Они стояли перед могилой, земля осыпалась под ногами, ложилась на пожухлую траву. Сквозь зелёные ветви Нина увидела массивную плиту чёрного мрамора и такой же крест, прочитала: «Тургенев». «Как просто, — подумала она. — Надо сказать Коверзневу, чтобы сделал всё так же просто… Никаких ангелов и башенок… И одно имя: Верзилин…»
— Ниночка, — снова услыхала она голос Коверзнева и не могла понять, чего от неё хотят. Потом догадалась, стала на колени, но долго не могла откинуть креповую вуаль. Наконец оборвала её и прикоснулась губами к любимому лицу. Вставая, подумала равнодушно: «Наверное, надо было снять перчатки».
Коверзнев стряхнул с её колен сор, она посмотрела на него непонимающим взглядом.
С трудом дослушала речи незнакомых людей.
Позже, уже дома, слыша через дверь голос Левана и звон вилок, уткнулась в подушку. Но слёз не было. Каждую минуту заглядывал Коверзнев, склонялся над ней, гладил по волосам. Она говорила спокойным голосом:
— Уйди к гостям.
Он нерешительно глядел на неё в темноте, мялся.
— Иди.
«Боится, что наложу на себя руки… Надо сказать ему, что я этого никогда не сделаю, потому что жду сына…»
Она скользнула рукой по талии, выдернула из–под юбки кофточку, провела ладонью по сухому горячему животу… Он был по–прежнему худым, но она знала, что там уже теплится крошечная жизнь. По утрам у неё болели груди, они разбухли, соски их потемнели.
«Ради тебя я буду жить, маленький мой, и сделаю тебя честным, справедливым, как завещал твой отец… Ты будешь большим и сильным, как он, и все будут любить тебя, и я буду гордиться тобой…»
«Ефим! Зачем ты сделал так, Ефим?.. Вернись!.. Что тебе делать в каком–то Липецке?.. Ты так любил Петербург! Вернись! Сейчас наступает самая хорошая пора — золотая осень, ты будешь показывать мне город… Как же я одна? Я же ничего не знаю…» — разговаривала она с мужем, как с живым, но вдруг с дикой силой почувствовала, поняла, что Ефима нет, что он никогда не вернётся…
Открылась дверь, в щёлку осторожно проскользнул Коверзнев. Нина бросилась к нему, обхватила его шею руками и забилась в рыданиях…
— Коверзнев! Коверзнев! У меня же будет ребёнок!..
— Я знаю… Мы его станем растить… — заговорил он бессвязно, стараясь её успокоить. — Он будет похож на Ефима… Купим много игрушек… Книжек… Он будет кататься на мне… Я буду добывать для него много денег…
Она постаралась успокоиться, прикусила губу. «Нельзя, чтобы слышали гости… Скорее бы они кончали… Какой отвратительный обычай — пировать в день похорон…»
Слыша беспечный голос Левана, нахальный — Татаурова, звон ножей, хлопанье пробок, она чувствовала, как в ней поднимается ненависть к собравшимся. В приоткрытую дверь доносился запах жирной пищи и острой приправы, и вдруг Нина почувствовала, что её сейчас стошнит. Она вытолкала Коверзнева из комнаты, замкнула за ним дверь на ключ, и её вырвало прямо на покрывало.
Напуганный Коверзнев робко постучался.
— Сейчас, — сказала она, торопливо срывая с кровати покрывало, свёртывая его, засовывая в дальний угол за чемодан.
— Ниночка! — требовал он настойчивее.
— Сейчас, сейчас, — металась она по комнате, распахивая форточку, чтобы уничтожить запах, вытирая губы и руки духами.
А Коверзнев уже рвал на себя дверь. Когда Нина открыла её, он подозрительно оглядел комнату, задержал взгляд на потолке.
«Ищет крюк, — объяснила она себе равнодушно. — Думает, что я повешусь». И вдруг страшная мысль, что она может убить себя и таким образом погубить ребёнка, пришла ей в голову.
— Коверзнев, не оставляй меня одну, — взмолилась она.
Позже, когда разошлись гости, она уснула, положив голову на его руки…
А на другой день она начала заговариваться.
Коверзнев возил её на Невскую заставу — в Нейрохирургический институт к самому Бехтереву, и тот успокоил его, посоветовав предоставить всё времени и покою.
Коверзнев нанял двух сиделок, которые не отходили от Нины ни на минуту, и сам проводил подле неё всё свободное время. Она часто узнавала его и беседовала с ним, но вдруг взгляд её становился безумным, она вскакивала в постели, рвала на себе рубашку.
— Хотя у вас халат белый, — говорила она прерывающимся голосом, — а вы беднота… Если родится ребёнок, то надо посмотреть избиение младенцев в Палестине… Если избиение есть, то надо иметь больше детей… «Ребёнок будет расти, и его надо отдать в цирк «Гладиатор»… К сорока годам он будет знаменитым, как укротитель львов, по формуле штамбер плюс форганг… Определение мозговой оболочки не даёт ему соображать… Здание вашего цирка строится ошибочно… Кто эту формулу сделал? Ломоносов или Дуров? Сердечная деятельность в левой части… Диафрагма есть борьба методом экспроприации… Медицина держится на удаве, а удав любит кофе с молоком…
Наконец Нина успокаивалась и последние слова произносила обычным ровным тоном, и от этого было ещё страшнее, и Коверзнев, чтобы не видели сиделка и Леван, уходил в уборную плакать.
49
Никиту выписали из больницы через месяц. Самая опасная рана (около виска) зажила всех быстрее. Оставалась одна повязка на правом плече, да и ту можно было скоро снять.
В Липецке он не мог оставаться ни одного лишнего дня — слишком свежа была в памяти смерть учителя. Нечего ему было сейчас делать и в Петербурге. Ехать в Вятку, так ничего и не добившись, было стыдно… После раздумий он решил махнуть на юг.
Несмотря на то что он к этому времени прочитал почти всю энциклопедию, познания его в географии были очень скудными. Из разговоров он знал лишь об Одессе, Киеве и Тифлисе. Но туда ехать было нельзя, ибо, как говорил ему Ефим Николаевич, тамошние цирки принадлежали людям, которые были связаны круговой порукой с Чинизелли. Такие директора не взяли бы Сарафанникова в чемпионат… Других же городов Никита не знал. Он долго стоял у билетной кассы, изучая расписание, и наконец выбрал Кишинёв.
В Кишинёве цирка не оказалось. Предлагать свои услуги хозяину кинематографа Никита не решился. Оставив штангу на вокзале, он отыскал ресторан и, сидя над скудной двойной порцией беф–строганова, думал о том, что у каждого знаменитого борца имеется специальный человек, который заключает все сделки. Вот именно такого человека ему сейчас и не хватало.
Пересчитав деньги, он не решился заказать лишнюю порцию и, вздохнув, поднялся из–за стола. Однако есть хотелось нестерпимо, и он направился на рынок. Взял там десяток печёных яиц, облупил их и уничтожил вместе с караваем хлеба и дюжиной помидоров; затем взболтал четверть молока и, к радости босоногих мальчишек, опорожнил её из горлышка.
Пока он пил молоко, какой–то потрёпанный господин в пиджачной паре ходил вокруг него.
Скосив глаз, Никита наблюдал за ним — было такое впечатление, что тот принюхивается.
Когда Никита поставил пустую четверть на прилавок, потрёпанный господин приподнял фетровый котелок и поинтересовался нерешительно:
— Если ошибусь — простите… Ваша фамилия не Сарафанников?..
— А что? — подозрительно спросил Никита.
— Меня зовут пан Сапега, — сказал господин, не опуская котелка, и Никита заметил, что у него один глаз вставной.
— Откель, — спросил Никита и поправился: — Откуда вы меня знаете?
— Я — известный борец… в прошлом… И лишь злой рок забросил меня к этим мамалыжникам… Чистая случайность… Я здесь снимаю номер в гостинице… Прошу быть гостем… Там и поговорим обо всём.
«Хоть гостиница где — узнаю, — подумал Никита. — А то ведь на вокзале бы пришлось ночевать». И согласился:
— Пошли.
Сапега всю дорогу приглядывался к нему, спросил ещё раз:
— Так я не ошибся — вы Сарафанников?
Никита вздохнул:
— Да.
— Вероятно, сидите на якоре?
Никита промолчал.
В гостинице Сапега показал альбом вырезок о борцовских чемпионатах и пачку открыток; среди них было несколько с изображением Никиты.
Никита открыл свой чемодан. Сапега с любопытством заглянул туда и, увидев верзилинские медали и жетоны, всплеснул руками:
— Матка боска, какое богатство! Недаром о вас так много писали в прессе… Сколько вам лет!
— Скоро двадцать, — неохотно сказал Никита. В том, что награды не его, признаваться не стал.
Пан засуетился, забегал по номеру, потирая руки.
— Хорошо бы сбрызнуть наше знакомство… Вы не богаты?.. Ссудите взаймы… Выпьем на мой счёт… Я прогорел в этой чёртовой Бессарабии, воспетой Пушкиным… Не рад, что приехал сюда…
— Нету у меня денег, — угрюмо признался Никита.
Сапега не поверил, но больше просить не стал. Однако, увидев, что Никита не может заказать номер, приказал поставить рядом со своей вторую койку и обнадёжил:
— Ничего. Это бывает с нашим братом атлетом. У меня есть план, который поможет нам сняться с якоря… Бороданов с цирком застрял сейчас в задрипанном городишке (то ли Липканы, то ли Липкана — сам бог не разберёт)… задолжал всем артистам… Из кожи вон лезет — а сборов нет… Дамы бесплатно, двое на один билет, лотерея — ничего не помогает. В цирке — хоть шаром покати… Бороданов — сам известный в прошлом борец — организовал чемпионат: борются все — клоуны, акробаты, конюхи, директор, управляющий… Но публика знает, что они — борцы ряженые, и не идёт… Мы сделаем так: приезжаем вместе, но я остаюсь инкогнито; выпускаем афишу с вашим портретом, расписываем в газете ваши победы… Вы выступаете с атлетическими номерами… фурор!.. Через день я являюсь в цирк и спрашиваю, на каком основании вы написали в афише, что победили меня… Происходит скандал… Я вызываю вас и кладу…
Никита тяжело задышал.
Сапега поторопился его успокоить:
— А вы на другой день меня кладёте… А третью схватку кончаем вничью… Сборы полные… В цирке — негде яблоку упасть… Никаких «двое на одно место» и «дамы бесплатно»… Я снова побеждаю вас, потом вы меня…
— Комедь, — кратко сказал Никита и усмехнулся.
— Матка боска! Ещё какая комедия, — обрадовался Сапега, — сделает честь самому профессору атлетики Коверзневу!.. Но зато условия диктуем Бороданову мы, а не он нам!
— Вы вот что… — сказал Никита. — Придумали интересно, только я ложиться не намерен…
— Но это для пользы дела! Ради денег, матка боска… Потом вы меня кладите, сколько вашей душе угодно…
Никита захлопнул крышку своего чемодана, сказал, поднявшись:
— Ну вот что… Я иду — прогуляюсь. А что вы сказали — подумать надо.
— Да что тут думать, что думать? — снова засуетился Сапега и начал уговаривать Никиту.
Никита молча слушал, потом неожиданно согласился:
— Будь по–вашему. А сейчас — спать; утро вечера мудренее.
Наутро Сапега купил билеты на поезд, и они отбыли в Липканы.
— Это оказалась маленькая станция, и брезентовое шапито цирка, стоявшего на базаре, было видно с вокзала.
Сапега разыскал Бороданова; тот сидел, насупившись, и пил пиво. Кивнув на моросящий дождь, сказал:
— Окончательная гибель моя.
Угрюмо выслушав пана, отрезал:
— Не выйдет. Не признают борьбы тутошние обыватели.
Сапега прикладывал руки к груди, вскакивал со стула, убеждал.
Бороданов с любопытством измерил взглядом Никиту, отмахнулся от вырезок и открыток, подсовываемых паном, произнёс:
— Не мельтеши, пан, перед глазами. Знаю я Сарафанникова, а с учителем его — Верзилиным — неоднократно боролся… Пошли к управляющему.
Артисты с радостью встретили предложение приезжих борцов — появилась маленькая надежда на жалование. Они застряли здесь с середины мая и совершенно прожились, не получив ни копейки от Бороданова.
Ни у директора, ни у артистов не нашлось денег на афишу. Видимо, ожидая получить большой барыш, Сапега сам ассигновал средства на рекламу.
Закрывшись в номере, чтобы не попадаться на глаза будущим зрителям, он послал Бороданова в типографию, а Никиту — в редакцию газеты.
Никита, выслушав наставления пана, развеселился, под дождём пошёл по указанному адресу, рассказал редактору, что в Липканах застрял случайно, даст несколько гастролей в цирке, для убедительности сломал захваченную с собой подкову, чем вызвал изумление всех сотрудников.
Ночью артисты цирка расклеивали по липканским заборам афиши с портретом Сарафанникова, в которых был убедительный список его побед. Никита с удовольствием перечитал знакомые имена; было приятно, что среди перечисленных побед нет ни одной липовой; даже имя Сапеги не кололо глаза — Никита был сам себе на уме… Афиша выглядела совсем по–столичному, и только одной деталью отличалась от таковой–внизу стояла приписка: «В первый день дамы допускаются бесплатно». На этом настоял Бороданов — он не очень верил в затеянное.
А к полудню вышла маленькая газетка, в которой сообщалось, что «вчера в редакцию зашёл г. Сарафанников, известный русский атлет, и в присутствии гг. сотрудников сломал огромнейшую подкову».
К началу представления больше половины билетов было распродано. После небольшой программы Никита выступил со своими номерами. Публике, видимо, это понравилось, потому что на следующий день цирк был почти полон.
Сделав всё, что положено, Никита вызвал любителя на борьбу. Воспрянувший духом и от этого слегка переложивший за воротник, директор цирка совершенно искренне, без предварительной договорённости, принял вызов, и Никита положил его на одиннадцатой минуте. Пока они боролись, в цирке появился Сапега и, тоже совершенно искренне удивившись происходящему и решив, что за его спиной Бороданов и Сарафанников вступили в сделку, стал требовать прекращения схватки. Бегая от борцов к публике и от публики к борцам, он размахивал руками и кричал, что, проезжая через Липканы, увидел на вокзале афишу, которая вынудила его отстать от поезда и на сутки задержаться «в этой дыре».
— Это возмутительно! — вопил он, потрясая афишей. — Кто дал право господину Сарафанникову заниматься фальсификацией?! Я знаю, что он очень сильный борец, но где и когда он побеждал меня?! Прекратите матч, я сам с ним буду бороться! И мы ещё посмотрим, кто будет протирать лопатками этот дурацкий ковёр!.. А если он откажется от схватки со мной, я возбужу против него уголовное преследование!..
И пока они продолжали бороться, он выкрикивал нечто подобное.
— Ставлю пятьдесят рублей, что он не устоит против меня до полицейского часа!
Вытерев пот, одутловатый, ширококостный Бороданов сказал, что он директор цирка и сам опытный борец, а поэтому может, положа руку на сердце, заявить, что ничего позорного в проигрыше Сарафанникову нет.
— К мировому! — снова завопил Сапега. — Бороться! — и начал снимать пальто и пиджак.
Директор, нелепо выглядевший в борцовском костюме, призвал его к спокойствию.
— Раз вы борец, вы прекрасно знаете, что я не имею права допускать эту борьбу без разрешения исправника. Если разрешат — завтра, пожалуйста… Кроме того, учтите, что вы собираетесь слишком много форы получить у господина Сарафанникова: он сегодня поднимал штангу, гнул железо, поднимал оркестр и даже боролся. Ему нужен отдых.
— К мировому!
— Это дело ваше. Меня ваши взаимоотношения не касаются. А афишу с собой привёз господин Сарафанников, я за неё не отвечаю. Разбирайтесь с ним сами. А если хотите бороться — завтра я получу разрешение.
Как Сапега ни кипятился, Бороданов стоял на своём.
Никита смотрел на них, и ему казалось, что оба они уже не играют, а ссорятся всерьёз. Но вот разошлась возбуждённая публика, и Сапега залился смехом, довольно потирая руки.
— Ну, как? — хвастливо спрашивал он артистов и восклицал: — Матка боска, какой будет завтра сбор! Неслыханный будет сбор! Готовьте контрамарки! Люди завтра забьют все проходы в вашем цирке. Директор со всеми вами расплатится, да и нам с Сарафанниковым кое–что перепадёт… Но весь эффект именно в том, чтобы завтрашняя победа досталась мне… Это так подогреет собравшихся, что они согласны будут заложить жён и детей, лишь бы попасть в цирк!
— Нет уж, — упрямо сказал Никита, — первый я не лягу.
Как его Сапега ни уговаривал — стоял на своём. Положил он его под восторженный стон публики буквально на третьей минуте, а в раздевалке заявил:
— Завтра тоже положу.
— Ты рехнулся! Матка боска, он рехнулся!
— Ничего не рехнулся. А ложиться не буду, и всё. Вон вы сами в афише писали, что я победил…
— Так в афише мы нарочно, чтобы заинтриговать публику…
— Ну вот, не нарочно вы меня и положите.
— Иезус — Мария! Он сошёл с ума!.. Ты же без денег тогда останешься!
— Ну и пусть. Честь дороже денег.
Сапега побежал жаловаться Бороданову, а Никита подумал: «Голова два уха, не понимает, чему меня Ефим Николаевич учил». После принятого решения сразу стало легче. Огорчал лишь предстоящий разговор с Бородановым.
Однако всё разрешилось просто. Директор сказал:
— Аллах с ним. Только бы тебе не надо было предупреждать его, а положить на манеже… И сбор был бы, да и проучил бы ты его… Сам боролся — понимаю, что честь бывает дороже денег…
Сапега сбежал, а публика чуть не разнесла из–за этого цирк. Всё это сделало Никиту популярным, мальчишки бегали за ним толпой. Но цирк снова начал пустовать.
Сидя над кружкой пива, задумчиво почёсывая щёку, Бороданов сказал Никите:
— Коммерсант из тебя не выйдет… А ошибку исправлять придётся… Быка достанем — будешь бороться.
Никита молчал, обдумывая предложение.
Бороданов пил пиво, уговаривал.
Только мальчишеское самолюбие заставило Никиту решиться на этот шаг. Он сам это понял, когда в нелепом костюме тореадора стоял посредине арены. Публика настороженно молчала. «Скорее бы уж», — тоскливо подумал он. За кулисами послышался рёв быка, зрители заволновались, испуганно поглядывая на выход. Оркестр грянул марш из оперы «Кармен», и под его звуки, взрывая землю копытом, на манеж выбежал огромный зверь; шестеро униформистов сдерживали его за цепь; она натягивалась, дёргала железное кольцо, продетое в его морду, причиняла ему боль.
Бык вращал налитыми кровью глазами — не понимал, чего от него хотят.
Музыка неожиданно смолкла, служители ослабили цепь, и Никита шагнул к быку. Но животное не подпускало его к себе, оно рыло землю ногой, дрожало от возбуждения. Затем, нагнув голову, бросилось на Никиту. Цепь, лежавшая на земле, натянулась, борец схватился за острые рога зверя, но сразу же отлетел в сторону.
Публика закричала, затопала, засвистела.
Бык продолжал рваться из рук дюжих мужиков, с морды его хлопьями падала пена, глаза сделались багровыми.
Никита снова шагнул к нему, но на этот раз чуть не напоролся на рог. Бык озверел; казалось, служители не смогут его удержать. Никита весь собрался и, сделав выпад, снова вцепился в два широкостоящих рога, но животное мотнуло головой, и он пролетел по воздуху и, перевернувшись, неловко упал на спину.
Раздался смех:
— Это тебе не с паном бороться!
— Трус!
Прикладывая ко рту ободранные руки, тяжело дыша, Никита, как одержимый, пошёл вперёд. Ни в одной из схваток он ещё не испытывал такого чувства: «Лучше умереть, чем быть осмеянным». Шаг за шагом он приближался к разъярённому зверю, растопырив руки, стремясь встретиться с ним взглядом. «Если бы они догадались натянуть цепь во время моего броска», — мелькнула мысль, но в это время огромная морда оказалась рядом, Никита схватился за рога и — о радость! — начал ломать шею бугая. Испытывая нечеловеческое напряжение и торжествуя уже победу, он неожиданно для себя вновь отлетел в сторону, ударился головой о барьер.
Снова грянул смех, но его покрыл истеричный вопль женщины:
— Перестаньте!
Её поддержала другая:
— Не надо! Не надо!
Ничего не видя и не слыша, обливаясь кровью и потом, Никита снова пошёл навстречу четвероногому противнику.
— Прекратить! Варвары! Убийцы! Что вы делаете! — раздались крики.
В первом ряду две женщины упали в обморок, третья билась в истерике.
Дежурный пристав с нарядом городовых ринулся на арену.
— Именем закона я прекращаю представление!
Никита отбросил в сторону городового, как самого его до этого отбрасывал бык, и, закусив губу, уставившись сумасшедшим взглядом на зверя, пошёл вперёд.
— Взять! — приказал пристав, и городовые кинулись на спину Никите, заламывая его руки.
— Пустите! — кричал он. — Вы не имеете права! Я положу!.. Всё равно!.. Пустите!..
Ему скрутили руки, утащили с манежа. Больших трудов Бороданову стоило успокоить его. Директор увёл его к себе на квартиру, весь вечер рассказывал о том, как сам в молодости боролся с быками. Никита всё ещё время от времени вздрагивал, недоумённо рассматривал забинтованные ладони. Потом пообещал угрюмо:
— Жив не буду, а положу всё равно.
И когда поджили раны на руках, своё слово сдержал. В течение месяца он положил двух быков, а в конце июля Бороданов наполовину расплатился с артистами и отбыл с ними в Кишинёв.
50
Однажды за кулисы к Никите пришли трое юношей в гимназической форме. Стеснительно переминаясь с ноги на ногу, они сказали, что хотели бы посоветоваться с ним относительно занятий тяжёлой атлетикой.
Один из них — высокий, широкоплечий — признался застенчиво:
— Я немножко с гирьками вожусь.
Никита указал ему на гири, и юноша взял двухпудовку и выжал её довольно легко.
Они разговорились, и на вопрос Никиты, не хотят ли уж они выступать в цирке, ответили, что нет, просто считают, что современный человек должен быть всесторонне развитым.
Это укололо Никитино самолюбие.
— Чтобы стать настоящим атлетом, надо много времени занятиям уделять, много тренироваться, — сказал он с некоторым раздражением.
На что юноша ответил торопливо:
— Вы не думайте — мы будем заниматься серьёзно. Только не для того, чтобы стать профессионалами, а для того, чтобы развить силу. Сила всегда может пригодиться.
Последнее утверждение Никите понравилось, и он дал согласие пойти с ними.
Глядя на скамейки, расставленные в просторном полутёмном амбаре, на «арену», застланную брезентом, Никита подумал, что они занимаются всерьёз. Он сел на первую скамейку и стал смотреть, как они борются.
Постепенно амбар заполнялся; среди гимназических серых курток и коричневых платьев с чёрными пелеринками виднелись рабочие блузы и пиджаки; было много маленьких мальчишек.
Никита почувствовал себя неловко среди этой компании, сидел ссутулившись, не знал, куда деть свои руки — чувствовал, что на него смотрят с любопытством и даже обожанием. Самый бойкий из его новых друзей — юноша с иссиня–чёрными волосами и яркими губами, Илюша, как его называли товарищи, — уселся рядом с ним, сказал, что у них сейчас будет концерт и они очень бы хотели, чтобы Никита Иванович не уходил.
Гимназист, который в цирке поднимал Никитину гирю, показал свою силу; потом двое боролись, поглядывая на борца, — видимо, боялись, что не угодят ему. Вслед за ними вышел длинноволосый мальчишка в чёрной косоворотке с болезненным румянцем на щеках. Его встретили аплодисментами; заложив руки за спину, глядя в серый брезент «арены», он пережидал; вдруг вскинул голову и начал читать:
— Над седой равниной моря ветер тучи собирает.
Между тучами и морем гордо реет Буревестник, чёрной молнии подобный…
Никита подался вперёд, стараясь не пропустить ни одного слова, не спуская глаз с читавшего.
Эти стихи вселяли бодрость, звали на подвиг, хотелось обнять всех этих хороших ребят, которые привели его сюда, расцеловать их. Когда отзвучали последние слова, Никита чуть не вскочил, но вовремя сдержался, стал вместе со всеми хлопать в ладоши.
— Хорошо читает? — спросил Илюша с горящими глазами.
— Здорово, — восторженно ответил Никита, аплодируя.
А молодёжь продолжала читать стихи, петь песни, которых прежде Никита никогда не слыхал.
Он подумал, что первый раз находится среди подобных людей и что, несмотря на молодость, они старше, умнее тех, с которыми он живёт; было видно, что они знают больше, чем другие, и от этого им легко жить. «Они видят свою цель. Им и сила–то нужна для того, чтобы бороться». Хотелось сделать для них что–нибудь приятное, удивить их, показать им, что и он — сильный и всё понимает. Он уложил бы сейчас любого быка к их ногам — столько в нём было силы. Он вышел на «арену» и, взяв лежавшее вдоль стены, пахнувшее смолой бревно, сказал:
— Выходите все!
Если бы хоть кто–то из них показал неуместность его выходки, он бы сгорел со стыда. Но никто не увидел в его поступке хвастовства. Со смехом, опрокидывая скамейки, все побежали на «арену», облепили бревно; Никита рывком поднял его над головой и начал крутить; ребята падали на мягкий брезент, смеясь друг над другом, визжали девочки, кричали мальчишки.
Никита бросил бревно в сторону, с восторгом смотрел на молодёжь.
Идя домой, думал бессвязно: «Да, с такими хорошо… Они — научат, не смотри, что молодые…» Пробовал напевать запомнившуюся строку:
Будет буря — мы поспорим
И поборемся мы с ней…
На другой день ему хотелось снова пойти к ним, но он не решился этого сделать. Все дни ходил под впечатлением этой встречи и очень обрадовался, когда гимназисты снова явились к нему за кулисы. Теперь он часто бывал у них в амбаре и, сидя где–нибудь в сторонке, слушал их разговоры. Амбар принадлежал отцу Доната, того самого юного силача, который выступал с гирями. Отец никогда не заходил сюда — говорили, был занят торговлей, но зато иногда появлялась мать — интеллигентная, тихая женщина; она сидела, как и Никита, в сторонке, молчала, переводила задумчивый взгляд с сына на его друзей, иногда встречалась глазами с Никитой, стеснительно улыбалась. Когда говорили что–нибудь слишком резкое и слишком смелое, она вздрагивала, но никогда не останавливала говоривших. Если начинали бороться или поднимать гири, умоляла:
— Только прошу вас — осторожнее.
— Мамочка, — говорил Донат, нежно обнимая её за плечи, — вы бы шли, чтобы не расстраивать себя.
Вздохнув, она уходила. А они, навозившись до устали, начинали разговаривать, ругали какого–то Иллиодора Труфанова, плюющего на портрет Льва Толстого… Было много непонятного в их словах, и от этого Никите было обидно, хотелось попросить у них книжку, которая бы помогла ему разобраться во всём, но он не знал, существует ли такая книга. Он всё ждал, что они снова соберут много народа и будут петь песни и рассказывать стихи. Как–то сказал Илюше:
— Вы бы дали мне песенник с теми песнями.
Илюша переглянулся с Донатом, тот кивнул головой и вышел из амбара. Вернулся он с тоненькой книжкой в руках. Она была отпечатана тусклыми фиолетовыми чернилами, а в кружочке на обложке были изображены оборванные люди с развевающимися флагами.
— Только никому не показывайте, — предупредил Донат.
А Илюша пояснил:
— Эти песни запрещены царским самодержавием. И отпечатаны на гектографе в подпольной типографии.
— Вы доверьтесь мне, — сказал взволнованно Никита, прижимая песенник к груди. — Я ведь понимаю, что есть правда… И за неё готов…
Он не находил слов, чтобы выразить свою мысль, а юноши смотрели на него, улыбаясь доброй улыбкой, и от этого опять в груди Никиты поднялась горячая волна. Он заговорил торопливо, рассказывая о том, что ему пришлось испытать, рассказал о судьбе своего учителя, потом смутился, спросил:
— Неинтересно вам всё?.. Разговорился я…
Не отвечая на его вопрос, Илюша сказал возмущённо:
— Но так же нельзя! Разве это спорт?
Никита махнул рукой:
— А разве вы думаете, это настоящие чемпионаты? Нет, таких сейчас не бывает. Кому не лень, тот и проводит. В «Гладиаторе» у Коверзнева чемпионом мира стал Татауров, а в это же время мировой чемпионат проводился в Москве, Киеве… Там свои чемпионы…
— Да это тоже неправильно… Но главное — возмутительно, когда чемпионом становится не сильнейший!..
Сейчас уже Никита смотрел на них с улыбкой.
А Илюша, обращаясь к Донату, сказал гневно:
— Вот видишь, как сказывается растлевающее влияние самодержавия даже в спорте.
Этот разговор сблизил их ещё сильнее, и когда Никита, выучив и «Варшавянку», и «Смело, товарищи, в ногу!», и «Красное знамя», и другие песни, вернул песенник своим юным друзьям, Илюша, оглянувшись по сторонам, дал ему листовку:
— Это берегите сильнее, чем песни.
Придя в гостиницу, Никита осмотрительно закрылся в номере, стал читать:
«Товарищи! Прошёл год со времени расстрела 500 наших товарищей на Лене. За мирную экономическую стачку 4 апреля 1912 года на Ленских приисках по приказу русского царя, в угоду кучке миллионеров, расстреляно 500 наших братьев. Ротмистр Трещенков, царским именем учинивший этот разбой, получив высокие награды от правительства и щедрую мзду от золотопромышленников, теперь разгуливает по аристократическим кабакам в ожидании места начальника охранного отделения. В горячую минуту обещали обеспечить семьи убитых, оказывается — нагло соврали. Обещали ввести государственное страхование рабочих на Лене, оказывается — обманули. Обещали «расследовать» дело», а в действительности спрятали даже то следствие, которое произвёл их же посланец — сенатор Манухин. «Так было, так будет», — бросил с думской трибуны министр–палач Макаров. И он оказался прав: царь и его правители были и будут лжецами, клятвопреступниками и камарильей, творящей волю диких помещиков и миллионеров…»
Никита вспомнил редакцию петербургской газеты, куда его, избитого, привёл ночью Верзилин, и слова редактора о том, что никакой вины царя в смерти рабочих на Ленских приисках не было.
«Как я тогда не мог понять, что нас кругом обманывают? — взволнованно думал Никита. — Народ хочет лучшей жизни, а царь топит его за это в крови…»
Он стал приглядываться к борцам и артистам цирка перед выступлением. «Слепые вы, не знаете, кто виноват во всём, — мысленно обращался он к ним. — Обманывают вас на каждом шагу, а вы молчите… Думаете только о куске хлеба… А эти мальчишки насколько больше вашего понимают… Им известно, что делать».
Сознание того, что он сейчас знает больше окружающих, поднимало его в собственных глазах, давало уверенность. Его тянуло к новым друзьям, он шёл к ним, брал у них книжки. «Вот так бы и жить с ними рядом», — думал он, слушая их разговоры. Всех больше из этих юношей ему нравился Донат, и Никита считал его главным в кружке, о существовании которого можно было догадываться. Но каково было Никитино удивление, когда он со временем узнал, что у них существует бюро и возглавляет его вовсе не Донат, а Пашка Локотков — рабочий с мукомолки. В амбаре Локотков появлялся ненадолго, собирал вокруг себя ребят, говорил, чтоб железнодорожникам подбросили листовок, давал ещё какие–то задания, исчезал. Вывод, что простой рабочий руководит гимназистами, ещё больше поднимал Никиту в собственном мнении. «Ведь не учёный, такой же, как я». А тут ещё Донат ему сказал, что рабочие — творцы жизни; всё на свете создано их руками. «Действительно, это так, — взволнованно думал Никита. — Всё сделано нашими руками. А что мы имеем за это? Крышу над головой и кусок хлеба?..»
Никита старался сравнивать себя с Локотковым, но с огорчением убеждался, что этот рабочий парень стоит ближе к Донату, чем к нему, Никите: он смел в суждениях, всё для него ясно, уверен в своих силах; странно, что он, как и гимназисты, в разговорах употребляет массу незнакомых слов: «социализм», «Циммервальд», «ренегат», «камарилья». Никита как–то взял одну из книг, которую хвалил Локотков, но ничего в ней не понял. Прежде бы он обиделся из–за этого на парня, как когда–то обижался на Коверзнева и Смурова, но теперь у него не было чувства зависти. Никита только вздохнул, подумав, что много ему ещё надо читать, чтобы стать таким, как эти ребята. «Но ничего, — решил он. — Буду жить рядом с ними и достигну всего…»
Но его желаниям не суждено было осуществиться.
Однажды днём, идя по центральной улице, он увидел привычное шествие. Шла толпа бородатых людей в поддёвках и сапогах бутылками; над ней плыли золотые хоругви и иконы; два здоровенных мужика несли царский портрет. «Крёстный ход», — мелькнула мысль. Широко открывая волосатые чёрные пасти, люди пели:
Боже, царя храни,
Сильный, державный…
От толпы отделился парень в полинялой ситцевой косоворотке и опорках на голых ногах, поднял с дороги булыжник и швырнул его в сверкающую витрину магазина Гриншпуна. Раздался звон стекла, толпа рассыпалась, люди неуклюже наклонялись, напоминая четвероногих животных, хватали камни. Из окон полетели под ноги топчущихся бородачей стеклянные вазы, зеркала, абажуры… В несколько минут магазин был разгромлен.
«Что они делают?! — подумал Никита. — Почему их никто не остановит? Где полиция?» Он безвольно прижался к каменному цоколю дома. Надо было что–то предпринимать, кого–то звать на помощь.
Но люди снова сгрудились, заколыхались хоругви, поплыл впереди портрет царя.
И вдруг Никита увидел крупную фигуру Доната. Гимназист стоял на противоположной стороне, прислонившись широким плечом к телеграфному столбу, сунув руки в карманы серых отглаженных брюк; фуражка его с ярким кантом и бронзовым значком была сдвинута на затылок, светлая прядь волос свесилась из–под лакированного козырька.
— Шапку! — закричал на него щупленький мужичишка в выцветшем пиджаке с чужого плеча. — Шапку перед государь–императором!
Он подскочил к Донату, подпрыгнул, стараясь сорвать с юноши фуражку; тот отстранился, крикнул с ненавистью:
— Не смей!
— Шапку! — орал мужичишка.
Из толпы боком вылез долговязый человек с синими ввалившимися щеками, медленно расстёгивая задний карман штанов; в руке его появился револьвер.
Рядом с Никитой взвизгнула женщина:
— Охранник переодетый он… Во дворе у нас живёт…
Никита понял — тот будет стрелять, надо было остановить его, но ноги приросли к тротуару.
Рука охранника вздёрнулась.
Донат не видел его. Отталкивал мужичишку, кричал:
— Вы не смеете!.. Человек свободен!..
Прозвучал выстрел, зазвенело стекло, Донат обеими руками отшвырнул своего врага, сжал кулаки.
С криком: «Спасай Россию!» на панель выскочил откуда–то взявшийся пан Сапега. Он размахивал гирькой на верёвке — бежал к юноше.
Это подействовало на Никиту отрезвляюще. Никита прыгнул на дорогу, разбрасывая людей в стороны. Гирька в руках Сапеги зловеще крутилась, со свистом рассекая воздух.
— Бух! Бух! — прогрохотали выстрелы. Всё смешалось. Никита настиг Сапегу, когда тот догонял убегавшего Доната. Жестокий удар бросил пана наземь, гирька вырвалась из его рук и стремительно покатилась по пустому, освещённому солнцем тротуару, стукнулась о кирпичи. Никита зачем–то подхватил сё на ходу — это была не гирька, а вставной глаз Сапеги. Никита обернулся, распрямляясь, увидел окровавленное лицо пана и трёхцветный значок на лацкане его пиджака. Размахивая кулаками, приближались озверевшие люди. Никита сшиб двоих из подбежавших. В это время Донат схватил его за руку, крикнул:
— Здесь проходной двор!
Они бросились в тёмный подъезд, выскочили во двор, пробежали вдоль красного брандмауэра, Никита подсадил Доната, взобрался на забор, тяжело свалился на дощатую помойную яму. Вспугнув пискнувшую птицу, они через заросли крапивы и репейника выскочили в переулок. Здесь криков не было слышно. Обирая с брюк колючий репей, они отдышались, медленно пошли.
— В центре города… На глазах у всех… И полиция знает… Стадо зверей… Перестрелять их… — тяжело дыша, говорил гимназист.
Потом они долго сидели в прохладном полутёмном амбаре, Донат непонятно объяснял, почему царю нужны погромы, рассказывал о каком–то Бейлисе и о Мултанском процессе, восхищался писателем Короленко. А Никита думал о погроме черносотенцев: «Это жулики, человеческое отребье, золоторотцы; это не люди…»
Бороданов встретил его испуганно, сказал: был Сапега, да не один — все пьяные; среди них — переодетые полицейские.
Играя стеклянным панским глазом с карей радужной оболочкой, Никита слушал директора, возмущался: «И управы на них не найдёшь…»
— Ты вот что, — сказал Бороданов, — жалко мне, а поезжай… Доберутся они до тебя здесь… Спасибо тебе, поработал у меня… Хороший ты парень… А денег я тебе дам…
Никита уехал, и с этого дня жизнь его закрутилась, как в калейдоскопе.
В Одессе он попал в чемпионат македонца Маврокордато. Тот поставил ему условие — лечь под него. Никита отказался. Тогда Маврокордато заявил:
— Ты бороться не будешь.
Когда борцов вызвали на парад, Никита тоже вышел. Маврокордато, стоявший головным в шеренге, посмотрел на него зло и что–то шепнул арбитру.
Арбитр начал представлять борцов:
— Чемпион мира, непобедимый геркулес Маврокордато!
— Чемпион Европы — Ламберг!..
Когда очередь дошла до Никиты, пропустил его, объявив стоявшего за ним.
Никита сделал шаг вперёд, поклонился публике и представился:
— Никита Сарафанников. Вятка.
Имя его вызвало в цирке овацию — город был большой, и любители читали коверзневские очерки.
В раздевалке, улыбаясь, Никита добродушно спросил хозяина чемпионата:
— Разве бы публика поверила вашей победе надо мной?
Маврокордато сжал кулаки, крикнул:
— Не пущу! Я хозяин!
Никита спокойно пожал плечами:
— Если не пустите, я выйду на арену и разоблачу вас.
Грек засопел, сказал отрывисто:
— Борись. В бур. Когда очередь дойдёт до меня — уезжай.
Никита уговаривал борцов:
— Дураки, он же слабее вас. Зачем ложитесь?
Они сердились:
— Тебе хорошо — взял и уехал. Тебя в какой угодно чемпионат примут. А нам есть–пить надо.
— А мы, давайте, все откажемся. Один он против нас не попрёт, — предлагал Никита.
— Нет, ты нас не уговаривай. Это тебе одному выгодно.
«Глупые, — думал он, жалея их. — Вам бы сюда Локоткова с Донатом, они бы всё объяснили».
Все схватки он выигрывал без труда, но когда очередь дошла до борьбы с хозяином, атлеты потребовали от Никиты:
— Если не хочешь проигрывать — не борись, уезжай. А то у нас не будет сборов, Маврокордато прогонит нас. Уезжай.
Никита понял, что так и случится. Скрепя сердце, уехал. Боролся в Киеве, Харькове, в маленьких городках. Везде занимал первое место. О нём писали в газетах. Но составы чемпионатов были слабые, он почти не встречал никого из петербургских и московских борцов. Труднее всего оказалось в Казани, в цирке Соболевского, но и там он получил первый приз. В Саратове, в цирке Фарух, его не взял в чемпионат арбитр. Борьба там проходила с помпой, в цирке не было свободных мест, афиши трубили о том, что состязание идёт на приз в две с половиной тысячи франков и что чемпионат организован «известным спортсменом–членом английского атлетического общества–клуба «Унион — Старт» Лери под управлением фон‑Вальтера до приезда Лери». Фон — Вальтер оказался известным Никите по Петербургу борцом Ковалёвым; а никакого Лери, конечно, в природе не существовало.
Никита вышел на арену во время парада и бросил вызов всей труппе.
Арбитр не принял вызова, сославшись на то, что для этого нужно разрешение полицмейстера. Когда Никита начал настаивать, появились два «фараона» и увели его с манежа. В участке он получил предписание покинуть Саратов в двадцать четыре часа.
Борца, под охраной конного полицейского, отправили на вокзал. В дороге Никита скрутил полицейскому руки, связал ноги лошади и забросил её на крышу дровяника. А сам на маленьком пароходишке уехал в Бузулук. Там работал цирк Коромыслова, того самого Коромыслова, у которого в Вятке Никита познакомился с Верзилиным. Управляющий Коромыслова — вертлявый человечек с чёрными усиками колечком, Синицын — встретил Никиту с распростёртыми объятиями. Они заключили контракт, и дело было только за подписью хозяина. Но в кабинете Коромыслова Никита неожиданно отказался от выступлений.
Подбрасывая на ладони радужный стеклянный шарик, когда–то заменявший пану Сапеге глаз, Никита сказал коротко: «Не буду», и ушёл из цирка. Ни Коромыслов, ни Синицын не могли догадаться, почему Никита не пожелал бороться у черносотенца — на лацкане директорского сюртука хвастливо красовался такой же значок, какой был у пана, — серебрушка на трёхцветной ленточке.
Вернувшись в Саратов, он узнал, что весь город взахлёб говорит о связанном полицейском и его лошади, заброшенной приезжим силачом на крышу. Услыхав эти разговоры, он подобру–поздорову поторопился уехать в Царицын. Там он освоил два новых номера — лежал под платформой, по которой проезжал автомобиль, и изображал из себя покойника, закопанного на метровую глубину. Потом он побывал ещё в ряде городов, участвуя в небольших чемпионатах и везде завоёвывая первые призы.
Но ему не хватало настоящей борьбы, и вот он решил ехать в Москву.
51
То, что Нина испытала, когда сын начал сосать её маленькую набухшую грудь, ни с чем нельзя было сравнить. Нежные иголочки прошлись по позвоночнику и добрались до кончиков пальцев. Она рассмеялась счастливым смехом.
Когда подошёл Коверзнев, взглянула на него благодарно, откинула кружевной уголок тонкой батистовой пелёнки, похвасталась заснувшим ребёнком.
Рассматривая малыша, Коверзнев спросил растроганно:
— Ну, как ты себя чувствуешь?
— О, превосходно, — улыбнулась она и посмотрела на него сияющими глазами из–под чёрных длинных ресниц.
— Слава богу. Я так беспокоился…
— Спасибо тебе, ты хороший.
— Ну что ты. Любой бы сделал то же самое.
— Наклонись, я поцелую тебя.
— Я не стою этого…
— Садись в кресло. Посмотри на нас с сыном.
— Он богатырь.
— Одиннадцать с половиной фунтов!
— Да. Доктор удивлён, что ты была таким молодцом.
— Это было совсем не трудно. Только страшно.
— Ну, теперь всё позади.
— О, ради этого можно согласиться на большее.
— У тебя чудесный сын.
— Знаешь, вот перед тем, как ты пришёл сюда, я лежала и думала, что счастье — в ребёнке.
— Я думаю, ты права.
— Ради этого, видимо, и живут люди на земле.
— Да.
— Слава, красивые платья и даже… любовь — ничто по сравнению с чувством, которое вызывает ребёнок.
— Да.
— Может, конечно, это испытывают только женщины, я не знаю.
— Нет, я думаю, что и мужчина испытывает то же самое. Во всяком случае, я никогда так не волновался, как тогда, когда стоял за этими дверями во время твоих родов. И ни к кому не испытывал такой нежности, как к этому малышу.
— Ты хороший.
— Ты много разговариваешь, а этого тебе нельзя. Доктор не велел тебе совсем говорить. Сказал: только лежать. Лежи спокойно, как мышка.
— Это вздор. Я чувствую себя прекрасно.
— Лежи. Я уйду. Не буду тебе мешать.
— Посиди ещё с нами.
— Если будешь молчать.
— Хорошо.
Нина наклонилась над сыном, поправила пелёнку. Он посапывал крохотным носиком, топырил губы.
— Валерьян, — прошептала она.
— Да?
— Посмотри, какой он чудесный.
— Да. У него такие же ресницы, как у тебя. Чуть не до полщеки.
— Я его назову Мишуткой.
— Хорошее имя.
— Так хотел Ефим.
— Ты лежи. Не волнуйся.
— Мишутка мой маленький, — сказала она нежно, глядя на сына. — Михаил Ефимович…
— Ты лежи, не разговаривай. Я пойду,
— Тебе хочется курить?
— Да.
— Хорошо, иди. Приоткрой чуточку дверь, когда будешь курить. Мне нравится запах твоей трубки… Это всё тот же «Ольд — юдж»?
Она закрыла глаза и лежала, улыбаясь. «Глупый, он думает, что мне тяжело. И доктор глупый, ничего не понимает. Мне хорошо и спокойно».
В щель потянуло ароматным «Ольд–юджем».
Запах табака смешался с запахом свежих цветов, стоявших рядом.
Не открывая глаз, Нина нащупала на столике дольку апельсина и положила в рот. Засыпая, подумала с благодарностью о Коверзневе: «Он — хороший… Чем я отплачу за его доброту?..» Не слышала, как няня унесла сына, как склонялся над ней доктор.
С этого дня она начала быстро поправляться.
Коверзнев сам каждое утро поднимал тяжёлую штору на окне. В морозном небе плыло низкое солнце. Оранжевое, круглое, похожее на апельсины, которые заставлял её есть Валерьян, оно катилось наискось за обснеженными деревьями Александрийского сквера и скрывалось за театром. Небо было матово–серым, как алюминий. Сквозь двойные рамы еле доносились звонки трамваев, лишь иногда от их движения дребезжала серебряная ложка в тонком стакане. Приходил доктор, сверкая золотым ртом, спрашивал о самочувствии. Она сияла глазами ему навстречу, благодарила. Иногда появлялся другой — старенький, с волосатой бородавкой на щеке; он вызывал в ней какие–то тревожные ассоциации, после его ухода в голове крутились неясные обрывки кошмарных снов. Она попросила Коверзнева:
— Зачем он? Пусть больше не приходит.
Коверзнев вздохнул, сказал:
— Ладно.
Когда старик не стал появляться, она совсем забыла о снах.
Коверзнев брал Мишутку на руки, трогательно его качал, сочинял ему песни. Иногда, отрывая от ребёнка взгляд, он смотрел на неё настороженно, спрашивал:
— Как себя чувствуешь?
— Превосходно, — говорила она.
— А голова не болит? — спрашивал он осторожно.
— Ах, отстань, что ты спрашиваешь всё время про голову?
Он молчал, а она думала: «Он боится, что мне будет так же
тяжело, как было после смерти Ефима».
Как–то она спросила:
— Это ничего, если я поставлю на стол портрет Ефима?
— Я дурак, — обругал себя Коверзнев. — Как это я не догадался? — и принёс карточку под толстым стеклом с бронзовыми скошенными гранями.
Нина посмотрела на портрет, но он не вызвал в ней той тревоги, какую вызывал прежде.
Вскоре ей разрешили ходить. Она обошла огромную незнакомую квартиру. Её вещи, расставленные в одной из комнат почти так же, как они стояли у неё на Измайловском, растрогали её до слёз. Она потянулась к Коверзневу и поцеловала его в щёку.
Придерживая Нину за талию, он вывел её в широкий коридор. Большие афиши были развешаны по его стенам… Жёлтые оскаленные львы и её красная, расшитая золотом венгерка. О, как это было давно…
— Мне кажется, что я была укротительницей ещё до того, как Ной путешествовал на своём ковчеге, — сказала она.
— Наверное, в какой–нибудь Нубийской пустыне во времена карфагенян, — пошутил Коверзнев и потёрся щекой о её худое плечо.
— Это было до или после Ноя?
— О, слишком давно, я уже забыл. Тебе нравится эта картина? Это — Ихновский. Называется «Сила и любовь».
Глядя на обнажённую красавицу, прижавшуюся к льву, она призналась.
— Нет. Тут есть что–то патологическое.
Но когда Коверзнев перевернул картину, сказала:
— Если тебе нравится, то оставь.
Огромный зал, застланный по стружке зелёным ковром, вызвал у неё восхищение. А о деревянных идолах, стоящих по его углам, она сказала:
— А они нисколько не злые.
Коверзнев, распаляясь, заговорил:
— Ты знаешь, на последней выставке я видел «Старичка–полевичка» — просто мечта. Конёнков — вообще гений.
Это имя не вызвало у неё никаких воспоминаний, и она промолчала. Пошла по податливому ковру, рассматривая длиннейшую ленту борцовских портретов над дубовой панелью. Дойдя до портрета Ефима, вздохнула. Рядом с учителем под стекло была вставлена открытка Никиты.
Нина задумалась. Очнувшись, заметив грустный взгляд Коверзнева, подумала: «Он хороший, но Никита на Ефима похож больше».
— Валерьян, где Никита?
— Исчез, — ответил он, попыхивая трубкой.
— Неужели даже из борцов никто с ним не сталкивался? Ведь приезжают же они из провинции…
— У всех спрашиваю. В несколько городов арбитрам писал. Говорят: нет. Не бросил ли уж он совсем борьбу, думаю… Пф–пф–пф… Загасла проклятая… Пф–пф–пф… Нет, горит.
— Я тебя очень прошу: отыщи его и выпиши к себе в чемпионат.
— Обязательно. Мы ещё сделаем из него чемпиона мира.
Она благодарно сжала ему руку.
Всё было интересно ей в незнакомой квартире. Добравшись до библиотеки, она воскликнула:
— Да у тебя здесь всё, как на Динабургской!
Она подошла к письменному столу, поворошила пыльные сувениры… Подкова, камыш, кусок изразца, дымковская игрушка, деревянный половник… Так же, как и старые афиши, всё это будило воспоминания… Да, с тех пор уже прошла целая вечность…
Коверзнев заставил её лечь в постель. Она долго лежала, жалея всеми брошенного Никиту… Позже, когда заныла грудь, поняла, что пришло время кормить сына. Няня принесла его, и Нина опять забыла обо всём. Глядя на него, вздрагивая, когда он сильно дёргал её за сосок, испытывая приятные уколы многочисленных иголочек на спине, она думала, что ничего–ничего нет на свете дороже этого розовенького существа…
Коверзнев по вечерам уходил в цирк, возвращался поздно, приносил с собой запах мороза и кучу новостей. Она считала своим долгом не спать до его прихода. Читая о похождениях пана Володыевского, посматривала на часы. На цыпочках проходила на кухню, разжигала спиртовку, кипятила кофе; Валерьян любил чёрный, горячий, часто пил с бенедиктином. Присматриваясь к его новым привычкам, Нина думала, что он стал настоящим барином.
Иногда к нему являлись шумные гости — люди, которых не любил Ефим.
Стараясь побороть свою неприязнь к ним, Нина выходила в гостиную, любезно протягивала мужчинам руку, обменивалась ничего не значащими словами с женщинами. Её считали хозяйкой дома, она никого не пыталась разубеждать.
Часто приехавшие проводили время на арене, устраивая схватку Татуированного с каким–нибудь новым борцом. Однако в другое время Коверзнев никого из борцов не допускал к себе в дом.
Видя, что Нина тяготится приёмами, он отказался от них. Но, чтобы не растерять полезных для дела знакомых, назначал встречи в «Вене», «Тироле» или каком–нибудь другом ресторане.
Нина не ходила с ним. И придя поздно, видя, что она не спит, он огорчался, говорил, что не получил никакого удовольствия от вечера.
По тому, как он возится с крошечным её сыном, она верила этому. Ей нравилось, как он отбирал Мишутку у няни и, неумело прижимая к себе, пел ему смешные, бессмысленные песни.
Няня качала головой, ворчала:
— Испортите ребёночка, приучите к рукам.
— Ах, перестаньте, Маша, — говорила Нина. — Пусть поиграет.
Со временем один Коверзнев стал усыплять малыша.
Сидя в мягком кресле, следя взглядом за убаюкивающим Мишутку Коверзневым, Нина думала:
«Ему бы хорошую жену — он был бы лучшим на земле мужем и отцом». Усмехнувшись горько, упрекала себя: «А разве ты не знаешь, что он, кроме тебя, никого не возьмёт в жёны?» Пыталась себя представить в роли его жены, но никак не могла. Кроме стыда, эта картина ничего не вызывала. «Он — друг на всю жизнь. Лучший. Только друг, — уверяла она себя. — Напрасно Ефим считал, что я должна связать свою жизнь с ним».
Бывало, он приходил возбуждённый, сообщал с радостью:
— Заключил договор на сборник рассказов. Надо кое–что добавить.
Закрывался в своей библиотеке — писал. Нина уносила сына в дальнюю комнату, чтобы он не мешал Коверзневу. Подходила на цыпочках с горячим кофе к дверям библиотеки, замирала. Ароматно пахло трубочным дымом. Слышались шаги — то медленные, то быстрые — Коверзнев обдумывал. Выждав момент, она робко стучалась.
Иногда он встречал её раздражённо, отталкивал поднос с кофейником, торопливо записывал что–то.
Под вечер, потягиваясь до хруста в суставах, говорил:
— Прости, я тебя обидел. Но сегодня трудно писалось.
Склонялся над спящим Мишуткой, осторожно целовал его
в мягкую щёчку.
Как–то Нина подумала ревниво: «А он Мишутку любит сильнее, чем меня», — и удивилась своей ревности.
Так же сильно, казалось ей, он любит и свой журнал. Принеся новый номер, он спрашивал Нину с тревогой в голосе:
— Хорош?
— Великолепен, — хвалила она каждый раз.
А он, бросив рядом номера, выпущенные своими соперниками, говорил:
— Мой ярче по оформлению и интереснее по материалу. Мы затрачиваем на него на несколько сот больше, зато — он лучший в России.
Она соглашалась с ним, а он, закурив, говорил:
— Вот разве что ещё «дядя Ваня» Лебедев может тягаться с нами… Этот — талант… Пф–пф–пф… Но у нас лучше бумага и цветная обложка.
Листая журнал, рассматривая фотографии борцов, Нина подумала:
«Если он и сейчас пишет так же блестяще, как писал о Никите, — это будут читать».
Хотелось видеть Никиту. Она спрашивала:
— О Никите ничего не слышно?
Он вздыхал, разводил руками.
52
Никита остановился в гостинице «Декаданс», что на Петровке, в доме страхового общества «Якорь».
Дела у него не было, и он целые дни разъезжал по Москве. Он сходил с трамвая на какой–нибудь Вороньей улице Рогожской заставы, рассматривал убогие домишки Камер — Колежского вала, пешком отправлялся на Покровскую заставу, толкался среди рабочих городских боен, возвращался на Таганку, снова садился на трамвай, сходил у Пречистенских ворот, шёл на берег и отдыхал в сквере храма Христа–спасителя. Храм напоминал ему Александровский собор в Вятке, и Никита до кончиков пальцев чувствовал, что тоскует по родному городу, по Макару Феофилактовичу, по друзьям–крючникам… Но уезжать из Москвы было нельзя, ибо в цирке Саламонского ожидалось открытие мирового чемпионата.
Падал лёгкий снежок, на Москва–реке чернели полыньи, над ними стлался пар, на противоположном берегу высились серые дома, за спиной звенели трамваи. В сквере играли дети, заботу о которых грудастые няньки променяли на кокетничанье с солдатами. Огромный глаз Александра III смотрел поверх нянек и солдат равнодушно; на мантии и короне царя–истукана лежал снег, на скипетр неуважительно села чёрная галка…
Никита вставал со скамьи, шёл по набережной — к Кремлю. Поднимался к Василию Блаженному, с яркими, как пасхальные яйца, главами, выходил на площадь. Это было любимое его место в Москве. Прислонившись спиной к серому цоколю Верхних торговых рядов, он любовался древним Кремлём… Потом отправлялся на Тверскую, в кофейню Филиппова — здесь так же, как в петербургской «Вене», собирались артисты, заключались сделки и контракты. Никита был уверен, что рано или поздно встретит кого–нибудь из знакомых борцов и они помогут ему устроиться в чемпионат. Он садился к зеркальному окну, заказывал дряхлому официанту обед и смотрел на улицу. На Тверской народу было не меньше, чем в такое же время на Невском; много было щеголеватых военных; прошёл барин в бобрах с молодой красавицей, притягивающей к себе взгляды мужчин; проплыл генерал с мордой легавой и с подусниками; два длинноволосых студента в зелёных фуражках прошли, ожесточённо о чём–то споря, никому не уступая дороги. Проносились автомобили, двигались вереницы извозчиков; городовой, увешанный медалями, дирижировал их движением, иногда рука его вздёргивалась к виску — отдавал честь сановной особе…
Когда время приближалось к восьми, Никита расплачивался и шагал на Цветной бульвар — в цирк Саламонского. Больше всего его сюда привлекал Владимир Дуров, которого до сих пор Никита знал лишь понаслышке. Великий артист покорил его каким–то неизъяснимым изяществом костюма и жестов, остроумием своих номеров. Он выходил на арену как друг зверей и враг Никитиных врагов. На нём были брюки до колен, шёлковые чулки и золотые туфли; накидка–плащик заставляла вспомнить о Нине Джимухадзе, отчего в Никитиной груди что–то приятно трепетало. Парчовый костюм Дурова был украшен драгоценны — ми камнями и перепоясан наискось красной лентой, усыпанной медалями и жетонами, а сбоку красовалась огромная звезда эмира Бухарского. Ещё Коверзнев говорил Никите, что об остроумии и находчивости Дурова можно написать целую книгу. Рассказывали, что в Берлине над ним был суд, и дело кончилось благополучно лишь потому, что анекдот русского артиста мог вызвать международный резонанс. Выступая в цирке Буша, он выпустил на арену свинью и, бросив ей каску, сказал: «Diese Schwein will Helm», что должно было означать: «Свинья хочет каску», а было, конечно, понято всеми, как: «Свинья Вильгельм»… Подобных случаев с ним было много. Особенно известен был ялтинский инцидент с самодуром–деспотом Думбадзе, запретившим Дурову шутку: «Будешь собака куцая, как наша конституция». Дуров будто бы вышел на арену и сказал: «Думбадзе про хвост запретил говорить»…
И в Москве Дуров остался верен себе. Например, читая известную крыловскую басню, он устанавливал на арене дуб, корни которого подрывала своим рылом жирная свинья; на дубе висела дощечка с надписью «Родина», а на свинье «Пуришкевич»… В другой раз на манеж вышел слон, на нём написано — «Пушкин», а рядом с ним семенила тонкими лапками моська — «Футуристы»… Никита, ещё в приходской школе полюбивший Пушкина, не жалея ладоней, хлопал Дурову… Кончалось представление, он шёл в гостиницу освещёнными улицами и думал, что и он бы мог иметь успех у публики — дали бы лишь ему показать свою силу… Но известия о чемпионате были неопределёнными, деньги уплывали сквозь пальцы, Никита уже задолжал в «Декадансе» и с тревогой думал, что, видимо, скоро придётся покинуть Москву.
Когда не было представлений в цирке, он шёл в кинематограф, смотрел что–нибудь из «Золотой серии» Ханжонкова.
В конце великого поста в кофейне Филиппова его поманил из–за соседнего столика одутловатый человек со шрамом через всё лицо. Никита огляделся кругом, но всё–таки не был уверен, что зовут его. Жуя какую–то рыбу, равнодушно смотрел на нарядную толпу за окном. Подошёл усатый лакей, склонившись, откупоривая бутылку оранжада, сказал:
— Вас изволят просить господин с соседнего столика.
Никита повернулся и, встретившись глазами с человеком, отмеченным розовым шрамом, поднялся и попросил лакея перенести его прибор. Сердце забилось часто, он подумал: «Не иначе, как борец — больно уж рост–то велик; сейчас он меня ангажирует».
Привстав, господин приветствовал Никиту и, указав на стул, спросил:
— Вижу по комплекции — вы борец, и если меня не обманули, — Сарафанников?
— Правильно.
— Вы на юге боролись с быками, как я слышал?
— Приходилось… Всё спробовал…
— Моё имя — Александров. Я директор Потешного сада. Мы устраиваем народные гулянья на всю масляную неделю; они будут проходить в манеже на Моховой. Что, если бы вам выступить со своим номером? А? Это будет ново для Москвы и даст кое–какие сборы… Обставим всё торжественно — закажем костюм матадора, сделаем декорацию Испании, яркие афиши… Как?
Никита вздохнул. Он рассчитывал, что речь пойдёт о борцовском чемпионате. Сказал угрюмо:
— Опасное это дело — с быком бороться…
— Деньги даром не даются, — сухо возразил Александров.
— Так ведь какие, смотря, деньги?
— Двести пятьдесят рублей.
Деньги показались Никите большими, но он всё–таки сказал:
— Мало… — и повторил для убедительности: — Опасно уж больно…
Играя изящной тростью с монограммами, Александров отрезал:
— Больше не можем. Приходите завтра в три часа на репетицию, заключим договор, получите аванс.
Насторожившись, Никита спросил подозрительно.
— Это как — на репетицию? Чтобы вечером этого же быка уложить?.. Нет, так не выйдет. Одного и того же быка два раза не уложишь… Это уж… извините…
Александров почесался шрамом о костяной набалдашник трости, вздохнул:
— Менять каждый раз? Нет!.. Это не входило в наши расчёты…
Насупившись, видя, что теряет заработок, Никита сказал сердито:
— Вы хоть у кого спросите… Каждый борец вам скажет…
— Ну хорошо… Завтра в три часа.
Когда Александров ушёл, Никита в расчёте на будущие деньги заказал ещё один обед и, наконец–то насытившись, вышел на улицу. Медные солдаты, стоящие под копытами «белого генерала» Скобелева, казалось, целились в плывущую по Тверской толпу. Окна в генерал–губернаторском доме словно были вырезаны из синей бумаги; в стальном небе расплывались перистые облака; закат розовел… Никита долго бродил по бульварам и узким улицам, застроенным новыми особняками, и наконец вышел к университету, облокотившись на каменный парапет, долго смотрел на тёмный пустой манеж.
На другой день манеж окружала толпа, у кассы стояла очередь, а на Никиту с афиши глянул его двойник в помпезном костюме матадора. Несколькими минутами позже, выйдя на сцену и окинув взглядом огромное помещение, заполненное безликой пятитысячной толпой, Никита почувствовал, что его охватила дрожь. Стараясь уверить себя в том, что он не волнуется, он объяснил это холодом.
Толпа зашумела, заколыхалась.
— Ведут, ведут!
Но на Никиту вид упирающегося быка подействовал успокаивающе, дрожь исчезла, мышцы стали упругими; бодрые звуки «Марша тореадора» напомнили о прежних победах.
Бык натягивал цепи, сопротивлялся — казалось, он боится Никиты. От ударов его копыт задрожала сцена, он протяжно взревел.
И вдруг Никита похолодел — бык был тот же самый, которого он сегодня положил в присутствии всей администрации. Это был верный провал. Борец растерянно оглянулся по сторонам, но Александрова нигде не было видно, служители, отпустив цепи, ретировались со сцены; почувствовав свободу, животное обвело дикими глазами огромную галдящую толпу, увидело одиноко стоящего человека и бросилось на него. Никита взмахнул малиновым плащом, отвёл удар тяжёлых рогов в сторону, избежав смерти. Теперь он сосредоточенно следил за животным, ловким взмахом яркого плаща снова проводил его рога мимо себя.
Бык начал носиться за ним по сцене, зверея всё больше и больше от неистовых криков и слепящих прожекторов. Никита играл плащом, отступал, делал неожиданный шаг в сторону, падал на колено. В голове билась лихорадочная мысль: «Во второй раз его положить невозможно. Из–за их жадности я приму смерть».
Взмах плащом, разъярённый бык проносится мимо, почти задевая Никиту, крепкие рога врезаются в макет испанского дворца; бык мотает головой, сошвыривает с них раскрашенный лист фанеры.
Толпа неистовствует.
Новый взмах, бык бросается на ненавистный ему красный цвет, и снова его рога врезаются в декорацию. Сверху с грохотом сыплются доски, обрывки холста, раздаётся звон стекла, над сценой поднимается облако пыли.
Толпа кричит, топает ногами.
Желая спасти остатки декораций, Никита отводит животное в сторону взмахом плаща.
Зверь останавливается, упирается взглядом в толпу, ревёт; с морды его падают хлопья пены.
«Так дольше не может продолжаться», — думает Никита, снова привлекает внимание быка и неожиданно хватает его за рога, сгибает ему шею. Но бык, под смех пятитысячной толпы, отбрасывает его в сторону. Это выводит Никиту из себя, он забывает об опасности, идёт с открытой грудью навстречу животному и снова оказывается на полу.
Он наступает снова и снова, и от одного из ударов перелетает через барьер. Раздаются истеричные крики женщин, смех мужчин.
Никита зло смотрит на них, тяжело забирается на сцену. Один раз ему кажется, что победа близка, ему уже чудится хруст бычьих позвонков, но опять оказывается далеко отброшенным.
И вдруг ему впервые приходит мысль, что это — не спорт! Разве на звере нужно показывать силу и мужество? Хоть бы, как в Липканах, вмешались жандармы. Ведь эта схватка почище липканской — бык свободен, не на цепях и уже знает, чего от него хотят…
Никита снова бросается на быка, ломает его шею, выгибает морду, но всё бесполезно.
Толпа грозно кричит, раздаются позорные для спортсмена реплики. Но разве он может ждать чего–нибудь другого от мясников с Охотного ряда и завсегдатаев московских трактиров? Злость наполняет Никиту, он готов победить хотя бы ценой своей жизни, но снова и снова летит на грубые доски сцены и чувствует, как иссякают его силы.
Но — чёрт возьми! — и зверь ведь должен устать не меньше! Ещё одно усилие! Никита становится на колено, пригибает ненавистную морду всё ниже и ниже, бык склоняется, стонет, кровь течёт из его ноздрей, и вдруг падает — медленно, тяжело.
Люди замерли. А через мгновение шквал аплодисментов обрушился на Никиту. На сцену лезут люди, хватают его на руки, поднимают над головой, начинают качать.
Раздаются крики: «Браво!»
От этих криков слёзы выступили на глазах Никиты, он пожимал протянутые руки, кланялся, благодарил.
Сопровождаемый толпой, пошёл к Александрову.
Гнев и ненависть поднялись у него в груди. Он задыхался:
— Из–за вашей жадности я чуть не погиб… Мы же договорились, что быка сменят…
Сдвинув цилиндр на затылок, раскачивая богато украшенную монограммами трость, Александров произнёс:
— Позвольте? Кто вам сказал, что мы обещали менять быка? А? Этак себе бы дороже вышел аттракцион.
Никита растерялся от этой наглости, сказал неуверенно:
— Мы же договор подписали…
— Вот именно. Но откуда вы взяли, что в договоре есть такой нелепый пункт?
Никита достал свой договор — действительно, никаких оговорок там не было. Напряжённо соображая, как же это могло случиться, сказал, насупившись:
— Давайте мне деньги. Не желаю я у вас больше выступать… Обманщики вы…
— Помилуйте, мой дорогой! Какие деньги? Раз вы отказываетесь выступать до конца, это вы должны платить неустойку.
— Вы же меня обманули… с быком–то… Я бы не стал просить, да в гостинице задолжал… Заплатите, что положено за сегодняшнюю борьбу, и я уеду из Москвы… Не проживу я здесь… Тут всё у вас обман да искплуатация…
— Вы что, молодой человек? Хотите к мировому, что ли? Неустойку–то вы должны платить…
Пришедшие с Никитой люди хмуро глядели на Александрова, один из них сказал:
— Обманывать не годится. Этого бог не простит.
Другой поддержал:
— Человек жизнью рисковал.
— А вам какое дело? Как вы сюда попали? Полицию прикажете позвать? Прошу освободить помещение… Позовите пристава! — крикнул Александров служителю.
Никита, не глядя на него, сказал горько:
— Чего с ним, с буржуем, говорить. Он лучше задавится, да не отдаст. Пошли отсюда.
Он накинул пальто и, не застёгивая его, вышел.
Народ встретил его приветственным гулом.
— Братцы! Обманули человека, не заплатили денег, а он шкурой своей рисковал… У него за фатеру платить нечем! — объяснял вышедший с Никитой парень в суконной фуражке.
Все взволновались, зашумели. Какой–то мужчина в синих очках, в потёртом пальто с плюшевым воротником, выслушав рассказ, предложил:
— Господа! Господа! Мы обязаны собрать деньги господину Сарафанникову. Нельзя же человека оставлять в беде. Все мы видели, чего ему стоила эта победа…
— Да не надо совсем этого, — смутился Никита.
— Господа! Кто желает помочь? Кто сколько может… Давайте только организованно.
Парень снял суконную фуражку:
— Давайте сюда!
Никите хотелось выхватить фуражку из его рук, нахлобучить на его голову, сказать, что он не умрёт без этих денег, но он стоял и, как казалось ему, глупо улыбался. К счастью, над манежем выключили свет, что вызвало новый поток брани в адрес Александрова. Потом всё успокоились, и над толпой только раздавались возгласы:
— Рубль даю!
— Эх, была не была, одново живём! Бери трёшку!
— Да зачем так? Зачем? — приговаривал растроганный до слёз Никита, дёргая парня с шапкой за полу, но тот отмахивался, посмеивался. А через некоторое время воскликнул:
— Стой, хватит. Считал я; лишнего тоже ни к чему.
Народ не расходился, раздавались шутки, смех. Парень долго пересчитывал деньги, потом скомкал их, стал совать в Никитины карманы.
— Бери, на двадцать один рубль лишка собрали. Двести семьдесят один карбованец! Промахнулся я малось.
— Зачем, зачем столько? — растерянно говорил Никита. — Я и с Александрова бы больше полсотни не взял…
— Держи, выпьешь за наше здоровье.
— Да непьющий я… Борец… Нельзя мне…
— Ничего, для ради такого случая можно… А то нас пригласи… Да шутю, шутю я.
Толпа редела, люди расходились в разные стороны; наконец Никита остался один, спустился к реке, опёрся на решётку, но ничего не видел — слёзы стояли в глазах. Думал: «Вот бы рассказать об этом Донату с Локотковым… Всё–таки — люди хорошие… И их больше, чем плохих…»
53
Весна 1914 года в Петербурге представлялась Коверзневу пиром во время чумы. Всё, что происходило за стенами его квартиры, было страшно, и он старался не выпускать Нину из дому — хотел уберечь её от этих ужасов. Люди того круга, в котором он вращался последние два года, с неистовством одержимых стремились не думать о надвигающейся катастрофе. Одни сломя голову бросались в биржевые комбинации, чтобы вечером повеситься на подтяжках, привязанных к спинке кровати. Стремительные авто увозили других к роскошным женщинам, любовь с которыми кончалась спринцеванием или ледяной водой Фонтанки. Опиум и карты увеличивали число самоубийц. Предсмертные проклятия и сухие щелчки выстрелов заглушались больными звуками танго, и те, кто ещё не нашёл своего конца, в исступлении обнимали худые обнажённые спины женщин под плач скрипок и завывание флейт. Приближение конца чувствовалось во всём. Его воспевали поэты и художники, напоминая со страниц ярких журналов о том, что выхода нет.
На чемпионат в цирк «Гладиатор» люди приезжали не за тем, чтобы любоваться красотой человеческого тела и силой, — их привлекали гипертрофированные мышцы, синяя татуировка, кровь, идущая из горла во время двойного нельсона, и смерть от перелома позвоночника.
Коверзнев всё меньше и меньше времени отдавал цирку. Передав свисток своему помощнику, он уезжал домой, брал на руки Мишутку, ходил с ним по анфиладе комнат, чувствуя на себе благодарный взгляд Нины.
Днём он сидел в библиотеке, писал. С тоской видел, что его рассказы и очерки перестают нравиться публике — в них уже не хватало остроты. Он поднимался, шагал из угла в угол, думал зло: «Вам бы, наверное, понравилось, если бы я главным героем нового рассказа сделал осведомителя из охранки — Татуированного».
Нина робко стучалась в дверь — приносила кофе. Сердясь на то, что она помешала ему думать, он надувался.
Однажды он в раздражении даже крикнул на Нину, а увидев в её глазах слёзы, бросился к ней, стал успокаивать, уговорил ехать в театр.
Последний раз Нина была в опере год назад и сейчас сидела, устало поставив острые локти на бархатный барьер ложи, удивлённо глядя на сцену. А там мужчина и женщина, наречённые по–библейски Авелем и Адой, заламывая руки, объяснялись друг другу в любви под мрачную музыку Вейнгартнера; Ева соблазняла их отца — Адама, за что изгонялась со всем его семейством из рая; её сын Каин силою принуждал Аду отдаться ему и выдворял своего братца по отцу в чужие страны, а когда тот находил там новый рай и возвращался за своими сородичами, чтобы призвать их к блаженству на новом месте, Каин в бешенстве убивал его… И вместе с Авелем гибла мечта о новом, светлом рае для человечества…
Ругая себя за то, что выбрал отвратительнейшую оперу, которую ни в коем случае нельзя было показывать Нине, Коверзнев косился на неё, вздыхал.
Она хмуро молчала.
И только дома, намного позже, сказала:
— Это страшно, когда люди внушают друг другу, что в мире нет ничего, кроме смерти…
Кутаясь в платок, добавила:
— И твой чемпионат — это гнилая пена того, против чего вы так боролись с Ефимом.
Имя Верзилина было произнесено в этих стенах чуть ли не в первый раз.
Коверзнев промолчал. Подумал: «Как я ни стараюсь уберечь её от того, что происходит, она видит всё… Ефим да Никита — вот для неё настоящие люди. А меня она и в грош не ставит».
А она, словно угадав его мысли, сказала:
— Был бы здесь Никита — мне было бы гораздо легче… Гораздо легче…
Коверзнев опять начал лихорадочно листать газеты, запрашивать знакомых арбитров. Но Никиты не было. И вдруг однажды, просматривая отчёт о чемпионате в цирке Саламонского, он обратил внимание на борца Уланова, который в трёх схватках подряд уложил своих противников знаменитым Никитиным грифом. Коверзнев насторожился, и когда в четвёртой схватке Уланов добился победы при помощи грифа над самим Шемякиным, дал телеграмму: «Срочно расшифруйте псевдоним Уланова». На другой день пришёл ответ: «Кланяйтесь Нине Георгиевне жму руку Сарафанников».
Нина словно преобразилась. Подкидывая на руках маленькое тельце сына, она приговаривала:
— Вот и нашёлся наш дядя Никита, нашёлся!
Коверзнев договорился с Джан — Темировым о том, что уезжает в Москву, и обещал привезти оттуда победителя чемпионата. «Или это будет Поддубный или Сарафанников; во всяком случае какая–нибудь звезда. Мы сделаем вспрыскивание в нашу труппу, что сразу оздоровит её».
14 мая Никита встретил его на Николаевском вокзале. Оба обрадовались встрече, Коверзнев нашёл, что Никита возмужал, стал уверенно держаться, научился непринуждённо носить костюм, правильно говорить. На вопрос, чем объясняется перемена фамилии, Никита пожал плечами и ответил:
— Ещё Ефим Николаевич предупреждал меня, что хозяева больших чемпионатов связаны круговой порукой и не возьмут меня под своей фамилией, так как я тогда помешал Чинизелли.
Коверзнев рассмеялся:
— Ну, брат, это все давно забыли. Видишь меня? Я в самых наилучших отношениях с Чинизелли, — и, вздохнув, добавил: — Были мы тогда оба с Ефимом дон–кихотами… Слава богу, всё прошло… Ну, как у тебя дела? Первое место возьмёшь?
— Что вы, — совершенно искренне удивился Никита. — Дай бог, третье, за Поддубным и Заикиным.
— Фю‑ю! — свистнул Коверзнев. — Ты мне нужен с первым местом для моего чемпионата. Как же я тебя сделаю чемпионом мира, если ты здесь займёшь третье место?
— Вашему Татаурову здесь и третье не занять, — усмехнулся Никита.
— Первое место займёт кто угодно, — строго сказал Коверзнев, — лишь бы я захотел этого.
— Ну тогда я у вас и бороться не буду.
— Ишь ты какой стал? — удивился Коверзнев и рассмеялся: — Да как ты отваживаешься со мной говорить таким тоном?
Никита даже не смутился, передёрнул плечами.
Коверзнев откинулся на спинку стула, с удивлением глядя на борца. Объяснил свою новую теорию: цирк — это тот же театр, и чем лучше режиссёр подберёт труппу борцов и распределит между ними роли, тем больше будут удовлетворены зрители… Потом, сильно приукрашивая, расписал чемпионаты в цирке «Гладиатор». Но Никиту больше интересовала Нина. Коверзнев нахмурился, рассказал кратко: «Ничего. Живёт. Воспитывает сына. Не работает. Леван уехал с Терезой…»
После молчания выслушал Никитин рассказ. Подробно расспросив о бое с быком, подумал: «Вот бы его выпустить в «Гладиаторе» с таким номером! Петербуржцам бы это понравилось!» Потом он неожиданно вспомнил, что на днях вот и Леонид Арнольдович Безак уехал в Мадрид. «Увидит знаменитые корриды. Бой с быком — это почище борцовского чемпионата». И вдруг новая идея осенила Коверзнева: «Увезти Никиту в Испанию, показать на лучших пласах борьбу русского силача с быком, с огромной помпой привезти его оттуда в Петербург!..
В здешнем чемпионате большой славы ему всё равно не заработать». О том, что ревнует Нину к Никите и поэтому хочет оттянуть их встречу, Коверзнев старался не думать.
Он всесторонне обдумал свою идею, и она показалась ему блестящей. Он бросил локти на стол и горячо, вкладывая в слова весь свой темперамент, стал рисовать перед Никитой заманчивые картины. Что может быть мужественнее такой борьбы?! Если тореро выходит против быка со шпагой, в окружении пикадоров, капеадоров и бандерильеро, то Никита ведь идёт на него один, с голыми руками! А уж испанцы сумеют оценить по заслугам его мужество!
— Пойми! Ты будешь самым мужественным человеком на земле! Слава! Большие деньги! Тысячи поклонников, влюблённые женщины!
У Никиты загорелись глаза. «А ведь я могу. Валерьян Павлович организует всё как надо. С ним меня никакой Александров не посмеет обмануть».
Мысль о том, что не таким путём следует испытывать мужество и силу, отошла в глубину сознания, перестала тревожить с прежней силой.
Авторитет и одержимость Коверзнева сделали своё дело — Никита согласился. А Коверзнев, глядя на Никиту, но не видя его, упрекнул себя: «Ты нарочно бежишь от Нины, чтобы своей любви устроить испытание временем?»
На другой день Коверзнев дал три телеграммы — две в Петербург: Нине и Джан — Темирову, и третью — в Мадрид, Безаку. А через неделю борец Уланов со своим импресарио покинули Москву. А ещё через сутки Никита с любопытством смотрел на игрушечные домики, цветущие фруктовые сады и островерхие кирки, проносящиеся за окном; мимо прогрохотал мрачный Берлин, оставив в памяти фигуру какого–то Михеля в халате и колпаке с кисточкой, стоявшего на каменном балконе; промчался Кёльн с высоким собором; ночью полыхали бельгийские доменные печи, а утром показались парники и огороды, поля и прямые дороги, обсаженные деревьями, — это была Франция; Парижа они не увидели; потом перед глазами поплыли зелёные холмы, горы, поросшие соснами, огромная равнина, высушенная испанским солнцем, а за ней, на возвышенности, сложенный из белых кубиков Мадрид.
На Северном вокзале их встретил Безак в пробковом шлеме; зелёный клетчатый сюртук и резкие движения, от которых развевались фалды, делали его похожим на кузнечика. Он забрасывал их вопросами, жестикулировал.
Дорога шла в гору, позади остались Ботанический сад, обсерватория… Безак дёргался словно марионетка, торопливо объяснял Коверзневу:
— Музей Прадо… Потрясающий Веласкес… Мурильо, Гойя, Греко, Рибера, Сурбаран… Мы едем по Прадо — Реколетос‑Кас — теллана… Смотрите, какая ширина… Я люблю Невский, но что Невский рядом с этим бульваром?! А музей Прадо…
Никита, разбитый после дороги, ошеломлённый увиденным, почти со страхом смотрел на мраморные фонтаны, памятники, подстриженные деревья. Ему стало тоскливо от этой пышности, он ничего не мог запомнить из того, что говорил художник. «Фламандцы, нидерландцы, итальянцы», — звучали в его ушах слова, а Безак продолжал хвастаться, словно всё это принадлежало ему:
— Справа — Парк эль Ретиро… А вот это площадь Канова — са… Это — Биржа… Вот мы и приехали на улицу Алькалы… Это — Новый город…
Было нестерпимо жарко, хотелось спать, и Никита очень обрадовался, когда они очутились в прохладном отеле. Помывшись, они спустились в ресторан и плотно пообедали, запивая пищу виноградным вином. Под окном раскинулась площадь Пуэрта дель Соль, на которой лучами сходились улицы. Улицы были белыми от солнца, и на противоположной стороне площади все окна магазинов были защищены маркизами, а некоторые даже прикрыты жалюзи. Здесь царствовало солнце, и Леонид Арнольдович сказал, что «солнце» по–испански называется «соль». Значит, это площадь Солнца… Одно из зданий, расположенных против отеля, напомнило Никите Николаевский вокзал в Петербурге. Захотелось домой…
Он не пошёл знакомиться с городом и остался один в номере. От голосов газетчиков, звона трамваев, сигналов автомобилей у него гудело в голове, и он долго не мог уснуть. А когда проснулся, оказалось, что на улице вечер, и Коверзнев с Безаком ждут его. Они вышли на величественную улицу, освещённую яркими огнями, и прошли сначала на Пласа де Ориенте, в Старый город, и Безак показал им главный дворец, окружённый сорока четырьмя статуями испанских королей, и сказал, что за парком находится река Мансанарес. Потом он провёл их мимо Оружейной палаты, Оперы и ещё мимо каких–то двух театров. Когда они проходили по узенькой улочке, Никита услышал звуки гитары и увидел на балконе девушку. Ему захотелось остаться здесь, надоели яркие огни и шум, но Безак обещал показать тореро. Эти тореро отирались подле кафе на Пуэрта дель Соль, как петербургские шалопаи отирались на Морской подле ресторана «Вена», и они не произвели на Никиту никакого впечатления; они походили на опереточных красавцев, и у каждого из них была косичка, называемая, как пояснил Безак, колетой. Колета для тореро так же характерна, как бицепсы для борца, добавил он.
— Но это ещё не настоящие тореро. Это как бы наши «яшки». Зайдёмте в кафе и увидим чемпиона, или — по–матадорскому — «примо эспаду»; это знаменитый Альваро Ховальянос… «Примо эспада» — это значит «первая шпага»…
Альваро Ховальянос не походил на шалопаев с улицы, хотя и у него была косичка. Он был в европейском костюме, и на пальцах его сверкали перстни. Красивая фетровая шляпа лежала на столе рядом с длинной оплетённой бутылкой. Через всю щёку «эспады» розовел свежий рубец, напомнивший Никите о директоре Потешного сада. «Зачем я приехал сюда, — подумал тоскливо Никита. — Здесь свои законы борьбы, и на черта я сдался испанцам?»
Безак познакомил их с Ховальяносом, Коверзнев достал из брючного кармана яркий номер «Гладиатора» и при помощи художника объяснил, что он редактор этого журнала и напишет статью о «примо эспада». Матадор любезно поблагодарил его, налил всем вина. Рассмотрев Никитины портреты, внимательно поглядел в его глаза; во взгляде его было холодное любопытство. Потом он представил русских своим друзьям и подробно рассказал им о Никите. Все полезли жать руку русскому борцу, чокаться. Пока они разговаривали, с трудом понимая друг друга, Леонид Арнольдович зарисовал «эспаду» в свой альбом. Коверзнев обещал, что этот портрет он поместит в «Гладиаторе». Ховальянос же любезно пригласил всех на завтрашнюю корриду.
Коррида захватила Никиту, но не понравилась ему своей жестокостью. Огромный бык сразу же вспорол живот одной из лошадей, погнался за другой, поддел её на рога и швырнул через себя, сбросив с неё пикадора. Третий пикадор, целясь пикой в быка, старался направить к нему лошадь с завязанным глазом так, чтобы она не могла увидеть разъярённого зверя. Но это чуть не стоило ему жизни — пика переломилась как щепка, и пикадор с закованными в железо ногами вылетел из седла. Зверь было бросился на него, но на арену выскочил Ховальянос и взмахом плаща отвёл его в сторону. Пока бык, привлечённый запахом крови, гонялся за первой лошадью, за которой волочился клубок кишок, служители унесли раненого пикадора и засыпали песком пятна крови. Одна из лошадей, из которой торчали кости, билась в агонии; подбежал служитель и прекратил её мучения ударом ножа. На арену выехали новые пикадоры, бык торжествующе проревел и бросился им навстречу. Над манежем раздавались треск ломающихся пик, тяжёлые удары от падения тел, крики раненых лошадей. Пахло навозом и кровью. Узколицый пикадор взлетел в воздух вместе с лошадью…
Альваро Ховальянос всё время стоял у барьера с двумя другими тореро и, не глядя на арену, разговаривал со своими поклонниками. И лишь когда очередь дошла до пеших бойцов, он кончил разговор, но ещё несколько раз оглядел огромную чашу цирка. Один из его помощников вонзил бандерилью в шею быку, животное взревело, но этого, видимо, было мало. Новая бандерилья окончательно вывела зверя из себя, и вот тут–то Ховальянос пружинистым движением выскочил из–за барьеров, взял из рук слуги палку с красной тряпкой (как объяснил Коверзнев — мулету, которой тореро отвлекает внимание быка, чтобы скрыть свои манёвры) и шпагу. Он подошёл к ложе президента, сказав ему что–то, бросил шляпу своим друзьям и направился к быку. Красивый, смелый, в яркой одежде, он шёл медленно, уперев мулету одним концом в живот, и размахивал шпагой. Бык словно испугался дерзости человека, стоял неподвижно. Тогда Ховальянос взмахнул плащом перед глазами животного и отвёл его нападение мулетой. Трижды он проделал эту комбинацию, каждый раз благополучно уходя от рогов зверя, потом повернулся к нему спиной и, подняв руку, пошёл навстречу обрушившимся на него аплодисментам.
Он ещё долго дразнил быка, и каждый раз казалось, что ему не уйти от острых рогов, коричневых от лошадиной крови. Никите захотелось крикнуть: «Да прекратите же это», — и он ужаснулся, поняв, что так кричали в Липканах. Значит, со стороны казалось, что и он подвергался подобной опасности… Но публика кричала в экстазе, поощряя своего «примо эспаду»… Наконец, вдоволь наигравшись с быком, Ховальянос намотал мулету на древко и ринулся навстречу быку. Несколько секунд ничего нельзя было разобрать, и Никите показалось, что это верная смерть, но через какое–то мгновение тореро отпрянул в сторону, едва–едва сохранив равновесие, а животное сделало несколько шагов, задёргалось, подогнуло ноги и упало на песок; рукоятка шпаги торчала между его лопаток…
Никита, поддаваясь общему восторгу, вскочил, бешено зааплодировал. Вот это жизнь! Почти каждый день этот тореро ходит по краю могилы, а как умеет держать себя в руках! Что там Никитины бои рядом с этим зрелищем!..
Затем перед его глазами возникли вспоротые лошадиные животы, вывалившиеся кишки, обвалянные в навозе и песке, кровь, агония благородного зверя. Никиту передёрнуло. Нет, он никогда бы не стал матадором — это слишком жестоко… А опасность? Кто ещё так рискует своей жизнью, как матадоры?! Потом он вспомнил о своих переживаниях в московском манеже и подумал: «Глаза боятся, а руки делают».
54
С отъездом Коверзнева из Петербурга дела Татаурова пошатнулись. Новый арбитр заявил, что «профессор атлетики» не оставил ему никаких инструкций. Больше того, арбитр намекнул, что Джан — Темиров будто бы высказал недовольство политикой Коверзнева; Татаурову и самому должно быть ясно, что одни и те же лица на первых местах во всех чемпионатах набивают у публики оскомину.
— С чего это под тебя будет ложиться Стерс, когда он сильнее тебя? — с издёвкой спросил арбитр.
И Татаурову приходилось идти на всякие ухищрения, чтобы остаться в чемпионах.
По его указанию Ванька Каин выбил головой зубы великану Адаму, и Татауров, борясь с ним на другой день, сразу же зажал его голову локтем и ударил по распухшим дёснам. Когда Адам взвыл от боли и заявил протест, Татауров развёл руками: он не допустил ничего недозволенного. И к концу схватки довёл Адама до того, что тот только и делал, что защищал свою челюсть; конечно, это стоило ему поражения.
Суеверному, трусливому Глобе накануне схватки он послал несколько страшных писем; в одном из них, например, было: «Труп вашей жены получите почтой». Глоба явился на борьбу с провалившимися от бессонницы глазами, разбитый и проиграл.
С этой же целью Татауров засылал к своим будущим противникам шарманщиков; борцы ругались, грозили полицией, выталкивали их со двора — но шарманщики возвращались и своей музыкой доводили силачей до исступления. Многие борцы перед матчем перестали ночевать дома…
Грубость Татаурова росла от схватки к схватке; от его «макарон» трещали тела атлетов; одному из противников он вывернул руку. Борцы лёгкого веса старались ложиться под него без сопротивления.
Так он снова шёл напролом к почётному званию.
В газетных отчётах его по–прежнему восхваляли больше других; теперь у него, как и у Сарафанникова, был специальный альбом с вырезками и коллекция открыток. Поклонницы преподносили ему кольца, брелоки, булавки. Цветы он получал почти каждый вечер. Раскланиваясь, он косил глазом на оркестр и, заметив букет, самодовольно улыбался. Получив подарок, он отыскивал глазами очередную поклонницу и, поблагодарив её улыбкой, передавал цветы или футляр сидящему поблизости журналисту. От журналиста подарок следовал к служителю, от него — к другому и исчезал за кулисами.
Надев шерстяной свитер и пиджачную пару, Татауров брал букет, выходил с ним из цирка. Рядом, под тополями, весело светилась огнями деревянная терраса кафе, раздавался звон рюмок, смех. Обычно из–за столика навстречу поднималась женщина. Иногда среди поклонниц попадались такие, о которых прежде он и не смел мечтать. От их духов кружилась голова, и от постели с альковом захватывало дух. Но хороши они были только тем, что делали дорогие подарки. В остальном с ними было трудно: Татауров никогда не мог понять, чего они хотят. Видимо, они искали в нём то, чего у него не было, а не найдя, разочаровывались. Им ничего не стоило на другой день прийти в «Гладиатор» и сделать вид, что они его не узнают. Это доводило Татаурова до бешенства, ему хотелось избить мальчишку–гусара, сопровождавшего такую бабу, но обычно это был какой–нибудь граф или князь с таким надменным взглядом, что у борца сразу опускались руки. Ещё больше его выводили из себя мужья этих баб — старики с бакенбардами, с лысинами, в синих очках. Хотелось подойти к такому и высказать всю правду о его молодой жене, но об этом нечего было и думать…
В мимолётных связях была такая же прелесть, как и в вине. Взойдя на террасу, Татауров, как ему казалось, галантно прижимался усами к протянутой женщиной ладони, ждал, когда она выберет место, любезно подвигал её стул. Официант с полотенцем, перекинутым через локоть, подлетал к столику, почтительно склонялся над чемпионом. Через несколько минут на столе появлялись кушанья, остро пахнущие перцем, лавровым листом и томатом, официант наполнял бокалы — сначала чуть татауровский, потом, доверху, — женщины, и после этого — снова татауровский… Из цирка доносилась музыка; под надписью из электрических лампочек «Гладиатор» висел фанерный щит с изображением Татаурова, Аберга, Луриха, Яго и других чемпионов. У входа толпился народ, люди входили на террасу, поздравляли Ивана, чокались с ним, приглашали за соседние столики…
В этот вечер всё было как обычно… Дама сидела, играя бокалом, покрытым пузырьками воздуха; глаза её смотрели сквозь чёрную вуаль с любопытством; от этого взгляда и от вина начала кружиться голова…
Он покосился на зеркало, висящее в простенке, увидел своё лицо — волосы подстрижены под бобрик, усы расчёсаны, огромную шею плотно обтянул воротник свитера.
Дождавшись, когда Татаурова оставили в покое, дама призналась восхищённо:
— Вы были сегодня просто великолепны.
— Ну что вы. Сегодня у меня был слабый противник, — великодушно сказал Татауров.
— Не говорите. Как он на прошлой неделе выиграл у Чемберса Ципса! А ведь Ципс — чемпион?
— Это правда, чемпион.
— Я думала, что вы ему свернёте шею. От вашего «двойного нельсона», наверное, ещё не уходил никто?
— Пока везло… Вы пригубьте.
— Как вам понравился мой подарок?
— Да уж, видать, выбрать можете. Я эту булавку с галстуком одену.
— О, я так рада! В этой булавке настоящий сапфир.
Татауров достал из кармана футляр и, открыв его, полюбовался подарком. Взглянув благодарно на поклонницу, ласково предложил:
— Да вы вино–то пейте. Хорошее.
Но женщина, словно не слыша его слов, потянулась через стол, взяла его руку. Рассматривая вытатуированное на костяшках пальцев имя «Луиза», произнесла лукаво:
— Я буду ревновать.
Пошёл дождик, мелкие капли его зашуршали по пыльной листве тополя, женщина забеспокоилась:
— Боже мой, я промокну… Муж спросит, где я была…
— Грех не велик, а спать не велит? — усмехнулся Татауров.
— О, какой вы шутник. Вы думаете, я трусиха? — воскликнула женщина. — Хотите, я выпью за ваши успехи целый стакан?
— Хочу. Да только не выпьешь. Ты и глотка ещё не выпила. Я обе бутылки изничтожил.
— Попросите стаканы.
— Человек! Два пустых стакана!.. Может, коньяку?
— Коньяку так коньяку! Всё равно! Ведь за ваши победы!
— Человек! Бутылку коньяку!
Татауров наполнил чайные стаканы.
— Так за ваши победы! — женщина приоткрыла густую чёрную вуаль, припала губами к острой грани стакана.
— Ты, смотри, осторожнее, — испуганно сказал Татауров, — Пей, да знай меру… Возись тут с тобой.
Она улыбнулась, поставила пустой стакан, приоткрыв вуаль, начала есть. Вдруг взгляд её вперился в темноту, она испуганно прошептала:
— Муж! Ищет меня.
Татауров оглянулся, но никого, кроме двух полицейских, не увидел; дождик разогнал публику.
А она беспокойно шептала:
— Увезите меня отсюда скорее… Я знаю одно место, где мы можем провести ночь.
Она лихорадочно порылась в ридикюле из тюленьей кожи, выбросила на стол пачку денег, потребовала, чтобы Татауров побыстрее расплатился.
Опорожнив до конца бутылку коньяку, он поднялся из–за стола, взял с полу чемоданчик с борцовскими принадлежностями и медалями и под руку свёл даму со ступенек. Она шарахнулась, увидев полицейских, наклонила голову, снова начала торопить Татаурова. Взяли извозчика.
Дождик шелестел по кожаному верху пролётки, женщина прижималась к борцу, он откровенно тискал её, она пьяно хихикала:
— Какой вы, право…
Потом ей взбрела в голову фантазия выпить за его победы. Татауров смутно представлял, где они едут. Однако ему показалось, что коньяк покупал на Загородном. Они не знали, чем его откупорить, тогда женщина отбила горлышко бутылки. Татауров разрезал губу, но стойко выпил больше половины; она тоже пила, но, боясь порезаться, держала бутылку далеко от губ, вино плескалось на их одежду, они не обращали на это внимания. Потом женщина выбросила бутылку на камни, снова прижалась к борцу. Они долго ещё ехали, и всё остальное Татауров воспринимал смутно. Помнил, что его удивила убогая подвальная комната; какая–то старуха провозглашала в честь него здравицу, а он её прогонял и всё время говорил, что ему душно, и лез открывать окно; его удерживали; незнакомка, оказавшаяся без вуали очень красивой, садилась к нему на колени, но он отталкивал её, рвался к окну, сдёрнул скатерть с бутылками водки и капустой, успокоился лишь тогда, когда окно открыли. Оттуда потянуло тленьем помойки; слышно было, как с крыши хлещет вода… Всю ночь надрывались коты, и под их завывание он уснул. Сквозь сон он услышал раздражённый голос незнакомки: «Попробуй, спои такого. Одно слово — силач». От этих слов его грудь наполнилась гордостью, он пытался подняться в постели и хотел сказать что–нибудь хвастливое, удивить их со сводней, но перед ним выросла волосатая морда, раздвоилась, и тяжёлый удар в голову бросил его в небытие…
Проснулся он от нестерпимого холода; долго пытался натянуть на себя одеяло, но никак не мог. Приоткрыл веки — перед глазами оказалась земля. Скользкая грязь забралась ему за ворот… Он вскочил в ужасе и увидел, что это была свалка… Рядом лежали ржавое ведро без днища, битые черепки, полуразложившийся труп собаки… Осмотрел себя — только рубашка и кальсоны, грязные, мокрые… Пропал дорогой костюм… И вдруг Татауров застонал, заскрипел зубами: исчез чемодан со всеми медалями, золотые вещи и около тысячи рублей денег… Он–то дурак, всё это носил с собой, не надеясь на сохранность в номерах!.. Боже мой, боже мой…
Рассвет едва брезжил, и Татауров не мог понять, где он находится. Обернулся — загаженная вода канала. Впереди, вверху, — старая решётка набережной. Скользя голыми ногами, он еле взобрался туда, перелез через решётку, огляделся. На той стороне дымила фабричная труба, здесь — пустырь. Пошёл по скользкой тропинке. Остановился под накренившимся чугунным фонарём и зарыдал…
Пошёл дальше, припоминая, что вчера произошло, держась руками за ноющий затылок… Позже понял, что находится на Обводном канале… Не было ни одного встречного, город спал. Лишь на Звенигородской нашёл полицейского, отправился с ним в участок, но сколько ни бился, не мог рассказать, где он был после цирка: кроме подвала, воя котов и запаха помойки, он ничего не помнил. Описание незнакомки ни к чему не привело…
К вечеру у него подскочила температура, он был вынужден отказаться от борьбы, а через несколько дней по всему телу пошли нарывы. Как ни старались доктора — ничего не помогало. Борцы отказывались с ним бороться, предполагая, что у него заразная болезнь. Он взял справку, в ней было сказано, что болезнь называется фурункулёзом, но это название ещё больше испугало борцов. Ему боялись пожимать руку. Он продал последние костюмы, отдал деньги докторам, а чирьи появлялись снова и снова. Арбитр отказал ему от чемпионата.
Татауров приходил по вечерам к цирку, занимал столик на террасе кафе и с тоской смотрел на яркую рекламу. Гремела музыка, колыхалась перед входом нарядная толпа, раздавался громкий говор. Когда темнело, зажигалась надпись: «Гладиатор»; лампочки гасли одна за другой, снова вспыхивали, и казалось, что буквы переливаются… Иногда кто–нибудь угощал Татаурова обедом, подносил стакан вина… Однажды ему дали новый номер журнала «Гладиатор», и на обложке он увидел Никиту Сарафанникова; он был изображён на фоне огромного цирка, в коротких штанах, с красным плащом в руках. А напротив Никиты — нападающий бык. Татаурову показалось, что ещё ни один из номеров «Гладиатора» не имел такой яркой обложки. Номер назывался «испанским», в нём было много фотографий Мадрида, и большой очерк о Никитиных подвигах, и ещё очерк, называвшийся непонятно — «Примо эспада». Очерки были подписаны профессором атлетики Коверзневым и были напичканы рисунками художника Безака… Никита сейчас носил имя Уланова, и только в скобках было приписано — Сарафанников.
Татауров неожиданно для себя хватил бутылкой по столу, прибежали «фараоны» с «селёдками», скрутили ему руки, он не сопротивлялся, плакал пьяными слезами…
Через неделю он уехал домой, к отцу.
55
Никита очень боялся, что испанцам, привыкшим к крови и жертвам, не понравится его бой с быком, но, против ожидания, всё прошло хорошо. Только Ховальянос сказал, что у Никиты совсем нет техники, а на одном чутье далеко не уедешь — так можно попасть и на рога быку. Впрочем, добавил он, видимо, это и понравилось зрителям; они всякий раз идут на корриду с тайной мечтой увидеть смерть своего кумира. В этом весь секрет успеха коррид…
Выслушав перевод, сделанный Безаком, Никита усмехнулся: «Смерти они от меня не дождутся», — и сказал Коверзневу, что хорошо, если бы Ховальянос показал ему самые важные приёмы.
Вскоре он увидел, на что способен Коверзнев. Не прошло и двух недель, как из Петербурга пришла партия «испанского номера» «Гладиатора». Альваро Ховальянос был очень польщён и, получив от Коверзнева полсотни экземпляров, весь вечер подписывал на их обложках автографы и дарил журналы своим друзьям. Коверзнев договорился с местным издателем о переводе журнала на испанский язык и заработал на этом большие деньги, за что получил благодарственную телеграмму от Джан — Темирова… На протяжении двух дней Никита видел, как мальчишки–газетчики в ярких каскетках продавали журнал на Пуэрта дель Соль, на улице Алькалы и на Авеню дель Прадо… Часть тиража по инициативе Коверзнева была отправлена в Мексику, Перу и Эквадор, где также устраивались корриды… Оттого, что цветную обложку с его изображением сейчас рассматривают тысячи читателей самых разных стран, у Никиты захватывало дух. Казалось, он волнуется от этого не меньше, чем перед схваткой с быком…
Журнал сделал своё дело, и Альваро Ховальянос оказался очень покладистым и постарался передать Никите многое из того, чем владел в совершенстве, а Коверзневу подарил на память свою шпагу.
Во время второй корриды пласа уже не казалась Никите такой большой, как в первый выход, и рога у зверя, обвитые лентами знаменитой ганадерии, не были уже такими опасными… В этой схватке он не только, по опыту Ховальяноса, становился спиной к быку, но и сумел в это время рассмотреть огромные ярусы цирка, веера и газеты, приложенные к глазам, и огненные шарики апельсинов… Он на этот раз дразнил быка уверенно и умело отводил плащом его рога в сторону. Он уже не пытался положить зверя при первой возможности, как это было в московском манеже, а сначала утомил его и только потом схватил за рога («Смертельный гриф Уланова, стоивший поражения многим чемпионам», — как писал в «Гладиаторе» Коверзнев) и начал ломать его шею. Бык ревел от боли, ронял на красный песок пласы белые хлопья пены, сопротивлялся. Никита стал на колено и огромным усилием положил зверя… Уверенная работа, отсутствие шпаги и коверзневская реклама заставили народ вскочить на ноги и приветствовать «русского богатыря» бешеной овацией.
Никиту подхватили на руки и унесли с пласы. Друзья повели его в кабачок, расположенный неподалёку от цирка, с красным фасадом, обвитым виноградной лозой. Всё здесь было подчёркнуто ярко и по–театральному неправдоподобно.
По стенам кабачка висели гравюры, изображающие корриды и знаменитых матадоров, и на видном месте была пришпилена обложка журнала «Гладиатор» с Никитиным портретом. Никита даже усомнился: он ли уж — вятский парень — является главным героем этой оперетки? За цинковым прилавком стоял хозяин, повязанный шейным красным платком. Все уселись за круглые деревянные столы и полезли чокаться с «русским богатырём». Коверзнев произнёс тост за дружбу русских и испанских спортсменов, и тогда чокаться стали с ним. В кабачок набилось полно народу, многие толпились на улице, и когда все пошли домой, люди толпой сопровождали Никиту.
Красноватые стены цирка были освещены солнцем, арабские окна делали его похожим на декорацию, в стороне раскинулось кладбище, а впереди — зелёные холмы и равнины, а за ними белые нагромождения мадридских дворцов. Попыхивая трубкой, Коверзнев сказал Никите:
— На этой площади, где цирк, в средние века совершалось аутодафе — торжественное публичное сожжение еретиков и их книг по приговору инквизиции.
Сопровождаемые толпой, они спустились к фонтану Сельес и потом, по улице Алькалы, поднялись к своему отелю. Коверзнев ушёл на телеграф. Там он сдал материалы в Петербург и получил инструкции от Джан — Темирова; хозяин поблагодарил их с Никитой за отличную работу и приказал на всех афишах именовать Никиту Уланова борцом цирка «Гладиатор». Он также подсказал Коверзневу мысль поехать на гастроли во Францию и, если удастся, — в Южную Америку. «Испанский номер», сообщил он, имел в России большой успех, пусть Коверзнев подумает о «французском номере», а затем «мексиканском» и г. д.
Коверзнев решил, что они ещё один раз выступят в Мадриде, а потом в ряде других испанских городов, после чего отправятся во Францию.
Безак собирался ехать домой, но Коверзнев умолял его немного повременить, ибо не знал испанского языка. Пока Безак не уехал, он торопился обделать здесь все дела. Никита был предоставлен самому себе и, как когда–то в Москве, очень много ездил по городу. За один день он успевал побывать в самых разных концах Мадрида — в парке Аргансуэла, на одинаковых улочках Гиндалеры и на бульваре Росалеса. Ему на всю жизнь врезались в память дворцы, музеи, статуи, платаны и акации Мадрида… Несколько раз Безак водил его по музеям…
Неожиданно начавшиеся сильнейшие ливни помешали ему провести последний бой на мадридском Пласе де Торос, и, распрощавшись с Безаком, они с Коверзневым уехали на побережье — в Валенсию, а затем — в Барселону. В том и другом городе схватки прошли благополучно, они пересекли французскую границу, где и без Леонида Арнольдовича Безака Коверзнев чувствовал себя великолепно.
Два выступления на пласах южных французских городков — и вот поезд везёт их в Париж.
Никита думал, что после Мадрида его ничто не может ошеломить, но всё–таки, увидев Париж, растерялся. Они ехали с вокзала в фиакре, усатый «коше» (как Коверзнев называл извозчика) погонял блестящую буланую лошадку; выбрасывая ноги, она ходко несла их по асфальтированной улице; их обгоняли многочисленные тупорылые автомобили, звенели трамваи, мчались омнибусы; прямо на улице, за столиками, сидели люди — пили вино, читали газеты; прогуливались пижоны в элегантных костюмах, расфуфыренные женщины; прошли несколько монашек в огромных, чудом державшихся белых чепцах, с чётками в руках; было много синих блуз; встречались котелки, цилиндры, каскетки, но больше всего было национальных кепи; стремительно прошли два кавалерийских офицера в красных штанах, волоча длинные сабли по асфальту…
Фиакр катился мимо дорогих магазинов, за зеркальными витринами которых сверкали драгоценные каменья и шёлк женских платьев; проплывали салоны с яркими картинами в окнах, антикварные лавки, особняки, окружённые садами. Это была улица Риволи. Коверзнев глядел вокруг восторженными глазами, попыхивал трубкой. Улица Риволи вывела их к огромной площади Конкорд; фонтаны и дворец заставили Никиту вспомнить о Мадриде; перед дворцом с колоннами возвышался стройный обелиск. Великолепное авеню Елисейских полей соединяло площадь Конкорд с площадью Этуаль; эта круглая площадь окончательно подавила Никиту; Пуэрто дель Соль не шла ни в какое сравнение с нею, хотя и напоминала её улицами–лучами; в центре стоял серый куб Триумфальной арки, вокруг которой по точному кругу двигались автомобили, омнибусы и экипажи, отчего у Никиты закружилась голова. Триумфальная арка и вздыбленные кони остро напомнили о родном Петербурге; он вспомнил не менее красивый Невский проспект с Аничковым мостом и золотым шпилем Адмиралтейства в сиреневой дымке; вспомнил Нарвские ворота, расположенные близ цирка «Гладиатор»; отчаянно захотелось домой. «Счастливый Леонид Арнольдович — уехал», — подумал Никита.
Только позже, проведя в Париже полмесяца, он свыкся со всем этим и полюбил и Оперу, и Гранд — Отель и отель Скриба, и улицу Риволи, и Елисейский дворец, и все памятники — от Лувра до площади Конкорд, на которой был расположен отель «Крильон».
Как и в Мадриде, он и здесь был надолго предоставлен самому себе. В трамваях, омнибусах и в поездах метрополитена он исколесил весь Париж, с Монмартра любовался видом раскинувшегося внизу города, пронзённого металлической иглой Тур — Эйфеля, в кабачках Обервилье или Сен — Дени тянул вермут–кассис и вместе с рабочими ел спаржу. Ему нравилась непринуждённость парижских «бистро» — толпящиеся у «цинка» люди в кепи и котелках, деловитый хозяин в цветных подтяжках, бегающие гарсоны, шахматы, карты и домино на стеклянных столиках, рядом с рюмками всех цветов и хрупкими стаканами, сухие выстрелы бильярдных шаров, запах мыла, чеснока и кофе. Выбрав из горсти золотых луидоров, щедро данных ему Коверзневым, один, он звонко бросал его на мраморную столешницу и, получив сдачу, выходил на улицу. Иногда ступеньки, ведущие в метрополитен, были почти незаметны, и он долго бродил в их поисках. Потом ехал в центр, сидел на чугунной скамье бульвара под каштанами. Перед глазами гарцевали разряженные всадники, катились экипажи с лакеями на запятках; в экипажах важно восседали красавицы с холёными собачками на руках.
Вечером Никита встречался с Коверзневым, тот всё время был так возбуждён, что напоминал чем–то пьяного. Сжав зубы, импресарио упрямо твердил:
— Ничего, Никита, и Париж будет у наших ног!
Он говорил, что нет на земном шаре города лучше Парижа, что вот где надо жить тому, кто имеет размах. Никита не возражал ему, а сам думал, что для него лично нет ничего милее Петербурга. Здесь, на чужбине, за эти полтора месяца путешествия он понял, что для человека нет ничего дороже своей родины.
Однажды Коверзнев пришёл повеселевший. Хлопнув Никиту по широкому плечу, сказал:
— Благодари бога! Скоро всё разрешится положительно… Но и хлебнул же я горя с этими хлопотами!.. Эти несчастные французы выкопали какой–то закон Граммона, по которому не разрешается убивать зверей… Общество покровительства животных вопль подняло… Говорю, что мы не матадоры, — ничего не слушают…
Глядя на сиреневый закат, на фоне которого возвышались величественные башни Трокадеро, он достал трубку, раскурил сё. Откинувшись, выпустил изо рта струю дыма. Заговорил:
— Ещё во времена Всемирной выставки здесь был построен специальный цирк для корриды, однако и тогда был скандал — быков не разрешали убивать… Всё делалось по правилам, только удар был фиктивным… — Он затянулся несколько раз, продолжал: — Вот я и напомнил им об этом и объяснил, что мы как раз не убиваем быка, а кладём…
Он ткнул трубкой по направлению к Трокадеро, сказал:
— Вон Булонский лес. Это недалеко от выставки. Цирк — там.
Никита смотрел на широкое пространство, начинавшееся от самого берега Сены, украшенное цветущими газонами, фонтанами и бассейном, на широченную каменную лестницу, построенную в классическом стиле, на площадь Трокадеро. Приятно зазудели ладони, он представил, как кладёт быка на песок пласы и тысячи парижан приветствуют его ловкость и силу. Потом он вспомнил родной Петербург и спросил Коверзнева:
— А когда домой поедем, Валерьян Палыч?
Импресарио свистнул:
— Фю–фю… Покорим Париж — раз… Мексику — два… Эквадор — три… Да что там говорить, Никита! У нас с тобой дела — непочатый край!.. Мы должны прогреметь на весь мир?
«Он говорит так, словно сам с быками борется, — сердито подумал Никита. — До меня ему и дела нет». И хотя ему хотелось прославиться и в Париже, возразил из чувства противоречия:
— Вы больно уж долго собираетесь ездить. Этак и до зимы домой не попадём.
— Эх, Никита, — произнёс Коверзнев, — да разве тебе не хочется мир посмотреть?.. Видел ли бы ты столько всего, сидя дома? Посмотри, чего стоит один мост, на котором мы находимся! Это же ведь целая площадь, а не мост! Запомни — Иенский… И славу ты, что ли, не любишь? Неужели ты не хочешь, чтобы тебя снова изобразили на обложке, а журнал переиздали во Франции? А?
Освободившись от хлопот, Коверзнев стал водить Никиту по театрам и музеям. У него оказалась здесь целая куча знакомых. Какой–то русский художник, друг Безака, устроил обед в честь Никиты, на котором Коверзнев хвастался «испанским номером» «Гладиатора». Художник, в свою очередь, показал им на другой день свои декорации к «Смерти Лебедя» Сен — Санса; вечером они видели балет «Лада» Римского — Корсакова, и Коверзнев восхищённо ахал, тыкал Никиту в бок, кивал на сцену, где танцевали Анна Павлова, Карсавина и Нижинский. С удивлением и гордостью Никита смотрел на исступлённо аплодирующих парижан: «А всё–таки талантлив наш народ!» Он вспомнил корриды на пласах Испании и решил: «Нет, прав Валерьян Павлович! Надо ехать в эту самую Мексику — прославлять нашу родину». После русского театра не хотелось ничего видеть, и он против желания шёл с Коверзневым в музей; на набережной расположились букинисты с трубками в зубах; на реке стояли барки с камнем; впереди раскинулась площадь Карусели и перед ней — Лувр. К своему удивлению, Никита встретил знакомых: ещё на Динабургской у Коверзнева он видел статуэтку «Рабы» Микеланджело, а у Нины Джимухадзе, на Измайловском, — Венеру Милосскую. Встреча с ними напоминала встречу со старыми друзьями.
— Смотри, запоминай, — горячо шептал Коверзнев, — это всё настоящее искусство.
Таская его из зала в зал, он говорил, захлёбываясь:
— Потрясающе… Настоящее искусство тем и отличается от имитации, что в нём чувствуется огромная любовь к человеку…
Когда уже спускались по лестнице, Никита, глядя на фрески Ботичелли, спросил осторожно у Коверзнева:
— Валерьян Павлович, а вам нравятся картины Леонида Арнольдовича?
Коверзнев, набивая трубку, сказал задумчиво:
— Видишь ли, у него очень сложный путь. То, что он делал раньше, мне нравилось больше, — и, оглянувшись, словно посмотрев, нет ли рядом художника, заявил:
— Если честно признаться, то, что он делает сейчас, мне совсем не нравится.
Думая о словах своего импресарио, сказанных в Лувре, Никита пожалел, что так мало ходил по музеям в Петербурге и совсем не ходил в Москве. Зато здесь сейчас он не отставал от Коверзнева ни на шаг.
Коверзнев загрустил, и когда Никита спросил его о причине грусти, ничего не ответил. Видимо, дела с арендой цирка в Булонском лесу подвигались туго. Иногда он часами лежал в номере, что никак не вязалось с его характером. Вдруг, в середине июля, вернувшись с телеграфа, куда он часто ходил для переговоров с Джан — Темировым, он хлопнул Никиту по плечу, приказал одеваться. Они пообедали в дорогом ресторане «Максим», и Коверзнев заставил Никиту выпить шампанского. Подняв бокал, сказал многозначительно:
— За Нину.
Часом позже, сидя в Люксембургском саду перед фонтаном Медичи, сообщил:
— Наконец–то от Нины письмо пришло… Тебе кланяется, поздравляет… Ждёт домой с победой… Сын у неё уже большущий. Обещает сфотографировать и послать карточку.
Вздохнув, Никита подумал: «Эх, был бы жив Ефим Николаевич… Вот бы уж он порадовался моим успехам». Но в глубине души зашевелилась беспокойная мысль, что Верзилин вряд ли бы одобрил борьбу с быками. Эту мысль Никита постарался заглушить.
А Коверзнев сказал мечтательно:
— На днях пойдёшь смотреть быков. Скоро всё разрешится в нашу пользу… Но и пришлось же мне кое–кому заплатить… Ничего, Джан — Темиров только останется от этого в выгоде.
Никита молчал, смотрел на струящуюся воду фонтана, на бассейн, на зелёные деревья, пронизанные солнцем, на широкую лестницу дворца, на статуи королей… Дети играли в песке, сидели женщины на складных стульях — вязали, рассматривали журналы; на землю падала тень от высокой чугунной ограды.
— …Выпустим «французский номер» «Гладиатора», — продолжал мечтать Коверзнев. — Переиздадим здесь, пошлём Нине. Эх, Никита, стоит всё–таки жить на свете!
Он опять захлопотал, опять оставлял Никиту одного, где–то подолгу пропадал и однажды, потирая руки, сообщил:
— Едем смотреть быков и знакомиться с цирком.
Развернув красочные афиши, спросил хвастливо:
— Хороши?
Но на другое утро газетчики принесли страшное сообщение. Коверзнев, без куртки, без банта, выскочил на дубовую лестницу, выхватил у портье газету. Схватившись за горло, задыхаясь, прохрипел:
— Никита!.. Война!..
С ужасом переводил заголовки:
— «Германия объявила войну России»… «Франция остаётся верной своим союзническим обязательствам»… «Всеобщая мобилизация в Париже».
Город наполнился солдатами в голубых шинелях и красных штанах. Под звуки «Марсельезы» по бульварам проезжали закованные в кирасы кавалеристы в золотых касках с чёрным хвостом из конского волоса. Развевались трёхцветные флаги. На панелях толпился народ, женщины, бросающие цветы под копыта коней… Закрылись рестораны… Для армии были отобраны частные автомобили… На Эйфелевой башне установили пулемёты… Замаскировали все окна.
Никита целыми днями не видел Коверзнева, тот торчал на телеграфе — ждал инструкций от Джан — Темирова, собирался идти репортёром на французский фронт. Никита толкался среди посерьёзневших парижан, в его голове вертелась упорная, не дающая покоя мысль: «Что делать?..»
Если бы был жив Верзилин, он бы посоветовал…
«Что делать? Ведь Сербия и Черногория — это маленькие беззащитные страны… А Бельгия?.. Это всё равно, что я бы подошёл и схватил за горло вон того хлюпика… В Польше уже льётся кровь… Что делать?..»
Прибегал Коверзнев, на ходу уничтожая обед, рассказывал:
— Плеханов призывает выступить против Германии, — и объяснял, кто такой Плеханов.
В другой раз сообщал:.
— Был в Русском посольстве. Огромная очередь — все вступают в армию: и отдыхающие баре и эмигранты–революционеры…
Опять убегал, оставляя Никиту одного.
Однажды Коверзнев швырнул петербургскую газету:
— Читай.
Газета была десятидневной давности, но она была родной, петербургской, и у Никиты дрожали руки, когда он её развёртывал. «…Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови с славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно… В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри. Да укрепится ещё теснее единение царя с его народом, да отразит Россия, поднявшись, как один человек, дерзкий натиск врага… 20 июля 1914 года… Император Николай II…»
Он отодвинул газету. Царь — плохой. Но если победят немцы — будет ещё хуже. Этот вывод заставил его принять решение.
Когда Никита сказал об этом Коверзневу, тот помолчал, потом произнёс с паузами:
— Я думаю, правильно… Из тебя выйдет хороший воин… Мы ещё встретимся… И я напишу о тебе новый очерк… Твой портрет будет снова на обложке нашего «Гладиатора».
Он поднял воротник «коверкота», зябко прижался ухом к плечу, постоял так, потом притянул Никиту к себе и поцеловал в щёку.
56
Вятка напомнила Татаурову о первых шагах борцовской карьеры, потянуло в бильярдную Чучаловских номеров. Вспомнив о Никитином дяде, он решил, что можно будет поживиться за его счёт.
Он отыскал в своём бедном багажишке открытку с изображением Сарафанникова и вывел поперёк неё надпись: «Дорогому дяде Макару Феофилактовичу Сарафанникову от его племянника борца–чемпиона Никиты Сарафанникова».
Когда он пришёл в бильярдную, старик, к счастью, был один: он чистил щёточкой зелёное сукно бильярда. Увидев Татаурова, он нахмурился, но когда тот вручил ему послание от племянника, надел очки в железной оправе, прочитал надпись и, смахивая навернувшуюся слезу, засуетился:
— Ты садись, Иван… не знаю, как по батюшке–то величать… Так, значит, процветает наш Никита?.. Ишь ты какой стал, словно барин… я, конечно, извиняюсь… Накось, закури моего табачку… Ох, хороший табачок, жена вырастила… Такая молодуха у меня хорошая, я, конешно, извиняюсь… Краснушша да толстушша, прямо кровь с молоком… Кури, кури… Хороший табачок — один курит, а десять падают… Да где чичас разьезжает наш Никита?.. Наверно, уж полматушки России объехал?.. Эх, мне бы годиков тридцать скинуть, я бы поездил с им. Интересна, видать, у борцов жизня…
Прикуривая, стараясь сохранить спокойствие, Татауров сказал:
— Ещё позавчера меня Никита из Питера провожал… Обратно там живёт… Возвратился с гастролей…
— Ишь ты, — удивился старик, — возвернулся?.. А мне ничего не сообщает, пострели его за ногу… Я, конечно, извиняюсь… Так опять в Питере?..
— В Питере. В одном цирке мы с ним боремся.
— А ты как сюда — по делам, али ещё за чем?.. Я, конечно, извиняюсь.
— Заболел вот, — угрюмо признался Татауров. — Чирьи одолели. Домой пробираюсь… У нас в деревне бабка одна есть — лучше всех докторов…
Он неуклюже повернулся к Макару Феофилактычу спиной, отогнул на бычьей шее воротник, показал вздувшийся, напоминающий сливу фурункул.
— Тьфу ты, наболесть! — воскликнул старик. — Да разве из — за этого в деревню ездиют, хвати тя за пятку. Да я тя в два счёта исцелю… Скажу Дусе — сварит мёду со скапидаром, помажешша недельку — всё как рукой сымет…
Он обернулся на звук шагов, вздохнул:
— О господи, все котомки проспали… С утра какого–то лешова (не здесь будь сказано) несёт. Не дадут нам поговорить… Ну ничо, Иванушко, ты посиди, я те покушать принесу, само собой, в бильярдишко сыграешь, а там и ко мне направимся… У меня поживёшь.
Вошедший в бильярдную был розов как поросёночек, и уши его торчали в стороны.
Макар его встретил подобострастно:
— Пожалуста, пожалуста, Антон Гаврилыч… Завсегда рады… Я вам сегодня игрочка припас… Приезжий из Питера… Из силачей–чемпионов… Сидит вот у меня и интересуецца, с кем сразицца…
Татауров проиграл ему три партии подряд, расплатился и заявил, что больше играть не будет. Раскрасневшийся от удовольствия Антон Гаврилович заказал завтрак, угостил борца, стал уговаривать сыграть ещё…
Татауров нехотя согласился, снова нарочно проиграл партию и, распалив своего противника, ободрал его как липку.
Когда прощались, биллиардист бил себя в грудь — клялся, что завтра возьмёт реванш. Макар Феофилактович ухмылялся в прокуренные усы: «У моего Никиты все друзья чемпионы. Знай наших, купчишка!»
Желая окончательно завоевать расположение маркёра, Татауров всю дорогу расхваливал его племянника, подчёркивая, что они с ним друзья. Фотография из журнала, на которой они были сняты вместе, убедила Макара Феофилактовича в том, что борец не врёт.
— Дусенька, — суетился старик, — ты посмотри, каки богатыри… А Никита–то не забыл нас, поклон нам послал… Смотри, что за патрёт Иван привёз… Ишь ты, прямо Верзилин… Как, Ванюша, Ефим Николаевич поживает?
Татауров вздохнул, решил, что врать не стоит.
— Помер он.
— Ох ты, господи!.. Царство ему небесное, — всплеснул руками старик. — Да что с ним такое приключилось?
Татауров рассказал.
Макар Феофилактович качал головой, расспрашивал. Потом стал на колени перед образами, помолился…
Разливая водку по лафитничкам, проговорил еле слышно:
— Упокой душу раба твоего… О, грехи наши тяжкие… — и продолжал, обратившись к жене и Татаурову: — Помянем Ефима Николаевича… Хороший был человек… Никиту нашего в люди вывел…
Выпив, смахнул слезу, понюхал корочку хлеба.
На столе появилась редиска с зелёным луком, квашеная капуста… Дуся гремела ухватом подле печки, внесла чугун щей, разлила по тарелкам…
Дрожащей рукой старик налил ещё по лафитничку себе с Татауровым, жену обнёс.
Оглядев стол, проговорил со вздохом:
— Хлеб на стол — так и стол престол, а как хлеба ни куска — так и стол доска.
Сквозь зелёные кусты сирени, растущие в палисаде под окном, было видно, как по слободе гонят коров. В болотце плескались утки, по деревянным мосткам пробежал голопузый мальчишка с обручем, прошла баба с вёдрами на коромысле.
Рассказывая о жизни в Питере, Татауров косился на Дусю. Она поставила на стол плошку с бараниной и картофелем, кувшин квасу… Раскрасневшаяся, села на табуретку, поправила заколотые на затылке волосы. Встретившись взглядом с борцом, смущённо потупилась. Татауров открыл свой чемодан, вытащил альбом. Он как раз начинался отчётами о чемпионате в цирке Чинизелли, где почти каждый день пелись дифирамбы Никите… Макар Феофилактович со слезами умиления перечитывал пожелтевшие от клея вырезки, передавал жене. Снова наполнил лафитнички, сказал прерывающимся от радости голосом:
— За успехи его, дай ему бог долгих лет жизни… Дусенька, налей нам кваску… Пей, Ванюша… Она готовила… Эх, хорош квасок!.. Кипячёный, заварной, сырой водой разбавной… Один пьёт — семерых рвёт…
Они и не заметили, как промелькнул вечер, а с утра Макар Феофилактович заставил Дусю ради дорогого гостя делать пельмени… Натёртый мазью, Татауров нежился в постели, поглядывая на молодую хозяйку; потом помог ей изрубить сечкой мясо, снова лёг, закинув ногу на ногу… Дверь в кухню была открыта, Дуся месила тесто, раскачивая в такт своим движениям налившиеся плечи, обтянутые выцветшим ситцем. «Хороша стерва», — с восхищением подумал Татауров. Солнце освещало стол с протёртой клеёнкой, играло лучами в стакане с рассолом. Борец потянулся, хлебнул два глотка. С похмелья побаливала голова, но, несмотря на это, он чувствовал себя великолепно. Увидев, что женщина, раскатав тесто, начала орудовать чайным стаканом, встал.
— Отдыхайте, — сказала она, но по тому как зарделась, он понял, что рада.
— Я вам в помощники… Не справиться одной–то ведь.
— День — долог, успею. Наше дело такое — круглые сутки по хозяйству.
— Какие у вас пальчики маленькие… Ишь как закручивают пельмешки.
— Ну, уж вы скажете, — засмущалась Дуся.
Завёртывая мясо в круглые соченьки, он сыпал комплименты с азартом столичного донжуана. Чувствуя своё превосходство, любуясь её смущением, разошёлся окончательно.
Позже, когда вместе с Макаром Феофилактовичем сидели за столом, предложил выпить за его молодую жену. Она начала было отказываться, но Макар прикрикнул на неё. Крякнув, выпил. Проговорил сам себе:
— За пельменями и нищий пьёт, хвати тя за пятку.
Снова стал расспрашивать о племяннике… Праздная началась жизнь у Татаурова. До полудня он валялся в постели; уничтожив приготовленный Дусей завтрак, плёлся к Макару в бильярдную, к вечеру всегда бывал в выигрыше. На эти деньги покупал водку, расплачиваясь ею за приют.
Чем дольше он жил у гостеприимного старика, тем сильнее ему нравилась его молодая жена. Оставаясь по утрам с нею с глазу на глаз, он забрасывал её комплиментами.
Она вспыхивала, смущалась, делала вид, что старается пресечь его ухаживания… Как–то, проводив Макара на работу, Дуся прикорнула у себя за ситцевой занавеской, а проснувшись, увидела в ногах Ивана.
— Девочка в кровате, как селёдочка в салате, — забалагурил он.
Натягивая одеяло до подбородка, Дуся произнесла:
— Вы всегда такое скажете…
А он, положив ей руку на бедро, продолжал обольщать:
— Роза вянет от мороза, ваша прелесть — никогда.
Она постаралась выскользнуть из–под его руки, но Татауров, поглаживая её, начал говорить, какая она раскрасавица — красивее всех женщин на свете. Ему хотелось сказать ещё что–нибудь оригинальное, но, как назло, не мог припомнить ни одной рифмованной фразы. Время уходило, а Дуся ждала, смотрела на него, застенчиво улыбаясь.
И вдруг его осенило. Он вспомнил об открытке, которая лежала в его чемодане вместе с отчётами чемпионатов — остатками его славы. На открытке был изображён усатый господин во фраке, обнимающий одной рукой шикарную пышную даму, а другой поднимающий рюмку с пенящимся вином. И Татауров галантным тоном, как казалось ему, процитировал стишок с этой открытки:
— Жизни путь твой усыплю цветами, нежной лаской тебя обовью.
Он прижался своей щекой к её лицу, начал щекотать усами.
— Иван… — говорила она. — Иван… Не надо.
А он рисовал перед Дусей картину беззаботной жизни в столице, заверял, что увезёт её с собой. Потом по мягкому одеялу перевёл руку на грудь. Ей было стыдно, но она терпела, считала, что так и должно быть. Только закусила губу и шептала просительно:
— Не надо… Не надо…
А когда через несколько дней случилось то, что обычно случается между молодой женщиной и молодым мужчиной, которые тянутся друг к другу и подолгу остаются наедине, Дуся бросилась в его объятия, забыв обо всём: о благодарности к мужу, о последствиях, которые повлечёт за собой эта связь, о том, что связь эта греховна.
Иван для Дуси был первым мужчиной, который растревожил её сердце, и она отдала ему всю свою нерастраченную страсть. Старик Макар взял её в жёны из жалости, как считала она. Ей было семнадцать лет, когда умер её отец — коридорный из Чучаловских номеров, друг Макара. Хозяин–домовладелец согнал её с квартиры, и добрый старик, только что отстроивший свой уютный домишко в Ежовской слободе, из жалости взял её к себе.
Она из благодарности целые дни хлопотала по хозяйству — скребла дощатые полы, копала гряды, колола дрова, солила на зиму капусту, ухаживала за курами.
Необходимость отвечать на ласки старика она считала такой же естественной вещью, как и стирку белья. Она исполняла роль жены так же деловито и честно, как делала всё остальное. И Макар Феофилактович сказал ей как–то, что это грех жить без венца, она удивилась — она же ничего от него не требовала. Но раз грех, значит грех. И она безропотно пошла к попу и с достоинством приняла его благословение. И так же с достоинством она принимала поцелуи своего мужа, когда подвыпившие старики кричали «горько».
Макар был, по её мнению, отличным мужем. Он был ласков и добр и не докучал своей любовью. Живя затворницей, она не видела других мужчин, а Никиту, который, приехав из деревни, стал жить у дяди, считала долговязым мальчишкой — слава богу, она была его старше на восемь лет. Всё время, пока он жил у них, она обращалась с ним как взрослая. И парень, воспитанный в строгой патриархальной семье, ни разу не посмотрел на неё как на женщину. «Чужая жена — это святыня», «Не пожелай жены ближнего», — говорил ему покойный отец. А Дуся была вдвойне святыней — она была женой его дяди. Дуся могла при нём переодеть платье, и это нисколько не волновало его. И он ходил по комнате в одном белье, считая это естественным.
Не так смотрел на Дусю Иван. Избалованный женщинами, он видел в них предмет, доставляющий удовольствие. Ни ситцевое платье, ни скромный платок не могли скрыть от него Дусиной красоты. Не успев обжиться в чужой квартире, он уже понял, что молодая, здоровая баба не получает радости от сухонького старичка, а если так, то стоит раз или два приголубить её, и она упадёт к его ногам как спелый плод.
Теперь его гордость была удовлетворена, но вскоре Татауров начал тяготиться Дусиной любовью.
Он говорил ей иногда с усмешкой:
— Что за нежности при нашей бедности? — и отталкивал её от себя.
Не желая замечать грубости в его тоне, она прижималась к нему, гладила по плечу. Для неё было счастьем приберечь Ивану лучший кусок пирога, принести из подпола стаканчик любимой Макаром «можжевеловки», почистить ему ботинки.
— Знаю, что грех это, — стыдливо шептала она, крепко сжимая веки. — А ничего не могу сделать — люб ты мне.
— Грех не велик, а спать не велит? — произносил Татауров свою любимую поговорку.
— Зачем ты так, Иван? — испуганно приподнималась она на локте, всматривалась в его глаза. — Зачем?
Он видел, что она чего–то ждёт от него. И не мог понять — чего. Это напоминало о тех блестящих женщинах, которые тоже чего–то хотели отыскать в нём и не находили.
Чтобы не видеть её вопрошающего взгляда, он грубо притягивал её за шею, кривился от боли, когда она неосторожно задевала его нарывы.
Как–то Дуся сказала ему с испугом, что у неё прошли все сроки и она очень беспокоится. Иван перепугался, решил бежать, пока не поздно.
Дусе он обещал, что съездит домой и на обратном пути заберёт её с собой в Питер. Она плакала при расставании, кусала губу. Иван чмокнул её в лоб. Посоветовал сходить к повитухе. А она смотрела на него глазами, полными слёз, думала: «Разве дело в этом?.. Неужели твоя любовь меньше моей?..»
Иван, трясясь в подводе, вздохнул облегчённо: «Ну, слава богу, вырвался… Мне бы сейчас только излечиться от чирьев — я бы сразу в чемпионат… Горло перегрызу соперникам, а всё равно добьюсь своего».
Отец его встретил строго. Альбом с вырезками не произвёл на старика никакого впечатления. Небрежно сунув его на прогнивший подоконник, сказал:
— Хватит бродяжничать. Лечись да принимайся за работу… Для кого я всю жизнь спину гнул?.. Взваливай хозяйство на свои плечи…
Татауров с тоской осмотрел почерневшие бревенчатые стены избы, брезгливо смахнул со стола жирных тараканов.
— Не тронь! — взвизгнул отец. — Счастье хошь из дому выгнать?
Сын насупился, молча стал хлебать квас с редькой.
К вечеру пришла бабка. Обводя крючковатым пальцем вокруг чирьев, приговаривала:
— Угасни, как угасает заря вечерняя… Угасни, как угасает заря вечерняя… Угасни…
Иван смотрел на неё хмуро. Когда отец вышел из избы, шепнул старухе:
— Вылечишь, вот это получишь, — он показал из внутреннего кармана кончик четвертного билета и воровато покосился на дверь.
Старуха охнула, заволновалась:
— Кормилец мой… Барин, чисто барин… Красавец… Всё как рукой сымет… Не сумлевайся..
Он спрятал ассигнацию, погрозил кулаком.
Старуха клала под матрац сухую лягушку, шептала заклинания.
Иван по утрам осматривал тело, усыпанное белыми стянутыми шрамами, пересчитывал гнойные нарывы, с ужасом убеждался, что они продолжают появляться. В раздражении кричал на старуху.
— Обожди, красавец мой, — шептала она испуганно, кропила его какой–то водой из пузырька.
Он вкладывал всю злобу в удары топора по суковатым кряжам, стрелял гнутыми поленьями в ветхие доски забора… По вечерам, на сеновале, от тоски кусал руку… Из села приехал фельдшер, посоветовал пить дёготь с керосином. Татауров скрипел зубами, плевался, пил… Проклинал фельдшера и бабку…
— Бог за что–то прогневился, — шептала она на ухо старику. — Спортил кровь твоему сынку… Обет надо дать…
Однажды, нервно почёсывая лохматую бороду, отец заявил:
— Собирайся. В монастырь поедем. Замаливай там свои грехи.
— Да что вы, батя? — растерянно сказал Иван.
Когда сын стал возражать, старик схватил с косяка вожжи, начал бить его молча по чему попало.
— Собирайся.
Татауров закрывал ладонями лицо, тихо охал, если ремень угадывал по нарыву. Отец бил его долго, жестоко, а наутро запряг лошадку, перекрестился, сказал: «С богом» — и повёз своего блудного сына.
Опасаясь гнева отца, Иван не спрашивал, куда они едут, и только когда увидел реку, а за ней белокаменный вятский кремль, обрадовался: «Дуся будет под боком… Она для меня что хошь сделает», — подумал он самодовольно.
На пароме они переплыли через реку, поднялись в гору по Раздерихинскому спуску и по Владимирской покатили за город — к Филейскому монастырю..
Привязав лошадь к сосне, старик перекрестился на икону, висевшую над каменным крепостным входом, провёл рукой по лысине и бодро вошёл в обитель.
Иван лежал на телеге, с тоской смотрел на галочью стаю, спугнутую звоном колоколов, на крутой склон, поросший розовым иван–чаем, грыз соломинку, потихоньку стонал от боли. У входа шла бойкая торговля иконами и крестиками, толпились странники… Вернулся отец, сказал, что внёс игумену вклад, поцеловался с сыном трижды и уехал.
На первую ночь Татаурова поселили вместе со странниками. Ему не спалось, болели нарывы, по которым его отхлестал вожжами отец, кусались клопы, пахло онучами, кишечным газом…
На рассвете его разбудил монах, равнодушно глядя на него, сообщил:
— Пойдёшь землю рыть — отец игумен назначил тебе послушание.
По двору проходили монахи в рясах; один из братьев, метлой сметавший в кучу конский навоз, зло обругал Татаурова:
— Куда прёшь, дубина стоеросовая?
Работа оказалась тяжёлой — надо было выбрать землю под фундамент какой–то постройки; тень от каменной стены быстро убывала, земля, выброшенная на поверхность, высыхала под лучами солнца, сыпалась в яму… Пот застилал глаза; Татауров поправлял свои повязки, но от напряжения мышц они сползали, обрывая присохшие коросты, сочилась кровь…
Так прошло несколько дней, а игумен всё не вызывал его, словно забыл о татауровском обете… По сигналу Иван шёл в трапезную, глотал безвкусную пищу; кормили плохо, и он всё время чувствовал себя голодным. Выкопал одну яму — дали другую… Звонили ко всенощной, он устало брёл в мрачную церковь; не было сил молиться — стоял, равнодушно глядя на колеблющиеся огоньки восковых свечей, воткнутых перед мрачными ликами святых…
От огромного нарыва на скуле заплыл глаз, болели потрескавшиеся мозоли, спад плохо, вскакивал во сне… Не хотелось ни о чём думать…
Но однажды к нему подошёл келарь, поклонившись, пригласил к игумену.
Татауров вошёл в его келью, скромно стал у порога. Игумен обратил к нему своё лицо, смерял с ног до головы взглядом, вздохнул.
— Слух есть, что ты первым силачом был? — полувопросительно сказал он. Попросил рассказать о мирской жизни. Внимательно всё выслушал. Потом сказал:
— Будешь в гостинице прислуживать… Странники богатые когда приезжают… Будь услужлив, не груби, побори свою гордыню… Заслужишь прощение бога… Помни: он милосерд… Иди…
Татауров благодарно склонился, пятясь, вышел за дверь. Келарь дёрнул его за рясу, шепнул укоризненно:
— Поцеловать руку надо было, тетеря… Не жизнь, а малина будет у тебя.
Гостиница стояла на пригорке, против каменной стены. Под балконом её чернел небольшой пруд с жалкими кувшинками по–под берегом.
В номерах проживали приезжие богатеи — большей частью старики и старухи; некоторые жили месяцами… Татауров таскал им двухведёрные самовары, взбивал перины, подметал пол, выполнял — кто что прикажет… В угловом номере — окнами на юг — поселился яранский купец. Говорили, он приехал вымаливать у бога прощение за то, что погубил свою дочь. Бог его, видимо, охотно простил, иначе он не распивал бы по целым дням портвейны. Узнав, что Татауров — чемпион мира, купец заставлял его рассказывать о своих похождениях. Бывший борец, желая заслужить лишний стаканчик, загибал ему такие байки, от которых у самого захватывало дух… Купец недоверчиво качал головой, удивлялся, стучал в стенку — звал соседа.
Вскоре большинство богатых богомольцев с любопытством посматривали на внушительную фигуру послушника. А в один из тоскливых вечеров, когда на улице сыпал тёплый «грибной» дождик, Татаурова кликнула к себе молодая вдова, поселившаяся здесь ещё до его появления. Стыдливо кутаясь в пышный пуховый платок, глядя на коридорного синими нарисованными глазами, она спросила его: правда ли всё то, что о нём говорят? Обрадованный Татауров показал ей свой не раз сослуживший ему альбом и начал врать хлеще, чем яранскому купцу.
Она всплёскивала руками, спрашивала удивлённо про Чемберса Ципса:
— Чёрный? Весь чёрный? И телеса?.. О господи, каких только уродов нет на свете…
Татауров показывал карточку негра, склонялся над вдовушкой, старался заглянуть за ворот. Ленивая полнота её до того была соблазнительна, что он еле сдерживал себя.
— И княгини путаются с этакими уродами? Ой, срам какой!.. Вот бесстыжие!..
Татауров кивал головой, расписывал, какими духами душатся княгини.
— И у тебя была княгиня?.. И тебе не стыдно?.. Ишь, кобель, прости господи, жениться тебе надо… Разве можно так–то?.. Грех это…
Она отплёвывалась, потом крестилась. Но больно уж ей хотелось узнать, чем княгини слаще простых смертных баб, и она снова начинала его выспрашивать…
Татауров наглел с каждым днём, говорил, что все княгини не стоят её мизинчика. В самом деле, разве можно сравнить? У Любови Кузьминичны во какие груди, а у них — что? — доска; не женщины, а воблы, о рёбра поцарапаться можно… Она плевалась, вздыхала, но когда послушник щекотал усами её ямочку на шее под тяжёлыми косами, уложенными венком, сладко замирала…
Через неделю, лёжа на перине рядом с разметавшейся во сне вдовушкой, Татауров думал самодовольно, что, вероятно, нет на свете бабы, которая бы устояла перед ним… Он с гордостью рассматривал свои бицепсы, украшенные мутно–голубой татуировкой, с радостью убеждался, что нарывы исчезают одни за другим… Услыхал, значит, бог его молитвы, отпустил наконец — то грехи…
Хорошая снова пошла жизнь у него. Но вдруг в монастыре тревожно заговорили о том, что Россия вступила в войну с германцем… Зазвонили зловеще колокола, забеспокоились монахи, стали разъезжаться знатные богомольцы.
Под мрачными сводами церкви звучали страшные слова. Татауров истово крестился вместе со всеми, до боли под ложечкой жалея о том, что долго ещё надо ждать, когда его постригут в монахи… Боже мой. боже мой — послушников берут в армию…
А проповедник, гневно глядя на свою паству, брызгая слюной, выкрикивал:
— …И станет земля железом под вашими ногами! Иссохнет грудь ея, и сосцы матери твоей дадут горький яд вместо молока! А небо сделается медью над вашими головами! Так будет! Так будет!
Успокаивало одно — вдовушка не обращала внимания ни на какую войну; когда он заговаривал с ней на эту тему, отмахивалась… По–прежнему расспрашивала о чемпионатах.
Рассматривая кошку и мышку на его ягодицах, отплёвывалась:
— Вот срам–то какой!.. И чего только не придумают эти борцы…
Он усмехнулся.
А женщина, приподнявшись на локте, поправляя на плече рубашку, спрашивала удивлённо:
— Так–таки и шеи друг другу ломаете?.. А это што такое — «двойной нельсон»?
Он вставал с постели в одних подштанниках и, подсунув свои руки под неё, сцепив их на пышном от волос горячем затылке, показывал двойной нельсон.
— Ох, Ванечка, пусти, — говорила она. — Ишшо свернёшь мне шею, как курёнку… Это, может, у твоих прынцессов шеи крепкие, а у меня — нет.
В комнате пахло лампадным маслом и кипарисовыми иконами, на столе стоял недопитый полуштоф денатурата (в отличие от коньяка «пять звёздочек» Татауров называл его «две косточки»), остывшая яишня — всё было мирно, спокойно, не верилось, что где–то уже целую неделю идёт война… Слухи о мобилизации послушников притихли…
И когда Татауров уже почти совсем успокоился, келарь позвал его к отцу игумену. Всё произошло так быстро, что борец не успел опомниться. На него кричали, топали ногами, стучали посохом: «Кобель! Распутник! Змей–искуситель! Греховодник!.. Вон отсюда!..»
Через несколько минут ему вышвырнули паспорт, и он, не простившись с вдовушкой, зашагал по пыльной дороге. к городу.
За Шевелёвской слободкой, у пересыльного пункта, что расположен против Дома трудолюбия, скандалили пьяные мужики, рыдали их жёны и матери, пахло конским навозом и забором… Подле телеграфного столба с беленькой наклеенной бумажкой толпился народ… По улице прошли солдаты со скатками через плечо, с присвистом пропели песню:
Пишет, пишет царь германский…
Пишет русскому царю…
Разорю я всю Расею…
Сам в Расею жить пойду…
Татауров бежал от всего этого, как от заразы… Скорее, скорее в Ежовку, к Дусе — она поможет выбраться из Вятки…
57
Пахло скошенным сеном, туберозами и резедой. В высоком спокойном небе мерцали звёзды. Над изорванным силуэтом домов возвышалась похожая на церковь ратуша.
Никита лежал на спине, закинув руки за шею. После пяти переходов гудели ноги. Если устал даже он, то как должны были устать другие?.. Но он никому не говорил, что был борцом, и старался держаться так, как держались все.
Люди в иностранном легионе были самые разные. К счастью, оказалось много эмигрантов из России. Среди них были кронштадтский матрос, приговорённый к пожизненной каторге, мастер–шапочник, у которого была растерзана семья во время погрома в Бердичеве, экспроприатор, бежавший из Сибири через Владивосток, художник, изучавший каких–то импрессионистов в музеях. Все они быстро нашли общий язык — говорили о многострадальной родине, о проклятых бошах, посягнувших на её независимость, хвалили союзников, не изменивших своему слову. Это совпадало с Никитиными мыслями, он с жадностью ловил их слова…
Но прошло несколько дней, и Никита убедился, что не так уж все единодушны, как ему казалось первое время. Во взводе оказались люди, которые начали сомневаться в правильности своего решения — защищать Россию… Особенно часто об этом говорил Шумерин — человек непонятного возраста, в пенсне, с ассирийской бородкой, шутливо объяснявший, что его родословное древо уходит корнями в древнее государство Шумера и Аккада…
Как–то, споря со своим приятелем, он признался:
— Нет, всё–таки это всё чушь. Как было, так и есть — враг остаётся прежний: у нас Николай Романов, у немцев — Вильгельм Гогенцоллерн… Лично я попался на газетную шумиху.
— Виктор, прекратите эти разговоры. Сейчас они только на руку врагам, — сказал его друг докторально и покосился на Никиту.
Во время перехода Никита всё время думал об этих словах, вспоминал Доната и Локоткова. Они бы всё ему разъяснили… Мысль его работала упорно и безостановочно… Хорошо — царь плохой, но, если немцы напали на твою страну, приходится мириться с тем, что он плохой — немцы более страшный враг, чем он… Но царь расстрелял сотни людей перед дворцом и на Ленских приисках… Как быть с этими фактами?..
Он крепко сжимал веки, стараясь прогнать головную боль. Потом вновь смотрел в бездонное небо и думал, думал…
Вздохнув, повернулся на живот. Перед глазами была клумба. Потянулся, сорвал цветок, тяжёлый, мокрый от росы. Понюхал… Надо было идти спать. Он поднялся, вытягиваясь на цыпочках, раскидывая руки, зевнул.
Взвод расположился в нижнем этаже новой виллы. На полу была набросана солома. Утомлённые люди спали мертвецким сном. На завешанном чёрной бумагой окне стояла коптилка. Раздавался храп, иногда кто–нибудь стонал во сне… Наутро снова поход — эх, нелегка ты, солдатская жизнь…
Но оказалось, что они застряли в этом городишке на несколько суток. На учёбу командование смотрело сквозь пальцы, люди были предоставлены сами себе. Откуда–то появились карты, началась азартная игра. Когда не оставалось денег, расплачивались трубками, ремнями, даже сапогами… На второй этаж к начальству приходили женщины, оставались на ночь. Унтер–офицеры из французов собирались в просторной каптёрке, почти круглые сутки пьянствовали… Женщины стали похаживать и к ним. До солдат доносился их пьяный визг; иногда вспыхивали ссоры… Экспроприатор крутился около каптёрки, помогал повару–французу… Вдвоём они отправлялись в город, прихватив по туго набитому мешку… Солдаты начали замечать, что пища день ото дня становится хуже.
— Опять одни бобы, — ворчали люди.
Когда ропот стал сильным, пьяный унтер–офицер накричал по–французски на солдат. Смысл ругани Никита понял: унтер оправдывал повара, обвинял подчинённых в жадности…
Экспроприатор с поваром приходили навеселе, приносили дорогое вино; иногда с ними являлись девицы. В каптёрке начиналась новая попойка.
Солдаты косились на своего бывшего товарища. Он видел это, отводил глаза в сторону, а потом переселился в каптёрку — такое исключение было сделано для него одного.
«Если он здесь продаёт нас, — думал Никита, — то что же будет, когда дело дойдёт до боя»? Эта мысль тянула за собой ещё какие–то. Однако они пока были неясны даже самому Никите. Хотелось посоветоваться с Шумериным, но Никита не решался — того прикомандировали к канцелярии, где он проводил целый день; приходил усталый, валился на солому, сразу засыпал… Никита старался держаться подле него и его приятеля и по–прежнему жадно прислушивался к их разговорам.
Как–то ночью он проснулся от шёпота. Прислушался.
Говорил Шумерин:
— Читал сегодня газету в канцелярии: рейхстаг принял военный бюджет единогласно… И социал–демократы проголосовали как миленькие.
Его собеседник приподнялся на локте, сказал:
— Кто был прав?.. Нет–нет, не возражайте, Виктор. Были мы праведниками, донкихотами, рассуждали о прогрессе и всеобщем счастье, а сами разлагали потихоньку свой народ… Немцы же тем временем, под шумок, вооружались, чтобы напасть на нас, — и, возбуждаясь, произнёс: — Но ничего, разгромим мы их, настанет время!
Шумерин что–то возразил, потом, шурша соломой, сел, потрогал свою чёрную бородку. Устало вздохнув, сказал:
— Неправда. Это просто измена революционному движению. Штутгартский и Базельский конгрессы решили, что возникшая война будет превращена в гражданскую. И уверяю вас, что наша фракция в Думе так не поступит, как поступили немецкие социалисты. И настанет время, когда солдаты всех стран повернут штыки против своих правительств.
— Какие солдаты? — с азартом спросил его собеседник. — Эти? Бросьте! Это — хулиганы, люмпены, сброд! Они думают только о картах и бабах!
— Не торопитесь в своих выводах. Мы с вами тоже находимся среди этих солдат… Согласен, есть среди нас и такие, о которых говорите вы… Но не забывайте, что это иностранный легион, который ещё месяц назад вербовался из подонков общества… Я говорю не о них… Я говорю о мужиках, одетых в голубые шинели.
— Бросьте! Вон мужик в голубой шинели — наш повар… Продукты меняет на вино и гуляет в городе… Ещё только началась война, а мы по его милости питаемся одними бобами… Зато офицеры его любят.
Он зло отвернулся. Никита, боясь пошелохнуться, ждал, что скажет Шумерин. Тот сутуло пожал плечами:
— В семье не без урода… А разве наш этот тип лучше? Ведь не вы занимаетесь комбинациями с поваром, а он? Это — закономерно… Я о том всё время и говорю, что враг — среди нас… Вот его надо уничтожать, а не немецких солдат… Ну, всё. Давайте спать. У меня завтра опять много работы.
Он устало повалился на бок, вскоре начал всхрапывать, рука его безжизненно сползла на Никиту. Никите захотелось пожать её — осторожно, с нежностью. Но он лежал смирно–смирно… Было радостно, что расплывающиеся мысли стали отчётливыми, сосредоточились в одной: «Враг — среди нас»… Глядя на трепещущий язычок коптилки, перекусывая соломинку, он думал: «Правда, зачем немецкому мужику моя родина? Ему и своей земли хватит… Зачем ему воевать?.. Зачем, например, воевать Чая Яносу или Альваро Ховальяносу? Да, но если немецкого мужика силой заставили идти на нас и так же силой заставят превращать нас в рабов? Тогда что?.. Выходит, всё равно надо защищаться? А повара и его сообщника пока терпеть?..» И опять всё расплылось, и опять от этого заболела голова…
На другой день произошёл случай, из–за которого Никита чуть не лишился жизни.
После обеда солдаты лениво слонялись по парку, валялись на траве, несколько человек играли в карты, усевшись в кружок. Никита лежал поодаль, читал французскую газету.
Пришёл усталый Шумерин, улыбнувшись Никите, скрылся в казарме. Через минуту он появился с котелком в руках, осторожно постучался в прикрытое ставней окно кухни. Выглянул унтер–офицер, пьяно рассмеялся, что–то сказал повару. Тот распахнул до отказа ставни, упёрся руками в косяки.
— Тебе чего? Обед? А где ты пропадал? Я обязан готовить для каждого по отдельности? Много вас таких найдётся!
Шумерин, хорошо владевший французским языком, объяснил, что его задержали в штабе.
Повар схватил обе створки и прикрыл ими окно.
Шумерин снова постучал.
Ставни распахнулись, и поток брани обрушился на Шумерина. Никита понял, что повар пьян, как и унтеры.
— Я хочу есть. Я прошу то, что мне положено.
— Ах, положено? Может, вам разносолы всякие подавай? Как же, вы графы! В очках ходите!..
Повар чуть не вывалился из окна, унтер подхватил его, стал уговаривать. Выглянули ещё пьяные любопытные морды.
Повар шатающейся походкой отошёл в глубь кухни, запустил черпак в котёл и вернулся к окну. Шумерин приблизился на шаг, протянул свой котелок, и в это время тёплый суп плеснулся ему в лицо. Выпустив котелок из рук, он схватился за пенсне. А Никита в несколько прыжков пересёк посыпанную песком аллею, ворвался в помещение и, вцепившись французу в плечи, встряхнул его, как мешок, и со всей силой швырнул на выложенную изразцами плиту…
С трудом ему скрутили руки, заперли в чулане.
Солдаты столпились под окном кухни. Послышались выкрики:
— Это произвол!.. Вы морите нас голодом!.. Мы такие же солдаты, как французы!.. Несправедливость!.. Никто не разрешил вам издеваться над нами!
Ни ругань, ни размахивание револьверами не помогали. Солдаты шумели всё громче и громче, требовали сместить командиров–французов, угрожали бунтом.
Избитый, со связанными руками, Никита лежал в тёмном чулане, думал безнадёжно: «Будет полевой суд… А я пришёл в армию за тем, чтобы разбить немцев, ведь среди них миллионы таких, как повар… Надо терпеть издевательства одного для того, чтобы разбить миллион. Но как сражаться с врагом, если за твоей спиной есть враг в такой же голубой шинели, как у тебя?.. А ведь он всю жизнь рядом…» Ему вспомнились Ванька Каин, Циклоп, Сапега… Опять от напряжения заболела голова…
К вечеру приехал русский полковник с капитаном–французом в светло–голубом мундире с чёрной лакированной портупеей.
Полковник допросил свидетелей, побеседовал с Никитой, отчитал его с глазу на глаз.
Никита стоял потупившись. Слова полковника ложились плотно, одно к одному — нашли своё место в Никитином сердце. Время критическое, всякое неповиновение играет на руку врагам.
— Мне больших трудов стоило сохранить тебе жизнь, — сказал на прощанье полковник. — Многие недоразумения объясняются тем, что вами командуют люди, говорящие на непонятном вам языке… Но за считанные часы перед наступлением ломать ничего нельзя.
Когда Никита вернулся в казарму, Шумерин молча пожал ему руку.
А вечером рядом с иностранным легионом, в другой вилле, расположились сенегальцы. Это были здоровенные, Никитиной комплекции, парни в серых мундирах, красных фесках и широких восточных штанах; на некоторых из них были каски с изображением полумесяца, на шее болтались амулеты — зуб крокодила, цветной камешек. Они установили у чугунной ажурной решётки флажок, на котором была нарисована зелёная рука, и высыпали к соседям, предлагая шоколад и сигары в обмен на вино. Поблёскивая белками глаз, они весело рассказывали на ломаном французском языке, как марсельские дамы завалили их цветами и подарками.
«Вот ведь тоже идут сражаться против общего врага», — подумал Никита. Ему передались их жизнерадостность, веселье. Пришла мысль, что хорошо бы сражаться с такими бок о бок.
Утром иностранный легион вместе с сенегальцами отправили двумя колоннами на восток. Шли со смехом и песнями, но постепенно голоса стали стихать. К вечеру легионеры еле волочили ноги, но сенегальцы были так же бодры. Ночью сделали привал, а на рассвете двинулись дальше. Попадавшиеся деревни были пусты, встречались сгоревшие дома, воронки от снарядов.
Остановились у церкви с разбитой колокольней. Когда выстроились в очередь за обедом, разорвался первый «чемодан». Он угодил как раз в группу сенегальцев. На их месте оказалась зияющая яма да яркие тряпки. Снаряды летели один за другим; обедать пришлось на ходу. Обе колонны тронулись дальше. С пригорка открылась большая широкая равнина. Почва поддавала при каждом шаге. Шли гуськом по тропинке, сенегальцы — впереди. Где–то в глубине разбредались по траншеям. В узких проходах заплечные мешки и винтовки мешали движению. Над головами свистели пули. Там, где траншея была неглубокой, приходилось ползти на четвереньках. Пули срезали земляной бруствер. Безжизненно упал один солдат. Он был мёртв, и его выбросили наверх, чтобы не мешал движению. Вскоре начался артиллерийский обстрел… Наконец показался глубокий окоп. Можно было сбросить тяжёлые мешки. Со всех сторон полыхало зарево; казалось, солнце заходит одновременно на западе и востоке. Впереди и с боков тянулись к небу чёрные столбы дыма. Несмотря на поздний час, обстрел не прекращался. В небе плавали разноцветные ракеты. Солдаты засыпали, кто где сидел. Коченели от холода.
Наутро началась атака. Сенегальцы сбросили ботинки и босиком, с гортанными криками бежали на неприятельские позиции. Многие полегли у проволочного заграждения. Сапёры ножницами перерезали проволоку. Снаряды разрывались рядом. Без перерыва били пулемёты. Люди ползли под проволокой, бросались в проходы, обгоняли друг друга. Никита старался не отставать от сенегальцев. Вместе с ними он очутился на пригорке. Навстречу выскочили немцы. Винтовки наперевес, раскрытые в крике рты. Рядом с Никитой повалился в траншею рослый сенегалец, увлекая за собой и двух немцев. Рыжий солдат целился штыком в Никитин живот. Никита застрелил его в упор, прыгнул вслед за сенегальцем, ударил кого–то штыком, споткнулся, выронив винтовку, и почувствовал на своей спине врага. Инстинктивно он упал на спину, придавив немца. Потом вскочил и, не обернувшись, побежал по широкому окопу. Впереди испуганно метнулся в сторону немец, Никита уложил его кулаком, ринулся дальше, видя, как перед землянкой катаются два сцепившихся тела. Не успел подбежать к ним, как они распались и остались лежать бездыханно, раскинув руки. В это время раздался грохот, и Никита потерял сознание.
Придя в себя, он понял, что терял сознание лишь на мгновение, в воздухе ещё стояла пыль от взрыва. Он лежал у землянки, двери в которую были сорваны взрывной волной. Кроме двух убитых, никого не было рядом. Прислушался. «Кап–кап–кап», — капала вода с земляной стенки. Значит, слышит. Но тишина удивляла. Осторожно выглянул через бруствер — кроме мёртвых, никого. Колючая проволока облеплена трупами. Он отыскал свою винтовку и хотел возвратиться к своим, но рядом тенькнула пуля. Понял: следят. Примерно через час попробовал выглянуть ещё, но опять раздался выстрел. Надел шапку на штык и поднял над собой.
«Пиу, пиу», — пропели две пули. Стреляли сбоку, из–за укрытия.
Нечего было и думать пробираться сейчас к своим. Надо было дожидаться ночи. Он пожалел, что перед атакой бросил мешок — хотелось есть. Пошарил в карманах убитых, но ничего не нашёл. Прошёл несколько шагов по траншее, за поворотом увидел мёртвого сенегальца: его глаза уставились в небо, белые зубы оскалены. Никиту передёрнуло, преодолевая подступившую тошноту, обшарил карманы солдата. Как и ожидал, там оказались шоколад и сигары. Съел обе плитки, закурил, но, закашлявшись с непривычки, выбросил сигару. Захотелось пить, у одного из немцев была алюминиевая фляга с водой… После этого решился осмотреть землянку. Там было светло. Подняв взгляд, он увидел, что в потолке зияет дыра; светлые брёвна торчали, как рёбра; земля засыпала стол, лежала большой грудой на полу. Из–под досок торчали ноги в сапогах. Никита разбросал доски, увидел немецкого солдата. На его щеке была чёрная дырочка от пули. Раненный, он, видимо, забрался в эту землянку. Здесь его и накрыл снаряд. Немец тяжело приподнял веки. Попросил по–французски:
— Пить…
Ему было всё равно, кто перед ним. Он видел лишь человека, живое существо; цвет одежды его, раненого, не интересовал.
Он видел человека…
Никита выскочил за флягой, открыл губы раненого и влил в его рот воды. Немец поблагодарил его глазами.
«Да он такой же, как я, — сделал вывод Никита. — И это мой враг? Странно… Он в моих руках. Мне не надо его убивать. Стоит снова засыпать досками, и он умрёт… Но у меня нет такого желания… А если бы мне дали убить француза–повара или его русского дружка? Нет, рука бы не дрогнула… Тогда кто же мой враг?..» — мучительно думал Никита.
Чёткие после разговора с полковником мысли снова смешались.
Он осмотрел землянку и отыскал жестяную банку с мясными консервами. Открыл её ножом и подошёл к раненому. На ломаном французском языке спросил:
— Хочешь? Есть хочешь?
— Пить.
Он снова дал ему попить из фляги. И опять подумал, на этот раз уверенно: «Да. Он такой же, как я». Присел рядом, не выпуская из рук винтовки, поглядывая на дверь и на отверстие в потолке. «Вот когда люди поймут, что они все одинаковы, — войны не будет»… Задремал и вдруг вскочил, разбуженный артиллерийским обстрелом. Это били немцы. Они клали снаряд за снарядом на свои бывшие позиции, думая, что там укрепились французы.
Один из снарядов угодил в землянку, и Никита снова потерял сознание…
Позже, когда немцы вернулись на старое место, они подобрали его и с десятком таких же контуженных и раненых солдат иностранного легиона отправили в тыл. Ни один из сенегальцев не попал в плен. Говорили, что последний из них сам себе размозжил голову о столб.
В деревне, от которой остались одни печные трубы, их соединили с другой группой пленных и погнали в тыл. Через неделю, при переходе через какую–то реку, Никита спрыгнул с моста в воду и сбежал. А ещё через два дня его схватили, когда, голодный, обессиленный, он спал во ржи. Он увидел над собой чужие лица, охотничьи ружья.
Немцы избили его, связали и заперли в пустом огромном амбаре. Перекатываясь, сжимая от боли зубы, он нашёл в стене острый гвоздь и перетёр об него верёвку. У Никиты хватило силы выломать несколько досок и выползти из амбара. Долго пробирался задами деревни, отвязал лодку и поплыл в ней по течению, лёжа, отдыхая, затем оттолкнул её и пошёл в глубь леса.
58
Поезд медленно, но упорно приближался к Петербургу. В Вологде долго стояли… Дуся сбегала на рынок, купила ярушников, зелёного луку, яичек, молока; принесла чайник кипятку… Состав отогнали на запасный путь. Скрипя и лязгая железом, напротив остановился санитарный эшелон. На перрон выскочили сестрички в серых платьях, в белоснежных косынках с красным крестом; выбрались загорелые солдаты с подвязанными руками; бросив на камни костыли, спрыгнул молодой парень, подгибая забинтованную ногу.
Со злостью поглядывая на Дусю, Татауров лихорадочно думал, как бы от неё избавиться. Её нежная опека поднимала в нём волну ненависти. «Навязалась на мою шею… Куда я с ней, с брюхатой–то?»
Чтобы не разговаривать, сделал вид, что спит… Ночью вышел — будто до ветру. Распахнул дверь, стал на подножке. Подъезжали к какой–то станции. Прямо в поле солдаты варили на таганках пищу — аппетитно тянуло пригорелой пшёнкой… Вагоны защёлкали на стыках рельсов, поезд замедлил ход. Череповец. Татауров воровато огляделся, спрыгнул на перрон… Вздохнул, подумал: «Теперь она меня ищи–свищи»… Под фонарём пересчитал свои и Дусины деньги.
Через сутки он сел в другой поезд, сошёл с него в селе Рыбацком и на трамваях добрался до угла Невского и Литейного. Устроившись на старом месте, — в меблированных комнатах Глебовой — он помылся, привёл себя в порядок и пошёл к Коверзневу. Но вместо него застал Нину Георгиевну. Она обрадовалась его приходу, похвасталась своим крошечным сыном, всплакнув, сообщила, что Валерьян Павлович с Никитой не успели выехать из Франции и сейчас неизвестно, когда от них можно ждать письма.
Татауров пособолезновал ей, похвалил сына и выпросил взаймы изрядную сумму.
Цирк «Гладиатор» ещё был открыт. В нём проходил очередной чемпионат. Однако многие борцы оказались мобилизованными, даже арбитр работал последние дни… Говорили, что, как Джан — Темиров ни старался, всё расползалось по швам…
Впервые в жизни попав на приём к хозяину, Татауров очень волновался, но Джан — Темиров, глядя на него одним глазом, похвалил его за то, что он вернулся, и предложил взять в свои руки чемпионат.
— Всё–таки вы любимый ученик Коверзнева, — сказал он. — У вас есть авторитет и среди борцов, и среди публики… А насчёт армии… — он сделал паузу, почесал мизинцем тоненькие, как стрелка, усики и добавил: — Я советую сходить к Манасевичу — Мануйлову — он всё устроит. Только учтите: он мало не берёт.
Татауров не отважился заикнуться об авансе, решив, что для этой цели ему хватит Нининых денег.
Стороной разузнал о Манасевиче — Мануйлове. Оказалось, что это человек необыкновенной судьбы. Усыновлённый сибирским купцом, он из еврейского оборвыша, сына каторжника, превратился в приближённого самого графа Витте; за свою жизнь он предал не один десяток революционеров, побывал у папы римского, подкупал французских газетчиков, встречался с Гапоном, сколотил огромное состояние; сейчас дружит с самим Распутиным…
«С ним не пропадёшь», — уверенно подумал Татауров.
Он давно понял, что надо держаться за таких людей, как Мануйлов. Недаром Иван ещё два года назад променял Верзилина на Коверзнева… Настроение поднялось. Купив несколько золотых медалей у мобилизованных борцов, он нацепил их на пиджак и пошёл к выкресту. В приёмной у того было много народу — пришлось ждать. Пятьсот рублей, медали и мельком показанный альбом сделали своё дело — Мануйлов дал записку на призывной пункт. Врач для видимости попросил борца раздеться, потыкал пальцем в стянутые шрамы от нарывов, полюбовался татуировкой, сказал:
— Переделаем ваш фурункулёз на туберкулёз… Да ещё подчеркнём, что два ребра сломаны… Всё… Живите–здравствуйте на благо русского спорта.
Через несколько дней Татауров уже самодовольно любовался новой афишей, висящей на цирке «Гладиатор»: «Обязанности арбитра исполняет ученик профессора атлетики В. П. Коверзнева — чемпион мира Иван Татуированный…» Работать с маленькой труппой было нелегко, но публика всё–таки посещала чемпионат… Джан — Темиров оценил старания нового арбитра — в запечатанном конверте выдал премию: пятьсот рублей… Татауров надеялся, что со временем всё наладится, войдёт в свою колею, тем более что русская гвардия ворвалась в Пруссию и Галицию. По всей вероятности, к новому году наши войска займут Берлин… Но неожиданно пришла страшная весть: на Мазурских озёрах разгромлена армия генерала Самсонова; ходили слухи, что застрелился сам главнокомандующий…
С удивлением Татауров вертел в руках воинскую повестку. В огромном зале городской Думы никто не посмотрел на его военный билет. Ему приказали раздеться, измерили его рост, ширину грудной клетки, посмеялись над кошкой и мышкой на ягодицах, заставили одеться и мелом написали на груди какие–то непонятные буквы. Он испуганно бегал от стола к столу, показывал вырезки и медали, военный билет. Всё было напрасно. У одного из столов он столкнулся с таким же испуганным Леонидом Арнольдовичем Безаком. Глядя на меловые клейма, они отошли в сторону и поплакались друг другу на свою судьбу. А через день они уже маршировали на Глухоозерской ферме за Невской заставой… «Встать! Лечь!», «Встать! Лечь!», «Кру–гом!», «Коли!», «Куда штык завязил?», «Морду разобью!», «Ать, два!», «Кругом!», «Не знаешь, где лево, где право, истукан!», «Кто есть враг внешний? Чего моргаешь толами–то?», «Напра–во!», «Получай по морде!», «Нале–во!», «Я тебя научу, сукиного сына!».
В полночь Безак мёртво валился на нары, сквозь рыдания шептал Татаурову:
— Я больше не могу так… Я не выдержу… Так можно сойти с ума…
Он осунулся, живот его совсем ввалился, ремень висел, обмотки поминутно развязывались, волочились по грязи. Из–за этого ему чаще других попадало от унтера. Татауров смотрел, удивлялся–не верилось, что этот человек приходил к ним в цирк в смокинге и запанибрата разговаривал с Джан — Темировым. Оглядев себя, вздыхал.
А Безак всё чаще и чаще нашёптывал:
— Я не выдержу… Давайте сбежим? А? Давайте? Уедем из этой проклятой страны за границу… Счастливые Коверзнев с Сарафанниковым — живут в Мадриде…
— Тише ты, — зажимал ему рот Татауров, боязливо озираясь по сторонам. Забывался кошмарным сном…
В казарме тяжело пахло мокрыми шинелями, махрой, переваренной грубой пищей… В глубине коптил камелёк, ходики отсчитывали время. Татауров вскакивал, таращился в темноте на стрелки часов, с тоской думал, что опять не выспится… Утром унтер выгонял на волю в одних нижних рубашках, вместо уборной бежали в загаженный лесок, бегом — обратно… «Переходи на шаг!.. Оглох — не слышишь команды!»… «Запевай!».
Из–за леса, леса копий и мечей
Едет сотня казаков да усачей…
— Ать, два! Ать, два! Напра–во! Куда, мать твою так, повёртываешша?
Безак тупо смотрел на унтера, близоруко моргал подслеповатыми глазами.
Ночью приваливался к Татаурову, вытирая грязной тряпочкой рассечённую челюсть, шептал:
— Давайте убежим… Пусть лучше расстреляют нас, чем терпеть эти издевательства…
Татауров шикал на него, многозначительно кивал на соседей. Но никто не обращал внимания на их разговор: отупевшие от восемнадцатичасовой муштры люди спали как убитые. Татауров лежал, думал о том, что самая большая ошибка в его жизни — это связь с монастырской вдовой: если бы не она, постригли бы его в монахи и жил бы он там припеваючи…
Неожиданно прервав на середине знакомство с трёхлинейкой («Стебель, гребень, рукоятка…», «слева–вверх–направо»), их пригнали на Варшавский вокзал, посадили в красные теплушки с белым двуглавым орлом и надписью «40 человек, 8 лошадей» и повезли на фронт… Ветер врывался в щели, забрасывал снег, заставлял людей кашлять и сипеть. Больше всего мучила теснота; спали, уткнувшись лицом в затылок соседа, если поворачивался один — поворачивались все… На запахи не обращали внимания… На стоянках разминали затёкшие тела, ломали снегозащитные щиты — варили кашу. Иногда эшелон трогался так быстро, что не успевали погасить костры, прыгали по вагонам с недопревшим варевом в котелках… В бога и душу ругали машиниста. Начали одолевать вши…
На какой–то станции стояли рядом с санитарным поездом, делились табачком с увечными, беседовали… Безак, отведя Татаурова в сторону, нашёптывал:
— Слышали? Измена… Снарядов нет, одна винтовка на двоих, а немцы стреляют день и ночь… Нас везут на верную смерть…
Татауров шипел на него, приказывав молчать.
Ночью проснулись от сильного толчка, испуганно повскакали. За дверями вагона мелькнул свет электрического фонарика, торопливо прошагали несколько человек, властный голос сказал:
— Через час тридцать, и никаких гвоздей. Иначе — полевой суд. Поняли?
Настала гнетущая тишина. И когда все уже перестали ждать, звонкая команда расколола воздух:
— Выле–зай!
С тёмного неба крошился снег. Кругом простиралась равнина без конца и края… Лениво попыхивал паровоз.
— Первый взвод, становись!
— Второй взвод…
Солдаты забегали, сшибаясь в темноте. Раздался мат, чей–то вопль, потом все пошли — не в ногу, вразброд. Иногда передние останавливались, тогда задние налетали, на них, разбивая в кровь лица. У Безака развязалась обмотка, он наклонился, чтобы завязать её, по его заду ударили котелком, сшибли, и если бы Татауров не выдернул его из–под ног солдат, его бы растоптали.
Стало жарко. От людей валил пар, словно от животных. Раздавался глухой кашель… Шли долго. Потом неожиданно перед ними оказалась землянка. Ефрейтор в ушанке, туго завязанной под подбородок, каждому вручил по инструменту.
Повели дальше… Безак изнывал под тяжестью лома. Татаурову стало жалко его, и он отдал ему свою лопату.
Обгоняя их, пробежал по снежному насту прапорщик — предупредил, чтоб не курили и говорили шёпотом, потому что немец рядом. Незнакомый унтер–офицер забрал взвод, в котором были Татауров с Безаком, расставил солдат на два метра друг от друга в занесённой снегом траншее. Сказал:
— До рассвета должны сделать… Тут в оттепель вода затопила… Застыло всё…
Протараторил пулемёт и захлебнулся. В тёмное небо взлетела ракета, осветила серебристую равнину, и в свете второй, приглядевшись, Татауров разглядел проволочные заграждения — они были совсем рядом. Ожесточённо опуская лом на лёд, он ругал сквозь зубы Безака:
— Шевелись давай, что мне — за двоих, что ли, работать?.. Тот воткнул лопату, голыми руками отшвыривал на бруствер глыбы льда, пыхтел, но не жаловался.
Подстёгиваемые глухими окриками унтера, работали до одурения. Когда шли обратно, даже Татауров еле волочил ноги. Заметив, что многие побросали инструмент, он на первом привале прислонил свой лом к обуглившемуся стволу берёзы… Стало сразу легче идти… А через полчаса унтер бил его в лицо, приговаривая:
— Где струмент? Где струмент, я спрашиваю? Мать твою!..
Татауров только покачивался, моргал глазами, держал руки по швам. Безака спасло то, что лопата у него была лёгкая — дотащил.
Спали они в холодной землянке, насквозь продуваемой ветром, потому что ни передний, ни задний тамбуры её не имели дверей. В полдень их разбудили, выдали по туго набитому брезентовому подсумку, выстроили полукругом перед землянкой, пришёл священник в сером подряснике, с орденской ленточкой в петлице, отслужил молебен… Разбитые ночным походом и изнурительным трудом, стоящие на коленях люди почти засыпали.
После молебна каждому вручили по отпечатанной и наклеенной на картонку молитве.
Когда жадно хлебали из котелков жидкий суп, началась артподготовка. Словно накрахмаленную материю разрывали в вышине, затем раздавался грохот, и впереди взлетали в воздух огненные султаны… Не дав доесть суп, роту погнали на передний край. Шли давешней дорогой, косясь на брошенные лопаты и кирки, вскоре достигли вырытых ночью траншей… Там, где десять часов назад виднелись проволочные заграждения, была развороченная земля. На бруствере, уткнувшись лицом в кровавый снег, лежал солдат. Через несколько шагов попался второй… Впереди загрохотало… Татауров почувствовал, что у него закрутило в животе, ноги стали резиновыми, безвольно подгибались… Нет–нет да взвизгивала над головой шальная пуля…
Звуки выстрелов становились ближе, чаще стали попадаться трупы. Наконец все столпились в овражке перед развороченной снарядом землянкой. Рядом что–то грохнуло, обдав пылью. Ноги сами собой подкосились, Татауров присел… Ещё врезался неподалёку снаряд, в воздух взлетели доски с примёрзшей землёй…
Прибежал поручик с безумными глазами, размахивая воронёном револьвером, приказал пробираться в траншею. Шли пригнувшись.
— Стой, где оружие?!
Все вспомнили, что вместо винтовок получили молитвы на картонках.
Поручик страшно выругался, ударил прапорщика рукояткой револьвера.
Солдаты испуганно толпились, жались к стенке траншеи. Рядом раздался взрыв. Кто–то застонал, другой завыл, наводя на всех ужас.
Поручик подскочил к нему, пристрелил в упор, закричал срывающимся голосом:
— Слушай команду! По свистку — в атаку, вон на ту высотку, мать вашу!.. Винтовки подбирайте у раненых и убитых…
Он подождал, пока кое–кто не обзавёлся винтовкой, потом поднёс к губам свисток, свистнул.
Но солдаты, даже и те из них, кто сейчас имел винтовку, продолжали жаться к стенкам. Тогда он схватил ближнего солдата за грудь, встряхнул его и выпустил в лицо всю обойму… Татауров, чувствуя, что рядом карабкается Безак, начал взбираться на бруствер. Как раз под руками оказалась трёхлинейка, он схватил её, вскинул наперевес и вместе с появившимися откуда–то серыми фигурами побежал вперёд, во всю глотку крича «ура».
Над головой засвистели пули, но в общем грохоте не было слышно звука пулемёта. Татауров всё бежал, чувствуя, что опережает других, но никак не мог замедлить шага… Перед глазами взметнулось яркое пламя, его швырнуло в сторону; не теряя сознания, он упал в глубокую воронку, упёршись руками в шинельные плечи солдата, оттолкнулся от него. Солдат был мёртв и оказался немцем. Татауров испуганно отполз в сторону, насколько позволяли размеры воронки. Уселся, обхватив колени… Наверху всё ещё продолжала грохотать канонада, но он и не думал вылезать из этого убежища… Он не знал, сколько сидел так, боясь пошевелиться. Постепенно всё стихло… Начало смеркаться, и он почувствовал, что зверски голоден. Пошарил по карманам — они были пусты. Он осторожно сполз к мертвяку, перевернул его на спину, тот взглянул прищуренным глазом. Татауров вздрогнул и, не спуская с него взгляда, обшарил его карманы. Хлеб — хорошо, карамелька — пригодится. А это что такое? Ба! Удача! Целая связочка колец с камешками, золотые часы. Ну и повезло! Не дурак, видать, был мужик. Татауров с уважением посмотрел на мёртвого. О, да у него полон рот золотых зубов! Сейчас мы их вышибем…
Татауров полюбовался золотом, пересыпал его с руки на руку. Затем съел найденный хлеб. Захотелось курить. Он выцарапал заскорузлыми пальцами из карманного шва последние крошки табака вместе с комочками слежавшейся ваты, свернул цигарку. С наслаждением затянулся… Замёрзли ноги, но он боялся шевелиться, притаился. Нащупал в кармане картонку с молитвой, стал в сгущающейся темноте читать шёпотом:
— Господи боже, спасителю мой… По изречённой любви твоей ты положил за нас душу свою… Ты заповедал и нам полагать души наши за друзей наших…
Татауров вздохнул, покосился на мёртвого немца. Стал читать дальше.
— Исполняя святую заповедь свою и уповая на тя, безбоязненно иду я положить на брани живот мой за веру, царя и отечество… И единоверных братьев моих… Сподоби мя непостыдно совершить подвиг сей во славу твою… Жизнь моя и смерть моя в твоей власти… Буди воля твоя… Аминь…
Молитва подействовала на него успокаивающе, и он решил, как только стемнеет, ползти к своим.
Изредка раздавались винтовочные выстрелы.
Потом стихли и они.
Татауров выбрался из воронки и, волоча винтовку за собой, пополз по грязному снегу. Он полз, как ему показалось, очень долго, и только всплеснувшаяся в небе ракета заставила его скрыться в попавшуюся воронку. Он перевалился через край её и упал на живого человека. Оба вскрикнули со страху. Инстинктивно нащупав в темноте шею врага, Татауров спросил хрипло:
— Кто?
Стараясь оторвать его пальцы, человек прошептал голосом Безака:
— Я это… Я…
Татауров отшвырнул его от себя, облегчённо вздохнул.
Потирая сдавленную борцом шею, Безак зашептал:
— Я за вами бежал всё время… Это и спасло меня… Мы первые достигли мёртвого пространства… Я выглядывал, когда было светло, — всё поле позади нас усеяно трупами… Я хотел сейчас ползти за винтовкой и прострелить себе руку — это верный способ попасть в госпиталь и вернуться домой… Иначе из этой каши мы не выйдем живыми.
— Дура, — угрюмо сказал Татауров. — Разве так делают?
И вдруг неожиданное решение пришло ему в голову.
— Слушай, — сказал он, — сначала ты мне отстрели пальцы, а потом я тебе… На расстоянии надо… Иначе следы остаются… Полевой суд и расстрел.
— Иван, — сказал задыхаясь Безак… — Вы мой спаситель…
Они дождались рассвета. Безак поднял руку и сказал торжественно:
— Стреляйте.
— Э, так не пойдёт, — усмехнулся Татауров. — Знаю я тебя, ентелегента — сразу сдрейфишь. Стреляй ты первый, потом — я.
Он дал винтовку Безаку, отполз в соседнюю воронку, в последний раз взглянул на мутно–синие буквы, вытатуированные на суставах пальцев, выставил над краем воронки руку, вобрал голову в плечи и зажмурился.
Что–то сильно рвануло его за пальцы, он с ужасом поднёс ладонь к глазам, кровь стекала в рукав с оборванных костяшек, и только на большом пальце, целом и невредимом, осталась буква «а» — одна буква от имени Луиза.
— Давай винтовку! — потребовал он грубо. Дождался, когда Безак отползёт назад, посмотрел на его вытянутую руку, клацнул затвором, вогнал новый патрон в патронник, высунувшись, приказал:
— Выше, выше! Поднимись!
Прицелился в самый лоб и нажал спусковой крючок.
Сжав зубы, перевязал свою руку грязным платком и, не остерегаясь, пошёл во весь рост, опираясь на винтовку.
Проходя мимо мёртвого Безака, усмехнулся.
59
«Я в подлиннике читал Апулея, пожимал руку Врубелю, по моей указке боролись знаменитые силачи, я могу с подробностями рассказать о битве в Тевтобургском лесу, я пил на брудершафт с «первой шпагой» Испании. Я многое видел и знаю. Но я не знаю главного: как быть счастливыми людям?.. Конечно, война — это смерть, разрушение, но всё–таки, если на тебя напали?.. Пусть бедная, царская родина, но всё–таки родина… Пусть в ней такие порядки, что тебя по чьему–то навету бросили в тюрьму и там топтали коваными сапогами… Разве это что–нибудь значит, когда решается судьба твоей родины?.. Когда Сербия, Черногория и Бельгия потоплены в крови?.. Нет, нет, нечего терзать себя. Я правильно сделал, что ушёл на фронт… Хватит думать об этом. Слышишь? Хватит! Следи за церковью!»
Коверзнев поднёс к глазам полевой бинокль. Белый крест, каменная богородица, склеп, снова крест. А вот и церковь… Выше, выше… Окна… Да, двое. Конечно, телефонисты.
Над головой просвистел снаряд, словно великаны перебрасывались невидимой головешкой. Взрыв! «Вот стервецы, что придумали! Так и знал. Забрались на колокольню и телефонируют своей батарее».
Он пополз вдоль кладбищенской ограды, протиснулся в первую же лазейку, пробрался между могил к церкви. «Сейчас они меня уже не видят». Он отряхнул от снега полы шипели, поправил скрипящую портупею, начал подниматься по ступенькам. На середине лестница была разрушена снарядом, в стене зияла дыра. Он остановился, прислушиваясь к словам телефониста, запоминая его интонации. Подумал: «Вот стервецы!» Потом крикнул по–немецки, властным голосом, глядя вверх:
— Эй! Оглохли, что ли, чёрт вас побери!
Оба солдата испуганно выглянули — перед ними стоял немецкий офицер с холёной бородкой.
— Долго вас звать?.. Какой части?.. Двадцать четвёртого лейб–фузилерного? Нет?.. Вы — что? Воды в рот набрали?!
Солдаты ничего не понимали, с удивлением рассматривали размахивающего оружием офицера.
Он вскинул револьвер, раздались два выстрела, первый солдат свалился в лестничный пролёт, другой опрокинулся на спину.
Коверзнев, держась за выступ в стене, добрался до следующих ступенек, подтянулся, держась за выщербленный камень.
Телефонный аппарат стоял на полу. Из стрельчатого окна были видны наши окопы.
Отпихнув ногой мёртвого немца, он спокойно взял трубку и, продув её, закричал:
— Алё, алё!.. Продолжаю!.. Уровень тридцать–ноль, прицел сто двадцать.
Опять над ним прошелестел воздух, словно кто–то над ухом потряс станиолевую бумажку. Рядом с русским окопом взметнулась земля.
— Ещё!
Шелестит воздух, взрыв.
— Недолёт!..
Взрыв.
— Точно!.. Ещё сюда же!..
Взрыв.
Снаряды ложились в стороне от позиции. Целый шквал огня…
— Всё, — сказал он в трубку. — Хорошо поработали, — он потянулся к убитому, не выпуская трубки из руки, вытащил его документы. Прочитав, сказал: — Ганс Нушке и его приятель приказали долго жить. Доложите командованию, что координацию вёл подпоручик русской армии Валерьян Коверзнев. Ауфвидерзеен.
Это было мальчишеством, но без этого гусарства война казалась бы слишком нудной.
Он разбил аппарат, потом повис на руках над разрушенным пролётом лестницы, спрыгнул, сбежал по каменным ступенькам, достал документы у второго солдата и вышел из церкви.
Не успел он дойти до ограды, как обстрел возобновился.
«Ага, бьют по колокольне! Ха–ха–ха!» — рассмеялся Коверзнев.
Голова инстинктивно втянулась в плечи. Земля, взметнутая взрывом, медленно оседала в воздухе, ложилась на лицо. Новый взрыв.
Коверзнев отряхнулся, не сгибаясь, пошёл дальше. Приятно было сознавать, что если ты и позируешь, то только ради себя, ибо кругом никого нет… Приятно было чувствовать себя настоящим мужчиной…
Прошло немногим больше месяца, как Коверзнев служил в разведке, а о его смелости и находчивости рассказывали целые легенды, удивлялись его знанию немецкого языка. За это время он был трижды представлен к награде.
Он по–дружески держался с солдатами–разведчиками, надменно — с офицерами. Ему завидовали, говорили, что он везучий, что у него сильный и независимый характер. И никто не предполагал, что порою он переживает приступы малодушия. Не из–за снарядов, не из–за пуль, нет, опасности он не боялся. Он терзался из–за того, что не мог разобраться в происходящем. Где бы он ни находился, — в пустынном ли поле, застигнутый метелью, в разбитой ли галицийской деревне, в осаждённом ли русскими Перемышле, где кошка–одер стоила пять крон, — где бы он ни находился, его всё время преследовала одна мысль: «Ведь воюет царское правительство, так при чём же здесь он, Коверзнев? Пусть Николаю надают по шее, русский народ от этого только выиграет. Ведь всё равно правительство, подданных которого без суда и следствия бросают в тюрьмы, должно рано или поздно потерпеть крах. Так не лучше ли не помогать ему — пусть его бьют, скорее наступят новые времена. Но как они наступят, когда вместо Николая II будет новый хозяин — Вильгельм? Нет, пусть царь бездарный, плохой, но родина — моя. Я защищаю родину, а не его…»
За Перемышль Коверзневу дали четвёртый крест и три дня отпуска. Если бы не так далеко был Петербург, он бы навестил Нину. Вместо этого приходилось пить коньяк в офицерском собрании и смотреть «Песнь о вещем Олеге», которая именовалась «инсценировкой по Софоклу в стиле модерн». На сцену, задрапированную чёрными сукнами, выезжал на огромном битюге князь Олег, на нём белый разведчичий балахон, немецкая кожаная каска со стальным шишаком. Хор в таких же балахонах и в противогазовых масках исполнял обязанности греческого хора и пояснял происходящее на сцене. Всё это должно было считаться остроумным и интересным, но вызывало у Коверзнева одну тоску. «Как они могут кривляться, когда мы окружены шпионами и предателями».
Последние дни он находился под впечатлением рассказа о Мясоедове. Подполковник Мясоедов, тот самый Мясоедов, романсы которого он слушал в доме Сухомлинова, всё–таки оказался шпионом… Это страшный парадокс: агент германского генерального штаба — приятель военного министра! Разъезжает как хозяин по фронтовым укреплениям, останавливается в немецких мызах, в баронских имениях, через их хозяев передаёт сведения. Да ещё и мародёр — вывозит из брошенных имений картины и вещи… Дело не в том, что его повесили… Страшно то, как такой человек мог оказаться рядом с военным министром!..
— Коверзнев! В канцелярию штаба! Срочно!
Он поднялся, вздохнул. В раздевалке накинул на плечи шинель. Вышел на крыльцо. Было темно. Под сапогом сухо хрустнул ледок. Пересекая улицу, сорвал ветку, растёр между пальцами пухлую почку. «Пахнет, весна берёт своё». Остановился перед штабом, осмотрел чёрные разбитые здания. Взглянул на небо. На юге переливалась крупная зелёная звезда. Она переливалась так же и во времена карфагенских войн, и над Куликовым полем, и над Ватерлоо… Ради чего люди убивают друг друга?..
Известие, которое ожидало его в штабе, оказалось неожиданным: подпоручика Коверзнева включили в число тех, кто завтра, десятого апреля, должен встречать в Перемышле государя–императора.
Странные чувства испытывал Коверзнев. С одной стороны, это была большая честь, которой удостоились немногие, с другой стороны, он увидит человека, которого не уважает и считает бездарным… Интересно, какое впечатление он произведёт?..
Царь прибыл в Перемышль во второй половине дня. Он выглядел усталым, и не мудрено — говорили, что за день он успел побывать на станции Комарно и в Самборе, где знакомился с санитарным поездом и награждал гвардейцев.
На станции был выстроен почётный караул; на правом фланге стоял щупленький, с жидкими усиками генерал Брусилов.
Николай принял рапорт генерал–губернатора Галиции графа Бобринского, обошёл караул, всей роте пожаловал георгиевские кресты.
Заиграли оркестры, рота пошла церемониальным маршем; впереди шагал подслеповатый, с лошадиной челюстью, похожий на Ваньку Каина дядя царя — верховный главнокомандующий Николай Николаевич со своим начальником штаба Янушкевичем и Брусиловым. Царь держал руку у козырька, и было видно, что он тяготится всем этим. Прямо со станции, вместе со свитой, он направился в церковь на молебствие.
Автомобиль двигался медленно, вдоль улицы стояли шпалеры войск, солдаты, не смолкая, натужно кричали «ура», приветствовали царя. Коверзнев неожиданно для себя подумал: «Какой бы он ни был, а всё–таки в эту трудную минуту он стоит во главе государства».
Позже, показывая пропуск двум солдатам у входа в дом бывшего коменданта Перемышля генерала Кусманека, отдавая лакею шинель и фуражку, он упрекнул себя: «Я это так часто повторяю, словно хочу убедить себя в том, во что не верю».
У основания лестницы стоял солдат без оружия. Когда Коверзнев проходил мимо, он щёлкнул сапогами. Наверху уже было много офицеров. Коверзнев с достоинством поклонился.
Появился царь в окружении свиты. Брусилов подводил его к отличившимся офицерам. Удивляясь, что не испытывает волнения, Коверзнев ждал своей очереди.
На Николае был мундир гренадерского Эриванского полка и полковничьи погоны.
— Ваше императорское величество, это — подпоручик Коверзнев.
Царь молча подал руку, потрепал аксельбант, потом сказал:
— Я помню, вы под Еднорожицем захватили в плен командира батальона, а в Копциеве на колокольне уничтожили телефонистов и по телефону руководили немецкой стрельбой?
— Так точно.
Государь молчал, продолжал трепать аксельбант. Коверзнев мог хорошо его рассмотреть: оловянные глаза, курносый нос, рыжеватая бородка… Мешки под глазами и мелкие жилки на носу говорили о том, что любит выпить… Вид рядового пехотного офицера.
— А здесь вы, значит, побывали ещё месяц назад?
— Так точно.
— Вот преимущества разведчика перед другими родами войск, — улыбнулся царь. Ещё раз вяло протянул руку, сказал:
— Благодарю за верную службу.
«Он, видимо, хотел меня удивить своей осведомлённостью, — подумал Коверзнев. — Наверное, несколько минут назад его проинформировали насчёт приглашённых офицеров».
Обойдя гостей, пригласил всех в соседнюю комнату. Посередине стоял большой стол, накрытый на двадцать кувертов. У стены — маленький, с серебряными кувшинами и закусками. Николай первым подошёл к нему, налил водки в серебряную чарку и залпом, не морщась, по–армейски, опустошил. Не закусывая, прошёл к обеденному столу.
Гофмаршал, заглядывая в список, обошёл приглашённых, указывая на места. Царь подождал, когда офицеры закусят, сел.
Коверзнев с любопытством оглядел стол. Сервировка серебряная — ни одной фарфоровой или стеклянной вещи. «Это ведь кокетство, желание показать, что всё по–походному», — пришла мысль. Исподтишка наблюдал за Николаем: «Нет, заштатный офицер — не больше… Эх, если бы на твоё место Джан — Темирова… Он бы навёл порядок. Он бы не допустил, чтобы шпионы были приятелями военного министра…»
Принимая от лакея в солдатской форме тарелку, Коверзнев поглядывал на царскую свиту. Великий князь Николай Николаевич, граф Бобринский, граф Фредерике, генерал Янушкевич, генерал Половцев… Подумал: «Странно, что я не испытываю гордости… Знакомством с Врубелем или Альваро Ховальяносом я могу похвастаться… А кто такой граф Фредерике? Министр двора? Ну и что из этого? А что он сделал? Убил в схватке быка или написал гениальную картину?»
Кончив есть, царь достал портсигар, спросил?
— Кто желает курить?
Коверзнев, прямо глядя в его глаза, взял папиросу.
Подали кофе. После обеда все вышли во двор — фотографироваться с царём. Пошли осматривать трофеи.
Глядя на щупленькую фигуру венценосного полковника, Коверзнев впервые поверил слухам, которые так упорно последнее время ходили среди офицеров. «Нет ничего удивительного, что Гришка Распутин хвастается рубашками, которые вышивает твоя жена… Брусилов тебе бы полка не доверил, а ты мнишь себя хозяином ста пятидесяти миллионов человек… Пешка ты против Гучкова, Родзянки и Джан — Темирова».
Когда вечером товарищи расспрашивали Коверзнева о государе, он задумчиво улыбался, молчал.
60
Всего десяток саженей отделял человека от русских окопов, когда он не выдержал, вскочил и, петляя, побежал. Пули, до этого лишь изредка поднимающие рядом с ним фонтанчики пыли, зажужжали вокруг, как целый пчелиный рой.
Человек споткнулся, снова вскочил и как подкошенный упал, уткнулся белокурой головой в песок, рядом с серебряными листьями мать–и–мачехи.
Два охотника вызвались затащить его в окоп. Человек, казалось, не дышал; на нём был странный зелёный мундир без пояса и короткие штаны, лишь до щиколоток, прикрывающие его босые ноги. Когда его переворачивали на спину, он, задыхаясь от радости и боли, прошептал: «свои» — и заплакал.
Преследуемые выстрелами, солдаты торопились, неосторожно опрокинули его через бруствер окопа. Человек потерял сознание.
— Герман, — сказал неуверенно один из подошедших солдат. — Перебежчик.
— Нет, узнал нас, говорит: «свои», а у самого слеза так и текёт, так и текёт–обрадовался.
— Ишь ты, видать, из плена бежал.
— Досталось ему, болезному… Вон как к нам стремился… К родным, что ни говори, тянет…
— Опять же какой худой, смотрите. Одна кожа да кости. А, видать, гвардейцем был. Гиганта.
— А пули–то как его исклевали. Полз–полз, да терпеньев уж никаких не стало. Думает, свои рядом, добежу.
— А мы–то его на мушке держали. Шпиён специальный, думали…
Перебежчика отправили в тыл дивизии, где хирург вытащил из него шесть пуль, и с первой же санитарной повозкой доставили к поезду–лазарету.
В поезде врач–ординатор Троянов, склонившись над раненым, объявил взволнованно:
— Да это же замечательный борец! Помните, о нём была целая серия очерков? Он выступал под именем Сарафанникова. Перед войной боролся с быками в Испании, и ему был посвящён журнал «Гладиатор».
Ординатор сам занялся раненым, не доверяя его рядовым врачам.
Сознание пришло к Никите под утро; шторки на окне уже были раздёрнуты, и белесоватый рассвет бросил свои краски на чистое купе санитарного вагона; однообразно подстукивали колёса; перед окном мелькали берёзы, окутанные дымом. Закрыв глаза, Никита пытался припомнить, что с ним случилось… Артиллерийская дуэль, вздымающаяся земля, он ползёт, потом всё стихло, русские окопы рядом… Ага, он побежал… Но где он сейчас? У своих? У немцев?.. От напряжения закружилась голова. Он не заметил, как уснул.
Его разбудила песенка. Пел русский — лениво, сквозь сжатые зубы… Запахло папиросным дымком… «Курит, поэтому и поёт так, — спокойно подумал Никита. — У своих… Только что это за песня?» Не открывая глаз, прислушался.
Мужчина пел всё так же лениво, вполголоса, его нежные пальцы снимали врезавшуюся в тело повязку. Как хорошо!.. Чтобы облегчить его работу, Никита приподнял плечо. Глаз открывать не хотелось…
А мужчина пел: «Прощай же, Пиккадилли, прощайте, милые улицы Лондона. Типперери далеко, но сердце моё там…»
«Англичанин, — равнодушно решил Никита и вдруг, обрадовавшись, подумал: — А моё сердце здесь, в России. Родина у каждого своя».
Захотелось узнать, кто поёт эту милую песенку. Никита приоткрыл веки. Перед ним был Тимофей Степанович Смуров — в белом халате, шапочке.
Достав папиросу изо рта и сбив пепел на пол, Смуров сказал:
— Ну вот мы и пришли в себя, Уланов… Я ваш поклонник по цирку Чинизелли… Меня зовут Юрий Александрович Троянов… Тро–я–нов… Вы узнаёте меня?
— Да.
Никита удивился, что его губы прошептали это слово — ему казалось, он произнёс его полным голосом.
Смуров бросил папиросу, завязал бинт. Оказывается, он просто поправлял повязку.
— Ну как? Не давит? Затянули вчера — постарались… Шесть пуль, как записано в истории болезни, извлечено. Благодарите бога, что стреляли по вам, видимо, с очень большого расстояния… Лишь одна пуля разбила берцовую кость… Да вот ещё неизвестно, что тут с ребром… Рентген покажет… Остальные пули застряли в ваших мышцах… Ну, как? Хотите есть?.. Сестра, накормите нашего чемпиона… Когда окрепнете, расскажете мне о своих похождениях… «Далеко до Типперери, далеко. Расставаться с милой Мери нелегко»…
Никита прикрыл глаза. Сквозь дрёму услышал: раненые с почтением шепчутся о нём. «Зачем? Я такой же, как они», — подумал равнодушно. Потом опять уснул.
Разбудили его разговоры, хотя люди говорили шёпотом.
— Измена кругом…
— Ну, ты загинаешь больно…
— Вот дура. А пошто одна винтовка на десятерых? А? Пять снарядов на одно орудие?.. Это как?
— Государь не знает… Ходоков бы к ему…
— Как в пятом годе встретит он твоих ходоков…
— Тихо ты… Ныне у стен ухи развешаны…
— И то…
— Рази русский солдат побёг бы из Курляндии, когда бы снаряды были? Ни в жисть…
— Что там Курляндия… Польшу бросаем, Галицию…
— Против германа не попрёшь… Снарядами сыплет — живого места нет.
— Говорю, измена, братцы…
— Тут они, конешным делом, пользуются… Дураков вокруг царя посадили… Они хлопают ухами, а их обходют… А им што — деньги идут, опять же дачи есть — уехал и отдыхает там… Нет, право слово, ходоков надо — глаза открыть государю. Он не выдаст…
— Забыл девятое–то января?.. Ходоков… Тут надо сообча…
— Сообча — оно всегда выйдет… Чтоб каждый…
— А што — каждый? Я человек маленький, незаметный…
— А сколько нас таких–то?.. Полная Расея… Вон в девятьсот пятом у нас в уезде все мужики поднялись — сбежал помещик…
— Тихо, робяты. Дохтур идёт.
— Троянов–то? Троянов–то хороший… Он ничего барин…
«Хвалят Тимофея Степановича, — растроганно подумал Никита. — Хорошие мужики. Правильно все говорят. Но неужто в нашей армии нет ни снарядов, ни винтовок?»
Он открыл глаза.
— Ну, как дела, богатырь? — спросил Смуров, наклоняясь над ним.
— Хорошо.
Смуров присел рядом, подмигнув, попросил:
— Рассказывай.
Никита начал издалека — с Испании. Хотелось говорить и говорить — давно его никто не слушал, давно он не видел русских… Мадридская «пласа де торос», Альваро Ховальянос, Париж, иностранный легион, Шумерин, смелые сенегальцы, плен, побег, концлагерь в Пруссии, новый побег, десятки километров по чужой стране, голод, последние шаги перед своими окопами…
— Вот, сердешный, хлебнул горя, — вздохнул рябой солдат с бровями, как два пшеничных колоса. — А мы–то жалобимся, что нам чижало…
— Живуч русский человек, — сказал другой.
— А ты, мил человек, говоришь, что и французу нелегко достаётся?.. Нелегко?.. Да уж война, она для всех, конешно… Одно слово, война…
— Да ведь и герману бывает несладко, когда мы его гоним… Вот, я помню, в Карпатах…
— А ты не перебивай. Дай человеку рассказать. Тоже вон и доктор послушать пришёл… В Карпатах–то мы и сами были…
— Рассказывай, мил человек, рассказывай.
Никита вздохнул, произнёс:
— Везде тяжело… Только дома — легче. Дома — стены помогают.
— Это уж как есть…
— Так я стремился к вам, так стремился…
Он прикрыл глаза.
Увидев в них слёзы, Смуров похлопал его по руке:
— Вот вы и в родных стенах. Смотрите, какие расчудесные люди вокруг вас.
— Эх, доктор, — взволнованно заговорили вокруг, — вас бы нашим командиром — мы бы чудесов наделали… А то ведь никаких сил нет… Чуть чего — хлобысть в морду…
— Ну–ну… Сейчас вы раненые, никто вас бить не будет. Нашли о чём говорить. Вы вот лучше подумайте, что вашему товарищу пришлось испытать…
Прибежала молоденькая сестра в сером платье.
— Халат? — строго обернулся к ней Смуров.
— Юрий Александрович, — затараторила она, не обращая на его тон внимания, — вас главный зовёт. Говорят, мы здесь до завтрашнего утра будем стоять. А халат я сейчас надену, не сердитесь.
«Не боятся его, — с признательностью подумал Никита. — Не боятся, а уважают».
Он повернул лицо к окну. Перед небольшим каменным вокзалом толпились бабы; в руках у них — четверти с молоком, кульки с ягодами, с варёной картошкой. На перрон высыпали раненые; появилась стройная фигура Смурова — в гимнастёрке, аккуратно перетянут в талии ремнём.
Никита остался один. Повернувшись на бок, положил на одеяло забинтованную руку, глядел на народ. Потом незаметно для себя заснул. Проснулся, когда была ночь. Понял, что поезд идёт.
Потянулись однообразные дни. Поезд больше стоял, чем шёл; раненые загорали на солнышке. Часто стояли прямо в поле, тогда сёстры собирали цветы; одна из них поставила перед Никитой букет — ромашки, васильки, колокольчики. Это напомнило детство, деревню. Обрывая у ромашек лепестки, он думал о Смурове. Раз живёт не под своей фамилией, значит, не бросил дела. Вот бы посоветоваться с ним. Разговоры с солдатами убеждали Никиту в том, что что–то неладно. «Враг среди нас». Солдаты говорят: измена. Значит, враг засел и в верхах?
Никита ждал случая, когда останется в купе один.
Как–то остановились в нескольких километрах от станции. Из вагонов выбрались даже те, кто бродил на костылях; остались один «тяжёлые» вроде Никиты. Никита попросил сестру позвать ординатора.
Смуров пришёл злой, с ввалившимися щеками.
Никита сказал извиняющимся тоном:
— Не ко времени я вас позвал.
— А! Тут всё не ко времени будет, пока хозяев не сменят. У семерых нянек дитя без глазу. Все занимаются ранеными, начиная от Союза городов и кончая самим принцем Ольденбургским, а толку никакого. Перевязочных средств не хватает, доктора работают как ломовые лошади… Лекарств нет. Обидно, когда люди умирают из–за чьей–то нераспорядительности или халатности… И какие люди!..
— Об этом вот и думаю я… Вот солдаты говорят: измена да шпионство. Что могли бы и не сдавать позиции, да что сделаешь, когда патронов нет и пять снарядов на пушку.
— Эх, Никита, Никита, — вполголоса сказал Смуров, присаживаясь к нему и беря его за руку. — Пришлось мне перед войной побывать в Поронино, это от Кракова недалеко… у одного замечательного человека… Так вот он ещё тогда говорил, что в нашей армии никаких изменений не произошло со времён японской войны… То же безграмотное офицерство, такие же карьеристы генералы, так же плохо с вооружением… Насколько бы ни был храбр и доблестен русский солдат, ничего он сделать не сможет…
— Так как быть?
— Как быть?.. Ты задумываешься над этим?.. Молодец… Однако, прежде чем обсуждать, как быть дальше, надо выяснить, за что мы воюем… Ну, за что?
Никита осторожно ответил:
— Германия напала на нас… Защищаться надо…
— Вот видишь… А откуда ты взял, что Германия напала?
— Дак…
— Вот тебе и «дак»… К этой войне давно готовились все империалистические страны, и ведётся она двумя группами разбойнических великих держав из–за дележа колоний, из–за того, чтобы поработить другие нации… тот человек, с которым я разговаривал в Поронино, так её и называет — самой реакционной войной, войной современных рабовладельцев за сохранение того раб — ства, которое богачи навязали рабочим… Врут царские газеты, когда уверяют тебя и всех вот этих солдат, что Россия должна защищаться… Нет, царская Россия давно заключила договор с Англией и Францией о грабеже и разделе Австро — Венгрии и Турции. Наш царь хочет захватить Галицию, отнять у Турции ряд земель, задержать развитие революционного движения… А Германия мечтает отнять у нас Польшу, Украину и Прибалтику и грабить колонии, принадлежащие Англии и Франции… и Бельгии. И кто бы в этой войне ни победил, проиграют одни рабочие всех стран… Вот как дело–то обстоит… Мы с тобой вот как сделаем: я тебе буду давать газеты, книжки, ты их читай осторожно…
Смуров задумался, глядя в окно, потом сказал:
— Для начала сделаем так: через несколько минут сестра принесёт тебе кулёк ягод. Когда съешь ягоды, прочитай бумажку, в которую они будут завёрнуты. Только — осторожно. Если люди рядом хорошие — расскажи им… Эх, скоро расстанемся с тобой — в Пскове наверно. А то, может, и в Питере вас выгрузят… Вот там солдаты из рабочих в госпитале будут. Беседуй с ними… Ну ладно, идти надо. Так понял всё? Будь осторожен.
На станции Смуров купил несколько кульков ягод. Пробуя их, нахваливая, поднялся на подножку и окликнул сестру:
— Наталия Петровна, это вы Уланову цветы поставили?
Девушка смутилась:
— Я, Юрий Александрович.
— Снесите–ка ему ягод. Ему полезно. А из ваших рук — вдвойне приятно.
Он положил покупки на свой столик в общую груду и, вытерев руки носовым платком, взял один кулёк и протянул девушке.
Она торопливо убежала к больному.
Никита поблагодарил её и, когда она ушла, высыпал все ягоды в рот, разгладил газету. Стал читать.
Потом долго обдумывал прочитанное; морщины упрямо собрались на его переносице. Снова поднёс к глазам запятнанный малиной листочек, прочитал шёпотом:
«Все сознательные рабочие России стоят на стороне Российской социал–демократической рабочей фракции в Государственной думе, члены которой сосланы царизмом в Сибирь за революционную пропаганду против войны и против правительства. Только в такой революционной деятельности, ведущей к возмущению масс, лежит спасение человечества от ужасов современной войны и грядущих войн. Только революционное свержение буржуазных правительств, и в первую голову самого реакционного, дикого и варварского царского правительства, открывает дорогу к социализму и к миру между народами…»
«Значит, мир будет только тогда, когда будет свергнуто царское правительство, — думал Никита. — Враг — царь. А какой мне враг немецкий мужик? Вон Оскар Шнейдер — немец. А чем он хуже других? Ещё получше некоторых русских. Например, Ваньки Каина. Да что там Ванька Каин, он и Татаурова лучше… Он не будет никого научать, чтобы человека избили…»
Когда пришли соседи и поезд тронулся, Никита, под мерный стук колёс, сказал как бы между прочим:
— Вот бумажка тут интересная попалась. Ягоды были завёрнуты.
— Дай–кося, — попросил рябой с пшеничными бровями. После длинной паузы сказал: — Ишь ты, нет, грит, хуже врага для нашей родины, чем монарх, то ись царь, значит… Это он, грит, вверг нас в войну. Кровь из–за его, стало быть, проливаем… А его как свергнешь — так и мир будет…
— Ну, вы государя не троньте, — сказал другой. — Он богом на царствование помазан.
— Не богом, — сказал третий, — а нашей кровью… девятого января…
— Тут вины его нету… Это министры виноваты.
— Всех бы их на одну верёвку да…
— Ты — опять?.. На каторгу захотел?
— Нет уж, будя, пострашшали каторгой. Чичас народ многое понимать стал. Многое. И когда возьмётся сообча…
— Да, антиресная газетка… Страшная для кое–кого…
— Да што там — газетка. Не в газетке дело. Страшно, что кровь наша льётся.
— Вот именно.
— А в газетке про что написано? Как раз ведь про это.
— Сожгем её, чтоб греха не было.
Никита повернулся лицом к говорившим, поддержал:
— Правильно. Сжечь её. Чтобы добираться не стали — что да откуда… А что в памяти осталось — это уж не сожжёшь.
— Золотые слова… А память у народа — крепкая…
За несколько дней дороги Никита сблизился с этими людьми. Разговоры их стали более откровенными… Бывало, говорили все ночи напролёт.
Смуров приносил ему газеты и книжки, но просил больше никому не показывать. Сказал:
— Следят как будто за мной. А проваливаться мне нельзя — место больно удобное: сегодня на фронте, завтра — в тылу… Разъезжаю.
Никите не хотелось расставаться с соседями по вагону, это были все простые и душевные люди, но в Петрограде их рассортировали по разным госпиталям.
Ещё тяжелее было расставаться со Смуровым.
Смуров дал ему заплечный мешок, в котором вместе с письмами и фотографиями умершего в дороге солдата была пачка листовок.
— Если отберут, говори, что подобрал мешок у мёртвого солдата и ещё не смотрел содержимое. Прощай. Когда–нибудь ещё увидимся.
И он ушёл, напевая свою песенку!
Далеко до Типперери, далеко…
Расставаться с милой Мери нелегко…
61
И раньше Нина редко выходила из дому, а сейчас, когда Мишутка заболел скарлатиной, она стала настоящей затворницей.
Нося его безжизненное тельце на руках, она с трепетом ждала, когда сынишка улыбнётся, потянется к пей ручонками. Он приоткрывал глаза, смотрел невидящим взглядом.
— Сыночек мой маленький, сыночек… Господи, сделай так, чтобы его болезнь перешла на меня… Я всё согласна вытерпеть… Ты не услышишь от меня ни одного слова жалобы… Сжалься над ним — он такой маленький. За что он должен страдать?..
Порой ей казалось, что сын умирает. Она в ужасе подбегала к телефону, вызывала врача.
Няня брала её за плечи, успокаивала:
— Барыня, милая, всё обойдётся… Не терзай себя…
— Маша, Маша… За что бог наказывает нас?..
Иногда засыпала, уткнувшись головой в кроватку. Однажды сын проснулся и сказал:
— Ма–ма.
Она подхватила его на руки, начала целовать сквозь слёзы. Он потёрся щекой о её лицо, посмотрел на неё внимательно, по — взрослому.
С этого дня дело пошло на поправку.
Нина носила его по просторным комнатам, останавливалась против портрета Ефима, говорила:
— Папа.
Мишутка смешно таращил глаза, задерживался взглядом на ярких картинах.
— Глупый ты мой… Несмышлёныш… — шептала Нина, целуя его в бледную щёчку.
Врач разрешил спускать сына на пол. Мальчик ходил пошатываясь, натыкался на стулья. Нина попросила няню прибрать зал, который Коверзнев отделал под арену, и часами сидела в кресле–качалке, глядя, как Мишутка ковыляет по зелёному ковру к огромной штанге, обхватывает её воронёной гриф. Целый месяц они провели в этом зале. Няня поставила здесь детский столик и кормила малыша, не унося в столовую. Медленно покачиваясь, Нина смотрела на деревянных идолов, расставленных по углам. Мальчик как–то остановился против одного из них и, заложив руки за спину, сказал:
— Дядя.
И с тех пор, когда его уводили в гостиную или столовую, капризничал, махал ручками, кричал:
— К дяде!
Мина написала об этом Коверзневу, и строчки его ответа о судьбе малыша растрогали её до слёз. «Он прав — весь в отца, будет борцом…»
Газеты сообщали о поражениях русских войск; видимо, взятие Перемышля, где отличился Коверзнев, было последней нашей победой. Сейчас войска откатывались из Галиции сплошной лавиной; в конце мая пал Львов. Всё лето наши войска отступали из Польши, Литвы, Западной Белоруссии; в августе немцы взяли Варшаву, Новогеоргиевск, Брест — Литовск, Ковно. Николай II встал во главе русских войск, но и отставка дядюшки не помогла — вскоре пал город Вильно. Шли бои под Гродно, у Риги… Шёпотом говорили о мешке, в который наши войска попали под Сморгонью… Ещё страшнее были слухи о том, что Распутин продаёт Россию немцам, и — что уж совсем было чудовищно — рядом с ним произносили имя императрицы Александры Фёдоровны — Алисы Гессенской в девичестве… Имя Сухомлинова после казни Мясоедова трепали даже газеты; сквозь строки можно было вычитать о том, что он окружён подозрительными дельцами, наживается на подрядах в армию, поэтому и приходится у нас одна винтовка на десять солдат… Петроград заполнили потоки бумажных денег… Туго стало с продуктами. Няня часто возвращалась домой злая, швыряла деньги на кухонный стол, говорила раздражённо:
— Керосина не достала… За молоко такое с меня содрали — креста на них нет… Ироды…
Нина отдавала няне свои костюмы и платья — просила продать, Коверзнев настаивал в письмах на том, чтобы она не жалела его вещей. Пришёл длинный человек в модном плаще, сняв шляпу и закинув масляную прядь на лысину, осмотрел деревянных идолов, картины и резные створки церковных врат и предложил баснословные деньги. Но Нина раздумала, продала только мелочь — статуэтки, гравюры.
Обтирая английским одеколоном шелушившееся Мишуткино тельце, думала: «Это для Валерьяна было целью жизни — как же я приму его жертву?» Сын капризничал, просился гулять.
— Ну потерпи, мой маленький, — уговаривала она.
Когда первый раз спустилась по лестнице, на улице стоял холодный солнечный день. Невский по–прежнему сверкал витринами антикварных лавок и магазинов фарфора.
Нина пересекла дорогу, крепко держа сына за руку, и села на скамью. Над бронзовой Екатериной, напоминающей тряпичную бабу, которой накрывают чайник, кружились птицы; на жёлто — белом здании Александринки починяли крышу, звонко постукивая молотками. Опадали листья; один из них падал наискось — мимо шестигранной застеклённой коробки фонаря… Проследив за багряным листком взглядом, Нина посмотрела на сына. Он чувствовал себя хозяином — подошёл к девочке, отобрал у неё ведёрко с совком и, присев на корточки, начал деловито копаться в песке; девочка смотрела на него в недоумении и сосала палец. Нина подхватила сына на руки, оттащила к другой скамейке, сунула в руку поводок папьёмашевой лошадки.
На тротуаре, перед входом в сквер, остановился известный артист, окружённый дамами: на груди его висела табличка, сообщающая, что он собирает деньги на табак для защитников родины, и металлическая кружка. Позируя, кривляясь, он говорил:
— Собирался я на войну идти, да, видно, не судьба. Табак дело вышло.
Полная дама с семилетним сыном, придерживающим жестяную сабельку, обратилась к нему с томной улыбкой:
— Константин Владимирович, а можно с вами поцеловаться?
— За золотой — можно.
— Уступки не будет?
— Никакой. Разве только что бумажные деньги дадите.
Дама достала из сумочки «красненькую».
Он потянулся губами, но она со смехом подняла на руки ребёнка, произнося:
— Да я не для себя поцелуй ваш купила, а для сына. Коля, поцелуй дядю — он тебя поцеловать хочет.
Артист погрозил ей пальцем со сверкающим перстнем, чмокнул мальчика в щёку и приколол к его клеёнчатой портупее трёхцветный флажок.
Нине стало мерзко, она схватила Мишутку, торопливо прошла в глубь сквера, задыхалась от гнева: «Как они могут паясничать, когда в эту минуту на фронте умирают люди?.. Может, Валерьян сейчас…» — но она обругала себя за это кощунственное предположение.
«Скорее бы кончилась война», — думала она в тоске. С надеждой ловила слухи. Говорили, что какой–то провидец предсказал победу России в этом году. Нина читала потрёпанный номер «Нивы», уверяя себя, что так и будет. Действительно, в 1015 году было создано Великое Киевское княжество, в 1115 — разбили половцев и болгар, в 1215 — татар… Каждый пятнадцатый год приносил победу России… Дай бог, чтобы в 1915 году одолели немцев… Но время шло, и слухи, один страшнее другого, ползли по Петрограду. Простые люди не стеснялись вслух ругать бездарного царя, затягивающего войну, говорили, что так долго не может продолжаться, всё кончится революцией… Подле царицы собирались тёмные личности — называли имена Вырубовой, Распутина, Митьки Рубинштейна, князя Андронникова, Протопопова, Манасевича — Мануйлова… Всё это напоминало кошмарный сон…
Нина брала сына на руки, ходила с ним по просторному коридору, мимо ярких цирковых афиш. Садилась, писала большое письмо Коверзневу: «Береги себя, дорогой, ты один у нас с Мишуткой…» В конце каждый раз спрашивала о Никите; но вестей о нём не было — видимо, погиб где–нибудь на Марне.
— К дяде, — просился сын.
Она несла его в зал, опускала на ковёр. Он бежал к чугунным гантелям, начинал их перекатывать. Из узкой стеклянной ленты, протянутой над дубовой панелью, на Нину смотрели несколько сот знаменитых и незнаменитых борцов; в углу стёклышки были пусты — Коверзнев не успел довести коллекцию до конца.
Неожиданно под новый 1916 год от Коверзнева пришло известие: ранен в руку, едет в Петроград. Она заволновалась, начала примерять оставшиеся платья, простаивала у зеркала. Няня счастливо вздыхала, незаметно крестила хозяйку.
На крытом перроне Николаевского вокзала гулял январский ветер. Кутаясь в шубку, Нина с надеждой смотрела на переплетающиеся вдали рельсы. Появился жёлтый глаз паровоза, ожидающие заговорили громко, пошли навстречу… Из вагонов выскакивали люди, обнимались с родными, весело смеялись; шныряли носильщики с серебряными бляхами…
Коверзнева не было. Нина в тоске сжимала руки, готова была расплакаться.
Когда он появился на подножке вагона, она бросилась навстречу с криком.
На нём была новая щёгольская шинель, сверкающая фуражка; правая рука на чёрной косынке. Нина припала к его груди, гладила щёки, холёную бородку. Подхватив женщину левой рукой, отдав новенький чемоданчик носильщику, он повёл её по дебаркадеру, вышел на площадь.
В сумерках была видна тяжёлая громада царя на красной гранитной глыбе, со звоном катили яркие вагоны трамваев.
— Извозчик! До Елисеева!
Он бросил мятую купюру носильщику, подсадил Нину, уселся рядом, придерживая её за тонкую талию рукой. Сказал растроганно:
— Вот я и в Петербурге (он не привык к новому названию)… Ведь не был два с половиной года…
Нина во все глаза смотрела на Коверзнева, смахнула с его щеки слезу.
В сером морозном небе тепло поблёскивала золотая игла Адмиралтейства.
— Ах, Петербург, — вздохнул Коверзнев. — Как ни любил его прежде, но только сейчас после чужбины, после окопов — понял, что нет мне без него жизни.
Он не дал Нине чемодана, поднимался за ней по ступенькам. Не сбросив шубки, Нина осторожно стаскивала с его раненой руки шинель. Охая, топталась няня, крутился под ногами Мишутка.
Коверзнев ловко подхватил его здоровой рукой, прижал к себе.
— А почему у мамов не бывает бороды? — спросил мальчик серьёзно, глядя на него верзилинскими глазами.
— Ох ты, герой! — воскликнул Коверзнев, защекотал его подбородком.
Не спуская малыша на пол, он обошёл всю квартиру, словно в первый раз рассматривая афиши, висящие в коридоре, коллекцию картин в гостиной, идолов, стерегущих никому не нужные штанги и бульдоги. Обвёл взглядом бордюр из открыток–портретов, задержался на пустых стёклах, подумал: «Надо будет Ховальяноса из журнала вырезать и сюда сунуть». Вдруг пришла мысль: «А ты ведь за всю жизнь не воспитал, собственно, ни одного борца. Вот ругают «дядю Ваню» Лебедева за комбинации, а из его арены вышли многие… А из твоей? Твоя арена служила для развлечения бар. Был ты всю жизнь режиссёром и остался им».
Но он отогнал эту мысль, прижал к груди Мишутку, пошёл из залы.
Они сели за праздничный стол. Мишутка — рядом с Коверзневым, на высоком камышовом стуле. Разбрызгивая ложкой какао, мальчик сказал:
— Ты мой папа — я знаю.
Коверзнев вопросительно взглянул на Нину, но она потупилась, промолчала. Тогда он притянул ребёнка к себе и, целуя в мокрые, горячие губы, спросил:
— А ты любишь папу?
— Ага. Только маму больше. И няню.
Они проговорили с Ниной почти до утра, каждые полчаса вставая из–за стола и подходя к детской кроватке. Мальчик спал, сладко посапывая носиком и прижимая привезённую Коверзневым из Москвы игрушечную пушку. Осторожно обнимая Нину за талию, Коверзнев думал грустно–шутливо: «Говорят, что устами ребёнка глаголет истина… Что бы она глагольнула хоть на этот раз… С какой бы радостью я стал его отцом».
В доме было тепло, но Нина по привычке куталась в белый пушистый платок. Глядя влюблёнными глазами на склонившуюся над шитьём Нину, Коверзнев слушал, как она взволнованно рассказывает:
— Будто всё в руках этого хлыста… Он берёт взятки за назначение министров… Говорят, он имеет огромное влияние на царицу… И она с ним за спиной царя ведёт переговоры о мире с Германией… Будто даже хочет устранить мужа и стать регентшей… Коверзнев, что же будет? Где порядок, где правда?..
«Превратили Россию в публичный дом, — горько думал Коверзнев, — Если эти слухи ходят среди офицеров — то это куда ни шло… Но когда об этом говорит весь Петербург…»
— Коверзнев, где правда?
— Это страшная фигура для истории династии Романовых… — он затянулся, выпустил дым: — Пф–пф… И вообще я не знаю ни одного примера, чтобы безграмотный мужик делал такую карьеру, как Распутин… Это все уже давно понимают. Ещё три года назад Думбадзе давал из Ялты телеграмму министру внутренних дел — просил разрешения прикончить старца, находящегося с царской семьёй в Ливадии, всё хотел прикрыть нападением разбойников… — он снова затянулся, помолчал. — А правда? Правда в победоносной войне. Или мы немцев, или они нас. Другого выхода нет. А для этого нужна сильная власть. Надо пожертвовать бездарным, тупым царём, этим выродком, чтобы спасти родину. Иначе весь этот грязный сброд во главе с Распутиным и Алисой распродаст нас по кускам… Ещё год назад я сам, слушая разговоры о Мясоедове и Сухомлинове, думал наивно, что разоблачение их подрывает нашу силу… Нечего рассуждать об этом — надо сражаться… Чёрта с два, чтоб сейчас я так считал!.. Под корень всех их, под корень! Нина, стыдно, пойми, я был знаком с этими людьми и хвастался этим знакомством!.. Никогда не прощу себе этого!..
Он сжимал кулак с такой силой, что белели суставы пальцев, брызгал слюной.
Нина смотрела на мёртво повисшую на чёрной косынке руку, на четыре георгиевские креста, на погоны с двумя звёздочками и одним просветом, боялась возражать. Но не удержавшись, сказала:
— Ты говоришь: война? Но ведь народ уж не в силах её больше терпеть. Вон послушал бы ты Машу — она бы тебе выложила всё, что слышит в очередях… Смерть, смерть кругом… Нет, Валерьян, это не может продолжаться вечно… Может, это и в крови мужчин, но вы подумайте о нас, женщинах. Ведь у нас убивают мужей и сыновей, Валерьян.
Коверзнев встал, стараясь сдержать себя, налил бокал красного вина, выпил. Снова разжёг свою трубочку.
Когда отправлялись спать, он положил руку на плечо Нине, притянул к себе.
Она осторожно выскользнула, медленно покачала головой:
— Нет… нет…
С утра он побежал в Союз георгиевских кавалеров. Пришёл голодный, возбуждённый. Бросил «Вечернее время», «Биржевку» и ещё с десяток газет, сказал:
— Читай.
Поев, долго играл с Мишуткой на арене, учил его бороться, перевёртывался на спину, ронял мальчика на себя, дрыгал ногами, вызывая его торжествующие крики.
Мишутка привязался к нему, целыми днями ждал, когда придёт «папа».
Коверзнев приходил раскрасневшийся от мороза, шумный. Мальчишка бросался к нему, просился на руки, тёрся о мягкую бородку. Глядя на них, Нина в сотый раз думала: «Он будет чудесным отцом…» Но всё–таки ревновала.
Качая её сына на ноге, Коверзнев выкладывал новости:
— Знаешь, как Андронников сделал себе карьеру? Подкупил рассыльных «Правительственного вестника», и по дороге в типографию они завозят ему материал. Он просматривает награды, звонит какому–нибудь сановнику: «С радостью сообщаю, что мои хлопоты не пропали даром: государь подписал указ — завтра читайте в «Вестнике»…
В другой раз, набивая здоровой рукой трубку, сообщил взволнованно:
— Достал потрясающую телеграмму! Слушай, читаю в орфографии Распутина: «Миленький папа и мама! Вот бес–то силу берёт окояный. А дума ему служит; там много люцинеров и жидов. А им что? Скорее бы божьего по мазенника долой. И Гучков господин их прохвост — клевещет, смуту делает. Запросы. Папа! Дума твоя, что хошь, то и делай. Какеи там запросы о Григории. Это шалость бесовская. Прикажи. Не какех запросов не надо, Григорий». Каково? «Дума твоя, что хошь, то и делай»… Одевайся, едем в Думу — там отхлещут сегодня царских приспешников по щекам.
Они ехали в Таврический дворец. Нина удивлялась — давно не видела такого общества. Глядя на блещущие тёмно–коричневым лаком трибуны, слушала:
— Наши святые воины совершают чудеса. Мы терпели временные неудачи, но побеждены были не войска, а дальний тыл. Тыл не поспевает за армией, лишает её оружия и снарядов. Чиновники тыла погрязли в злоупотреблениях. Вы грозите им военным судом? Полноте — это сказки, страшные для детей младшего возраста. На кого накинете вы петлю? На сцепщика поездов, на конторщика? В бытность мою на фронте я слышал рассказ о том, как солдат, желая избавиться от службы, отрубил себе три пальца и сказал: отстрелили. Пальцы нашли, а солдата уличили. На войне суд беспощаден — привязали к столбу и расстреляли. А скажите, не слыхали вы про изменника, который предал первоклассную крепость Ковно, лишил отечество целых дивизий, отдал врагу артиллерию и склады снарядов? Генерал Григорьев. Для него страшен оказался военный суд? Конечная судьба — беспечальная жизнь, как для Стесселя и Небогатова. А тот злодей, который обманул всех нас лживыми уверениями, кажущейся готовностью к страшной войне, который тем сорвал с чела армии её лавровые венки и растоптал их в грязи лихоимства и предательства, который грудью встал между карающим мечом закона и изменником Мясоедовым? Куда же бросаете вы мёртвую петлю? Туда, вниз. Нет, поднимите её выше, выше, доведите её до уровня вам равных. Ведь тот министр головой ручался за Мясоедова: Мясоедов повешен, где же голова поручителя? На плечах, украшенных вензелями!..
Коверзнев наклонялся к Нине, шептал:
— Слышишь? Погоди, они доберутся и до военного министра. Все — в крепкий кулак! И — по немцам! Тогда уж мы ударим!..
Она думала: «Это одни разговоры. Разве изменишь что–нибудь, если повесишь одного Сухомлинова? Сколько ещё таких останется». Но Коверзневу не возражала.
А он, возвращаясь из Союза георгиевских кавалеров, скидывая шинель на руки Маше, говорил возбуждённо из коридора:
— Читала? Брусилов–то мой прёт и прёт! Австрийцы сдаются пачками!
Подвигая тарелку, играя над ней перечницей, хвастался:
— Англичане в Месопотамии и под Константинополем задают драпу, французы, отвоевав два метра на реке Изер, трубят на весь мир о победе… А мы заняли Эрзерум, рвёмся к Вене!.. Нет, нечего отсиживаться в тылу — надо на фронт.
Жуя мясо, морщась от горчицы, он сгибал и разгибал пальцы раненой руки.
По опыту Верзилина Коверзнев занимался каждое утро гантелями, пытался поднимать пудовую гирю. Нина с испугом видела, как гиря вырывалась из больной руки, падала на стружку, прикрытую ковром.
— Мишутка, уйди! Не видишь, папа может зашибить тебя!
Мальчик подходил, косолапя, к вдавившейся в податливый пол гире, пытался её поставить прямо, пыхтел, сердился.
Коверзнев подхватывал его на руки, целовал, кружил по залу.
Не задумываясь над тем, что путь к сердцу женщины лежит через её ребёнка, Коверзнев своей любовью к Мишутке покорил Нину.
Однажды, прощаясь перед сном, она не выскользнула из его рук, прижалась к груди. Опустив глаза, сказала:
— Можешь остаться.
С этого дня он стал ещё более предупредителен и нежен. А Нина, лёжа рядом с ним, думала всю ночь напролёт, что скоро опять со страхом и надеждой будет ждать его писем.
Он уехал в действующую армию вскоре после нашумевшего ареста Сухомлинова.
В июле пришли вести о страшной бойне на Стоходе, Нина ходила по комнатам, заламывая руки, — от Коверзнева давно не было писем.
Потом пришла телеграмма: «Жив здоров целую Мишутку маму». Счастливая, она плакала, закрывшись в спальне, пыталась молиться:
— Господи, ты справедливый и всемогущий… Помни, что он у нас один…
Маша, не обращая внимания на её слёзы, бубнила за дверью:
— Молока не достала. Нечем Мишку кормить… Хлеба скоро не будет… Продали бы, барыня, картинки–то — и хозяин говорил… С деньгами всего купить можно…
В городе говорили об отставке Штюрмера, о том, что Милюков публично обвинил царицу в измене…
Однажды ночью солдаты стреляли вдоль Невского… Бастовали фабрики и заводы…
Слухи о революции становились всё упорнее и упорнее…
62
Ещё перед войной один бойкий журналист писал, что на чугунолитейном заводе Алсуфьева люди работают в таких же условиях, в каких работали рабы в древнем Египте. Вряд ли война что–нибудь изменила.
До изнеможения меся голыми ногами землю, Дуся подбадривала себя тем, что многим женщинам приходится ещё тяжелее: шишельницы ходили с обожжёнными руками и выгоревшими бровями, а мездрильщицы с соседней кожевенной фабрики напоминали покойниц…
Не сразу жизнь её привела к Алсуфьеву. Дуся никак не могла поверить, что Иван сбежал от неё в дороге. Она была уверена, что он отстал на какой–нибудь станции. И поэтому, приехав в Петербург, она целыми сутками встречала поезда, надеясь найти его среди приезжающих. Где, как не на вокзале, он мог её разыскивать, думала она, и с радостью ухватилась за предложение мыть вокзальную уборную — это давало ей возможность быть всё время на станции. Но поезда приходили один за другим, а Ивана не было. Ей всё труднее и труднее становилось нагибаться. Наступала осень, Дуся не видела выхода. Стараясь скопить хоть какие–нибудь копейки, она рылась в поисках объедков в мусорных ящиках… Если бы не огромная любовь к тому существу, которого она ещё не знала, но которое уже ясно ощущала под своим сердцем, она бы наложила на себя руки. Работала она до последней минуты. Добрые люди свезли её в родильный дом, а там одна из соседок по палате дала ей адрес, где можно было найти пристанище. Дождливым мартом Дуся вышла из больницы, бережно прижимая к тугим грудям завёрнутого в мешковину сыночка.
Трамвай привёз её на Нарвскую заставу. Робко показывая встречным бумажку с нацарапанным адресом, она отыскала на окраине покосившуюся хибару.
Хозяйка — неопрятная расплывшаяся старуха с засаленными волосами — лежала в постели.
— Если бы не сломала ногу, ни в жизнь бы не пустила. Куда тебя с робенком–то? — проворчала она.
У Дуси выступили слёзы.
— Раздевайся уж, чего нюни–то распустила, будешь топить печь, носить воду, прибираться. Когда начнёшь работать — расплатишься.
Дуся со страхом смотрела на спящих по углам людей, накрывшихся лохмотьями.
— Чего не видала? С ночной смены люди спят. Будешь жить в моей коморе, чтоб робенок не мешал им.
— Спасибо, тётечка.
Оказалось, что люди жили здесь в две смены. Ни один аршин площади не пропадал у Акимовны. Морщась от боли в ноге, наливая из полуштофа в стаканчик единственно признаваемое лекарство, старуха командовала:
— Сходи наколи дров. Утром надо рано топить печь — кипятить чай. Да оставь робенка–то, не бойся, никто его не съест… Ишь, нагуляют дитёв–то, а потом и не знают, куда с ними деваться…
Вечером Дуся легла на пол, рядом с кроватью хозяйки; дав полную молока грудь сыночке, беззвучно плакала, шептала молитву… По полу тянуло холодом, ситцевая занавеска, висящая в дверном проёме, беспокойно колебалась. Пришли мужики, налив грязного чаю по стаканам, даже не поинтересовались новой жиличкой; перекрестившись на лампаду, бухнулись спать не раздеваясь.
До тошноты пахло портянками, развешанными у печи, мокрой кожей опорков, тяжёлым духом утомлённых работой людей. Но всего обиднее было равнодушие — она тогда ещё не знала, что такое настоящая усталость.
Страшные потянулись дни. Она вскакивала всех раньше, стараясь не разбудить ребёнка, затопляла печь, будила людей… Если её сыночка плакал по ночам, она испуганно затыкала его рот грудью. Кто–нибудь ругался, но большинство спали мёртвым сном.
— Баю–баю, мой роднулька, сыночка мой маленький, — шёпотом пела Дуся, раскачиваясь на одном месте. Хозяйка смотрела на неё мутными глазами, вздыхала:
— Сердешная.
От этого участия по щекам текли слёзы; Дуся, всхлипывая, смахивала их рукой, тугая грудь вырывалась, обрызгивая красненькую мордочку сына молоком.
— Дай–ка мне его, — говорила хозяйка; клала рядом с собой, давала жёваного хлеба.
Через месяц Дусю устроили на работу к Алсуфьеву. Завод был недалеко. Днём она прибегала пустырём — мимо круглого заколоченного цирка — домой, кормить своего сыночку.
Старуха ковыляла по комнате, ворчала:
— Да не тревожь ты его, лучше он без тебя лежит.
Размазывая слёзы по грязным щекам, Дуся бросала на неё
благодарный взгляд. Вечером копала гряды — садила хозяйке картошку.
— Когда ты и отдыхаешь–то, бабочка? — удивлялись жильцы, поглядывая на неё.
Она молчала, наливала им мутный чай, вытирала грязную, рваную клеёнку на столе. Некоторые из них подкатывались к ней, но Акимовна покрикивала:
— Не видите, что ли, и так девка обожглась единова. Чего лезете?
Всех настойчивее был Гринька Корень — Корнев по фамилии. Он норовил поймать её в сенцах, пытался обнять.
— Не лапай! — говорила она, ударяя его по рукам.
Он смеялся, не отставал.
Но Дуся была упряма. Он сердился, грязно ругал её:
— Корчишь благородную, а сама в подоле принесла?!
И подмигивал — уже миролюбиво:
— Али ветром надуло?
Она плакала по ночам, прижимала порывисто сыночку, наречённого в честь отца — Иваном.
— Роднулька ты мой…
О Татаурове думала часто, была убеждена, что с ним случилось неладное. Глядя на деревянную облезлую громаду цирка, тоскливо думала: «Здесь он, наверное, представлял свою силу, несчастный мой»… О Макаре Феофилактовиче вспоминала равнодушно; ей не верилось, что когда–то у неё была такая сытая и спокойная жизнь.
Мужчины её совсем не интересовали. Да и то — разве это были мужчины? Все с изъяном или старики — на войну даже не взяли. Гринька Корень выделялся среди них своей молодостью и весёлым нравом.
Дуся спросила как–то у хозяйки, почему Гриньку не мобилизуют.
Та усмехнулась, объяснила:
— Чахотку на заводе нажил. Сызмальства по формовке работает.
У Гриньки была гармонь и хорошие сапоги.
Сидя на покосившихся ступеньках крыльца, глядя на багряное солнце, опускающееся за цирк, он играл иногда — нежно, печально.
— Эх, Евдокия Митриевна, — говорил, поставив гармонь на колено, притулившись щекой к ребристым мехам, — уйду на позиции — или грудь в крестах, или голова в кустах… Пожалеете тогда меня…
— Не хвастай, — отвечала она беззлобно, поглядывая на сладко причмокивающего сына, прикрывая с Гринькиной стороны грудь. Думала: «Вернулся бы мой Иван…»
А Гринька продолжал говорить задумчиво:
— Эх, Дуська, Дуська… Зажили бы мы с тобой, если бы не война… До мастера бы я дослужился — уважают меня на заводе… Фатеру бы с тобой сняли — всё честь по чести…
Он клал свою голову на её круглое плечо, осторожно обнимал за талию.
— Прими руку, — говорила она равнодушно.
Если Гринька руки не убирал, — решительно вставала, уходила домой.
В получку он принёс Ванюшке резинового зайца. Дуся вспыхнула от радости, поблагодарила. Свои деньги она почти все отдавала хозяйке–за прожитое время. Оставляла себе только на хлеб.
В редкие праздники мужики рассаживались вокруг стола, хлопали ладонями по бутылкам, булькали водку в эмалированные кружки и гранёные стаканы. Молча пили, закусывая прошлогодним пустым огурцом.
Начинались разговоры.
— Из деревни письмо получил: всех подчистую забрали. Одних бабов да детишков оставили…
— Потому ноне хлебушко–то и кусаецца.
— Опять же — каку тилиторию немцу отдали… Житницу…
— Слышал я, воседь говорили на заводе, листки, слышь, подброшены… А в них прописано про всё… Царица, грит, изменщица — немцам Расею продаёт… И енералы все за кампанью с ей…
— Измена кругом, измена… Это тебе, Никифорыч, сын–от писал, что ружьев нет на позициях?..
— Мине, мине… Так и сообчал — нет ружьев и нет. Хоть шаром покати…
— Разве это порядок?..
— Не говори… Давай–ка ещё по маленькой…
— Эх, отрава кака…
— Да и за ту поблагодари бога… Ноне…
— Так вот я и говорю про енералов… Они ето, значицца, продают немцу Расею, денежки наживают, а мужик опять же при своём интересе остаецца…
— А сколько нашего брата полегло… Льётся народная кровушка…
— Ты слушай — про листок я… Так прямо и сказано: изменщица царица.
— Да ну?..
— Сам не читал, не знаю. Спорить не буду. Но Хведор–косой читал… Потом изничтожил ещё листок–от…
— И совсем не то в листке прописано…
— Цыц, Гринька… Ты ишшо молод, чтоб учить нас… Так вот я и говорю: прописано, что если б не царица…
— Там не про царицу говорится. А прямо — так и так — царю надо по шапке.
— Цыц ты! Услыхают твои слова, Гринька, и — схвачен бобёр…
— Нет, уж ты, Кузьма Ардальоныч, брось, не цыцкай на меня… Моложе я тебя — это правда, а листочек этот я сам читал… И сказано в нём вовсе не про царицу, а царю — по шапке, и тогда — конец войне.
— Правильны слова, Ардальоныч; прикончить войну и всё!.. Люди нужны — хлеб сеять, опять же на заводе работать…
— А жалко–то, жалко–то, кто погибает…
— И мы погибаем… За кусок хлеба здоровье отдаём…
— Слышь, говорят, у Путилова опять бастуют… Им опять послабленье выйдет… Отстоят свои права…
— У Путилова — рабочий грамотный, коренной, питерский… Не то, что вы.
— Нет в тебе почтенья к старшим, Гринька… За ухи тебя не драли, когда без штанов бегал… Мы ить таки же люди, как и путиловски…
— Не такие вы, деревня вы тёмная…
— Мы — деревня?.. Мы?..
— Брось, Ардальоныч, давай лучше ещё по маленькой.
Ардальоныч хлопал кулаком по столу, смахивал стаканы и
кружки на пол, рвал на себе рубаху.
Хромо выходила хозяйка, начинала утихомиривать буяна.
Тот плакал, хватал её за руки, объяснял:
— Акимовна, дорогая ты наша кормилица… Пойми, силов больше нет наших терпеть…
Рвал клочковатую бородёнку.
Дуся всхлипывала — так было жалко людей.
Гринька Корень лез к ней, гладил круглые плечи, прижимал её голову к себе, говорил бессвязно:
— Добрая душа ты… Понимаешь всё… Цены тебе нет… Эх, такую бы мне в жёны… Красавица ты писаная… А работящая — то…
Она доверчиво прижималась к нему, говорила, задыхаясь:
— Жалко мне всех вас… Так жалко… Каторжникам и тем легче…
— Дуська! Выпей с нами! Стаканчик! Чтоб сын твой не видел экой каторги! — горячился Гринька, наливая водку. И выпив, нюхая рукав, говорил: — А он доживёт. Знаю!
Дуся кланялась всем, не морщась, по–крестьянски выпивала. Ладошкой утирала губы.
Глядя на неё, Акимовна грустно качала головой:
— Ой, девка, не привыкай. Присосёшься, как я, тут тебе и погибель.
Наутро хмурые, невыспавшиеся люди подымались с постелей, лениво матеря свою жизнь.
Дуся целовала сына, уходила вместе с ними на завод. Днём, грязная, пыльная, прибегала по узкой тропинке, проложенной в болоте по–за цирком, совала мальчонке грудь. Бежала обратно, стараясь не слышать его крика.
А жизнь становилась всё тяжелее и тяжелее. На бумажные деньги ничего нельзя было купить. За хлебом становились в очередь с вечера.
Дуся валилась от усталости. Не хватало сил подняться, глазами благодарила Гриньку за то, что принёс дров.
— Спи, спи чего уж, — говорил он, осчастливленный её взглядом.
Она забывалась кошмарным сном. Вскакивала, чувствуя, что Акимовна трясёт её за плечо. Не открывая глаз, притягивала к себе сына.
Новый год был тяжелее всех прошедших. По нескольку дней не доставали хлеба.
В середине января бабы разнесли лавку Ферапонтова — Акимовна хвасталась, что самолично выломала раму.
Гринька Корень подсовывал Дусе кусок хлеба.
— Ешь, — говорил он шёпотом, чтобы никто не слышал, — заработал на стороне — печку–буржуйку сделал.
Иногда сквозь сон Дуся чувствовала, как он накрывает её своим пиджаком. Если он задерживал руки на её голых плечах — не отталкивала.
Однажды, когда хозяйка стояла в очереди за хлебом, а жильцы спали, он подвалился к Дусе под бок. Она обняла его по–матерински, прижала к себе. Чувствуя, что его бьёт дрожь, вспомнила Ивана — не вытерпела, скрипнула зубами, оттолкнула, со страстью притянула к себе ребёнка.
Гринька молча ушёл, залез в свой угол у дверей, словно прибитая собака.
А наутро явились жандармы, перетрясли всё его немудрёное барахлишко, нашли в фанерном бауле календарь, на обложке которого оказался Николай II с выколотыми глазами. Забрали парня.
Дуся билась головой об пол — не могла простить себе, что не нашла жалости в своём сердце. Придя в себя, с ужасом смотрела на квартирантов, гадая, кто из них донёс на Гриньку.
Без него стало ещё тяжелее. Никто из мужиков не собирался выполнять Дусины обязанности по хозяйству. Они сами, придя с работы, валились на тряпки как подкошенные. Акимовна стала злой — нигде не могла достать водки. «Опять проспала? Кто за тебя чай будет кипятить? Людям на работу идти», «Руки тебе оторвать надо — печку разжечь не можешь. Почему не приготовила растопки?», «До колодца лень дойти?».
Дуся металась от колодца к дровянику, ставила чайник, бежала на завод… Ночью, с сыном на руках, стояла в очереди за хлебом…
Неожиданно встал завод. Жильцы ходили хмурые, неразговорчивые. Лежали по углам.
А старуха придиралась с каждым днём всё сильнее и сильнее, ворчала:
— Все соседи цирк ломают на дрова — сухие, как порох… Шла бы, чего сидишь.
— Да ведь поймать могут? — нерешительно говорила Дуся.
— А што — я с подкидышем твоим зазря сижу?
Дуся бежала к цирку, ломала его обшивку. С задней стороны он был уже сильно разрушен — Дуся видела, как таскали оттуда целые брёвна.
Шагая с охапкой досок по застывшему болоту, она увидела плывущую по шоссе толпу женщин. Оборванные, растрёпанные, они шли с криками:
— Хлеба! Хлеба!
Толпа колыхалась, росла, расплывалась по шоссе.
Дуся выпустила из рук доски, не разбирая дороги, бросилась к женщинам.
Толпа шла от Путиловского завода к Нарвским воротам. Из всех переулков выскакивали люди, присоединялись к злым, кричащим женщинам.
Прижимая руки к груди, Дуся зашагала рядом, крича:
— Хлеба!
Её толкали, она спотыкалась, но шла плечо в плечо с другими, кричала.
Навстречу выехали казаки, остановились, хмуро глядя из — под взбитых чубов. Толпа шла вперёд.
Один из казаков махнул шашкой — резко, наискось. Всё смешалось.
— Братцы! — закричал рабочий в старой кожаной тужурке. — Не выдавай!
Раздался плач; кто–то стонал.
По панели бежал барин в котелке и шубе с воротником шалью, заскочил в чужой двор. В воздухе пролетел камень. Защёлкали выстрелы. Зазвенело стекло…
— Строй баррикаду!
Опрокинули красно–жёлтый трамвайный вагон — он лёг поперёк дороги. На него повалили телеграфный столб, выломанное звено палисада…
Рядом с Дусей упал старик. Она не успела подхватить его — он встал на четвереньки, тяжело поднялся, оттолкнул Дусю; размазывая на лице кровь, выкрикнул:
— Долой царя–кровопийцу!
Люди бросились к цирку, ломали его, тащили брёвна, доски, скамейки, двери. Выстрелы не пугали. Крики метались над толпой.
Дуся не отставала от других. Платок её сбился, волосы растрепались, на пальтишке оборвалась пуговица. Она не замечала этого.
Лишь когда казаки повернули, вспомнила о сыне, побежала домой.
Мальчишка зашёлся в плаче, старуха лежала, отвернувшись к стене, заткнув ухо грязной подушкой. Жильцов не было. Они вернулись позже. Первый раз Дуся видела их такими возбуждёнными; глаза их горели:
— Как его Филипп–то кирпичом!..
— Я схватил его за ногу, тяну его с коняги!..
— Заплакал!.. Вот те и казак!..
— Когда вместе — сила!.. Да‑а…
Дуся, прикрыв пальтишком сыночка, облокотившись на руки, смотрела на них и растроганно думала:
«Все вместе — сила. Вот всегда бы так…»
Сын тянул грудь; его жадные глотки вызывали на спине приятные мурашки. Он насытился, отпихнулся ручонками. Дуся взяла грудь в руку, стала водить розовым соском по его губам — дразнить. Он смеялся во всю рожицу, моргал, когда капли молока попадали в глаза.
— Ешь, — шептала она любовно. — Ешь, мой роднулечка, ешь мой маленький…
Так, играя с сыночкой, она и уснула под возбуждённый говор рабочих.
А наутро шоссе было черно от народа.
Она взяла ребёнка на руки, вышла на улицу. Люди шли к Нарвским воротам — мужчины, женщины, старики. Песня плыла над ними:
Вихри враждебные веют над нами,
Тёмные силы нас злобно гнетут…
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас ещё судьбы безвестные ждут…
Дуся присоединилась к толпе, стараясь попасть в её размеренный шаг.
Впереди взвилось красное знамя… Ветер развевал его, оно трепетало, плыло надо всеми…
Из переулков шли, застёгиваясь на ходу, рабочие, женщины… Демонстрация росла…
— Свобода! Да здравствует свобода!
— Бастовать до полной победы!
Заиграли медные трубы оркестра — это шли солдаты.
— Ура! С нами!
Оркестр играл что–то бодрое и беспокойное.
Солдаты пошли рядом. Двое из них несли красное полотнище с надписью «Долой войну!». И вдруг Дуся узнала в одном из этих двух солдат Никиту.
— Никита! — закричала она. Прижимая ребёнка, кинулась к нему. Но плотная толпа мешала бежать, увлекала за собой, её толкали в бока, в спину.
— Никита!
Он не слышал, шёл вперёд. Вот уже скрылся из глаз, только над толпой плыло его полотнище. Звуки «Марсельезы» подчинили всех общему ритму. Люди шагали в ногу — плотными рядами, плечо к плечу.
Поддаваясь их единению, Дуся крепко отбивала шаг, прижимала ребёнка к груди…
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Борис Александрович Порфирьев родился в 1919 году в г. Советске Кировской области в семье служащих. Окончил среднюю школу в г. Вятке (Киров), затем учился на историческом факультете Ленинградского государственного университета, откуда ушёл на фронт и участвовал в обороне Ленинграда. Работал формовщиком на ленинградском заводе «Электросила», фрезеровщиком и строгальщиком.
Писать Б. А. Порфирьев начал на фронте. В 1945–1946 годах в журнале «Огонёк» был опубликован цикл его фронтовых рассказов, тепло встреченных читателями и критикой. С них и начинается писательская биография Б. Порфирьева. В 1947 и 1950 годах он был участником Первого и Второго Всесоюзных совещаний молодых писателей.
Начиная с повести «Мяч в сетке», изданной в 1950 году в Ленинграде, писатель широко разрабатывает в своём творчестве тему спорта. В последующие годы в Москве, Горьком, Кирове, Петрозаводске выходят его книги: «Цветы получает победитель», «Ветер», «Рекордная высота», «Бенефис Ефима Верзилина», «Цирк «Гладиатор»», «Чемпионы», «И вечный бой…», «Мяч и цветы», «Летящая надо льдом» и др. Две книги («Мяч в сетке» и «Рекордная высота») переведены на иностранные языки.
Роман «Борцы» — это дилогия В неё вошли романы «Бенефис Ефима Верзилина» и «Цирк «Гладиатор»»
Хронологические рамки романа — годы столыпинской реакции, первая мировая воина, начало февральской буржуазно–демократической революции в России.
Обширна и разнолика галерея человеческих типов, выведенных писателем в романе. Герои «Борцов» живут в огромном и трудном мире, в сложном взаимодействии с обстоятельствами. Они по–своему и незаурядные личности и песчинки в вихре нелёгкой, а для некоторых и трагической поры, требующей от человека прямого и бескомпромиссного выбора пути — быть по какую сторону баррикад: с большевиками и народом или против них.
Главным героям романа — честному, отзывчивому и доброму борцу Ефиму Верзилину; искреннему, доверчивому, инстинктивно чувствующему добро и зло Никите Сарафанникову; особенно остро переживающему внутренний разлад репортёру Коверзневу; талантливому борцу, по–своему добродушному, но ленивому, морально неустойчивому Ивану Татаурову — приходится пройти через многие испытания, прежде чем определить своё место в жизни. Это и коррупция и нечестность арбитров, и тупая жестокость толпы, и опасная сила власти, денег, славы и лёгкой жизни, и собственные недостатки и слабости. Но всем строем художественного повествования писатель отстаивает мысль, что только преодолевая мелкое и тщеславное, эгоистическое и суетливое ради высокой цели — служение своему народу, единение с ним, можно стать настоящим борцом в спорте, в жизни.
Рядом с вымышленными героями в романе выведены и лица исторические — император Николай II, военный министр Сухомлинов, борцы Поддубный и Заикин и др. Таким образом, действие романа развивается на широком историческом и социальном фоне, что придаёт повествованию особенное напряжение и драматизм.
В романе поднимаются многочисленные проблемы русской жизни предреволюционной поры: отношение к большевикам; трудные военные вопросы «Что делать?» и «Кто враг?»; нелёгкие поиски русской интеллигенцией ответов на жизненно важные вопросы.





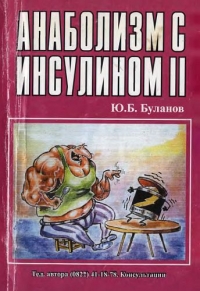



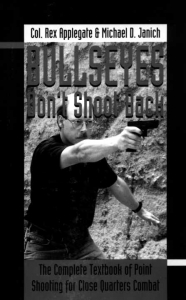




Комментарии к книге «Борцы», Борис Александрович Порфирьев
Всего 0 комментариев