Глэнвилл Брайан Олимпиец
Помню, когда я первый раз увидел его, подумал: вот еще один «с приветом», спятивший старикан из тех, что отираются на стадионах; бежишь мимо, а они навалятся на барьер и орут невесть что. Да заткнулся бы ты, старый козёл, подумал я на бегу. Сделал еще один круг, а он знай себе стоит на месте и снова орет, кое–что я даже разобрал: «Прижми локти!» Вот те на, ему–то что до моих локтей? Бегу по кругу, а самого смех разбирает — вспомнил одного старика из нашего квартала, был такой, слонялся по Хай–стрит, покрикивал на машины и грозил им палкой, будто людям. Бегу и смеюсь, прямо рот до ушей, и тут снова он, увидал мою довольную ряху и давай вопить: «Я тебе посмеюсь, сосунок!» — а потом запустил вдогонку мол, первого места мне в жизни не видать. В раздевалке подкатывается. Седенькая бороденка, а глаза светлые–светлые, светло–голубые, какие–то неземные, а взгляд прямо тебе пророк, попадался такой на картинках в домашней библии.
— Ты над чем смеялся? — спрашивает.
— Я? Да так, ни над чем. — Надо было послать его подальше, да духу не хватило. Еще, думаю, брякнется тут, вон, как надулся. — Я, когда тренируюсь, часто смеюсь.
— Твои тренировки ни черта не стоят. Кто твой тренер?
— У меня нет своего, только клубный.
— Какой клуб?
— «Спартак».
— Они там отстали на полвека, — фыркнул он. — У них и олень разучится бегать.
И по виду и по разговору — чистый псих. Удивительно, как все в нашей жизни идет по кругу:
Потом–то я точно уверился, он псих — раньше это считали многие, а ведь долгое время я так не думал.
Наверное, Джил была права — я уже говорил — такие светлые, будто он долго смотрел на солнце; когда я узнал его поближе, я так и представлял себе — вот он глядит на солнце, бросает вызов, не желает уступить даже светилу. Он, не моргая, смотрел на тебя, вернее, чуть ли не сквозь тебя, как бы огнем выжигая все, что ему не нравится, что ему не по нутру. И в придачу ко всему этому — впалые щеки, седой хохолок, а лицо сует прямо тебе под нос.
Алан, спринтер, бронзовый призёр, называл его Старым Мореходом. Он говорил: «Вот старый мореход, из тьмы вонзил он в гостя взгляд…» Не Сэму, конечно, говорил, а нам: сказать такое Сэму вряд ли кто осмелится.
И, наконец, его манера говорить. Именно манера. Важно не что он говорил, а как. Слова хлестали из него потоком, и выбор у тебя невелик: хочешь — плыви по течению, не хочешь — оно всё равно тебя унесет. Я и сейчас помню, что он говорил тогда в раздевалке. Я только из душа, вода с меня капает, а он прилип так, что не отдерешь:
— У тебя какая дистанция?
— Четыреста.
— Ты сложен как милевик. У тебя для мили идеальные данные: икры длинные, бёдра и руки худые, мускулистые, сам поджарый, плечи широкие. Бегун на милю — аристократ среди бегунов. Он как выхоленная скаковая лошадь, только о двух ногах. Посмотри на меня: я стайер от природы, жилистый, мускулистый, натренированный до последнего хрящика. Мы в беге — пехота. А твои четырехсотники, восьмисотники — кавалерия. А спринтеры — боевики, ударные части.
Кто–то из другого клуба переодевался в углу и спрашивает:
— А мы, ходоки, кто же тогда будем?
Старик за словом в карман не полез:
— Ходоки, — говорит, — это как ослы у Честертона — дьявольская пародия на двуногих.
С этими словами он стал ходить по раздевалке, виляя задом и дергая взад–вперед плечами, и здорово нас рассмешил, ходока в том числе.
— Я не хочу обидеть ходоков, — сказал Сэм, — каждый делает выбор по своим физическим возможностям. Я готов награждать золотой медалью даже ползунов. Но у каждого явления свои размеры. Возьмите ребёнка — он сперва учится ползать, потом ходить, а потом бегать; вот и у нас, легкоатлетов, должна быть такая иерархия способов передвижения.
По правде говоря, все это было мне не очень понятно. Школу я бросил в пятнадцать лет, с детства был ленивым, ничем особенно не интересовался, а он употреблял слова, которых я никогда не слышал. Но было в нём что–то такое… он тебя будто околдовывал.
— Скажите, Айк, вы с Сэмом очень близки?
— Очень близки, верно.
— Как отец с сыном?
— Ну, насчет этого я не знаю.
— Но он для вас больше, чем тренер?
— Я не тренер. Тренер — это эксплуататор молодежи. Я — инструктор.
— Инструктор чего, Сэм?
— Инструктор чемпионов. Людей, которые хотят стать чемпионами.
— В чём же здесь разница?
— Тут просто нет ничего общего. Моя работа не в том, чтобы воспитать бегуна, человека–животное, она в том, чтобы воспитать выдающегося человека. Сначала найти его, а потом помочь ему найти себя.
— Где он нашёл тебя, Айк?
— В парке.
— В парке? Ты бегал в парке?
— Да. По беговой дорожке.
— И Сэм нашёл тебя?
— Да, он смотрел, как я тренируюсь.
— И вы увидели в нём данные чемпиона, Сэм?
— Моментально. По тому, как он двигался, хотя и понятия не имел, как положено двигаться. По тому, как держал голову.
— Можно выявить спортсмена по тому, как он держит голову?
По тому, как человек держит голову, видно, что он думает о себе.
Когда я переоделся, мы зашли в кафе выпить чашку чая, вернее, чай пил я, а Сэм — молоко. Мы сидели за столиком, мраморная столешница была залита чаем и заставлена пустыми чашками. Он спросил, почему я пью чай; потом сказал:
— Без хорошей диеты нет хорошего спортсмена. Чай вреден. Кофе тоже. Алкоголь вреднее того и другого. Алкоголь употребляешь?
— Ну, пропущу иногда кружечку пивка.
Он как хлопнет ладонью по столу, все даже обернулись; вышло жутко неудобно.
— Ты сам себя травишь. Сам ослабляешь естественные стимулы, какими тебя наделила нервная система. У человеческого организма есть собственный стимулятор — адреналин. Адреналин вырабатывается, когда человек боится, переживает, чего–то опасается. А алкоголь туманит мозг, усыпляет рефлексы, поражает легкие, вредит сердцу. Ты куришь?
Я хотел сказать «нет». Но с какой стати? Кто он мне? Знаю его всего полчаса, и вообще, о чьей жизни речь — его или моей? Я и позже частенько ловил себя на том, что задаю себе вопрос: чья это жизнь — его или моя? Чьё это тело? Пока не решил — и жизнь моя, и тело моё. А тогда ответил:
— Да, немного.
— С сигаретой — никаких сделок. Табак — враг человека. Знаешь, что время делает с дымоходом?
— Он чернеет от сажи?
— Если ты курильщик, твои лёгкие — тот же дымоход. Только нельзя позвать трубочиста. Сигареты с собой есть? — Я кивнул, и он протянул вперёд руку с синими венами и длинными пальцами, похожую на клешню; сам не знаю почему, но я достал из кармана пачку — там было несколько сигарет — и положил ему на ладонь. А он что есть силы смял её. Надо было врезать ему, но я этого не сделал, а только крякнул, когда он разжал кулак и бросил смятую пачку на пол.
Потом он перешёл к диете. Ем ли я мясо? Вот и зря, сам он вегетарианец, а пить нужно молоко, только не такое молоко, это слишком долго перерабатывали, вот которое прямо из–под коровы — совсем другое дело.
— Но сила–то бегуну нужна? — спросил я.
Тогда он закатал рукав, протянул правую руку и сказал:
— Прижми её к столу.
Я взял его руку, жилистую, всю в венах, будто сплетённые корни деревьев.
— Давай, — сказал он, и я надавил вниз обеими руками. Мне едва минуло восемнадцать, но я был очень силён для своего возраста. Думал, положу его мигом, даже немного пожалел старика. Но рука Сэма не сдвинулась с места, как я ни старался. Под конец я уже почти стоял. Пот ручьями тёк со лба, вокруг люди столпились, но это меня не волновало, вернее, ещё как волновало, теперь–то я был обязан его дожать. Надо же так опростоволоситься? Потом случайно глянул на него, а он торжествующе улыбается, будто говорит мне: «Видишь, я ведь знал, что тебе меня не осилить». И я надавил ещё сильнее, не спуская с него глаз. Но не тут–то было, он только моргнул разок и всё, и я сдался. Отпустил руку, сел.
— Не знаю, как это у вас получается.
Он сказал:
— Не так плохо для вегетарианца, а? Овощи сильнее мяса! Сила духа важнее силы мышц. Сила воли побеждает слабость тела. Тело не знает, на что способно, его направляет воля. Вот почему хороший спортсмен должен тренировать не только тело, но и дух… Почему греки были настоящими, прирожденными спортсменами? Потому что они установили для себя золотое правило: развивай дух, но не забывай о теле. А мы поставили над всем машины. Мы должны вновь обрести тело, перестать травить его ложными стимуляторами, пичкать вредными веществами, относиться к нему только как к средству для получения удовольствий. Растению нужна вода, а телу — упражнения. Лиши растение воды — оно погибнет. Перестань упражнять тело, и оно поддастся разложению, а вместе с ним и дух. Посмотри на политиканов, книжных червей, бизнесменов. Посмотри на тех, кто правит нашим миром, диктует нам, как поступать. Издевательство над здравым смыслом! Всё это люди, не имеющие тел, а только — головы. Зато у многих спортсменов нет голов, а есть только тела. Чемпион — это человек, который натренировал тело и дух, научился побеждать боль. Большой спортсмен всегда в согласии с самим собой и с окружающим миром: он обрёл себя. Он никому не завидует. Из–за людей, которые себя не обрели, возникают войны: я воевал в обеих, и я это знаю. Смотри, вот повыше пупка — ранение во Фландрии. А на правом плече — это заработано в Мурманске. Но я воспринял их спокойно — знал, что выживу. Можно убить тело, но нельзя убить дух. Возможности тела беспредельны, если оно подчинено сильному духу. Двадцать лет назад считалось, что милю за четыре минуты не пробежать. Я говорил: мы дождёмся, когда её пробегут за три сорок, и надо мной смеялись. И что же? Сейчас за четыре минуты милю бегают не только спортсмены, но и школьники. Мы ещё увидим милю за 3.40, стометровку за девять секунд, высоту в 2.70 и с шестом — шесть. Главное — осознание цели. Стоит только осознать, что достичь цель возможно, — она будет достигнута. Вот для чего нужен спорт, нужны рекорды. Они показывают возможности человека, а возможности эти беспредельны. Невероятное осознаётся, а потом осуществляется.
Посмотри на меня. Казалось немыслимым, что одна моя рука выдержит напор двух твоих, но ведь это произошло. Теперь тебе кажется, что твои руки никогда не пересилят мою. Всё это условно. Здесь дело в столкновении моей воли, моего духа с твоим. Я был в Индии и видел, как факир вонзает в своё тело кинжал, потом вынимает, а на теле никаких следов. Наблюдал, как он ходит по огню. Стоит этим людям захотеть, и они смогут поднимать такие тяжести, что по сравнению с ними даже олимпийский чемпион будет выглядеть слабаком… Вот почему я говорю тебе — тренируйся. Следи за своим телом… Закаляй его болью. И тело удивит тебя: ты умеешь добиться того, что казалось невозможным. Не ради золотых медалей — маленьких, бесполезных кружочков, а ради того, что они означают по сути, что стоит за ними реально. Олимпийский огонь священен, потому что это огонь человеческих стремлений.
Слушая его, я по–настоящему разволновался — не всё до меня доходило, многого я не понимал, но меня увлекало даже не то, что он рассказывал, а как он говорил. Ведь мне было только восемнадцать; никто ещё так не разговаривал со мной, не высказывал таких мыслей, не раскрывал передо мной моих возможностей.
До сих пор я просто бегал, чтобы чем–то заняться, участвовал то в одном забеге, то в другом, некоторые выигрывал, большинство проигрывал, не зная, чего хочу, к чему вообще стремлюсь. Но, слушая его в чайной, я начал понимать, что именно мне нужно, ведь всё, что он говорит, верно, только раньше это как–то не доходило до ума. Иногда во время забега я понимал: у меня есть всё, чтобы победить. Меня словно током пронзало — такая возникала жажда победы; а иногда честолюбие накатывало на меня, когда я тренировался, бегал один в Эпингском лесу или на беговой дорожке утром после ночной смены: бежалось легко, самочувствие — лучше некуда, казалось, обгоню кого угодно — Элиотта, Баннистера, всех на свете. И вот в чайной, хотя я не бежал, а просто сидел, я вдруг осознал, что могу стать великим, хочу этого, а он знает, как мне помочь.
Конечно, всё дело в его искусстве убеждать. Тут я не спорю. Но ведь ещё надо, чтобы было, на ком это искусство применить.
Помню, вышли мы на улицу, кругом люди, а я никого не вижу. На мне был голубой спортивный костюм с гербом клуба на кармашке — моя гордость, я его получил совсем недавно, а на Сэме — старый свитер и джинсы; когда он не был на дорожке, он всегда так одевался, в любую погоду — будь то солнце, дождь, снег или град.
Мы шли по Гайд–парку, и он всё говорил, говорил, а проходя мимо Уголка Ораторов — здесь любителей поговорить всегда хватает, — громко так заявил: «Психи, как один, всё на свете ненавидят, вот здесь и разряжаются». Тут–то я и понял, почему он всё время напоминал мне психа — и голосом, и манерой произносить длинные речи передо мной, своим единственным слушателем.
Пока мы шли через парк, он всё говорил, а я слушал. Наверное, уже тогда нам обоим стало ясно, что он будет тренировать меня. Он сказал, что тренирует троих или четверых: одного в беге на милю, одного на средние дистанции, остальные — спринтеры. По воскресеньям они тренируются в лесопарке Хэмпстед–хит, а в остальные дни — где света побольше, а народу поменьше. Он сказал, что вот уже год даёт уроки физкультуры при муниципалитете. Как надоест, сразу уйдёт; свой спортзал для бизнесменов он открыл гораздо позже.
— Если понадобятся деньги, я их всегда заработаю, — сказал он. — Это дело нехитрое. Надо твёрдо знать, что деньги — не самое главное в жизни; их роль вторична. Я был матросом, и солдатом, и фермером, и почтальоном, даже курьером. Был поваром в лучших отелях, работал механиком в гараже. Писал в газеты и продавал их. Моя жена умерла, детей нет. А я могу прекрасно существовать и под открытым небом.
Потом он спросил, где я работаю, и я ответил: на фабрике, где делают картонную тару. Почти наверняка знал, что он на это скажет — может, потому что и сам так считал, — работа эта не для спортсмена, здоровья не прибавляет. После школы я менял работу раз десять: работал в пекарне, в мясной лавке, учеником электромонтёра, телефонного мастера и вот теперь на фабрике, но всё это было не по мне.
— Такая работа, — сказал Сэм, — подавляет волю и обессиливает тело. Иди на воздух! Работай кондуктором в автобусе или сторожем в парке, смотрителем в бассейне, дворником, наконец! Надо, чтобы тело могло двигаться. Как из тебя выйдет бегун, если целый день ты стоишь столбом на одном месте? Нельзя овладеть своим телом, если оно — раб машины.
И я согласился с ним — он был прав. И совсем не удивился, что он уверен в моём желании стать великим бегуном, хотя до сих пор я ничего для этого не делал — разве что зимой гонял в футбол.
Я обещал прийти в воскресенье, потренироваться с ним. К этому времени мы прошли весь парк, вышли к мосту через Серпантин и, разговаривая, смотрели на воду, в которой отражались нависшие над ней ветви плакучих ив. Потом повернули назад к Уголку Ораторов. Когда он ушёл, я почувствовал себя как–то странно — меня никогда не заносило в эту часть Лондона, но с Сэмом забываешь, где ты. Когда мы прощались, он придержал мою руку, посмотрел на меня, как укротитель — прямо в глаза, — и сказал: «Я сделаю из тебя великого милевика, если захочешь». И ушёл, оставив меня стоять с раскрытым ртом.
Домой я не то что бежал — летел на крыльях. Всю ночь не мог заснуть: выигрывал забеги, получал медали, слышал из темноты его голос. Спал, наверное, не больше часа.
Мы встретились у пруда; я опоздал на несколько минут, вижу — он на велосипеде; никак я этого не ожидал, думал, мы побежим вместе. Кроме нас никого не было. В смысле никаких других его учеников. Я здесь, в лесопарке Хампстед — Хит, никогда не был, и мне тут понравилось, хотя ближе к вечеру мне уже было не до всех этих красот. Пока же светило солнце, всё было свежим, ярко–зелёным: трава, деревья, даже сорняки. И вовсе не плоским, как в парках, а волнистым — ямки и кочки, бугры и кусты, всё такое сочное и пышное, как в деревне. Я подумал: может, он живёт где–то рядом? Вопрос о своём жилье он обходил молчанием; бог его знает, может, он живёт в палатке или фургоне.
Мы двинулись по дороге, он на своём велике, а когда оказались на другой стороне лесопарка, он вынул из кармана секундомер: «Вот твой враг. Вот зверь, которого ты должен победить». У него для меня был маршрут, он сам его выбрал — вдоль дорожек, чтобы он мог ехать рядом. Он сказал: «Посмотрим, как у тебя с выносливостью; когда мы это выясним, разработаем план твоих тренировок. Требования к каждому спортсмену разные, и дело тут не в том, милевик ты или спринтер.
В общем, я побежал — он рядом на велосипеде с секундомером в руке, изредка покрикивает то «рывок!», то «стоп!» — вверх и вниз по камням и корням деревьев, спускаясь в лощинки и тут же поднимаясь назад по крутым склонам. Я не любил бег по пересечённой местности и всегда старался увильнуть, когда у нас в клубе устраивали кросс; и вот нарвался на пытку, в жизни таких мук не испытывал, тут ни сбавить темп, ни передохнуть, потому что рядом всё время он — то сбоку, то чуть сзади, а иногда прямо передо мной, оборачивается и что–то говорит, говорит, велит то бежать быстрее, то удлинить шаг, то поднять голову выше, больше помогать руками, держать локти ближе к корпусу. Я его уже ненавидел. Попробовал не слушать его голос, а думать о деревьях вокруг, об облаке причудливой формы, старался угадать, сколько шагов мне осталось до дуба, или до лужи, или до первого встречного.
Но помогало это ненадолго. Он внезапно повышал голос и кричал «рывок!» или ещё что–нибудь, а то просто выруливал на дорогу прямо передо мной, и хочешь не обращать на него внимания, да не можешь. Ну, думаю, сейчас догоню и сотру в порошок… но он вдруг исчезал за моей спиной. Мало этого, погода стояла тёплая, а я бежал в тренировочном костюме; очень хотелось остановиться и скинуть его, но просить этого типа об одолжении… да ни за что на свете; я уже ни о чём не мог думать, только бы поскорее закончить этот проклятый бег, уйти домой и никогда больше этого злодея не видеть. Но при этом было чувство, что сам он внушает мне такие мысли, будто хочет, чтобы я его ненавидел. Я как–то угадывал это по выражению его лица, насмешливому взгляду, а когда не мог его видеть — по звуку голоса.
Вдруг он спросил меня:
— Тебе жарко?
И я ответил:
— Нормально, хотя пот так и катил со лба, заливая глаза, попадая в рот, — чистая соль, — стекал из–под мышек.
Это для тебя полезнее турецкой бани, вот так, — сказал он.
— Сколько мы уже бегаем? — спросил я.
— Тридцать восемь минут. Устал?
— Нет. — Я сам себя старался обмануть, но чем дольше бежал, тем хуже мне становилось — во рту всё пересохло, сердце так колотилось, что его стук, небось, был слышен на мили вокруг.
— Хочешь пить? — Тут я прямо–таки полюбил его; он протянул мне пластмассовую бутылку и сказал: — Только не слишком много. — Вода показалась мне вкуснее шампанского. — Сними–ка тренировочный.
Костюм так прилип к телу, что я из него едва выбрался, зато сразу почувствовал: могу бежать ещё много миль; я тебе ещё покажу, на что я способен. Минут пятнадцать мне и вправду бежалось легче, стало даже нравиться; он, видно, понял это, потому что скоро мне стало не до веселья, чаще приходилось брать горки, утопать в траве.
Потом он велел:
Давай вниз в лощину и наверх. Я там тебя встречу, засекаю время. — И покатил по дорожке вокруг. А я нырнул в яму, потом карабкался на чёртову горку, будто на курсах десантников. Он уже ждал наверху со своим секундомером. — Очень хорошо, всё прекрасно, двигаем дальше, — и покатил вперёд, не оглядываясь, а я бежал за ним, как собачонка.
Так что от хорошего настроения не осталось и следа; мне стало так же худо, как раньше, разве что не было на мне проклятого костюма; ноги, грудь раскалывались от боли, сердце бешено колотилось, будто вот–вот выпрыгнет наружу. Меня гнала вперёд только одна мысль: где–то там меня ждёт глоток воды; но пить я не просил и не останавливался без команды этого старого паразита — не будет ему такого удовольствия. Правда, два раза меня вырвало, а он стоял рядом и молча смотрел, ждал, когда я смогу бежать дальше. Господи, думал я, ведь сейчас сдохну, меня вывернет наизнанку, как не было.
Стемнело, стало прохладнее. Меня уже шатало, я едва не натыкался на людей, не видя их, покуда они не возникали прямо передо мной. Наконец на вершине очередной горки — пропади она пропадом! — я услышал за своей спиной голос: «Стоп, хватит!» — рухнул на землю и зарыдал, долго лежал и плакал, не мог, да и не пытался, остановиться. Просто лежал и плакал.
Он стоял рядом, спиной ко мне, молча ждал, когда я перестану, как когда меня рвало. Ох, как я его в тот миг ненавидел! Стоит как пень, а ведь все мои муки из–за него. Проходившие мимо люди смотрели на нас, двое или трое остановились, но мне было плевать. Кто–то спросил: «Что с ним?» — а Сэм ответил: «Всё в порядке». Ах ты, думаю, старая скотина! Ты кто такой, чтобы решать в порядке я или нет? Потом я успокоился, и мне стало стыдно; я не хотел видеть его и, закрыв голову руками, продолжал лежать, думал, может, он уйдёт; но когда я поднял глаза, он стоял спиной ко мне, словно собирался торчать тут вечно. Пришлось встать, и он тотчас повернулся ко мне, держа секундомер в руке, и сказал: «Ты бежал два часа семнадцать минут. Я прикинул, что за первый час ты пробежал десять миль с четвертью, за второй — девять с половиной и за последние семнадцать минут — меньше двух миль. Всего набралось около двадцати двух миль, что на четыре мили короче марафона. Но это, конечно, приблизительно». Он не сказал потом ни «хорошо», ни «плохо», ни «нормально», ни «ну, как ты?». Назад он так и ехал на своём дурацком велосипеде. А для меня каждый шаг был мукой: ноги, икры болели так, словно их измолотили дубинкой. А он говорил: «Я не верю в тренировки до полного истощения, тренировки Затопека. Он был великим чемпионом, но его достижения превзойдены. То, что было сейчас, — не тренировка, а испытание выносливости и воли. Были минуты, когда я сомневался в твоей воле, но я доволен, что ты выложился до конца. Но предел твоих возможностей можно увеличить, как и твою выносливость».
Не знаю даже, как я добрался до дома, — кажется, автобусом, почти всю дорогу спал. А ночью мне снилось, что я летаю. И где–то там был Сэм. Всё совершалось по его воле.
Вопрос. Что, по–вашему, самое важное для подготовки спортсмена?
Ответ. Выносливость, техника и воля.
В. В каком порядке?
О. Воля, выносливость и техника.
В. Какое значение вы придаёте технике, её возможностям?
О. Они безграничны.
В. Некоторые тренеры, скажем Франц Штапфль, считают, что техника не так важна, что великие бегуны часто добивались успеха благодаря мощи, подготовке и решимости, при этом стиль у них был вполне заурядный. Вы с этим согласны?
О. Бегун, который неразумно пользуется своим телом, напрасно тратит энергию. Стиль не может заменить мощь, а она не заменит решимости. Сильный человек побежит быстрее, если его научат правильно двигаться; человек с хорошей пластикой побежит быстрее, если станет сильным. Но ни тот, ни другой не станет чемпионом, если не воспитает в себе непреклонную решимость.
В. Вы считаете, что решимость спортсмена можно усилить?
О. Да.
В. Как?
О. Пути чисто психологические. Важны отношения между спортсменом и его тренером. Как правило, спортсмен молод и незрел. Дело тренера — заставить его поверить в свои возможности.
В. Расскажите, с какой программы вы начинаете тренировку нового ученика?
О. Это зависит от самого спортсмена. Сперва я должен оценить его возможности, умственные и физические. Потом решаю, на чём сосредоточить внимание: на внутреннем настрое, выносливости или стиле. Каждый спортсмен должен разбираться в кинематике тела, в физиологии движения. Моих учеников я обучаю не бегу, а парению, чтобы они, подобно птице, достигали максимального эффекта при минимальном усилии.
В. Вы сторонник одного и того же стиля, независимо от дистанции?
О. Принцип движения, экономии усилий всегда одинаков. А точная динамика определяется в каждом отдельном случае.
В. Вы придаёте большое значение развитию верхней части тела. Значит ли это, что вы согласны с бытующим кое–где мнением, что руки для бегуна важнее, чем ноги?
О. Руки не могут быть важнее ног, как шасси не может быть важнее колёс. Однако руки и верхняя часть тела позволяют усилить движение. Поэтому я рекомендую моим ученикам тренировки со штангой для развития рук и торса.
В. Но работа с тяжестями имеет свои пределы?
О. Надо соблюдать пропорцию между силой, волей и техникой. Сейчас распространено мнение, будто всего можно достичь с помощью силы. Сила в чистом виде может иметь первостепенное значение разве что у метателей, но и там без воли и техники не обойтись.
В беге силе никогда не будет отдано главное место.
Поднятие тяжестей я ненавидел; в клубе я вообще этим не занимался; старый вонючий спортзал, где здоровые бугаи, толкатели ядра и им подобные, мыча, тягали тяжести с таким видом, будто вот–вот родят. Причём заниматься этим должны были все; неважно, метаешь ли ты молот или играешь в расшибалку. Мне это казалось бессмысленным.
Но Сэм настаивал на такой тренировке. Он привёл меня в спортзал одной из школ, где преподавал физкультуру. Там на помосте стояла здоровенная штанга с огромными блестящими блинами; мне и смотреть–то на них было страшно, а уж поднимать… а он запросто подошёл к ней и сказал: «Смотри», — взялся за штангу, чуть присел и, резко рванув вверх, взял на грудь. Его руки походили на скрученные канаты, лицо побагровело, глаза едва не выкатывались из орбит. Потом он опустил её и сказал: «Теперь ты».
Вокруг, ухмыляясь, стояли парни, ходившие сюда по вечерам, большинство моего возраста, и мне это не понравилось. Я чуть помешкал — всё–таки никогда с этой штуковиной дела не имел, но, в конце концов, пришлось к ней подойти. Оторвал от пола, на большее меня не хватило. «Ладно, — сказал Сэм, — сделаем тебе немного полегче». Он снял большие блины и поставил взамен поменьше, по двадцать пять фунтов. С их весом я справился, но он тут же велел поднять штангу ещё раз и ещё, так что под конец мне опять стало худо, как в лесопарке, ноги были совсем ватные. Наконец он распорядился: «Теперь будешь её держать».
Он поставил на штангу семьдесят пять фунтов, заставил меня поднять эту дрыну над головой и держать, пока руки не заболели, а он знай себе балаболил: «Во всякой тренировке надо рассчитывать нагрузку. Усилия и интервалы между ними надо тщательно определять. Тренировка без нагрузки мало чего стоит».
Вокруг нас к тому времени собрались уже все, кто был в зале; они вроде бы и посмеивались над Сэмом, но явно уважали. Ему нравилось, что они здесь. Видно было, что он рисуется, показывая, как надо поднимать тяжести и как не надо, но быть при нём марионеткой мне не хотелось.
Двое из парней оказались бегунами, которых он тренировал: Тони Дэш — бегун на четверть мили из Клапаша, я о нём уже слышал, он занял третье место на первенстве южных графств — и Том Берджесс из Йоркшира, этот бегал на длинные дистанции — три и шесть миль. Оказалось, Том перебрался в Лондон ради Сэма; он встретился с ним в Чизуике, когда выступал за свой клуб. Том был совсем худющий, не мыслил себе жизни без лёгкой атлетики; всё, что он ни делал, было связано с ней — его работа, место жительства, еда, питьё, женитьба. Я как–то сказал Тони: «Готов спорить, он даже когда на толчке сидит, думает: вот теперь мне будет легче хорошее время показать», а Тони ответил: «Он бы вообще на толчок не садился, если бы думал, что это поможет».
После тренировки мы вчетвером пошли в кафе, заказали по чашке чая, Сэму — молоко, и Том с Сэмом давай рассуждать о секундах, об окончательном и промежуточном времени, чего добились в этом году американцы и русские, как надо пройти первую милю, если бежишь три и хочешь уложиться в олимпийский квалификационный результат, и что лучше — пробежать вторую милю как можно быстрее, а дальше пробовать удержаться впереди или оставить силы для рывка на финише; ещё о том, нужно ли на дистанции думать о времени или только о соперниках. Я задумался: неужели я тоже стану таким, как они, неужели и у меня будут только такие заботы? Для них это было как религия, но раз или два я встретился глазами с Тони и вроде видел в них улыбку; тогда я немного успокоился.
Потом Сэм прицепился к Тони из–за курения и прочёл ему ту же лекцию, что в своё время мне, — как организм превращается в дымоход. Тони оправдывался:
— Пять штук в день, Сэм, всего–навсего. Раньше–то было двадцать. Совсем бросить ну никак не могу, честно. Я же сдохну.
— Ты сдохнешь быстрее, если будешь травить себя этой дрянью, — ответил Сэм.
Тони бегал за «Поли Харриерс», а Том — за «Вудфорд». Но для Сэма клубы ничего не значили, он брал себе учеников где придётся. Однажды он сказал: «Я не хочу связывать себя одним клубом. Моё искусство для лучших, а откуда они — какая разница? Клуб здесь вообще ни при чём. Лёгкая атлетика — спорт индивидуальный, а клуб — организация. Там, как в эскадре, все ориентируются на самый медленный корабль. В беге же побеждает тот, кто быстрее всех».
Том жил в ту пору за Чигуэллом, и мы вместе ехали домой на автобусе.
— Сэм — гений, — сказал он, — ты, конечно, сам это понимаешь. Он на годы опережает своё время.
Том говорил вполне серьёзно и вообще редко улыбался.
— Но тебе он пока что мало дал, — заметил я.
— Ты должен быть счастлив, что он вообще тобой занялся. Я знаю людей, которые просились к нему. Будь на свете справедливость, он бы тренировал сборную Великобритании. Но его ненавидят, ему завидуют многие тренеры. Потом сам убедишься, когда присмотришься.
Вскоре я действительно в этом убедился.
Дело в том, что Сэм захотел увидеть меня в забеге, и не в любом, а только на милю. И вот однажды я пошёл к своему клубному тренеру, Десу Томпкинсу, и сказал: «Хочу бежать на милю». Он посмотрел на меня — высокий, с усами, щеголеватый, эдакий главный сержант — и ответил: «Ты? А зачем тебе бежать на милю? Ты и с четвертью едва справляешься». А я сказал: «Просто захотелось попробовать. Почему бы нет?» Он предложил: «Тут сегодня три милевика. — Это было в Паддингтоне. — Побегай вместе с ними». Но я ответил: «Откровенно говоря, я хочу бежать в соревнованиях, тогда и увижу, как у меня получается». А он в ответ: «Откровенно говоря, ты не будешь бежать милю за наш клуб, пока не докажешь, что ты лучше парней, которых я уже отобрал». — И это было довольно справедливо, но в то время я так не думал.
Ничего не оставалось, как бежать с ними, хотя мне это было не по душе. И не потому, что они мастера, — ни один не бежал и за четыре минуты, у самого быстрого из них было 4.08 или что–то вроде, просто миля для меня — дело совсем новое. Я не имел представления, как рассчитать силы.
Всё же я побежал. Дес сказал им: «Это наш новый милевик, говорит, что оставит вас далеко позади». — Ясное дело, я совсем смутился, все трое бросили на меня скептический взгляд, потом переглянулись. Я сказал: «Просто хочу попробовать, вот и всё». А один из них ответил: «Попробуй, попробуй. Это тебе не четверть мили — раз и в дамки». Тут Дес поставил нас в ряд и мы побежали.
Я решил, что лучше, надёжнее держаться с ними, а перед финишем посмотреть, есть ли силы для рывка. На первом круге всё было проще пареной репы, ведь четверть мили — моя дистанция. Правда, едва удержался, чтобы не сделать рывок в конце круга. На втором круге Джек Броган, рыжий верзила, ушёл в отрыв, и я стал думать, догнать его или остаться с остальными, но пока я думал, он отрывался всё больше, и я решил, была, не была, и рванул следом, хотя это оказалось непросто: в лёгких чувствовалось покалывание, и в голову лезли мысли о втором дыхании — когда бежишь четверть мили, ни о чём таком и подумать не успеваешь.
Я догнал его, и тут он вроде немного сбавил. Мы бежали рядом, но едва начался третий круг, стало ясно, что они все заодно, потому что мимо меня пронёсся другой парень, коротышка Роджер Кумб; они явно старались загнать меня. Поняв это, я не стал догонять его, а спокойно продолжал бежать с остальными. Тогда Джек, обернувшись ко мне, спросил: «Ну что, ты уже сдаёшься?» И я ответил: «Сейчас увидишь!»
Когда Роджер понял, что я не кинулся за ним вдогонку, он снизил скорость, держался впереди ярдов примерно на двадцать, — наверное, надеялся, что я всё же приму его вызов, но я этого не сделал, решил дождаться последнего круга, а когда Дес крикнул: «Последний круг!» — я сказал четвёртому бегуну, Чарли Куперу: «Давай, теперь твоя очередь», и он точно, ускорился; но из их плана ничего не вышло, измотать меня им не удалось, а мне стало нравиться, как складывается забег, да и бежалось свободно, — может, потому, что та тренировка с Сэмом принесла мне больше пользы, чем я предполагал, после неё никакие нагрузки не страшны.
Так мы и бежали все вместе, наверное, каждый боялся вырваться вперёд, я‑то уж точно, хотя чувствовал — силы есть, но не хотелось рисковать. Кто знает, что в запасе у них… Первым рванул Джек, рыжий. Ярдов за двести пятьдесят до финиша он по внутренней дорожке припустил вовсю. «Поглядим, кто кого», — подумал я и кинулся за ним — всё или ничего. Он полуобернулся, услышав, что обгоню его, расстояние между нами сокращалось — об остальных я уже не думал, — и вот мы рядом, я вижу его лицо, смертельно бледное и встревоженное, и я уже впереди, и мне хочется смеяться — ясно, что я выиграл, черта, и я уже за ней, пытаюсь отдышаться. Дес с секундомером в руке: «Неплохо, 4.11». Вторым пришёл Джек, потом остальные, и Джек упал на траву, будто его подстрелили.
Спустя неделю я уже бежал на милю в Итоне.
Стадион на окраине Ист–энда прячется за высокой кирпичной стеной; даже трава здесь растёт будто из милости. Кирпично–красная беговая дорожка окружает поле; с одной стороны стоит деревянное табло скромных размеров, с другой — несколько деревянных домишек, какие на время возникают у строительных площадок. Вокруг табло маленькие группки зрителей — всего десятка два. Кое–кто прямо на поле, внутри зелёной оградки, отделяющей дорожку и поле от публики. На траве разминается несколько бегунов в разноцветных майках — синих, зелёных, красных, чёрных; одни делают короткие рывки по дорожке, другие, стоя, выполняют наклоны, третьи, сидя и вытянув ноги, плавно достают руками ступни. Остальные, расслабившись, лежат на траве или стоят вокруг мужчин в синих спортивных костюмах — тренеров.
Здесь ничто не предвещает триумфа, медалей, лавровых венков, как на больших стадионах, заполненных тысячами гудящих зрителей. Тем не менее, именно в таких неприметных печах и плавятся чемпионы, равно как боксёры приходят из трущоб, а футболисты — из угольных шахт. Разница лишь в том, что на таких стадионах легкоатлеты проводят большую часть года. Некоторым из них никогда не вырваться отсюда; иным это удаётся редко, самым счастливым — чаще, особенно в годы олимпиад. Тогда на короткое время они становятся львами и рычат на арене.
Посреди поля разминается высокий стройный парень в голубом тренировочном костюме, пробежит несколько шагов расслабленно, сделает рывок, остановится, будто взял не то направление, снова пробежит в разминочном темпе. Это Айк Лоу. Волосы тёмные, вьющиеся, — наверное, в детстве у него были кудряшки. У него прямой, красивый нос, лицо ещё совсем юное, на впалые щёки уже выдают легкоатлета. Широкий рот, губы узкие; серые глаза, не очень большие, посажены глубоко, они насторожены, поглядывают в сторону ворот, скрытых из виду. Даже в его скупых движениях заметны элегантность, выразительность и породистая сила. Он весь как пружина и похож на скаковую лошадь, готовую к старту.
Из громкоговорителей раздаётся команда:
— Внимание, участникам забега на милю приготовиться к старту!
Айк Лоу начинает без спешки снимать тренировочный костюм, у него развитые, гибкие плечи, стройный стан, мускулистые руки, грудь неширокая, но крепкая. Тело его, красивое и сильное, пока говорит о неиспользованных возможностях; это ещё мальчик, а не мужчина. Внезапно он замечает того, кого искал, — глаза останавливаются на худом седовласом мужчине, который появляется у входа на беговую дорожку; резкий в движениях, целеустремлённый, он шагает так, словно на него смотрит весь мир; хорошо бы все люди его возраста выглядели такими же подтянутыми, подвижными и прекрасно сохранившимися. Мужчина — Сэм Ди — одет в серый свитер под горло, джинсы и полотняные туфли. У него небольшая седая бородка, хорошо ухоженная, она как бы подчёркивает его вызывающую и самоуверенно эксцентричную внешность.
Снимая тренировочный костюм, обнажая жилистые, крепкие бёдра, твёрдые икры, слегка покрытые волосками, Айк Лоу поднимает руку в знак приветствия, но тут же опускает её. К нему направляется высокий мужчина с военной выправкой, прямой спиной, удлинённой головой с гладкой причёской и небольшими усами — клубный тренер по лёгкой атлетике Дес Томпкинс.
Томпкинс. Так, Айк, теперь с тобой. Ты что–нибудь ищешь?
Лоу (слегка смущённый). Нет, всё в порядке.
Томпкинс. Всё время следи за Уолдером — он очень силён на финише. Не выкладывайся на первом круге.
Лоу (рассеянно). Нет, нет. Ладно.
Томпкинс, проследив за его взглядом, видит Сэма Ди, который остановился возле стартовой линии и осматривается, — видно, ищет Лоу.
Томпкинс (подозрительно). Это Сэм Ди?
Лоу (пытаясь сохранить небрежный тон). Да, вроде он.
Томпкинс. Что он тут делает?
Лоу (сдержанно). Пришёл посмотреть.
Лоу и Томпкинс вместе направляются к стартовой линии.
Томпкинс. Небось, пришёл перехватить чужого бегуна. Ты работаешь, а он является на готовенькое, и все почести ему. Внезапно останавливает взгляд на Лоу. — Уж не к тебе ли он подкатывается?
Лоу (встревожено). Раз–другой мы с ним общались.
Томпкинс. Вот почему ты захотел бежать милю.
Лоу. Вроде так.
Томпкинс. Как же я не догадался, самому тебе такое никогда бы в голову не пришло!
Лоу. Это почему?
Томпкинс. Ладно, поговорим о нём позже. Лучше пусть мне дорогу не перебегает.
Томпкинс проходит мимо Ди, который стоит опершись на перила напротив старта и наблюдает за ним и Лоу, потом идёт к другому своему бегуну, рыжему Джеку Брогану, тоже участнику этого забега. Лоу, осторожно озираясь, приближается к Сэму Ди, который встречает его улыбкой.
Ди. Не понравилось ему, что я здесь?
Лоу. Точно.
Ди. Они все одинаковы, эти тренеры. Мелкие людишки. Одержимы собственной значимостью. Ладно, сейчас я тебе скажу, как ты выиграешь этот забег. Лучший здесь Уолдер. У него есть скорость, но нет выносливости. Идеальный способ его победить — измотать до последнего круга, но ты слишком неопытен.
Говоря, он продолжает улыбаться с видом доброго волшебника. Лоу слушает внимательно, он весь превратился в слух, он внимает, будто зачарованный, дух младшего рабски покорился духу старшего.
Лоу. Что же мне делать?
Ди. Первый круг пройдёшь медленно. Примерно за 58.5. Второй — чуть быстрее. Догонишь Уолдера не на последнем круге, а на третьем. Я хочу, чтобы в конце этого круга ты его опередил, даже если он не будет лидером. На последнем круге…
Слышны слова стартёра, угрюмого, с пистолетом в руке, похожего на бездействующего палача. Он небольшого роста, коренаст, на синем спортивном костюме выделяется броский герб.
Стартёр. На старт!
Ди (бросив презрительный взгляд на Томпкинса). На последнем повороте делаешь рывок. Я тебе крикну.
Он хлопает Айка по руке. Лоу встаёт на второй дорожке, наклоняется вместе с остальными, принимает стартовую позу — руки в землю, одно колено согнуто. Все замерли, словно застыли. Видно, как Лоу облизывает языком губы. Но лицо его неподвижно.
Стартёр (подняв пистолет вверх). Внимание!
Наконец раздаётся выстрел, бегуны срываются с мест, слышны выкрики: «Вперёд, Джон! Давай, Тед!» Предстоит бежать четыре круга, четыре минуты, и старт не являет собой драматичное зрелище, как это неизбежно бывает в спринте, но и не такое спокойное, как в забегах на десять тысяч метров или в марафоне, когда бегуны неорганизованной группой просто стоят на старте, одна нога впереди другой. Бег будет быстрым, но не скоротечным, поэтому первые круги вызывают интерес только у знатоков — к тактике, стилю спортсменов. Расположившись у бровки, тренеры напряжённо следят за бегом, громко и коротко подавая советы.
Томпкинс (когда группа, ещё не распавшаяся, первый раз пробегает мимо). Правильно, Айк, держись с ними.
Ди (когда Лоу поравнялся с ним). Помни, помни!
Томпкинс. Что помни? Я его тренер!
Ди (невозмутимо). Помни, Айк!
Томпкинс смотрит на него с яростью, тяжело дыша.
Кровь приливает к щекам, но он ничего не говорит. Между тем Сэм Ди внимательно смотрит на свой секундомер, который лежит на его ладони, как амулет или талисман. Томпкинс раздражённо отходит в сторону, тоже достаёт секундомер и смотрит на него, как бы молча соревнуясь. Когда бегуны выходят на третий круг, оба тренера поднимают головы. Лидирует рыжий Джек Броган, он бежит без изящества, но решительно, поднимая колени чуть выше, держа локти чуть дальше от тела, чем надо, выражение лица отстранённое, напряжённое. За ним, собранный и сдержанный, явно полный оптимизма и самодовольного ожидания, держится Уолдер — коренастый бегун в чёрно–жёлтой майке, с икрами скорее спринтера, чем стайера. Он бежит короткими, быстрыми, раскачивающимися шагами, которые, кажется, отражают не только его физическое состояние, но и настроение. Айк Лоу бежит пятым. Его движения, в отличие от первых двух, ритмичные, грациозные, экономные, будто неосознанные. Он бежит просто и естественно, словно и не думая о том, что делает.
Томпкинс (когда Джек Броган пробегает мимо). Так держать, Джек!
Ди (пробегающему Лоу). Пора Айк!
Сразу же, практически с каждым шагом, Айк Лоу начинает наращивать темп. Его длинные стройные ноги, несшие его словно без усилий, внезапно обретают скорость и резкость, будто на барабане вдруг убыстряется дробь. Со стороны болельщиков раздаётся удивлённый гул. В этом новом ритме Лоу опережает четвёртого, третьего бегуна… Вот он уже поравнялся с Джеком Броганом, обошёл и его. На мгновение Лоу вроде бы замедляет бег, но тут раздаётся голос Сэма Ди.
Ди. Давай, давай, Айк!
Ноги Айка Лоу снова обретают быстрый ритм, он неуклонно отрывается от преследователей, словно растягивая бесконечную резинку. Теперь на дорожке, как в калейдоскопе, происходит перегруппировка. Уолдер в своей чёрно–жёлтой форме пытается догнать Айка Лоу, за ним, в свою очередь, устремляется Джек Броган. Остальные пятеро бегут сзади — по одному и парами.
Томпкинс (громко, как бы самому себе). Он спятил. Загонит себя и всё.
Ди (кричит). Держи темп, Айк!
Томпкинс (бросив на Ди уничтожающий взгляд). Чистая дурость!
Когда бегуны выходят на четвёртый, последний, круг, представитель клуба, в серой шляпе и синем блейзере, тянет за верёвку колокол, который гудит, как всегда, неблагозвучно, словно рында во время тумана. Айк Лоу всё ещё лидирует, но Уолдер отстаёт всего на пятнадцать ярдов. Скорость Айка всё та же, но ему явно не хватает сил — об этом можно судить по склонённой голове, совсем другому выражению лица. В глазах несвойственное его возрасту волнение, словно на третьем круге он сделал поразительное открытие.
Ди. Держись впереди, Айк!
Томпкинс (с презрением). Как же! Он весь выдохся.
Ди. Вперёд!
Уолдер уже отстаёт от Айка Лоу лишь на десять ярдов, потом на пять; на третьем повороте они почти поравнялись. Это как бы испытание воли и выносливости — Айк стремится удержать темп, а Уолдер помешать сопернику. В эти несколько секунд решается исход забега: либо Айк Лоу сдастся, либо иссякнут силы у Уолдера. И вот расстояние между ними опять увеличивается — не потому, что Лоу ускоряет бег, а потому, что Уолдер постепенно отстаёт. На прямой Айк впереди уже на два ярда, он неуклонно уходит, и не только Ди, но и Томпкинс начинает подбадривать его… Возле финишной черты, которую он пересекает совсем измученный, страдание на его лице переплавилось в радость победы — отрыв составляет десять ярдов. Айка сразу же окружают: к нему бросается Томпкинс, кто–то накидывает полотенце на плечи; Сэм Ди перепрыгивает через оградку и прорывается к нему сквозь толпу. Кругом раздаются возгласы: «Четыре и одна. Невероятно… Это его первый забег… Первый забег на милю…»
Рядом с Айком Ди и Томпкинс походят на двух собак возле кости: Томпкинс как бы её хозяин, а Ди — чужак, на неё посягающий. Но ничего не происходит — оба после долгого молчания соглашаются на непрочное перемирие.
Томпкинс (кричит). Айк, ты пробежал за четыре и одну!
Ди. Я горжусь тобой, Айк! Больше всего я горжусь тем, что ты — на ногах (с презрением смотрит на Джека Брогана, который в изнеможении сидит на траве, утешаемый болельщиками). У настоящего чемпиона всегда остаются силы после бега.
Айк Лоу роняет голову на грудь; усталость, неимоверное напряжение сил берут своё. Когда к нему сквозь толпу протискивается Уолдер и хочет поздравить, рука Лоу вялая и безвольная. Айк лишь что–то вежливо бормочет, не поднимая глаз.
Томпкинс (с видом собственника). Хорошо, Айк, пошли в раздевалку.
Обняв Айка за плечи, он выводит его из толпы, и они направляются к выходу.
Ди (собравшись следовать за ними, говорит окружающим). Это только начало! Через месяц он выбежит из четырёх минут! Через полгода он будет в сборной! Когда я увидел его, сразу понял, что это прирождённый милевик!
Не обращая внимания на яростный взгляд Томпкинса, его молчаливую враждебность, Ди ускоряет шаги и хватает Айка за свободную руку.
Ди. Помни! Это только начало!
Через неделю после того забега меня уволили. Не помню точно из–за чего. Кажется, поспорил с мастером, тот придрался, что я слишком часто отпрашиваюсь. В любом случае я был рад. Месяц получал пособие по безработице — вот красота: ничего не делаешь, только ходишь на старую биржу труда, берешь свои денежки и прикидываешься, будто ищешь работу. В то время с работой и вправду было туго, особенно для таких, как я, без всякой профессии.
Не скажу, что я сильно огорчался, потому что больше всего мне хотелось бегать; я тренировался каждый день, то на дорожке, то в лесопарке, с Сэмом и другими его учениками, раз или два в неделю участвовал в забегах.
Сэм был очень доволен, всё шло, как он хотел. Он часто говорил: «Ты готовишься защищать честь своей страны, почему бы ей не платить тебе? У нас вообще мало чего делают для спортсменов». Но мой старик смотрел на это иначе. Сидеть на пособии по безработице он считал чем–то позорным, постыдным, оно напоминало ему о предвоенном времени. Сейчас он работал на фабричном складе, но перед войной полтора года сидел без работы. Он был доволен, что я победил в забеге на милю, но говорил: «И что тебе это даст? Ведь бег — не футбол и не бокс. Им не проживёшь». — И мама соглашалась с ним, впрочем, как всегда.
Потом я познакомил Сэма со своей семьёй. Это была его идея, он давно хотел посмотреть, как я живу. Он начал говорить в ту секунду, как вошёл, и говорил без умолку, пока не попрощался. Мои родные никогда не встречали такого человека, они слушали его с открытыми ртами.
— У вашего сына, мистер и миссис Лоу, — сказал он, — такие способности, что он может стать одним из самых знаменитых людей в мире. Он один из тех немногих избранников, которых бог наградил неповторимым талантом. Талант можно развивать, но ничто не может его заменить. Человек, наделённый таким талантом, обязан им воспользоваться.
Отец ответил:
— Так–то так, но на что он будет жить? Он ведь не устроен. Первым делом надо думать о заработке.
Сэм. В коммунистических странах большому спортсмену нечего заботиться о заработке. Там признают его значение для общества.
Папа. Да, но у нас страна не коммунистическая.
Сэм. Потому спортсмены и должны за всё бороться. Одна из свобод гарантированных демократией, — свобода бороться.
Мама. А вы–то сами хотели бы жить в одной из этих стран?
Сэм. Как человек — нет. Как тренер — да.
Папа. Так ведь в тех странах всё идёт на пропаганду, разве нет?
Сэм. Спорт — всегда пропаганда. Великие спортсмены всегда поднимают авторитет своих стран. Когда вы думаете о Великобритании, кого вспоминаете?
Мама. Уинстона Черчиля?
Сэм. Не только: Роджера Баннистера, Фреда Перри, Стенли Мэтьюза. Кто премьер–министр Австралии? Не знаете. Зато все слышали о Кене Розуолле и Гербе Эллиоте. Финляндия — страна небольшая, малоизвестная. Но во времена Пааво Нурми Финляндия прославилась.
Папа. Да только на медали не проживёшь.
Тут Сэм Ди, одетый, как всегда, в свой серый свитер и потрёпанные джинсы, начинает пританцовывать по маленькой комнатке с дешёвой и обшарпанной мебелью, обитыми кожей стульями и кушеткой, фарфоровыми безделушками за стеклом. Его движения отражаются в старом зеркале над полками.
Сэм. Мы с вами не проживём на медали, мы знаем, что медали — ничто, но страна живёт медалями. Страна живёт героями. Она живёт примерами, которые герой подаёт молодёжи, будь то спортсмен или генерал, причём спортсмен более велик, чем генерал, потому что великий спортсмен представляет жизнь, а великий генерал представляет смерть. Победоносного генерала не только любят, но и ненавидят, а великий спортсмен вдохновляет мир.
Мистер Лоу, худой, серьёзный человек, в тёмно–зелёной кофте на пуговицах, курит трубку и глядит на Сэма в безмолвном изумлении, наполовину убеждённый. Миссис Лоу, которая выглядит на диво молодо и привлекательно, с ясным лицом и одобряющей улыбкой, убеждена полностью. Она улыбается, чуть приоткрыв рот. Айк Лоу сидит вытянув ноги, в позе избалованного младшего ребёнка, внимательно смотрит и слушает, хотя лицо не выдаёт его мыслей.
Сэм. Мы часто награждаем людей, приносящих смерть, забывая о тех, кто принёс нам жизнь. Медаль унижает спортсмена. Его успех — это достижение само по себе. (К папе). Но вы правы, сэр, спортсмен должен есть, он почти полностью зависит от того, что ест. Ему нужны крыша над головой, даже если это крыша палатки. Почему же у нас, на Западе, он должен прибегать к унизительным уловкам, чтобы обеспечить себя самым необходимым?
Миссис Лоу, улыбаясь, качает головой и цокает языком; непонятно, то ли от восхищения, то ли от сочувствующего несогласия.
Сэм (папе). Сэр, есть способы даже у нас на Западе обеспечить спортсмена всем необходимым. Я знаю их. Имею к ним доступ. Лично мне ничего этого не нужно. У меня всего хватает. И так будет всегда. Но ничего не мешает мне добиваться благ для моих бегунов, используя общество, которое использует их.
Он, конечно, имел в виду пустяк: деньги. Я часто слышал разговоры о них в клубе или среди ребят — учеников Сэма. То один что–то получил, то другой, но чаще они говорили о ком–то по слухам — к примеру, о том спринтере с севера, который на заработок купил и целиком обставил дом.
Спустя неделю после моего победного забега не милю мне позвонили и предложили участвовать в одном из соревнований, а когда я сказал, что готов, только ехать далековато, услышал: «Мы хорошо платим». Я только воскликнул «о!» и больше ничего не сказал, тогда собеседник продолжил: «Дорога, отель и всякие другие расходы — пятнадцать фунтов хватит?» Ехать–то всего от Лондона до Бирмингема, можно спокойно обернуться за день, и останется десять фунтов — неплохо. Правда, в тот раз я не поехал. Но потом, когда я впервые выступил в Уайт — Сити, мне почти каждую неделю предлагали за выступление столько же и даже больше. Когда я рассказал об этом Сэму, он переспросил: «Я не расслышал. Пятнадцать?» А потом уже в лесопарке посоветовал: «Проси двадцать». Как–то он подошёл и сказал: «На следующей неделе ты побежишь в Хитчинге. Если тебе вручат конверт, мне об этом не говори».
Иногда он спрашивал, как у меня с деньгами, и совал пару фунтов, бывало, приносил новые шиповки или трусы. Он даже подарил мне штангу. Однажды утром её с трудом припёр ко мне домой какой–то малый. Другие ребята рассказывали мне, что тоже получили от него по штанге; у него были какие–то связи с теми, кто их делал. Когда я стал благодарить его, он подмигнул и сказал: «Вот выбежишь из четырёх минут, подарю «Замок на песке». Было такое питейное заведение в лесопарке.
Не скажу, чтобы мне сильно нравились его тренировки, они мне вообще никогда не доставляли радости, но ни одна и близко не напоминала первую, когда он ехал рядом на велосипеде. Теперь он бегал с нами сам, для своего возраста был в блестящей форме и двигался так легко, что становилось за себя просто стыдно. Ему ничего не стоило пробежать перед сном десяток миль. Он свято верил в бег по холмам, называя это тренировкой сопротивляемости. Он гонял нас по какой–нибудь лощинке вверх–вниз, а потом, когда мы были внизу, командовал: «Рывок!» Тут он с нами не бежал, а пока мы носились от одного холма к другому, отмечал наше время. Нужно ведь было ещё и во время уложиться.
Иногда он водил меня на беговую дорожку, в Паддингтон или Парламент — Хилл, там у нас были в основном тренировки на скорость и рваный ритм: бегаешь по кругу, пока он не заорёт: «Пошёл!!!» — ярдов пятьдесят или сто шпаришь на полную, пока он не скомандует: «Сбросить темп!» Он не любил спортсменов, бегающих в одном ритме, называл их роботами. Он часто говорил: «Это паразиты, шакалы, они выигрывают не потому, что сильны, а из–за слабости других. Иногда они ставят рекорды, но им никогда не выиграть решающего забега. Лучше бороться и проиграть честно, чем плестись к жалкой победе».
Он обращал особое внимание на движения, положение рук и ног; вдалбливал часами, останавливая и показывая, где ты неправильно держишь руки, где сделал неверный шаг, где не так развёрнуты плечи. Он постоянно твердил: «Тренировка — это куколка, из которой рождается прекрасная бабочка. Одно невозможно без другого».
После той первой мили я не показывал лучшего времени, и это огорчало. Когда тебе мало лет, самоуверенности обычно хоть отбавляй, я тогда думал, что в следующем же забеге пробегу милю за четыре минуты, но получалось то 4.05, то 4.06. В клубе кое–кто из парней посмеивался, говорил, что мне с секундомером подфартило; я знал, что сперва обо мне так думали и другие милевики — явился, не запылился, взял и всех обогнал. На первой совместной тренировке после того забега Джек Броган меня почти не замечал.
Большинство забегов я выиграл, несколько проиграл.
Как я и ожидал, Дес Томпкинс накинулся на меня из–за Сэма:
— Сэм Ди, небось, считает, что твоя победа на милю — его заслуга. Наверное, сказал тебе, что этой победой ты обязан ему.
— Ну, отчасти так оно и есть, — ответил я сдержанно. — Без него я вообще бы не побежал милю.
Тут ему было нечем крыть, правда, есть правда. Помолчав с минуту, он сказал:
— Ты бы лучше решил, кто тебя тренирует — я или он. Только не думай, что ты уже всё знаешь, если один раз хорошо пробежал милю. Тебе ещё многому надо учиться, а у него ты не получишь того, что нужно, уж я‑то знаю. Да и какого чёрта я буду учить тебя одному, а потом ты пойдёшь к нему и он будет тебя учить другому?
Вопрос о тренере для меня был ясен, но я понимал и Деса, к тому же мне не хотелось уходить из клуба — тут тебе и условия, и соревнования, и добиться кое–чего можно, и я промолчал.
— Сэм Ди, — сказал он, — не тренер, а просто случайный человек. Кого из бегунов он воспитал?
— Тома Берджесса.
— Том вовсе не находка Сэма, ещё до встречи с ним он бежал за Йоркшир.
— У Сэма он стал бегать лучше.
Тут уж Дес совсем вышел из себя:
— Лучше? Посмотри–ка в книги рекордов и увидишь, чего он добился. Посмотри, как он бежал в Мельбурне в прошлом году на десятитысячной дистанции. Каким он пришёл к финишу? Двадцать восьмым!
— Но он же растянул связку.
— Удивительное дело, что стоит ученику Сэма проиграть, как выясняется, что он растянул связку.
— Я подумаю, ладно?
Но Дес не унимался:
— Что он вообще понимает в атлетике? Чего он добился? Спроси у любого тренера в Лондоне, в стране, все скажут, что Сэм пустозвон.
Я и тут промолчал, потому что уже слышал отзывы о Сэме других тренеров. Всё же одно я понял хорошо: либо ты за Сэма, либо против него, другого выхода нет; что касается лично меня, я за него.
Уже месяц, как я получал пособие по безработице. Как–то во время тренировки Сэм спросил:
— Нашёл работу?
— Нет.
— Я найду тебе работу.
Через пару дней он повёл меня к некому Стенли Лингу, который жил поблизости от Марбл Арч. Я никогда ещё не видел такой большой квартиры — только в одном кабинете разместились бы три наших квартиры. Там были толстые, пушистые ковры, обитые белой кожей стены, огромные люстры, коктейль–бар и большущий телевизор. Всё это, наверно, стоило кучу денег. Но сам владелец оказался простым кокни, невысоким и широкоплечим, а такое лицо я в наших краях встречал у боксёров: голова широкая, лоб низкий, зачёсанные назад чёрные волосы и маленькие тёмные глазки, похожие на два камушка.
Я и раньше слышал, что он интересуется лёгкой атлетикой и другими видами спорта, а свои миллионы заработал на металлоломе и военных поставках. Он посмотрел на меня, потом на Сэма и спросил:
— Он хорош? Из него будет толк?
А Сэм ответил:
— Стен, он хорош уже сейчас, а станет великим. В первом же забеге на милю он показал 4.01.
— Знаю, всё знаю, — сказал тот, — но это было один–единственный раз.
— Поверь мне, ещё до конца сезона он выйдет из четырёх минут.
Тогда Линг встал. Маленький, в длинной куртке из верблюжьей шерсти, а туфли из крокодиловой кожи — вот бы мне такие. Чуть покачиваясь, он подошёл к бару.
— А что скажешь насчёт последнего забега? Приплёлся за 4.08. Для будущего рекордсмена слабовато, а?
— Это потому, что мне мешали работать, — ответил Сэм, — его сбили с толку мои завистники. Он слушал их вместо меня, и все мои труды пошли насмарку. Я сказал: «Если хочешь тренироваться у клубного тренера, а не у меня, если хочешь погрязнуть в посредственности, уходи, но помни — возврата не будет». Стен, ты слишком много пьёшь. — Он подошёл и похлопал Стена по животу. — Твоё физическое состояние явно ухудшилось.
Лингу, видно было всё равно. Он налил себе полстакана виски и сказал:
— Как я понимаю, молодой человек не пьёт. — Потом добавил: — Я делал твои дурацкие упражнения две недели, так по мне уж лучше чувствовать себя плохо.
Сэм ответил:
— Надо продолжать, и ты почувствуешь себя, как никогда в жизни. Почему надо обращаться со своим телом хуже, чем со своей машиной?
Линг залпом выпил неразбавленный виски и сказал:
— Зря теряешь со мной время, Сэм. Если уж мне суждено отправиться к праотцам, я сам выберу дорогу.
Тут в комнату впорхнула эта пташка, настоящая куколка, наверно, вдвое моложе его, в зеленоватой шёлковой блузке и брючках того же цвета, блондинка, на голове построено что–то немыслимое, а грудки заострённые, будто в тебя прицелились.
— Как поживаете, красотка? — спросил Сэм. — Стоит мне вас увидеть, я сразу чувствую себя молодым.
— Вы и есть молодой, я имею в виду по духу, — ответила она. — Хоть бы Стенли у вас здоровья подзанять.
— Видишь, Стен, — сказал Сэм. — Разве это тебя не вдохновляет?
На Линг спросил, не хочет ли она выпить, и представил меня.
— Это Айк Лоу, одно из новых открытий Сэма. Он бегает милю.
— О, как чудесно! — воскликнула она, окинула меня внимательным взглядом и пожала мне руку.
Руки у неё были маленькие и очень тёплые; мне показалось, что я ей понравился, а Линг это почувствовал и наблюдает за мной. Я оглянулся и посмотрел ему в глаза, они ничего не выражали, только как бы оценивали меня. Такому лучше не переступать дорогу.
— Значит, ему нужна работа?
— Если ты найдёшь ему работу, — ответил Сэм, — то всем окажешь большую услугу.
Стен ещё раз оценивающе посмотрел на меня и спросил:
— Сколько ты хотел бы получать?
Я стоял как дурак, надеясь, что Сэм выручит. Он так и сделал:
— Сколько получится, Стен, ему много не нужно. Живёт он с родителями. Будет нормально, если сможешь платить ему как Уолли.
— Пятнадцать фунтов в неделю? — спросил Линг. — Ладно. — Потом обратился ко мне: — Машину умеешь водить?
Я, к счастью, умел. У меня уже два раза были машины, обе изношенные донельзя, я покупал их у знакомых парней, платил не больше десяти фунтов. Но сейчас последняя совсем накрылась, так что машины не было.
— Ладно, — сказал Стен, — будешь торговым представителем моего завода шарикоподшипников в Тоттенхэме. Сэм скажет, где он находится. Поезжай в понедельник к заведующему отделом.
Тут он вроде взглянул на меня с улыбкой. Внезапно зазвенели фарфоровые часы на камине, всех цветов радуги, словно сделанные из ячменного сахара. Сэм вскочил с поднятым пальцем и разразился тирадой:
— Время — враг. Мы боремся со временем в жизни, как и в беге. Полной победы не достичь никогда, но стоит добиться хотя бы частичной, мы расширяем границы возможностей человека, утверждаем наше человеческое достоинство. В воздухе мы стали летать быстрее звука. На земле вышли из четырёх минут в беге на милю. В лабораториях и в хирургии мы научились продлевать человеческую жизнь, о чём раньше и не мечтали. Придёт время, когда каждый будет сам решать, сколько он хочет жить, а двигаться мы будем не только быстрее звука, но и быстрее света. Каждый рекорд, побитый на беговой дорожке, в воде, в воздухе, — это доказательство человеческой независимости. Наступит день, когда мы разобьём все часы в мире, потому что победим время, и часы уже не понадобятся.
Работа была и впрямь курам на смех. Когда я пришёл на завод, заведующий коммерческим отделом посмотрел на меня и сказал: «Ещё один из этих, да?»
Я разъезжал на симпатичной маленькой «кортине», и вся работа заключалась в том, чтобы посещать несколько распределительных контор в разных местах Лондона. Всё можно было проделать за день или обойтись телефонными звонками, но мне полагалось заниматься делом три дня в неделю, до полудня, остальное время оставалось в моём распоряжении, то есть для тренировок с Сэмом: я то бегал, то поднимал тяжести, то делал разные упражнения, какие считал нужными.
Дома на меня стали смотреть как на чокнутого — я перестал есть мясо, а поедал всякие орехи или овощи, как велел Сэм, почти всё в сыром виде. К тому же я возвращался к вечеру таким усталым, что мне не хотелось уходить из дома, хотя раньше я всегда куда–нибудь намыливался с парнями — в кегельбан, в кабак или кафе, а по пятницам и субботам — на танцульки. Тренировка в клубе была ерундовой: Дес Томпкинс, видно, решил — пусть всё идёт само собой, ведь забеги я выигрывал. Мама была слегка встревожена. Однажды она спросила: «Не слишком ли ты увлёкся, Айк? Стоит ли игра свеч?»
Я ответил: «Думаю, что стоит». Хотя, по правде говоря, сомнения были. Но они исчезли, когда я впервые пробежал милю за четыре минуты.
— …Айк Лоу, восемнадцатилетний милевик, выступает в Уайт–сити уже второй раз; он завершает круг в отличном состоянии и с большим запасом сил. Время на этом и на последнем круге мы сообщим потом; скажем только, что на последнем круге зафиксировано 58.2 — не рекордный, но довольно быстрый бег. И вот Айк Лоу, высокий представитель в Хекни, бежит очень ровно, оставаясь на пятом месте. Что скажешь о его беге, Уоллес?
— Очень ровный, лёгкий бег, Дерек, очень ритмичный; длинный шаг, сильное, экономичное движение рук. Бежит очень собранно. Многообещающий спортсмен.
— Впереди американец Гэтц из Сан — Хосе, он в этом сезоне уже выходил из четырёх минут в беге на милю, фаворит на этой дистанции, за ним француз Лерош, потом наш Макалистер, всегда показывающий хорошие результаты в соревнованиях, за ним крохотный угандец Ихуру, полный энергии полицейский капрал, отец одиннадцати детей, а уж за ним Айк Лоу Хекни…
Какая медленная дорожка, каждый шаг даётся с трудом. Хорошо, хоть за поворотом слышишь приветствия толпы, всё–таки подбадривает… Пробегая мимо старины Сэма, услышал его слова: «Так держать. Оставайся вместе со всей четвёркой». Я чувствую себя хорошо. Как он и обещал. Готов лететь, у меня будто крылья выросли. Хоть сейчас делай рывок и выходи вперёд… Нет, надо дождаться колокола. После колокола — рывок, так он велел. Обойти всех. И этого чёрного крошку. Вон как подпрыгивает, есть на что посмотреть. И большого янки. В жизни не бежалось так легко; спасибо Сэму. Чёрный крошка забеспокоился, сразу видно — вон как двигает плечами: хочет обернуться, но не может. Ничего, пусть уйдёт чуть вперёд. А длинный янки лидирует, ему на всех наплевать, уверен, что хоть пешком пойдёт всё равно его никто не догонит; ну это мы посмотрим… А на этом повороте толпа будет подбадривать? Вот здорово, сразу сил прибавляется. Колокол! Сэм и Дес Томпкинс что–то там кричат, хотя мне делать рывок только за полкруга до финиша.
— С ударом колокола в отрыв уходит Гэтц — высокий, могучий американец, который занял четвёртое место на Олимпиаде. Смотри, Уоллес, как он ускорил бег. Боюсь, никому его не догнать. Как считаешь?
— Трудно сказать. Да и время на круге 58.1
— Сейчас Гэтц опережает Лероша на десять ярдов, Макалистер настигает француза; думаю, Ихуру опередит их обоих.
Пошёл, Айк, пошёл!
Худой старик бежит вдоль беговой дорожки, прыгая как шаман.
Пошёл, Айк!
— Силы небесные, какой рывок делает Лоу! Айк Лоу! Какая скорость! Он уже впереди Макалистера, обходит Лероша, Ихуру, настигает Гэтца. Между ними всего пятнадцать ярдов. Прекрасный бег! Десять ярдов. Они выходят на финишную прямую — между ними не более пяти ярдов.
Сдавайся, паразит, сдавайся! Ноги не держат, грудь вот–вот… Не могу…
Пошёл, пошёл, пошёл!
— Айк догоняет Гэтца, они бегут плечом к плечу, Лоу на внутренней дорожке.
Ну ты, не маши локтём: я тебя убью!
— Англичанин бежит рядом с американцем. Впереди ещё двадцать пять ярдов. Вот он вырывается вперёд! На фут, ярд. Лоу финиширует первым, соперник шага на два сзади… Великолепная победа восемнадцатилетнего англичанина. Айк Лоу выиграл эту милю для Британии.
Господи! Я сейчас умру!
— Айк, это было великолепно… 3.59,2, Айк.
Ура! Я вышел из четырёх минут!
— Поздравляем, Айк!
— Спасибо, спасибо…
— Айк, так бы и расцеловал тебя.
— Спасибо, Сэм.
— Хороший бег, парень. Ты меня удивил.
— Да, спасибо.
Это ещё что за тип с дурацким микрофоном?
— Я у финиша рядом с Айком Лоу, победителем этого фантастического забега. Айк, это было невероятно.
— Спасибо.
Отвалил бы ты.
— Скажите, Айк, у вас был план бега?
— Ну, вроде был.
— Какой?
— Держаться за лидерами до середины последнего круга, а потом рвануть.
— Чей это план?
— Моего тренера.
— Вы имеете в виду тренера «Спартака» Деса Томпкинса? Очень, очень хороший тренер.
— Нет. У меня есть личный тренер.
— Личный тренер! Айк, у вас есть личный тренер?
— Я имею в виду, что он не клубный тренер.
— А вы верили, Айк, что можете выиграть этот бег и выйти из четырёх минут?
— Я на это надеялся.
— Как вы себя чувствуете сейчас?
— Ну… если честно, здорово устал.
— Устал, зато, наверное, очень счастлив?
— Да.
— Не будем больше вас задерживать, Айк. Великолепный бег, великолепная победа. Поздравляю и благодарю.
Тут ещё и другие ждут. Кое–кого я видел раньше: вон тот парень — медалист, этот — из «Трек мансли». Слава богу, пришёл Сэм.
— Молодец.
— Поздравляю.
— Потрясающе, Айк.
— Ты первый раз вышел из четырёх минут?
— Да.
— Ваше лучшее время до сегодняшнего дня?
— Он показал 4.01 в июле, в Итоне.
— Вы именно так планировали бег, Айк?
— Да, вроде того.
— В чём заключался ваш план?
— Держаться вместе с ними и постараться обойти их на финише.
Этот верзила так и суёт мне в лицо багровую рожу.
— Где вы живёте, Айк?
— Сколько вам лет?
— Чем вы занимаетесь?
— Кто вас тренирует?
— Я тренирую.
— Я думал, он в «Спартаке».
— Я и есть в «Спартаке».
— Но его тренируете вы, Сэм?
— Давно вы его тренируете?
— Первый сезон. С той минуты, как я его нашёл.
— Сегодня это был ваш план?
— Конечно.
— И вы надеялись на успех?
— Бегает ли он с вами в лесопарке?
— У вас есть увлечения, Айк?
— Что ты чувствуешь после победы?
— Наверное, приятно, что вышел из четырёх минут?
— Ладно, хватит, ребята!
И назавтра интервью со мной появилось в воскресных газетах. Я стал знаменитым.
ПУБЛИКА УАЙТ-СИТИ В ВОСТОРГЕ ОТ АЙКА.
ЮНОША УТИРАЕТ НОС ЯНКИ И РАЗМЕНИВАЕТ ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ.
Если вы хотите поговорить с пятидесятичетырёхлетним весельчаком Сэмом Ди, независимым английским тренером, вам придётся побегать. Именно этим я и занимался в лесопарке Хампстед — Хит. Я снял пиджак и галстук и побежал рядом с этим неповторимым чародеем, чей воспитанник — восемнадцатилетний чудо–бегун Айк Лоу — одержал прекрасную победу в субботнем забеге на милю в Уайт — Сити. Справа то меня бежал он сам, парень кокни, слева от Сэма — Том Берджесс, бегун на десять тысяч метров, и ещё полдюжины других. Но Сэм бежал наравне со всеми.
«Держу пари, результат субботнего бега даже вас застал врасплох», — сказал я этому жилистому, загорелому человеку — бывшему моряку торгового флота.
«Вздор! — крикнул он. — Удивило меня одно — что Гэтц отстал всего на два шага. Я думал, Айк выиграет у него секунд пять».
Перепрыгнув через упавшее дерево, Лоу пробурчал: «Какая разница, насколько я его обогнал, главное — пришёл первым».
Самая большая надежда Британии в беге на милю со времён Баннистера считает, что успехом обязан Сэму Ди. «Сэм поразителен, — восхищается Лоу. — Он следит за всем: за твоим бегом, твоей тренировкой, даже за твоей диетой. До встречи с ним я был обычный бегун на четверть мили. Но Сэм только взглянул на меня и сказал: «Ты будешь бегать милю». С ума сойти.
— Ты взял барьер в четыре минуты, но тебе ещё придётся взять болевой барьер. Пока не испытаешь боли и не научишься пользоваться ею, бороться с ней и побеждать её, ты никогда не станешь чемпионом. Нурми, Затопек, Куц — все они научились терпеть боль и преодолевать её. Боль и время. Это твои противники, и они неразделимы, потому что, побеждая боль, ты побеждаешь время и наоборот. Мало того, им присуще нечто общее — победа над ними не может быть полной. По сути, нельзя добиться окончательной победы, потому что тело стареет и умирает; оно может лишь стремиться к такой победе в молодости. Вся шумиха вокруг тебя — телевидение, трёп газетчиков — пустая трескотня. От этой братии никуда не деться. Они помогают мне работать, хотя всегда неверно представляют и мою работу, и мои слова. Мне они нужны как рупор в борьбе с бюрократами, с врагами подлинного прогресса. Но добра они не приносят. Они будут льстить, разлагать тебя, пока ты силён, и стоит тебе чуть сбавить обороты, они тут же тебя закопают. Для них ты всегда заменим, ведь и ты пришёл на смену тому, кого они раньше возносили. После той победы я вижу в тебе признаки самодовольства, ты готов расслабиться. Помни, ты ещё даже не начал раскрывать свои возможности. Я ведь говорил тебе, что до конца сезона ты будешь бегать милю за четыре минуты. Ты хорошо работал, и ты этого добился. Теперь я говорю, что ты способен добиться большего, если будешь беззаветно трудиться.
Что это за штука — боль? Я вроде и понимал, что он имеет в виду, но всё же не понимал. Зачем вообще бегать, если тебя ждёт боль? Спорт для меня — это радость, а если радости нет, так и чёрт с ним. С другой стороны, я понимал: Сэм прав, с таким отношением к делу ничего не добьешься, другие вон как серьёзно относятся к спорту, посвящают ему жизнь. Либо выкладывайся до последнего, либо бросай спорт.
Да и не сказать, что радости совсем не было, что здесь только и есть что упорный труд. Тренировки, конечно, тяжёлые, да и отказываться приходится от многого, зато соревнования приносят истинную радость — когда всё идёт гладко; такое охватывает возбуждение, что всё остальное кажется мёртвым. Когда приходит время решающего рывка, и сила так и клокочет в тебе, как в большом, мощном моторе, и ты чувствуешь — тебя не удержать, ты перегонишь всех. Это чувство приятнее самой победы, ведь предвкушение чего–то всегда будоражит, хотя победа тоже прекрасна: рвёшь ленточку, она легко касается груди, и даже если сильно устал, первым делом чувствуешь внутри слабый трепет — я своего добился.
И в другом смысле я понимал Сэма — ясно, что если хочешь что–то получить, за так оно к тебе не придёт; можно что–то унаследовать, но не бег, а в лёгкой атлетике есть, чего добиваться: ставить рекорды, выступать за сборную страны, ездить за рубеж и, может, однажды, дай бог, получить олимпийскую медаль. Рекорды что — сегодня он твой, завтра чей–то ещё, а олимпийская золотая медаль останется твоей навсегда.
И ещё одно: что бы ни говорил Сэм, хотя, возможно, он и прав, популярность всё же приятна, по крайней мере вначале, — вдруг с тобой захотели сойтись поближе соседи, некоторые — вот смех — прямо переменились, на тебя смотрят в кафе, метро и других местах, и вся это шумиха в газетах… Естественно, в восемнадцать лет к этому не останешься равнодушным.
Домашние были в восторге; даже мой старик признался, что раз так хвалят, значит, есть за что, да и на работу я устроился благодаря бегу.
Стен Линг был в Уайт — Сити, когда я вышел из четырёх минут. Он был просто потрясён. Через неделю он устроил вечеринку в честь Сэма и меня, чтобы отпраздновать это событие, но мы с Сэмом ничего не пили. Его жена снова вертелась вокруг меня, говорила, как всё было прекрасно, что она тоже там была и всё видела, но я заметил, что Стен поглядывал на меня, как и в прошлый раз, поэтому я не пытался с ней болтать, хотя она вроде того хотела.
Сэм толковал со мной о пташках, сказал, что сейчас, когда я становлюсь популярным бегуном, их будет много вертеться вокруг меня, на беговой дорожке и вне её, причём особенно опасны те кто на дорожке, они как бы вторгаются в твою настоящую жизнь, а других можно привечать, а можно и нет. У него не было времени тренировать женщин, разве одну или две; он считал, что для большинства из них это просто баловство, им нравится ездить в поездки и вертеться среди мужчин. Он говорил: «Совместные встречи на дорожке кончаются плачевно. Женщины очаровательны и прекрасны как таковые, но им нечего делать в лёгкой атлетике, где они лишь выставляют свою женственность на посмешище и отвлекают мужчин. Женщины занимают важное место в жизни любого мужчины, но они должны знать своё место: их назначение — вдохновлять, а не соблазнять. Это особенно важно для спортсмена, который подчиняется куда более строгой дисциплине, чем обычный мужчина».
Я спросил — что же, бегун вообще не должен иметь дело с девочками, это вроде уж слишком; но он ответил — нет, он не считает, что спортсмены должны жить, как монахи, это тоже вредно; речь идёт о том, что важно в первую очередь. Но если телом командует секс, это плохо влияет на здоровье.
Я думал об этом очень серьёзно, как и обо всём, что он мне говорил. Впрочем, я вечером возвращался домой таким усталым, что и выходить никуда не хотелось; постоянной девушки у меня не было, так отдельные пташки.
Том Берджесс тоже отнёсся к словам Сэма очень серьёзно. Когда я с ним поделился, он сказал: «Сэм прав. Надо решить для себя, как ты хочешь распорядиться своим телом». Сам он был помолвлен, его невеста преподавала физкультуру в школе — очень привлекательная девушка, рослая, с рыжеватыми волосами. Том сказал: «Я всё объяснил Мэвис, и она поняла… Раз я бегун, значит, бег у меня на первом месте. Она согласилась». Том всё делал методично.
Нас обоих взяли в команду, которая в августе отправилась в Лейпциг на матч с командой ГДР — моё первое международное соревнование. Получив приглашение, я прыгал от радости по всему дому и, увидев Сэма в лесопарке, крикнул: «Меня взяли! Меня взяли! Я буду бегать за Англию!» И он устроил мне тяжёлую тренировку, какой не было уже много недель.
Сэм считал, что можно изнурять себя на тренировках, но если ты изнурён после забега — это признак слабости. Он говорил: «Во время тренировки ты сознательно стремишься превзойти свой максимум, чтобы его расширить, сознательно бросаешь вызов боли. А в состязании главная цель — победа, её иногда можно добиться, не достигая или не превышая своего максимума. Твой первый враг — другой бегун, и если, победив его, ты довёл себя до полного изнеможения, ты, по сути, его ни победил. Проиграть не стыдно, если ты показал свой максимум, если пытался пробиться через болевой барьер. Но и при этом, если натренирован ты хорошо, ты не будешь вымотан, даже проиграв, потому что во время тренировок ты намного превзошёл то, что нужно для твоей дистанции. Хорошо натренированный милевик должен без напряжения пробегать пять миль, а бегун на три мили — десять».
В общем, я вошёл в команду Великобритании, и мне выдали спортивную куртку с нашивкой «Юнион Джек». Я не хотел с ней расставаться ни на минуту. Помню, часами ходил в ней по улицам — когда тебе всего восемнадцать, как тут не закружиться голове! Если бы я не боялся её помять, то, наверное, ложился бы в ней спать.
Хорошо, что в команде был Том, — мне не было так одиноко среди незнакомых людей, ведь я впервые летел за границу, вообще впервые летел на самолёте. Мы собрались в гостинице на Ланкастер Гейт, совсем рядом с парком. Во второй половине дня в четверг. Гостиница тоже была мне в новинку, и тут же ко мне подошёл рослый, шумный человек в спортивной куртке с гербом и спросил: «Айк Лоу? Я Джек Брейди». Это оказался тренер, он пожал мне руку так, словно выжимал апельсин. «Поздравляю, — сказал он, — добро пожаловать в команду», но, видно, он столько раз повторял эти слова, что они потеряли для него смысл, звучали автоматически. «Вы хорошо показали себя в Уайт — Сити, — продолжал он, — если так же пробежите в Лейпциге, я буду доволен». Я подумал, что я и сам не против, но ничего не сказал. «Вы тренируетесь с Сэмом Ди, как и Том Берджесс?» Я ответил, что да, и тогда он добавил: «Имейте в виду, когда вы бежите за сборную, ваш тренер — я. Помните об этом, и всё будет в порядке». Хорошее начало, нечего сказать.
Он повёл меня в большую комнату отдыха, где уже собралась почти вся команда, мужчины и женщины в синих блейзерах, и он меня им представил. Кое–кого я встречал и раньше: кроме Тома там был Питер Макалистер, я бежал против него в Уайт — Сити; наверное, в Лейпциге он будет играть первую скрипку. Он мне нравился — держится свободно, много улыбается. Он пожал мне руку и сказал: «Может, на сей раз я тебя далеко не отпущу!» Некоторые девочки были вполне ничего, а Джейн Кобэм, метательница диска, мне даже улыбнулась.
Вскоре Брейди, глубоко вздохнув, сказал: «А сейчас надо тебя познакомить с руководством». Он отвёл меня в угол комнаты, где за столом сидели четверо или пятеро лысых мужчин, все в блейзерах, они беседовали с такими серьёзными лицами, будто кроме них в комнате никого не было. Брейди, стоя над ними, сказал: «Джентльмены, это наш новый бегун на 1500 метров». Один из них посмотрел на меня, как на котёнка, причёсанного кошкой, и спросил: «Лоу?» Я подтвердил: «Да, сэр», думая, надо ли мне с ним поздороваться. Но он сам вежливо протянул мне руку, правда не вставая, — никто из них не встал — пожелал: «Что ж, удачи вам, молодой человек». Остальные тоже пожелали удачи. А потом Брейди мне всех по очереди представил. Оказывается, первым со мной говорил вице–президент Арнольд. Рядом с ним сидел похожий на гончую, с длинным и очень грустным лицом, председатель Рон Вейн — его я раньше видел по телевизору. Там был ещё начальник команды Моллой и помощник председателя Аткинсон. Когда мы уже отходили, Рон Вейн сказал: «Не забудьте, молодой человек, что вы будете бежать за свою страну». Потом они вернулись к своему разговору, будто нас тут уже не было.
«Вот тебе и руководство», — сказал Брейди, и я быстро взглянул на него; что такое он имел в виду, но его лицо ничего не выражало. Лично мне их стол показался маленьким частным островком, где живут и куда никого не желают допускать. По их виду, по голосам можно было подумать, что они на что–то жалуются, но когда я очутился среди спортсменов, оказалось, что жалуются они…
В гостинице меня поселили с Томми, и мы часто говорили о том, что нам предстоит: о толпах зрителей, о стадионе, о том, как Сэм велел нам бежать; но я очень нервничал, что Сэма там не будет, — так внезапно лишаешься отца. Я почти не спал, всё вспоминал его указания; он их мне записал, и я уже всё выучил наизусть.
Трудность была не только в том, что я первый раз еду за рубеж, я ведь первый раз в жизни побегу 1500 метров, что, ясное дело, короче мили. Мы немного потренировались на дорожке в Паддингтоне, Сэм сократил дистанцию, и вместе со мной бежал Денни Спенс, но это была всего лишь прикидка, и я, если честно, слегка побаивался.
Вечером к нам с Томом пришли — подписать петицию насчёт суточных, чтобы нам давали по два фунта в день. Я был так рад поездке, что готов был сам платить по два фунта в день; вообще я впервые участвовал в международном соревновании и боялся: поставлю свою подпись — и больше никогда не включат в команду. Я спросил: «А обязательно подписывать? Я толком не знаю, о чём речь», но парень, что принёс бумагу, Хэри Прайс, бегун на четверть мили, сказал: «Либо подписываются все, либо вообще нет смысла её подавать». А Том добавил: «Чего тебе волноваться? Если подпишут все, они никого не тронут».
Тогда Хэри Прайс сказал: «Ты хоть примерно представляешь, сколько Рон Вейн зашибает на лёгкой атлетике? Как ему платят на радио, телевидении, за статьи в печати? Минимум две с половиной тысячи в год. Плюс поездки, положенные ему по штату. Плюс все блага, связанные с его должностью». Короче, я подписал, деваться было некуда. А на следующее утро, когда мы с Томом завтракали, Рон Вейн прошёл мимо нашего стола и бросил на меня многозначительный взгляд, выражавший: «Вы меня удивили», а потом он так сказал, встретившись со мной один на один чуть позже, и добавил: «Приобретать дурные привычки ни к чему; в команде есть несколько заводил, им бы только побаламутить. Между прочим, мы для них сделали немало. Вложили немало труда. Как брать — это пожалуйста, а взамен? Зачем вам себе вредить, ведь вас взяли в первый раз! Они вас уговорили, да? Но не худо выслушать и другую сторону. Вы знаете, сколько мы теряем каждый год? Знаете, во что обходится послать команду за рубеж? С каким трудом добываются деньги, чтобы послать вас на олимпийские игры? В коммунистических странах такие поездки оплачивает государство. Вклад нашего правительства — капля в море. Посмотрите на меня и других администраторов. Никто нам не платит. Все работают в поте лица. Я не шучу — это именно так. Знали бы вы, сколько своего времени я трачу. Мне это мешает и в деловой жизни и в семейной. Сколько раз жена просила меня всё бросить. Три раза я подавал в отставку и всякий раз получал отказ. Знаете почему? Просто они никого подходящего не найдут на такое место. Я не жду благодарности. Но на понимание рассчитываю. Не позволяйте сбивать себя с толку. Вы хороший бегун, я видел вас, вас ждёт очень хорошее будущее. Сосредоточьтесь на беге, остальное оставьте нам».
Можете себе представить мои чувства. Том видел нас вместе и спросил: «Сделал тебе вливание? Со мной тоже был такой разговор, когда я пришёл в команду. Намекнул, что меня больше не возьмут, если не буду как шёлковый. Не верь ему. Если время будет хорошее, если будешь выигрывать, никуда они не денутся, он не осмелится, а Джек будет за тебя стоять горой».
Действительно, утром в автобусе по дороге в аэропорт, Джек был вполне дружелюбен. Нам выделили целый самолёт. Когда я подошёл к трапу, меня сфотографировали вместе с Мэри Болдуин, спринтером и тоже новичком. В самолёте все, сняв блейзеры, болтали и смеялись. Я сидел возле окна, а Том — рядом. Внутри у меня всё сжалось — не потому, что я боялся катастрофы, а из–за чего–то другого, сам не знаю чего…
В общем, я сидел и смотрел в окно, видел большое серебряное крыло, реактивные двигатели, краем уха слушал Тома. Тут подошла одна из стюардесс, блондинка, и сказала, что у меня не застёгнут ремень; я о нём и не думал, даже не знал, как его застегнуть. Том сделал это за меня, а я снова повернулся к окну. Мы кружили по аэродрому бог знает сколько; я всё гадал, когда же мы, чёрт возьми, взлетим. Наконец самолёт остановился, и тут двигатели ужасающе заревели; мы понеслись вперёд, быстрее, быстрее — и взлетели.
Том спросил: «Всё нормально?» Я ответил, что да, и откинулся в кресле, а он сказал: «Некоторые сколько ни летают, а привыкнуть не могут».
Наверное, и я из таких. До сих пор удивляюсь, как такая большущая, тяжеленная машина может взять и оторваться от земли — это же настоящее чудо! Конечно, первый раз есть первый раз, даже на обратном пути из Лейпцига было полегче, хотя я сидел как пришибленный и мало что замечал. Но к самолётам я так и не привык — Том угадал!
Люди всё время ходили по самолёту, менялись местами, а когда Том и его сосед ушли, ко мне подсел тренер Джек Брейди: «У меня есть для тебя план бега. Надо всё тщательно продумать. В этом году быстрее всех в Европе 1500 метров пробежал Краус; очень опытный соперник и Манфред — на поворотах следи за его локтями. На своих чемпионатах эти двое всегда бегут на пять ярдов впереди остальных». Потом Брейди сказал, как я должен бежать на каждом круге, как они будут стараться не давать мне ходу и что предстоит не такой бег, как в Уайт — Сити, когда никто меня не знал. «Теперь все знают, как ты силён на финише, и сделают всё, чтобы ты не мог использовать свой козырь».
Но чем больше он говорил, тем яснее становилось: он хочет победы Макалистера, а мне надлежит следить за немцами, чтобы облегчить бег ему. Это следовало из всего, что он говорил, вся его тактика отличалась от указаний Сэма, который думал о беге с моей точки зрения. Брейди всё повторял: «Ты понимаешь? Тебе всё ясно?» Я кивал и отвечал «да», просто чтобы от был доволен. Но когда он ушёл, меня охватила паника. Как быть — бежать по его указке или как велел Сэм? Если послушаю его, то шансов на победу никаких; если послушаю Сэма, скорее всего наживу неприятности.
Когда Джек Брейди ушёл, а Том вернулся, я ему всё рассказал; он сперва помолчал, будто не слышал моих слов, а потом вдруг сказал: «Всё зависит от тебя». Я спросил: «Что ты имеешь в виду?» А он ответил: «Кто твой тренер, настоящий тренер — Сэм или Джек?» Я сказал: «Конечно, Сэм». — «Вот тебе и ответ». Но всё было не так просто: одно дело Том, опытный спортсмен, другое дело я, новичок.
Подходили ко мне и репортёры, спрашивали о том и сём. Мне уже говорили: одному можно доверять, с другим надо быть поосторожнее, но им едва ли удалось выжать из меня что–то полезное. Я пока ещё стеснялся. Правда, заметил, что все они задают разные вопросы. Скажем, парни из солидных газет вроде «Таймс» хотели узнать, за сколько я пробегаю круг, как тренируюсь, какая у меня тактика и т. д. А репортёров из развлекательной прессы интересовало другое, они выспрашивали, как я намерен выступить, что мне сказал Сэм до вылета, давал ли он мне тайные инструкции, есть ли у меня подружка и всё в таком роде…
Нас поместили в довольно хорошей гостинице. Мы жили вместе с Томом. И в первый вечер, когда я, лёжа в постели — Том куда–то ушёл, — в пятисотый раз читал инструкции Сэма, раздался стук в дверь, и зашла эта рослая Джейн Кобэм, метательница диска. Она спросила, смеясь: «Ты в кранах разбираешься?» Я ответил, что не очень, и спросил: «Что случилось?» — «Кран с горячей водой барахлит. Когда мы его открываем, он трясётся так, будто вот–вот взорвётся».
Ну, я ничего такого не подумал, сказал: «Хорошо, зайду, посмотрю, в чём дело» — и пошёл за ней в комнату рядом. Там никого, кроме нас, не было. Она подошла к умывальнику со старыми медными кранами, повернула кран горячей воды, и раздался такой шум, будто по трубам дубасили молотками…
Мы стояли близко друг к другу, она мне улыбнулась, приблизилась на шаг… И вот мы уже целуемся, а она говорит: «А ты ничего, симпатичный»… Помню, в памяти всплыло имя «Сэм», но только на секунду. Потом она потянула меня к постели — очень сильная девушка, — выключила воду, заперла дверь на ключ и быстро разделась…
Забеспокоился я потом, когда вернулся к себе в комнату и лёг, — что же я наделал?! Вдруг это скажется на беге и как рассердится Сэм, если Том узнает и расскажет ему…
Том, конечно узнал: кто–то видел, как мы вдвоём зашли в её комнату и долго не выходили. Наутро, после завтрака, он спросил: «Ты спал с Джейн Кобэм?» Я ответил: «Да что ты! Кто тебе сказал?» Он заметил: «Я знаю. Надо было тебя предупредить. Она всегда гоняется за новенькими». «Но Сэму ты не скажешь?» — спросил я. «Нет, но ты просто дурак. Если не можешь без этого, так подожди, пока пройдут соревнования. Тогда хоть поможет расслабиться. До забега тебе нужно напряжение, чтобы выложиться на дистанции».
С утра я поехал на стадион — сделать лёгкую разминку, акклиматизироваться. Большущий стадион с деревянными сиденьями находился на окраине. Он вмещал девяносто тысяч зрителей, говорили, что смотреть на нас придёт тысяч шестьдесят.
Мы прикинули с Питером Макалистером, как будем бежать; мне это было в новинку, раньше я думал только о том, как пробегу лично я, даже в клубной команде бежал только на победу. Но сейчас всё было иначе, мы представляли страну и бежали ради очков; я ничего не имел против Питера, но меня раздражала мысль, что первую скрипку играет он. У меня даже появился дополнительный стимул: если выиграю, первой скрипкой могу стать я, тогда в следующий раз буду бежать не для кого–то, а для себя.
План Сэма был примерно таким же, как в Уайт — Сити, — держаться с группой, а потом рвануть на последнем круге; но это не так просто, сказал он, когда на дорожке всего четыре бегуна — не за кем спрятаться. Брейди же хотел, чтобы я обогнал двух немцев сразу, быстро прошёл первый круг, — это, по его замыслу, выведет из равновесия, потому что они меня не знают; я остаюсь впереди и на втором круге, а к концу третьего ко мне подбирается Питер и с колоколом делает мощный рывок. Мне это казалось нелепым, ведь в Уайт — Сити я доказал, что у меня финиш сильнее, и вообще, мне–то как себя вести после третьего круга? Брейди ответил так: «На третьем круге, когда вырвется Питер, можешь чуть сбавить, а на четвёртом ты обязан ему помочь». Выходит лично до меня ему нет никакого дела.
Потом появилась Джейн; я увидел её в центре поля — она мне улыбнулась, и я в ответ. Бегая по кругу, я заметил — она подбрасывала диск в воздух, ловила его, делая небольшие пробежки, в общем, работала не публику, вернее сказать, на меня. Я был смущён — сам не знал, хочу я её или нет, подойти к ней или нет. С одной стороны, вчера было совсем неплохо, но глядя, как она пританцовывает, вихляет своими большими белыми бёдрами, я стал терзаться — вдруг это скажется на беге? И зачем она попалась мне на глаза?
Джек Брейди остановил нас с Питером и повторил, чего он от нас ждёт, всё ту же чепуху; потом подошёл спринтер Алан Белл и присел рядом с нами. Питер нас познакомил. Я, конечно, знал, что в Мельбурне он выиграл бронзу в беге на 200 метров; я его приметил ещё в самолёте, но говорить мы не говорили. В команде было несколько таких, из–за которых я чувствовал себя неуютно — учились они в Оксфорде или Кембридже, говорили с особым акцентом, речь изысканная. Я чувствовал — это люди не моего круга, они говорят на другом языке. Алан учился в Кембридже, собирался стать адвокатом или ещё кем–то. Потом я узнал, что его отец — простой рабочий на фабрике в Бирмингеме и Алан всего добивался сам. Говорили, что сейчас он совсем отошёл от своей семьи.
Он был невысокого роста, жилистый, светловолосый, веснушчатый, с маленькими и быстрыми голубыми глазками, в которых всегда жила смешинка, будто всё, что он слышал и видел, было очень забавным. Он спросил: «Объявил ли великий человек свой вердикт?» Питер коротко ответил «да»; видно, и он чувствовал себя с Аланом неловко, к тому же он любил Брейди; Брейди высоко ценили, довольно многие считали — он плохого не сделает. Алан спросил меня: «Тебя тренирует Сэм Ди?» Я сказал, что да. «И каковы ощущения при смене диктаторов?» Я ответил: «Ты о чём? Не понимаю». А Питер добавил: «Не обращай на него внимания. Ему зря дали бронзовую медаль, лучше бы наградили деревянной ложкой, как большого баламута». Но Алан лишь улыбнулся: «Ну, не нравится «диктаторы», назовём их доброжелательными деспотами». Но я и тут понял не больше. Алан явно заинтересовался Сэмом, всё спрашивал, как я с ним тренируюсь; несколько лет назад Сэм звал его к себе, но Алан не пошёл, решил, что ему, спринтеру, у Сэма учиться нечему. «В любом случае, это не тренировка а шаманство». Питер переспросил: «Это как?» Алан ответил: «Колдовское влияние. Сэм — старый колдун. Триста лет назад его бы предали огню. Тут дело в том, поддаёшься ли ты воздействию чар или нет. Нужен ли тебе лидер?»
Питер сказал: «Думаю, легкоатлетам лидеры не нужны. Почти все легкоатлеты — индивидуалисты». Но Алан не согласился: «Ты не прав. Они эгоисты — это да. Они постоянно думают о себе, но если что–то не ладится, им нужно на кого–то опереться. Как детям». Питер сказал: «На всех это не распространяется». Алан возразил: «А я говорю о себе».
Да я говорил о себе, как сейчас пишу в некотором роде обо всех нас. Ведь все мы, пожалуй, мыслим одинаково, и все остальные, владей они словом, сказали бы примерно то же самое. Но они выражают себя иначе, физически: бегают, прыгают, метают снаряды, часто это выглядит очень красиво… Но я спрашиваю себя: почему я продолжаю бегать? Бронзовую медаль я уже получил, а большого мне не достичь. Рассчитывать на две олимпиады спринтеру не приходится. Тогда почему же? Известность? Аплодисменты? Это как наркотик…
А если наступит горькое похмелье? Терзать и терзать своё тело, когда его возможности уже исчерпаны? Приспосабливаться к этим ноющим, завистливым, мелкобуржуазным чиновникам? И напыщенным пророкам — тренерам, считающим, что им известна великая тайна? И к другим спортсменам, с их пустыми перебранкам, узостью мыслей и бесконечными рассуждениями о минутах, секундах и растянутых мышцах? Господи, вот цена, которую ты платишь! Во имя чего?
Новый милевик, Лоу, мне кажется классическим воплощением легкоатлета. Это идеал, квинтэссенция легкоатлета, его назначение в этой жизни — бегать. У него совершенное тело. Прекрасное, естественное чувство ритма. Он не задаёт себе вопросов — слишком молод для этого, так молод, что ему ничего не нужно, кроме бега. Думает за него Сэм Ди. Даёт ему ощущение цели. Бег — его религия. Стыд и позор, что такие люди не могут бегать всю жизнь. Ведь они счастливы, никому не причиняют вреда, доставляют удовольствие людям, которые болеют за них, поддерживают их. Ещё одна золотая медаль и слава для Великобритании! О боже! Человек — не насекомое, а жаль. Он переживает пик собственной жизни, а это грустно. Людям бы, как бабочкам, — быть красивыми, летать свой короткий срок, потом умирать — сразу, без сползания вниз. Бегун должен жить, пока не откажут ноги, певец — пока голос его крепок, кинозвезда — пока не потеряет свою красоту…
Зря я стал его дразнить. Он ни слова не понял. Но я не терплю слепую невинность, во мне сразу просыпается змей.
Мне пора уходить. Если смогу, уйду в этом же сезоне.
Всё было для меня внове: эта огромная толпа, её гул и никого, кто болеет за тебя, как в родном Уайт — Сити, где, кстати, зрителей было в четыре раза меньше. Чужая толпа, чужая речь… Толкутся возле дорожек, смотрят за другими соревнованиями… Всё это мне действовало на нервы… И чем ближе к моему забегу, тем больше. Даже в первый раз в Уайт — Сити я не чувствовал себя так плохо.
И не было Сэма, никого, кто понял бы моё состояние, вселили бы в меня уверенность. Многие желали мне удачи: Том, Питер, Алан, Джейн. Джек Брейди снова повторил свой план, и мне стало ещё хуже. Рон Вейн подошёл и сказал: «Желаю удачи, и не забудьте, что вы бежите за свою страну», будто об этом можно забыть; в общем, мне стало страшно одиноко, я был выбит из колеи; толпа пела, забеги шли один за другим, из громкоговорителей раздавались команды по–немецки — всё происходило будто бы во сне.
В раздевалке мне сделали массаж, я надеялся, что это поможет, отчасти так и вышло; но вся обстановка, снующий взад–вперёд Джек Брейди, который командовал, как старший сержант, — это ничуть не расслабляло, я был ещё более напряжён, чем на воздухе.
Наконец пришёл наш черёд, старт на 1500 метров, а меня всего трясёт, будто в жизни не бегал. Может, начнётся забег и всё станет на свои места?
Я словно утратил координацию, ноги и руки мне не подчинялись. Наверное, мне так хотелось бежать, что я начал с фальстарта, услышал двойной хлопок пистолета и понял — это из–за меня, вернулся на место под шум толпы. Стартёр что–то сказал мне по–немецки — да хоть по–арабски, в голове у меня всё гудело…
Я бежал по третьей дорожке, Питер — по первой. Другого фальстарта уже не было, но бежал я ужасно. Мало того, верзила на второй дорожке при повороте зацепил меня шиповкой, не больно, но я разъярился, а ему того и надо было. До конца круга я думал только об одном: догнать его, догнать. Я его тоже толкнул, на следующем повороте, и публика меня так освистала, что в ушах зазвенело.
К концу первого круга я даже не знал, по какому плану бегу — Сэма или Брейди; с отчаянием я пытался не отставать от немцев, они бежали очень быстро, такой прыти я не ожидал. На середине третьего круга я сдал. Охватило ужасное ощущение, хотелось остановиться и послать всё к чёрту — толпу, Брейди, бег, вообще всё. Хотелось сойти с дорожки и сунуть два пальца в рот — вот вам, всем сразу. Я едва так и не сделал. Но, увидев три спины — Питера и обоих немцев, — я заставил себя, как на тренировках, преодолеть болевой барьер, хотя тут была не только боль, просто не хотелось бежать, хотелось кончить всё разом.
Посмотрите на Лоу.
Он спал с Джейн Кобхэм.
Что, вчера?
Может, её ему специально подсунули?
Бежал первый круг слишком быстро.
Просто ещё нет опыта.
Если бы только там, у колокола, стоял Сэм! Или бежал бы рядом с дорожкой, говоря мне, что делать…
Как все ученики Сэма Ди, если босса нет рядом, бежать не могут… Это не спортсмены, а марионетки.
На финише я отстал от Питера на двадцать ярдов. Да, я плакал. Хотелось провалиться сквозь землю.
ЧУДО-БЕГУН НА МИЛЮ
ТЕРПИТ ФИАСКО В ЛЕЙПЦИГЕ
«В откровенном интервью после бега Айк Лоу сказал мне: «Не знаю, что случилось. Ноги словно отнялись. Может, мне не хватало Сэма Ди».
Да я в глаза не видел этого газетчика.
«Айк и сейчас считает, что это был самый чёрный день в его спортивной карьере. Он признаётся: «Думал, больше уж никогда не захочу бегать, ведь я всех подвёл: тренеров, страну, товарищей по команде. Я думал, что после такого провала в сборную меня не возьмут никогда».
Помню, как подошла она и сказала: «Не повезло, Айк», а я просто отвернулся — винил её, да и себя, что спутался с ней. Я знал, что скажет Том, что подумают остальные. Я себя просто ненавидел, хотелось, чтобы чья–то огромная рука схватила меня и унесла с этого проклятого стадиона.
«Его действительно не включили в сборную для встречи с Россией в Уайт — Сити и Чехословакией в Праге, но юный Лоу несколько раз подряд пробежал милю быстрее четырёх минут, его снова пригласили для участия в международном матче, и от добился блестящей победы против Польши в Уайт — Сити. Скромный бегун Лоу считает, что его заслуга невелика, и приписывает её буревестнику британских легкоатлетов Сэму Ди, чьё отсутствие в Лейпциге явилось, по мнению многих, причиной неудачи Лоу. «Благодаря Сэму я снова в форме, — говорит Лоу. — Сэм смотрел тот забег по телевидению и точно определил, в чём моя ошибка, будто всё время был рядом».
«Ты не был виноват. Я тебя ни в чём не виню. Жаль, что твой первый международный матч состоялся не здесь, а за рубежом. Ты оказался во власти пигмеев, с их отравленными стрелами и ядовитой завистью. Эти люди не хотели твоей победы, потому что это была бы моя победа. Для них счастье сказать: «Его готовил Сэм Ди, вот он и провалился». Тебе дали установку — нелепее не придумаешь. Каждый бегун имеет право на победу. Если он на это не способен, нечего ему и на старт выходить, а те, кто набирает команду, не должны включать его в сборную. Ты мог победить в том забеге. Будь я там, ты бы победил. Ты должен был пропустить мимо ушей всё, что шло вразрез с моими указаниями. Придёт время когда эта роскошь будет тебе доступна. Ты обретёшь зрелость и уверенность в себе. Сейчас ты ещё молод. Это я виноват, что отпустил тебя одного. Надо было найти дипломатический ход, чтобы не ехать, сослаться на травму. Но мне казалось нечестным вставать на твоём пути, тебе было бы тяжело отказаться от участия в сборной. Ты бы мог ошибочно решить, что другой шанс уже не представится. Когда в следующий раз ты поедешь за рубеж, я буду там — пусть мне придётся пройти весь путь пешком или переплывать реки».
И ведь как сказал, так и сделал. Он объявлялся откуда ни возьмись в Париже, Милане, даже Варшаве, всё в тех же джинсах и старом свитере, с большим рюкзаком за спиной, иногда на велосипеде, иногда добирался на попутках. Вряд ли он хоть раз ездил поездом. Бог знает, как ему удавалось — перебираться через границы, покрывать такие расстояния, зная всего несколько слов на чужом языке. Поразительно, как он всего добивался жестами и улыбками, — тут было, на что посмотреть…
Иногда он появлялся прямо в день забега, бывало, так поздно, что я уже терял надежду и чувствовал себя подавленным, но к старту он поспевал всегда. Например, в Будапеште, на ещё одном огромном стадионе, бегунов на 1500 метров уже вызывали, и вдруг я вижу, как мой седовласый добрый ангел вырывается от полицейского и прыгает через перила прямо к дорожке. Потом он сказал мне: «Последние десять миль я шёл пешком». Тут два полицейских добрались–таки до него; поднялась суматоха, спортивные представители, переводчики и я пытались объяснить, кто он такой, и под конец всё уладилось.
Руководителям нашей сборной всё это не нравилось, они не признавали Сэма, даже предупредили меня: если он будет ездить за мной по всей Европе, меня больше не включат в сборную. В Париже он сцепился с Брейди, а потом с Роном Вейном в Уайт — Сити. Брейди заявил: «Они не ваши и не мои. Они сами себе хозяева». Брейди сказал: «Пока они бегают за Великобританию, их тренер — я». А Сэм ответил: «Я и не пытаюсь тренировать парня. Разве здравомыслящий человек станет тренировать бегуна за полчаса до старта? Я просто хочу его поддержать».
Неудивительно, что официальные лица, с их напыщенными буржуазными манерами, ненавидели его. Он приводил их в замешательство, сразу находил общий язык со спортсменами, а они так не могли. Что касается Джека Брейди, тут, конечно, шла речь о зонах влияния… К тому же они находились в совершенно разных положениях. Джек — хороший, солидный, слегка примитивный и ортодоксальный тренер — занимал официальное положение. А Сэм был человек без статуса, так, сбоку припёка. Джек добивался своего в поте лица, а Сэма, я думаю, вела интуиция. Джек мог ночи напролёт говорить о физиологии, изометрии и изотонике, о кардиореспираторной годности — он как следует подзубрил всё это в специальной школе. Сэм же никогда не переступал её порога; его высказывания — смесь оригинальности и вздора, не всегда обдуманные, нередко блестящие — неизменно возбуждали интерес у слушателей, по крайней мере на первых порах. Не знаю, кто из них лучший тренер. С тем же успехом можно сравнивать воду и огонь. И у того, и у другого были достойные ученики. Отражение себя в других — это и есть тренерская работа.
Конец года — это была фантастика. Мы разъезжали по всей Европе, по всем местам, о которых я знал лишь понаслышке, но даже не в этом дело: везде я выигрывал. О Лейпциге я уже не вспоминал и к концу сезона стал первым бегуном Великобритании; казалось, я обгоню кого угодно в мире, лишь бы Сэм был рядом. За время между Лейпцигом и последним стартом в октябре я проиграл всего два раза: Варгашу, когда действительно был не готов после травмы, и в Швеции — там в каком–то скромном соревновании уступил австралийцу Макколлу.
Бег стал для меня всем в жизни; я жил от забега к забегу, да и тренировки уже не казались такими тяжёлыми, как вначале.
Мне были нужны эти забеги, они мне давали неповторимое чувство — чувство силы во мне. Бежишь вместе с остальными, а про себя усмехаешься: ничего, подождите, сейчас я рвану. И вот оно — ты вырываешься вперёд, будто летишь, ветер хлещет в лицо и знаешь — им тебя не достать. А иногда прямо в дрожь бросало — вдруг достанут? Когда слух улавливал, что они приближаются, приходилось преодолевать этот чёртов болевой барьер, тогда открывалось второе дыхание.
В августе в Уайт — Сити, в матче с поляками, я показал 3.57,8 только потому, что услышал, как он меня догоняет, этот Воланский, а когда порвал ленточку, так и хотел свалиться на траву, но уголком глаза увидел Сэма и не посмел.
Теперь только и было разговоров что о долях секунд, результатах забегов, времени на каждом круге; даже если речь идёт не о тебе, волнуешься при мысли о других: кто какое время показал в Швеции, или в России, или в Калифорнии… Голова была забита этими цифрами. Бегал ли я, разминался, вёл машину или лежал ночью без сна — они вертелись в голове, пока не начинало казаться, что я схожу с ума. Но Сэм меня поражал — он мог до забега почти точно предсказать, как пойдёт бег на каждом круге, так что я уже знал, чего ждать. Часто он кричал мне, когда я пробегал мимо, скажем: «58,2!» — или что–то в этом роде, чтобы я наладил бег.
Он продумывал абсолютно всё. Когда я вернулся из Лейпцига, он вывел меня на дорожку и стал показывать, как нужно предвидеть, что меня хотят зацепить шипами или толкнуть локтём, как дать сдачи и куда — лучше в бедро, — чтобы сбить противника с ритма. Что делать, если тебя блокируют. Всё это было очень полезно; ведь на больших соревнованиях чего только не бывает! Сэм говорил: «Всё это вообще–то недостойно настоящего спортсмена, но ведь надо уметь себя защитить. Этому я тебя и учу — самозащите».
Пришла зима, и стало жутко тоскливо, будто из тебя выпустили воздух: никаких зарубежных поездок; даже тренировка в лесопарке казалась труднее потому, что не было конкретной цели, но больше из–за мерзкой погоды: по лицу хлещет дождь, с деревьев капает, под ногами хлюпает вода… Сэм не обращал на это внимания, правда, уже не бегал с голой грудью…
С лета с нами бегало ещё несколько парней, отчасти благодаря рекламе, какую создали Сэму мои победы; бегунов Сэм отбирал тщательно и ни с кого не брал и пенни. «Я доволен, когда вижу рост бегунов, а наживаться на них я не собираюсь», — говорил он. И это не было лицемерием, об этом знали все его враги. Однажды Том Берджесс сказал: «Все они что–то имеют, только не Сэм. Тренеры получают работу в ассоциации. Официальные лица задирают носы, пестуют свой престиж и разъезжают за бесплатно. А Сэм не имеет ничего. Он абсолютно чист. Только он один по–настоящему живёт ради лёгкой атлетики».
Я в этом и не сомневаюсь. Кто бы я был без него? Я ему всем обязан.
«Назвав лучшего юного футболиста года, назовём лучшего юного легкоатлета. Уверен, с нашим выбором согласятся все, кто сегодня в студии, миллионы наших зрителей. Ибо в этом году, леди и джентльмены, лучший юный легкоатлет года — Айк Лоу!
Мы услышали о нём в 1957 году — это год после Олимпиады, — когда Айк Лоу предстал перед всем миром как наша надежда в беге на милю».
— Айк, поздравляем!
— Спасибо.
— Наша телепередача назвала тебя лучшим юным легкоатлетом года, Айк, как ты себя по этому поводу чувствуешь?
— Как в сказке.
— Что ж, выбор пал на вас не случайно, Айк. Напомним, почему мы решили назвать лучшим девятнадцатилетнего Айка Лоу, — вам на этой неделе исполнилось девятнадцать, верно, Айк?
— всё правильно.
— чтобы объяснить, почему мы назвали Айка Лоу лучшим юным легкоатлетом 1957 года, мы покажем вам три его прекрасные победы начиная с поразительного бега в Уайт — Сити в августе.
Могу смотреть это хоть сто раз.
— Вот ещё один великолепный бег молодого лондонца, снова в Уайт — Сити, в матче между сборными Великобритании и Польши. Вы видите бегунов на последнем круге, Воланский ещё впереди.
Смотришь и всё переживаешь заново. Я вырываюсь, но он совсем рядом. Господи, неужели догонит? Но нет. Смотрите! Ухожу вперёд. Победа!
— Наконец Париж — бурный финиш в беге против Франции.
Ну, тут было гораздо проще. Вот я тебя и сделал, приятель. Всегда бы так!
Приз спортивного телевидения лучшему юному легкоатлету года, который присуждается самому многообещающему спортсмену группой международных экспертов, вручает Айку Лоу вице–президент Британского олимпийского комитета сэр Рали Кэннингем.
— Вы замечательно бежали.
— Благодарю вас, сэр.
— Я с особым удовольствием вручаю приз этому молодому бегуну, надеюсь, он достойно пронесёт наше знамя в Играх Британского содружества в будущем году, да и в Риме на предстоящих Олимпийских играх. Вы, новое поколение, должны хранить олимпийские идеалы, помнить, что самое важное — не побеждать, а участвовать.
Олимпиада всегда остаётся твоей целью; в каждом забеге, в каждой тренировке ты думаешь о ней, золотая медаль маячит перед тобой, как солнышко. Остальные соревнования — лишь ступеньки к ней, и даже рекорды — дело второе. Нет, побить рекорд — это прекрасно, но в душе чувствуешь, что это ещё не всё…
Меня всё больше интересовали олимпиады. Я расспрашивал всех, кто в них участвовал. Том Берджесс говорил, что с ними никто не сравнится; атмосфера там — просто фантастика; в Олимпийской деревне она будто наэлектризована, каждый готовится к выступлению, думает только об одном — выиграть, завоевать медаль. Потом, рассказывал Том, в последние дни, когда напряжение спадает, всё меняется; атмосфера — как на огромном пикнике, все ведут себя как дети. «Этого не понять, пока сам не попадёшь на олимпиаду. Тут особый мир. Всё, что происходит здесь, на Уайт — Сити, — это совсем не то. Даже крупные соревнования, в Лос — Анджелесе или Москве, с ней несравнимы. Во время олимпиады ты борешься со всем миром».
Я часто говорил об этом с Аланом, ведь у него олимпийская медаль… «Олимпийские игры, — сказал он, — это высшая точка в карьере любого спортсмена, праздник золотой юности». Я спросил его, что он чувствовал перед забегами. «Был напуган до смерти, как все остальные, — ответил он, — в полуфинале дрожал, как заяц, а в финале то страха ничего не соображал». Я спросил: «Даже во время бега?» Он сказал: «Как только раздаётся выстрел, включается твой автопилот. К тому же в спринте всё кончается быстро, думать некогда». Я снова спросил: «А когда всё кончилось? Ты был на седьмом небе?» Он ответил: «Я был в ярости, потому что знал, что мог победить. Засиделся на старте. Такая уж это штука, олимпийские игры, — все жаждут только золота. Всё остальное воспринимаешь как провал».
Много шло разговоров о высших точках, когда ты в пике своей формы, а когда нет, и чем больше я слушал, тем больше тревожился. Все говорили об одном и том же: тот достиг своего пика вовремя, а другой, гораздо боле способный бегун, в нужный момент не был в своём пике и проиграл. Каждый толковал это по–своему. Например, Алан считал, что в Мельбурне он был в пике формы. Он тогда бегал до начала августа, а потом всё бросил и уехал на пару недель в Испанию. Когда вернулся, то продолжал тренировки, но не участвовал ни в каких соревнованиях, отказался даже от международных, и начальству это не понравилось. Но он показывал отличное время, и им ничего не оставалось делать. По словам Алана, Рон Вейн сказал ему: «У вас есть долг перед страной», а он ответил: «Знаю. Потому и не хочу выступать до Олимпиады». Дело было не в физической готовности, а в психологической. От неё зависит девяносто процентов успеха.
А Том считал, что никакого пика вообще нет. Надо настраиваться на соревнования, но если будешь упорно тренироваться в течение года, тело не выполнит то, к чему ты готов психологически…
А вот что сказал Сэм: «Ты ещё слишком молод и неопытен, чтобы волноваться из–за пиков. Набирайся опыта в забегах и тренируйся в полную силу, чтобы извлекать пользу из того и другого. К тому же пика вообще нет. Пик существует для альпинистов, а не для легкоатлетов. Это всё воображение. Говоря о пике, люди имеют в виду день, когда бегун показал наилучший результат. Но когда наступает такой день? Можно ли гарантировать, что это случится на Олимпиаде? А может, он наступит во время какого–нибудь маловажного забега. В этом и состоит секрет и привлекательность легкой атлетики. Конечно, бегун может переутомиться, если слишком часто выступал за короткое время, тогда ему нужен отдых, передышка в тренировках. Но ведь нет двух одинаковых легкоатлетов! Одни могут показать себя с лучшей стороны только на крупных соревнования, других нужно подводить к высшей точке постепенно, иначе толку не будет. Спринтеры — это одно, милевики — другое, стайеры — третье. Если правильно планировать и умно строить тренировки, бегун от них не устанет. Если же он устаёт, причины лишь две: либо плохо разработан тренировочный цикл, либо он слишком часто выступал в соревнованиях. Но когда сознательно стремишься достичь пика. Может случиться, что в нужный момент окажешься не в форме».
— Давно ли занимаетесь бегом, Айк?
— Давно ли бегаете на милю?
— Это ваша первая поездка в Штаты?
— Как зовут вашего тренера?
— Правда ли, что ему не разрешают ездить с вами?
— Верно ли, что он сам оплатил весь путь сюда?
— Как вам нравится «Мэдисон Сквер Гарден»?
— Что вы думаете о Нью — Йорке?
«Юный британский бегун на милю, Айк Лоу, равного которому не было в стране со времён Баннистера, вчера утром тренировался в Сентрал — Парке и заявил, что Нью — Йорк — «это просто сказка». Это слово он употребляет часто.
Но у девятнадцатилетнего юноши–кокни свои проблемы, и главная в том, что его личный тренер, некий Сэм Ди, при имени которого официальные представители британской лёгкой атлетики меняются в лице и хватаются за свои стартовые пистолеты, не получил разрешения на поездку с британской командой из четырёх человек. Так что обстановка в команде не самая блестящая.
Напыщенный босс британской лёгкой атлетики Рон Вейн сказал: «Мы официальная группа, а Ди никак не связан с нашей ассоциацией».
По последним сведениям, Ди ожидают с минуты на минуту. «Насколько я знаю Сэма, он пройдёт по водам Атлантики, яко посуху», — пошутил мой английский коллега».
— Вы сейчас много говорили о боли, Сэм. Вы мазохист?
— Мазохист наслаждается болью, а я нет.
— Тогда, может быть, вы садист?
— Садист наслаждается, причиняя боль, а я нет. Я верю, что боль можно использовать, её можно покорить…
— Айк, а вы наслаждаетесь болью?
— Конечно, нет.
— Но считаете, что её можно использовать?
— Считаю, что да, тут Сэм прав.
— Скажите, как вы используете боль завтра, в «Медисон Сквер Гардене»?
— Ну, это зависит то того, как пойдёт забег.
— В смысле, если забег окажется трудным, вы её используете, а если лёгким, то нет?
— Да, вроде того.
— Вы хотите сказать, что когда есть боль, вы лучше бежите?
— Не надо искажать мои мысли. Бегун растёт с каждым новым преодолением боли, — и как бегун, и как человек… Если он преодолеет болевой барьер добьётся успеха, он неизбежно улучшит свои достижения.
— А завтра это понадобится, Сэм?
— Не имею представления.
— Можете ли вы нам пояснить, что такое болевой барьер?
— Увидеть его нельзя — это не колючая проволока. И не барьер, через который прыгают в барьерном беге.
— Что же это?
— Болевой барьер — физический предел, который, как считает спортсмен, ему не преодолеть.
— А на самом деле?
— Это возможно, если ты готов смириться с болью, которая при этом возникает.
— Выходит, по сути барьер не физический, а психологический?
— То и другое.
Мне всё понравилось в этой поездке, кроме самого забега. И ссор, конечно, но к ним я уже привык. Стоит только выйти из номера, начинаются споры. Между нами и начальством; то из–за денег; то из–за номеров — руководители забрали себе все лучшие комнаты. Спорили о Джеке Брейди (он с нами не приехал) или о Сэме. Неприятности начались ещё до отъезда, из–за Джека, — опять собрались писать петицию, но на сей раз решили, что нет времени собрать достаточно подписей. Хэри Прайс, входивший в команду, страшно возмущался: для Рона Вейна и вице–президента Теда Арнольда это просто увеселительная прогулка, а тренера оставили дома.
Всё это, конечно, дошло до Рона Вейна, и он очень, очень расстроился. В ночь перед вылетом в Нью — Йорк, когда Джек пришёл пожелать нам удачи, Рон Вейн даже не стал с ним разговаривать. Потом, когда Джек ушёл, он стал долго доказывать, почему ему так важно быть в Нью — Йорке, — чтобы всё организовать для нас, быть на пресс–конференциях, повидаться с нужными людьми. Он сказал: «Уверяю вас, в этой поездке я теряю время и деньги. Я бы предпочёл остаться дома и заниматься своими делами». Мы ничего не ответили.
Я знал, что в самолёте Вейн будет вправлять мне мозги, и правда, едва Хэри поднялся с кресла, Вейн тут же подсел ко мне, но я сделал вид, что сплю. «Айк!» Я не ответил. Тогда он сказал: «Спишь ты или нет, Айк, но я хочу дать тебе совет. Не позволяй, чтобы тобой командовали. Молодому спортсмену нравится, когда за него всё решает тренер. Но потом он жалеет об этом. У тебя большие возможности, но ты ещё в начале пути. На моих глазах рушились карьеры. Я в лёгкой атлетике сорок лет, и вот что я тебе скажу: быть тренером куда легче, чем администратором. Много легче. Администратор принимает на себя все удары. Он обязан смотреть на вещи шире. Иногда ему приходится принимать непопулярные решения; бессовестный тренер может на этом сыграть. Мера ответственности у тренера совсем другая. Я хочу задать тебе вопрос: что бы случилось, если бы каждый спортсмен брал за границу собственного тренера? Возник бы хаос, верно? Попытайся понять и другую точку зрения, Айк. Вот и всё».
Расходы Сэма оплатил Стен Линг. Они приехали вместе — Стен, Сэм, жена Стена и несколько его друзей. Рано утром вся наша четвёрка разминалась в Сентрал — Парке, и вдруг словно из–под земли вырос Сэм. Стояла прекрасная погода, очень холодная, но тихая. Кругом никого, куда ни глянь — огромные небоскрёбы, вздымаются в небо, будто ракеты. Парк был совсем не похож на Хампстед — Хит — много травы, но мало деревьев; вместо них маленькие холмики, повсюду серые камни и множество прирученных белок, так и прыгали под ногами.
После полудня мы тренировались в «Мэдисон Сквер Гардене», и когда пришёл Сэм, разразился скандал. Рон Вейн накинулся на него: «Вы не имеете права здесь находиться! Вы не закреплены за группой!»
Сэм сказал: «Я закреплён за своим бегуном». Я думал, старина Рон лопнет от злости; его лицо ищейки побагровело, он кричал: «Вам нужна только реклама! Я знаю, какие вы тут распространяете слухи! Уходите, не то я велю вывести вас отсюда!» Но Сэм совершенно спокойно ответил: «Что ж, очень жаль, мистер Вейн, что вы так к этому относитесь, я ведь приехал сюда с одной целью: помочь Айку и всей команде». А Рон на это: «Вы приехали, чтобы баламутить!» — и дальше в том же духе. Сэм стоял и смотрел на него, поднял брови и положив руки на бёдра, словно говорил: дайте знать, когда вы кончите. А когда Рон замолк, он сказал: «Разрешите мне спросить самого Айка — хочет ли он, чтобы я остался и помог?»
«Вы прекрасно знаете, что он скажет! — ответил Рон. — Мальчик слишком молод и не может знать, что для него хорошо. Говорю вам, убирайтесь, и немедленно!» Сэм посмотрел на меня с тем же выражением лица, и я сказал: «Честно говоря, мистер Вейн, если Сэм уйдёт, едва ли я смогу хорошо выступить». Тогда он повернулся ко мне и закричал: «Ты меня шантажируешь?!» А Сэм заметил: «Конечно, нет. Ведь он не сказал, что не будет выступать. Он просто не уверен, что сумеет выступить хорошо. Может, вы способны в какой–то степени контролировать тело спортсмена, но даже вы, мистер Вейн, не властны над его чувствами».
Тогда Рон помчался к вице–президенту Теду Арнольду, который держался, как обычно, в тени, и оба удалились, переговариваясь, причём Рон то и дело оборачивался и свирепо смотрел на нас. Признаюсь, меня трясло, но Сэм сказал, чтобы я не тревожился, Вейн никуда не денется. «Он больше не возьмёт меня в сборную». А Сэм заметил: «Если он перестанет брать в команду всех, с кем ссорится, у него вообще не будет команды. Я уже говорил тебе: если показываешь хорошие результаты, если выигрываешь забеги, они ничего тебе не сделают, так и надо с ними бороться». Это меня слегка успокоило, всё–таки первый раз в Нью — Йорке, всё чужое, никогда раньше не бегал в закрытом помещении, да ещё и эта канитель…
Дорожка в закрытом помещении тоже не давала мне покоя: во–первых, двенадцать кругов на милю, потом эти борта и крутой спуск с одной стороны. Не знаю, что бы я делал без Сэма. Он мне рассказал, как строить бег, что может случиться на поворотах…
Всего нас бежало шестеро. Один из них Гэтц — это меня даже ободрило, — ещё трое янки — Витали, Бейкер и Спенс и австралиец Джил. Все они пробегали милю быстрее четырёх минут, но самое главное — они часто бегали в закрытых помещениях, которых было много в Штатах и мало в Англии. Трое показывали лучшее время, чем я, но Сэм сказал, что волноваться нечего, то было в Калифорнии, там помогают сами условия, и если сравнивать с Уайт — Сити, можно им смело набросить пару секунд. Перед забегом Сэм всегда успокоит.
«Мэдисон Сквер Гарден» произвёл на меня гнетущее впечатление — темно, холодно, тихо, вокруг тысячи пустых мест — до самой крыши. А когда здесь полный зал народу… Мне становилось совсем не по себе…
Забег оказался сущим кошмаром, ещё хуже, чем в Лейпциге. Там толпа хоть и освистывала, но издалека, а здесь она просто нависала над тобой, да и язык я понимал, все насмешливые выкрики. Но одно было лучше, чем в Лейпциге, — здесь был Сэм, боюсь, без него я бы пропал. Он стоял у края дорожки, напротив старта, на обычном месте, а когда я его не видел, слышал его громкие выкрики, он меня подбадривал, но время по кругам не давал — их же двенадцать, — хотя, вообще–то, когда знаешь время, то лучше представляешь, как бежишь.
На двенадцатом круге я оказался последним, сразу после Джила — австралийца. Услышал крик Сэма: «Пошёл, пошёл!» Бог знает, откуда взялись силы — наверное, среагировал автоматически, как всегда в лесопарке… Я обогнал Джила, потом Бейкера; толпа ревела, а я думал: «Сейчас вы у меня попляшете!» На последнем повороте я обогнал ещё одного и пришёл третьим. Думал, сейчас умру. Меня шатало, но тут подскочил Сэм и сказал: «Ладно, ладно, зато финишировал отлично». Время я показал паршивое — 4.04, самому себе был противен, но Сэм сказал, что под конец я чего–то добился, а это лучше, чем хорошо начать и плохо кончить.
Рон Вейн ко мне даже не подошёл; вообще не сказал ни слова, пока мы не сели в самолёт. Там он заявил, что, мол, надеется, я извлёк для себя урок. Хотелось ответить: да, теперь я знаю, что ты за тип… Но я ничего не ответил.
Но парни из команды подошли, посочувствовали. Даже Тед Арнольд, который сам был, наверное сто лет назад, неплохим бегуном, тоже нашёл пару тёплых слов: «Да, они тебе задали перцу», — как бы полушутя. Потом накинулись репортёры. Куда там английским, эти меня просто забомбили! Слава богу, рядом был Сэм, на некоторые вопросы отвечал он.
Вечером мы все поехали в Гринвич–вилледж, там были Стен Линг с женой и Эл Витали — он родом из Нью — Йорка и всё там знал. Были и другие наши парни, и Сэм. Под конец мы зашли в джаз–клуб, там один негр потрясающе играл на пианино. Когда он отдыхал, на сцену выходила небольшая группа музыкантов, и люди танцевали, каждый сам по себе. Этот танец был ещё до твиста. Потом Сэм сказал Мэри, жене Стена Линга: «Давай покажем им». Они спустились, и Сэм стал танцевать, подражая другим, так же держа голову, с тем же пустым взглядом, в своих синих джинсах и свитере. Плясал он до упаду и даже заставил их смеяться. Скоро Сэм уже танцевал один, а они стояли вокруг и хлопали в ладоши. Когда музыка смолкла, он сделал посреди площадки кульбит.
Потом я танцевал с Мэри, обычный танец; она изрядно подпила и всем телом прильнула ко мне, а Стен — я это точно знал — смотрит на нас из–за стола. Она спросила: «Почему бы вам не заходить к нам почаще?» Я хотел отодвинуться, пообещал, что приду, но она меня крепко прижала к себе, и деться было некуда. «Точно?» — спросила она, а я ответил: «Да, конечно, с удовольствием». И я не врал, потому что она была потрясной куклой, но я до смерти боялся, чем это может кончиться.
А за столом разглагольствовал Сэм — в Америке, мол, так, а в Англии этак, все смотрели ему в рот. Молодец, нигде не пропадёт.
Если бы меня попросили охарактеризовать мир лёгкой атлетики одним словом, я бы, наверное, выбрал слово «ненависть». Говорю так, глядя назад из сегодняшнего дня. Постоянная война между начальством и спортсменами, а тренеры посредине, как молниеотводы или агенты–провокаторы. Помню, как Рон Вейн, любитель произносить напыщенные речи, однажды сказал: «Мир лёгкой атлетики — это одна большая семья». А я подумал: «Да, точно, одна большая, несчастная семья, в которой родители всё время цапаются с детьми». Ведь спортсмены — это избалованные, вечно спорящие дети, а начальство напоминает родителей викторианской эпохи. Так оно было, скорее всего, так и будет. Обе группы застыли на своих позициях.
Я не хочу сказать, что спортсмены всегда ведут себя по–детски, а начальство — всегда по–взрослому. Совсем наоборот. Ведь дети иногда бывают правы, а взрослые нет, родители иногда совершают детские поступки, а дети оказываются развитыми не по годам, но роли не меняются. Ты начинаешь с лучшими намерениями, защищаешь правое дело, а кончаешь мелочностью и мстительностью, свойственной начальству, ибо оно постоянно снижает тебя до своего уровня. Даже когда в пятидесятых годах легкоатлеты основали свой Международный клуб, положение, по сути, не улучшилось. Правда, они создали группу, чтобы давить на начальство, и порой добивались большей самостоятельности, но вся система была авторитарной, недемократичной. Всегда оставалось противостояние между младшими и старшими, причём последние не допускали молодых ни в какие комитеты. Как в старой французской поговорке: «если бы молодость знала, если бы старость могла». Отсюда, надо полагать, и зависть, страшные отношения между спортсменами и начальством из–за его параноидального стремления всем управлять.
Я это испытал на себе — поздравления превращались в угрюмую констатацию, пока не стало ясно, что они желают тебе поражения. Со стороны ещё виднее — так было с Айком Лоу. Конечно, его случай особый, потому что с ним Сэм Ди — непримиримый тренер, которому даже ничего не платят, и, следовательно, не могут его преследовать.
Но в каком–то смысле Сэм был Мефистофелем, а они — всего лишь свора брюзжащих старцев. Дело осложнялось ещё и тем, что к Сэму возникало тёплое чувство, а к ним, в лучшем случае, просто жалость. Сэм давал много больше, чем они, но и требовал он тоже много больше: он хотел, чтобы спортсмены были ему преданы телом и душой, а те ждали лишь почтительности; они хотели благодарности. Ведь сколько комитетов они создавали, сколько телефонов обзванивали, сколько бумаг заполняли! Они хотели, чтобы их ценили, в них нуждались. Смешно, но, прояви они больше ума, они бы легко с нами справлялись, ведь спортсмены — самые эгоцентричные люди на свете, и только постоянная грубость начальства толкала их к сплочению. «Если бы старость могла!» Но она ничему не научилась.
До сих пор помню выражение лица Рона Вейна в Кардиффе, где Айк победил на Играх Британского Содружества. Я сидел рядом и наблюдал за его поведением во время забега Айка: он был в восторге, когда Айк оставался позади, всё больше волновался, когда тот пошёл последний круг, и встретил финиш расстроенным, словно верил, что бог внемлет его желанию и Айк проиграет.
В Кардиффе я первый раз поссорился с Сэмом, но даже тогда я знал, что он прав.
Сэм почти весь день находился в спортивном городке, если не был на стадионе, только на ночь уходил в какую–то гостиницу. В английской команде было трое его учеников: я, Том Берджесс и бегун на четверть мили Джерри Сэндс, небольшой паренёк с северо–востока, его речь я с трудом понимал. Ещё там был бегун на полмили, Фредди Моррис. Сэм его тренировал три месяца, он тогда не входил в сборную. Потом в сборную его взяли, он выиграл несколько забегов и отказался то Сэма, сказал, что всему его научил Джек Брейди; стоило упомянуть Фредди, Сэм заводился с пол–оборота, рассказывал, как Фредди предал его, лишь бы оказаться у Брейди, как он ничего не умел, когда приехал в Лондон, как Сэм тренировал его бесплатно и вот что получил в награду.
Я боялся их неизбежной встречи в городке, но когда они столкнулись лицом к лицу в ресторане, Сэм лишь сказал: «Желаю тебе удачи, успеха. Я не нуждаюсь в признании. Твой успех и есть моё признание».
Алан был там и сказал мне потом, что его это не удивило, он и не сомневался, что Сэм именно так и думает. Но я прекрасно знал, что творится у него в душе.
Питер Макалистер выступал за Шотландию, а вторым в команде Англии был Дон Мейтленд из Суссекса, коренастый блондин–весельчак; довольно неплохой бегун, он любил поразвлечься, и я отчасти попал под его влияние. Он только и говорил о пташках в ресторане и клубе. Когда мы питались в ресторане, он то и дело озирался и, если видел двух хорошеньких пташек без кавалеров, сразу шёл к ним. Девочек собралось много, из всех стран Содружества, не только легкоатлетки, но и пловчихи, гимнастки и другие из Австралии, Канады, Новой Зеландии, а некоторые цветные пташки были просто прелесть.
Когда в ресторане был Сэм, я особенно не рыпался, но без него держался свободно. Конечно, я хотел выиграть свою милю, для меня это было важно, но я столько «постился», что чувствовал себя голодающим, перед которым поставили гору еды. Но я сказал себе: потерплю до финала. Тренировался я много — иначе и не могло быть в присутствии Сэма — и решил, что можно, по крайней мере, просто потанцевать.
Но вышло так, что стали водиться с канадскими пловчихами, собираться у них. Я, конечно, ничего не пил, разве изредка стакан пива, но мне понравилась одна кудрявая стройная блондиночка, и я ей тоже.
Как–то вечером я предложил ей прогуляться — знал, что в нашем номере никого нет. Она согласилась, мы пошли к нам, тут всё и произошло. Помню, у меня буквально кровь стыла в жилах, когда кто–то проходил мимо двери, а она говорила: «Если на дорожке ты так же силён, как в постели, будешь на высоте».
На следующий день я завтракал вместе с Сэмом, и тут она прошла мимо и сказала: «Привет, Айк. Как дела?» Куда мне было деваться? Не прогонишь ведь её, а Сэм был очень мил и отпустил ей кучу комплиментов, как всякой хорошенькой девочке, но обо всём догадался. Тут я первый раз разозлился на Сэма — в детстве я так злился на отца, когда тот меня застукивал на какой–нибудь шкоде, и мне становилось неловко. Потом не тренировке я застыдился — ведь он был прав, я предавал его.
Так я все игры и метался между ними. Иногда хотелось спрятаться от обоих, я даже в ресторан боялся сунуться, когда думал, что они там.
Как–то после разминки на дорожке он меня спросил: «Скажи правду, Айк, ты спишь с ней?» Я ответил: «Не совсем так». Но он добавил: «Не изворачивайся, я всё вижу. Даже если бы я никогда не видел вас вместе, как вы переглядываетесь, я бы всё понял по твоему бегу. Посмотри на себя, последи за дыханием. Ты просто дурень, Айк. Я не могу остановить тебя, могу лишь дать совет: либо одно, либо другое. Либо развлекаешься с девочками, либо побеждаешь в соревнованиях. Выбирай сам. А так ты просто тратишь время — своё и моё».
Я ничего не ответил — так расстроился. Потом он положил мне руку на плечо и сказал: «Такой девочке терять нечего. Она не делает ставку на плавание, а для тебя бег — всё. Тебе и решать». Я оказался в жутком положении — выбор–то был ясен; но ведь я видел её каждый день, и чувства мои вспыхивали с новой силой. Пару дней я отговаривался тем, что предстоит полуфинал; пробежал плохо, но в финал пробился. Я пришёл вторым после новозеландца Мэрфи со слабым временем — 4.02, знал, что могу бежать лучше, но что делать — второй так второй. После забега Сэм сказал: «Вот чего ты добился». И я снова разозлился на него; может, это ты во всём и виноват — вывел меня из равновесия, с девочкой мне всё испортил.
Окольным путём я попробовал узнать у Алана Белла, что он про это думает.
«Лично я, — сказал он, — перед важными соревнованиями всегда воздерживаюсь, но скорее по эмоциональным причинам, а не физическим: ведь если с кем–то переспал, не думать об этом не можешь. Нужно точно знать свою цель. Нужен аскетизм. Спортсмен посвящает тело своему спорту. И плоть надо укротить. Конечно, Сэм за это».
В конце концов всё разрешилось, потому что Джеки — так её звали — решила, что я её избегаю — так оно и было, — и сама стала избегать меня. Честно говоря, я расстроился, но приближался финал, всё время уходило на тренировки, и удавалось о ней не думать. Только после финала она вдруг подбежала, поздравила меня и даже поцеловала. В девчонках это есть — прощать они умеют.
— Поздравляем, Айк! Ты спланировал бег именно так?
— Нет, не так.
Попробуй пробеги так по плану. Какой мощный рывок сделал Бэрк за полкруга до финиша! Сделал меня, как пешехода. Я уже сник, думал — всё. И тут, бог знает откуда, голос Сэма: «Не поддавайся, он блефует!» Сил уже не оставалось, но я стал погонять своё тело, как лошадь. В груди вспыхнула боль, и вдруг вижу: последний поворот, а он впереди всего на ярд, вот мы уже идём вровень, он тяжело дышит, хватает воздух; я уже бегу один, передо мной финишная ленточка, я её разрываю… только бы не упасть, только бы не упасть… Победа!
Как я мог такое планировать? Просто он застал меня врасплох…
Рим, если так можно сказать, поставил нас на место. На нас смотрели, как на варваров, расположившихся лагерем у ворот. Очередная шайка посягателей, с той лишь разницей, что свои копья мы собирались метать в поле.
Многих спортсменов в Олимпийской деревне это отношение задело — они ведь такие легкоранимые. Спортсмен убеждён, что мир вращается вокруг него; он должен быть эгоцентриком, если стремится к успеху, и равнодушие причиняет ему сильную боль. Пожалуй, в Мельбурне я думал иначе, там я рвался к победе и верил, что могу быть первым. Сейчас я могу позволить себе эту роскошь — быть объективным, ведь здесь я всего лишь турист.
Неудивительно, что Рим нас презирает. Я ещё не сталкивался с такой красотой, естественной и исторической, с таким подавляющим господством прошлого. Забеги, заплывы, велосипедные заезды — здесь всё это кажется каким–то малозначащим. Просто удивительно, зачем Олимпиаду вообще решили проводить в Риме, хотя ответ, разумеется, ясен.
Ко всему прочему выбрали август, когда под нестерпимо жарким солнцем всё выглядит ослепительно прекрасным — белый мрамор стадиона на фоне тёмно–зелёных гор. Но Олимпийская деревня похожа на бетонную пустыню. Один велосипедист скончался. Эдакое жертвоприношение. Может, именно этого хотели эти ужасные старики, когда остановили свой выбор на Риме в августе? Может, это была их месть молодым? «Если бы старость могла…»
Во время церемонии открытия все мы стояли на этом славном стадионе, каждая сборная в своей форме, словно на военном параде, а престарелый оратор изливал на нас всякую чепуху — юность мира, любительский спорт, олимпийские идеалы и тому подобная белиберда, — будто генерал перед войском, которое он посылает в бой, а сам сейчас преспокойно вернётся на базу.
Всё же нельзя оставаться беспристрастным — в воздухе носится дух Олимпиады, и убить его не может даже Рим. Возбуждение, высокие надежды, напряжение — всё это ощутимо в Олимпийской деревне.
Я живу в одной комнате с Айком Лоу и Томом Берджессом, а это значит, что у нас всё время Сэм, который столько задирается и философствует, что нет сил терпеть; Том и Айк слишком напряжены — Том такой всегда, Айку уж очень хочется победить. Впрочем, почему нет? Ясно, что каждый стремится к победе, а разговоры об участии — чистой воды болтовня. Разве я не жаждал победы четыре года назад?
Айку ничего не нужно, кроме этой медали, хотя она ничего не символизирует, ни к чему не ведёт. Однажды, когда мы оба отдыхали в постели после полудня, я его спросил: «Айк, тебе нравится заниматься бегом?» Он до этого бесконечно говорил о времени на каждом круге, о том, как перестроить бег на милю к 1500 метрам, о других бегунах и их времени на каждом круге и т. д. Он ответил: «Почему ты спрашиваешь? Конечно, нравится. А тебе?»
Я жалел, что задал ему этот вопрос, — он заставил Айка призадуматься, а ему это было ни к чему. Он сказал: «Всё зависит от забега. Когда всё идёт как по маслу, в тебе словно что–то щёлкает, появляется ощущение силы, тогда ты счастлив. Но бег через «не могу», через болевой барьер — какая тут радость…» Тогда я спросил: «А что такое болевой барьер?» Надо было, конечно, задать такой вопрос Сэму, а не этому бедняге, который как попугай повторяет то, что ему говорят. Айк ответил: «Он возникает, когда боль так нестерпима, что думаешь, будто уже ничего не сделать, — это и есть барьер, и ты силком заставляешь себя бежать вперёд, преодолеваешь его». Я сказал: «Другими словами, воображаемый барьер». И он ответил: «Ну, ясное дело, он только у тебя в голове».
Здесь, в Олимпийской деревне, где римской жаре противостоит почти осязаемое напряжение, я задал Сэму Ди вопрос: «Считаете ли вы, что Айк Лоу способен победить?»
Больше часа мы обсуждали с этим удивительным тренером вопросы силы и стиля, тактики и выносливости, достоинства интервальной тренировки и просто трудного бега, важность техники и решающее значение характера.
Ди пристально смотрел на меня с минуту, а потом сказал: «Айк знает, что может победить. Я тоже знаю. В этом забеге ещё двое истинно верят в себя, рассчитывают на победу. У остальных нет шансов».
Понятно, что он имеет в виду, этот замечательный воспитатель чемпионов, который с одинаковой лёгкостью вызывает к себе любовь и ненависть, чьи эксцентричные выходки часто приводят к стычкам с официальным начальством. Напряжённая атмосфера Олимпиады требует полной уверенности в себе, иначе всё может закончиться крахом. А у Лоу есть эта полная уверенность; ему двадцать два года, в нём сочетается грация и сила, достаточно увидеть, как он выполняет простейшие действия — ест в олимпийском ресторане, пишет письма домой в Лондон, — и сразу приходишь к выводу, что он спокоен, сдержан и психологически подготовлен не хуже, чем физически.
— Да, — ответил он на тот же вопрос, который я задал Сэму. — Знаю, что смогу победить.
Из такого теста и сделаны будущие олимпийские чемпионы.
«Во время Олимпиады твой бег нужен не только тебе. Ты бежишь ради миллионов людей, которые верят в тебя, ради детей, которые захотят быть похожими на тебя, ради взрослых, которые жалеют, что не были похожи на тебя в молодости. Спортсмен значителен не только сам по себе, но важно и то, что он олицетворяет; сегодня его роль важна, как никогда, — в век автоматики и механизации, когда о теле забывают и пренебрегают им. Следя за тобой по телевидению, люди видят и себя: твоя победа — их победа, твоё поражение — их поражение. Ты пример для молодёжи и упрёк тем, кто надругался над своим телом, кто позволяет своей плоти разлагаться. Итак, Олимпиада — это вызов старым и вдохновение для молодых».
Некоторые спрашивают: «Нравится ли вам Рим, что вы о нём думаете?» А я не знаю, что ответить, я только и видел что деревню да стадион. А на вопрос: «Вы согласны, что олимпийский стадион прекрасен?» — я тоже не находил ответа. Прекрасен? В таком плане о нём и не думаешь. Может, он казался бы прекрасным, если бы там ничего не происходило, никого не было — ни шума, ни забегов, если бы тобой не владела одна–единственная мысль.
И с солнцем то же самое. Если приезжаешь в отпуск, солнце — это прекрасно, каждый день жара, загорай сколько влезет. Но если ты бегун и к солнцу не привык, оно превращается в кошмар. Меня то этого чёртова солнца тошнило. Утром просыпаешься и молишь бога — хоть бы пошёл дождь.
А стадион меня просто подавлял. Побывав там три–четыре раза, я стал обходить его стороной, появлялся там только для выступления. Я шёл на тренировочную дорожку или оставался в деревне, хотя иногда это было скучно, даже действовало на нервы, но, по крайней мере, не было этого гвалта, напряжения — ведь туда каждый день набивалось 80–90 тысяч человек, причём итальянцы подбадривали итальянских бегунов, а немцы — немецких. Пожалуй, самыми назойливыми были немцы. У них всё было организовано, сидели они все вместе на одной трибуне. Они то и дело что–то скандировали: «Хой–хой–хой! Хой–хой–хой! Ра–ра! Ра–ра–ра!» Снова и снова, пока ты не начинал сходить с ума.
А ещё на демонстрационном табло — огромном, чёрном, электронном — всё время вспыхивали электролампы, одна за другой, очень быстро, перечисляя имена и показанное время. Вот бы увидеть на нём своё имя, но только первым! А какое против него будет время? Сменяли друг друга фамилии японцев, русских, итальянцев и иногда мне казалось, что моё так никогда и не появится…
Но вне стадиона я почти всегда верил — смогу победить любого из них. В общем–то, всех их я уже побеждал, уступил только троим, причём у двух из них я выиграл потом. Больше меня беспокоили другие, с которыми я не соревновался никогда: американец Джим Драйвер, побивший мировой рекорд на предолимпийских отборочных соревнованиях в США, и венгр Будаи.
Как обладатель мирового рекорда, Драйвер считался фаворитом. Но Сэм говорил, что когда ты не фаворит, тут есть свои преимущества — ты не чувствуешь такого давления, да и сам рекорд мог быть просто делом случая. Ещё Сэм говорил, что одно дело рекорды, а другое — соревнования, тут у меня куда больше опыта, чем у Драйвера. Но всё–таки он установил рекорд, а мне такое ещё не удавалось.
Мы не были знакомы с Драйвером, но уже знали друг друга в лицо — встречались на тренировочной дорожке. Смотреть было особенно не на что — маленький, щуплый светловолосый парнишка в очках без оправы, но по его взгляду я чувствовал, что он полон решимости.
Из того, что я о нём слышал, Драйвер в чём–то походил на меня: после старта он держался в тени, потом делал мощный финишный рывок. Ещё не прошло года, как он вместо 880 ярдов стал бегать милю. Будаи действовал иначе. Он сразу выходил вперёд и старался не упускать лидерства до финиша. Он обладал фантастической выносливостью, но в одном темпе — ускоряться он не мог и потому старался быстрее вымотать противника.
Были там и другие бегуны: знакомый мне Гэтц, потом Манфред из ГДР, который обошёл меня в Лейпциге, австралиец Джефф Бэрк, у которого я с трудом выиграл в Кардиффе; в Лос — Анджелесе мы показали одинаковое время, но победу присудили ему. Тогда, в середине зимы, я не очень хорошо бежал, но сейчас, здесь, я верил, что сумею его обойти. Хотя, конечно, на Олимпиаде никогда не знаешь, кто победит; может, ты о нём и слыхом не слыхивал; так уже бывало и будет ещё, но едва ли в беге не милю, вернее, на 1500 метров.
Было ещё одно неудобство — ведь приходилось участвовать в трёх забегах: предварительном, полуфинале и финале, всё это меньше чем за неделю. Наверное, лучше в каждом забеге бежать на победу. С другой стороны, при этой тактике можно к финалу истощить свои силы — всё–таки жара.
Всё это мы, конечно, обсуждали с Сэмом. Он считал, что надо подождать жребия, увидеть, кто попадёт со мной в предварительный забег. Если там окажутся Драйвер, Будаи, ещё кто–то из новых, не следует слишком много им показывать. Сэм сказал: «Посмотрим. Не беспокойся. Беспокоиться за тебя буду я. Твоё дело — бегать». Но как же не беспокоиться? О чём ещё тут можно думать? Тем более что нет спасу от репортёров — английских, американских и тех, у кого с английским туго; с записной книжкой, с микрофоном, они накидываются на тебя во время еды, врываются в номер. Вы верите в победу, Айк? Кто ваш тренер? Каковы, по–вашему, шансы немецких бегунов? Вы впервые на Олимпийских играх? Чем вы занимаетесь дома, Айк? Сколько вам лет? Какого вы роста? От их вопросов можно было чокнуться.
А тут ещё обычные свары Сэма с руководством. Джек Брейди как–то примирился с тем, что Сэм меня опекает. Он давал мне только общие инструкции перед забегом, просто по обязанности. Но с Роном Вейном и остальными всё было иначе. Они по–прежнему гоняли Сэма, даже не пускали его в Олимпийскую деревню. Ему не выдали официального пропуска. Рон Вейн сказал: «Вам тут нечего делать, у вас нет официального статуса». А Сэм ответил: «Два моих бегуна входят в сборную». Но Рон ничего не хотел слышать: «Если я вас увижу в деревне, сдам вас охране». Повернулся и ушёл.
Но загнать Сэма в угол не так–то просто. В тот же день он вернулся в деревню — с пропуском комментатора канадского телевидения, и тут уже Рон ничего не мог поделать. Сэм подошёл к нему и сказал: «Доброе утро, мистер Вейн, не согласитесь ли дать мне интервью для телевидения?» Но Рон не понял шутки, насчёт этого он всегда был слаб. Он только посмотрел на Сэма, повернулся к нему спиной и ушёл.
Наша команда стартовала плохо. Хотя лёгкая атлетика — дело индивидуальное (кроме эстафеты), на всех это повлияло отрицательно. Если команда стартует хорошо, у всех настроение бодрое, а если плохо, начинаешь думать — вдруг и у меня сорвётся… Одним из тех, кому не повезло, оказался Том. Едва ли он надеялся на очень хороший результат в забеге на 10 000 метров, но на первом же повороте с кем–то сильно столкнулся и пришёл восемнадцатым.
Сэм утешал его, как мог, — бежал он неплохо, просто не судьба, но пользы то этих слов не было. Когда пришло время моего предварительного забега, у меня тряслись поджилки — вдруг не пройду в полуфинал, хотя жеребьёвка сложилась удачно. Бежали мы с утра, зрителей было мало, до старта мне было не по себе. Но когда прозвучал выстрел, я обо всём забыл, просто бежал, ни о чём не думая. На финише обогнал Манфреда примерно на ярд и пришёл первым, показал неплохое время — 3.39,2.
Самое приятное было увидеть своё имя на демонстрационном табло. Жёлтые огоньки замелькали и написали: Лоу. Вот она, моя фамилия! Если она появилась наверху однажды, что ей мешает занять первую строчку ещё раз?
Когда Айк победил в предварительном забеге, я думал, что и финал будет за ним. Я и сейчас считаю, что он победил бы, если бы не такое невезенье. Он бежал великолепно, уверенно. Я сидел в нижнем ряду трибуны, между Сэмом и Томом. С гордостью на лице Сэм кричал: «Посмотрите на него, только посмотрите!»
Когда же Айк порвал финишную ленточку, Сэм завопил: «Молодец, Айк!! Здорово бежал, мой мальчик!» Айк оглянулся, увидел Сэма и улыбнулся ему, как отцу.
«…Надеждам Британии был нанесён тяжёлый удар, когда чудо–бегун на милю Айк Лоу, бежавший среди лидеров в полуфинале на 1500 метров, внезапно споткнулся и, хромая, сошёл с дистанции — разрыв мышцы бедра.
По–моему, для Великобритании это горчайшее разочарование; не только я, но и ведущие тренеры Европы и Америки считали, что Айк Лоу, бегун на милю, имел все шансы на золотую медаль.
«Всё произошло за секунду, — говорил мне Айк позднее. — Только что нёсся, как метеор, и вдруг — нестерпимая боль».
Тренер Айка, неугомонный Сэм Ди, яростно отрицал обвинения в свой адрес в том смысле, будто бы он перегрузил тренировкой двадцатидвухлетнего Лоу. «Это чистое враньё, — огрызнулся пятидесятисемилетний тренер, — Айк был в отличной форме. Тренировался не больше обычного».
Удивительно, что бегуны Сэма на олимпиадах всегда разрывают мышцы. Отчего бы это?»
— Айк Лоу? Канадское телевидение приглашает вас в ресторан — взять интервью. Придёте?
— Не сейчас, друг, я едва ноги передвигаю.
— Вы же знаете, Айк, какая на телевидении гонка. Сегодня одно, завтра уже другое.
— Знаю, но не сейчас.
— Конечно, парень был перегружен. Не хотел нас слушать, а надо было его изолировать.
— С самого начала, Рон.
— Гонял парня, будто он машина. Мы знали, что для него лучше, но он нас не слушал. Нам были дороги его интересы, но он в это не верил.
— Возможно, он уже извлёк урок, Рон.
— Надеюсь, что так, надеюсь.
Он застыл, как подстреленный, как птица, настигнутая пулей в полёте, я ощутил его боль, будто сзади ударили ножом в бедро. И мерзкое чувство немощи — как всё это знакомо! И ведь только что так прекрасно бежал, так экономно, мощно. Нужно быть бегуном, чтобы ощутить всю его боль, физическую и моральную. Понял я ещё кое–что: этот час мог стать для него звёздным, и вот шанс упущен, как я упустил свой в Мельбурне.
Я был полон сил, в отличной форме. Дал Бэрку догнать Будаи, сам бежал следом, знал, что могу их перегнать. Самое смешное, это никому не было надо, я бы всё равно вышел в финал. Прошёл уже месяц, а я всё думаю: вдруг, не пойди я на обгон, всё вышло бы иначе? Ну, финишировал бы третьим — и мышца бы уцелела? Многие говорят, что разорвалась бы обязательно, может, в финале. Но это не факт; наверняка никто не скажет. Даже врачи и те отвечают по–разному.
И главное — всё за одну секунду. Никакого перехода. Несёшься как метеор и тут же бац — и не можешь пошевелиться: резкая боль, спазм в бедре, и хуже всякой боли — понимаешь, что проиграл, что это конец. Остальные один за другим бегут мимо. А тебе остаётся одно — сойти с дорожки, в траву, в никуда.
В ту минуту я хотел умереть, честное слово, — ради чего было жить? Ко мне, что–то лопоча по–итальянски, подбежали двое или трое из организаторов, один накинул полотенце мне на плечи, потные от жары, я его сбросил. Откуда–то взялся Рон Вейн, спросил: «Что случилось, Айк? Растяжение?» Говорить я не мог, только кивнул. Он спросил, нужны ли носилки, но я покачал головой. Было очень больно, но не хватало ещё, чтобы меня уносили на глазах всего стадиона. Я положил руки на плечи Рона и одного из итальянцев, они меня отвели, но я видел, как кончился забег: первым пришёл Бэрк, за ним Будаи. Ленточку порвали, и я закрыл глаза, потому что заплакал. А на следующий день все сволочные газеты вышли с фотографией, как меня ведут, а у меня лицо перекошено от боли, и я плачу.
Те, кто бежал в этом забеге, повели себя очень достойно. Бэрк подошёл ко мне и сказал: «Крепись, приятель, — не повезло». Будаи без слов взял мою руку и пожал её. Потом, слава богу, объявился Сэм, а я повторял как попугай: «Прости, Сэм, прости». Ничего умнее выдумать не мог. А Сэм меня успокаивал: «С кем не бывает, это только начало». Будто он говорил это не мне, а себе, и, кажется, тоже едва не плакал. Подошёл Джек Брейди и спросил: «Подколенное сухожилие?» — будто был врачом, и добавил: «Отвезите его в деревню и уложите в постель». Заменив итальянца, Сэм положил мою руку себе на плечи, мы прошли через туннель и у выхода со стадиона ждали пока Джек подгонит машину. Ни он, ни Рон с Сэмом не разговаривали. Сэм и Рон поддерживали меня с обеих сторон, но обращались только ко мне, будто не замечая друг руга. По тому, как вели себя Рон и Джек, можно было подумать, что во всём виноват Сэм, будто он выскочил на дорожку и сам нанёс мне травму.
Когда подошла машина, Рон сказал Сэму: «Дальше мы справимся сами, спасибо», но Сэм не обратил внимания. «Осторожнее, Айк», — сказал он, помогая мне сесть сзади, и тут же сел рядом. В дороге никто не вымолвил ни слова, а Сэм, держа мою руку повыше локтя, то и дела сжимал её.
Хотелось вовсе избавиться то этой проклятой ноги, с этим дурацким желанием я жил несколько дней. Она словно была не моя, не имела ко мне отношения. Внутри у меня всё оставалось прежним — та же уверенность в себе, та же сила, как на дорожке, когда я начал ускорение. Будто в мощной машине вышло из строя шасси, только шасси можно заменить, а у меня что есть, то и есть.
Потом, когда мне стало лучше, всё остальное исчезло, осталась только одна эта мышца, всё свелось к ней, ни о чём другом я не мог думать. Я всё время чувствовал, как она слаба, укреплять её было очень больно, но Сэм велел, и я его слушался.
Он поместил меня на лечение в какую–то римскую клинику, ногу прогревали диатермией, а повязка на ноге была как чёрная змея, очень тёплая; лечили ультразвуком — лежишь на спине, а тебе втирают масло в ногу, потом стержень начинает ходить вверх–вниз, очень горячий и приятный, но если его забывали двигать, он поджаривал, как в аду. При этом мышечные волокна растягивались и сокращались. Сэм читал мне пространные лекции о том, что именно произошло, о внутреннем кровоизлиянии; проводил пальцем по мышце и говорил: «Всё будет хорошо, через две недели — лёгкая тренировка». Но я не мог смотреть так далеко вперёд, хотелось только поскорее выбраться из Рима, подальше от этой Олимпиады, от проклятой деревни, где всё мне напоминало об этой напасти.
Я умолял Рона Вейна и Деса Виктора, начальника команды, отправить меня домой. Но они ни в какую, заказан чартерный рейс на всю команду. Рон говорил: «Я понимаю, Айк, ты жутко расстроен. Мы тоже. Считай, что лечение — это большой отпуск. Бесплатный отпуск». Кому нужен такой отпуск?
А Сэм распространялся: «Это неудача, и не более того. Всё зависит от тебя. Настоящий спортсмен делает выводы из своих неудач. Он использует полученные уроки, чтобы расти, как в процессе эволюции человек начинает ходить, а птица отращивает крылья. Ты проиграл достойно. Ты доказал себе и миру, что ты выдающийся бегун и можешь проявить свои лучшие качества в самый ответственный момент. Через четыре года ты ещё будешь выдающимся бегуном, окрепнешь духом и телом, станешь опытнее.
Думаю, на этой Олимпиаде ты бы победил. Наверняка сказать трудно, но ведь и ты верил в победу. Я говорю это не для того, чтобы терзать тебя, просто хочу, чтобы ты осознал свои возможности. До следующей Олимпиады соревнований предостаточно. Помни: то, что случилось с тобой здесь, — не поражение, а временная неудача. Твоя победа в Токио будет весомее, чем в Риме, потому что там ты победишь судьбу».
Всё было хорошо, пока он говорил, но потом я снова впадал в депрессию. С тех пор я часто себя спрашивал: если бы я победил или сразу уехал домой, романа с Джил не было бы? Он возник потому, что я был несчастным и подавленным?
Мне даже не хотелось вылезать из постели — лежишь себе, от всего отгородившись. Навещали меня Алан и Том, ещё кое–кто. Некоторых визитёров я не хотел видеть, делал вид, что сплю.
Когда я вышел из больницы, всё было ужасно. Я не мог нормально ходить, тем более бегать, и просто возненавидел эту чёртову ногу. По улице я едва тащился, все меня обгоняли. Но хуже всего было то, что я находился среди спортсменов, самых здоровых, самых крепких людей в мире, хорошо владеющих своими телами, — среди них я казался себе вдвойне калекой.
Я был знаком с Джил и раньше, она входила в команду уже около года и пару раз выезжала с нами за рубеж. Про себя я думал: миленькая, с хорошеньким личиком и точёной фигуркой, не такая, как другие. Остальные походили друг на друга, держались вместе, то и дело хихикали и не очень заботились о своей внешности; даже такие, как Джейн Кобэм, с которой я сошёлся в Лейпциге, не походили на нормальных девчонок. Когда они ложились к тебе в постель, они это делали как бы между прочим, в шутку, это им было всё равно что выпить или сходить в кино. Но Джил, слава богу, никогда не хихикала, было в ней что–то серьёзное, в глазах — у неё были красивые карие глаза, — когда она смотрела на тебя. Если она смеялась, то было над чем, и лицо её удивительно менялось, глаза смотрели по особенному, будто на всём свете только ты да она. Бывало, мы с ней болтали, но я ни разу не пытался её завлечь — во–первых, она не походила на других, а во–вторых, в олимпийский год я старался быть пай–мальчиком, особенно в поездках, перед соревнованиями. Я дал себе слово, что если выиграю золотую медаль — если! — то погуляю на полную катушку, своё от жизни возьму, а пока же — полное воздержание. Почти полное.
Джил жила в Манчестере. Сперва меня удивила её речь: смуглое маленькое красивое личико — и северный акцент. Я‑то сам лондонец, и северные казались мне эдакими комиками; поэтому она сама и её голос как–то в моём понимании не сочетались. В общем, после травмы меньше всего меня интересовали девчонки; честно говоря, я совсем пал духом.
Как–то под вечер я пришёл в олимпийский ресторан. Выбрал время между обедом и ужином, чтобы ни с кем не встретиться, не разговаривать. Я поставил поднос на столик, сел и вдруг услышал её голос: «Как ваша нога?» Она сидела наискосок от меня, совсем рядом. Я её не заметил — в таком был состоянии. А заметив, совсем не обрадовался. Ни с кем не хотелось говорить. Да и кому есть дело до моей ноги? Я выпал, остался за чертой, следующая попытка через четыре года, так что какой смысл спрашивать о моей ноге? Но я заметил, что ей очень идёт розовая блузка — форма всех наших девушек, — она хорошо оттеняла её загорелые плечи; я видел, как она стройна и вполне округла, сильная, но не тяжёлая. Она была спринтером, бегала на 100 метров, выступала, кстати, совсем неплохо, пробилась в финал, но там была предпоследней или третьей с конца.
Я ответил: «Вроде получше». Наверное, тон был не самый дружелюбный, но такое уж было настроение — не до разговоров. «Я всё видела», — сказала она, — едва сдержала слёзы. Вы так хорошо бежали». Глаза мои вдруг снова наполнились слезами. Я наклонился над тарелкой и стал есть, чтобы она их не заметила. Я молчал, тогда она добавила: «Извините, что я вас расстроила, но, поверьте, я вас так понимаю». Мне стало совсем худо, хотелось встать и выбежать из ресторана, но и бегать я не мог, а выходить ковыляя, не доев, — это уж совсем дураком выставляться.
Так мы и остались сидеть: я старался не заплакать, а она — больше меня не расстраивать. И вдруг я понял, что не хочу, чтобы она ушла, даже испугался, что она уйдёт. Я заставил себя поднять голову и сказал первое, что пришло на ум: «На стадион сейчас поедете?» Глупее ничего нельзя было придумать, потому что предстоял финал на 1500 метров, и, чтобы его не видеть, я готов был оказаться за тысячу миль. Она посмотрела на меня как–то по особенному, помедлила, потом ответила: «Да, поеду». И я предложил поехать вместе.
Мы сели на местах участников, в середине, довольно низко, напротив пьедестала почёта. Наших там было немного, кто–то со мной здоровался, я чувствовал на себе их взгляды — надо же, пришёл смотреть финал, а кому–то, может, было интересно увидеть меня с Джил. Ко мне подошёл австралиец–барьерист, с которым я встречался в Кардиффе, и спросил: «Как думаешь, кто выиграет?» Как можно быть таким толстокожим? «Не знаю. Претендентов много», — ответил я, и сердце защемило — ведь я сам мог быть сейчас там и всех их обогнать.
Объявили забег, и на табло замелькали все имена, кроме моего. Будаи, Драйвер, Брэк, Манфред. Все они разминались в середине дорожки, потом у старта начали снимать спортивные костюмы, и я вдруг почувствовал, что видеть это — выше моих сил, опустил голову, чтобы не смотреть, и тут она взяла мою руку; её пальцы сжали мои, и это было по–настоящему приятно.
Я поднял голову — посмотреть на неё, а не на дорожку; по её глазам я прочитал: она понимает меня, сочувствует мне. Наши взгляды встретились, и слов не понадобилось — мы влюбились друг в друга.
Я будто принял наркотик или что–то похожее. Теперь я мог смотреть на бегунов, меня это больше не терзало, не жалило. Просто какие–то парни сняли костюмы и стоят полукругом, в разноцветных майках, потом раздался выстрел, и они побежали… Во время забега я несколько раз оглядывался на Джил и однажды поймал на себе её взгляд — она улыбалась мне хорошей, доброй улыбкой.
На финише первым был Бэрк, он здорово оторвался на последнем круге, а Драйвер сдался, не вытянул. Ему ещё повезло, что он пришёл вторым, отстал ярдов на пятнадцать. Но даже после финиша я всё равно оставался будто в дурмане и совсем не расстроился; и потом тоже, когда вручали медали, и Брэк стоял на пьедестале, где мог стоять я.
Вечером мы поехали с Джил в римский ресторан недалеко от реки, ужинали на свежем воздухе. По правде говоря, я не очень замечал, что твориться вокруг, потому что со мной творилось что–то для меня совсем новое — так сильно я ещё никогда не увлекался.
Помню, что мы стояли с Джил у парапета Тибра под сенью деревьев, смотрели на воду, молча держались за руки. Потом я её поцеловал. Когда я вернулся, мне сказали, что меня искал Сэм. Честно говоря, я напрочь о нём забыл.
«Ариведерчи, Айк! Вы увозите с собой тяжёлое воспоминание о Риме, но в нашей памяти останется образ молодого и пылкого спортсмена, полного сил, который приехал за победой, но проиграл, не будучи побеждённым; образ типично английского бегуна, высокого и стройного, с классическим профилем героя авиации двадцатилетней давности, настоящего олимпийца, который стремится к победе, но всегда в рамках чистой игры.
Увы, как и многих героев, вас предали, но предателем оказался не какой–то человек, а нечто более близкое — собственное тело, остерегаться которого должен любой спортсмен. Растяжение мышцы — вот несчастье, которое вас постигло, когда вы так достойно бежали по красной дорожке олимпийского стадиона, уверенный в своих силах, но вас подвели ваши крепкие и мускулистые ноги.
И когда пришла беда, все увидели на вашем лице двойную агонию: крушение надежд и измена со стороны самого близкого друга. Вы должны были победить в полуфинале, как, скорее всего, и в финале. Но этого не случилось. В финале вы даже не бежали. Лишь с горечью смотрели, как награждают тех, кого вы могли победить.
Хампстед — Хит. Осенний день. Природа окрашена мягкими, тёплыми тонами. В рощице желтеющие листья медленно кружатся, гонимые лёгким ветерком. В воздухе ощущается близость дождя. Рассеянный свет солнца играет на траве, промокшей и отливающей зимней зеленью.
На склоне холма, покинув одну из лесистых лощин, которые короткими волнами–скобками покрывают здесь лесопарк, появляются мужчина и женщина. Оба бегут деловито, собранно, будто перед ними определённая цель. Оба одеты в майки и белые лёгкие шорты. Мужчина на шесть дюймов выше женщины — красивой, с волнистыми тёмными волосами, молодым лицом, носящим отпечаток тяжёлой физической нагрузки, как у солдата или молодого религиозного фанатика. Он худощав и мускулист. Цвет лица у обоих почти оливковый. Её ноги стройны, но хорошо развиты. Когда они выбегают из лощины, она поворачивает голову и смотрит на мужчину восхищенным и преданным взглядом. Он не оборачивается.
Вскоре к ним присоединяются ещё три бегуна, жилистые и худые: пожилой мужчина с короткой седой бородой и мощными движениями механической куклы и двое молодых мужчин — один бледный, высокий и напряжённый, другой блондин небольшого роста, бегущий бодро, уверенно. Эти трое догоняют первых двух, высокий бежит слева от мужчины, блондин — справа от женщины, а пожилой — между мужчиной и женщиной. Некоторое время они бегут молча, потом пожилой мужчина, Сєм Ди, говорит.
Сэм. Хорошо, теперь поделаем ускорения; кого я назову, тот переходит на спринтерский бег и так бежит до новой команды. Джил!
Джил Дейли убыстряет бег. Её движения резки и энергичны, она высоко поднимает колени.
Сэм (командует). Руки выше, колени ниже! Хорошо, лёгкий бег!
Джил расслабляется и переходит на прежний ровный бег.
Сэм. Айк!
Мужчина, Айк Лоу, переходит на спринт без усилия, его движения мощны, он бежит легко и экономно, всё отработано до автоматизма. Он обгоняет Джил ярдов на пятьдесят, и тогда Сэм командует.
Сэм. Лёгкий бег!
Айк возвращается к прежнему ритму.
Сэм (выкрикивает): Сэм!
Теперь он сам спринтует, быстро, но не без усилия, его седая голова склоняется влево, и кажется, что для него это большая нагрузка. Он догоняет Джил и бежит уже медленнее, рядом с ней, а спустя некоторое время поворачивает голову и снова кричит.
Сэм. Том и Алан, ваш черёд! Посмотрим, кто из вас первым догонит Айка!
Высокий Том Берджесс и блондин пониже, Алан Белл, бегут, соревнуясь, быстро и на полном серьёзе. У Тома шаг длиннее, Алан бежит по–спринтерски динамично. Пробежав тридцать ярдов, он уже опережает Тома на пять, но тот не сдаётся. Его голова опущена, губы крепко сжаты, будто он приближается к концу марафона. Он пробежал ещё двести ярдов после того, как они опередили Айка, и расстояние между ними и Аланом увеличилось до пятнадцати ярдов. Тут Сэм кричит: «Лёгкий бег!» — и оно сокращается. Алан сбрасывает темп, и Том его настигает. Потом их догоняет Айк.
Том (Алану). Посмотрел бы я на тебя после пятой мили.
Алан (весело). Мне и пять не пробежать.
Том. А у меня со спринтом не идёт дело.
Айк. Нечего переживать, Том!
Том (с горечью). Я и не переживаю.
Айк (оборачивается, чтобы посмотреть на Сэма и Джил). Я слежу за тобой, Сэм!
Сэм (тут же командует). Айк!
Айк покорно делает рывок, а остальные смеются.
Сэм (обращаясь к Джил). Мы знаем, как от него избавиться, а?
Когда Айк пробежал добрых двести ярдов, Сэм снова командует.
Сэм. Ладно, лёгкий бег!
Айк уменьшает скорость.
Том (оглядываясь). Никогда не думал, что вы способны на пакости.
Сэм (обнимает Джил за плечи). Джил знает, что она мне как дочка.
Алан (тоже оглядывается). Значит, пакостный папаша!
Сэм. Мы не будем обращать на вас внимания.
Бег продолжается. Бегуны, подобно молекулам, то сходятся, то расходятся. Сделав большой полукруг, они подбегают к краю лесопарка, который граничит с рядом двухэтажных загородных домов. Там, на краю лесопарка, две машины: она из них, седан «Форд Кортина», принадлежит Айку, другая, двуместная спортивная синего цвета, — Алану. Открыв дверцы, Алан и Айк подают спортивные костюмы Джил и Тому. А Сэму — серый свитер с высоким воротом и джинсы.
Айк. Сэм, по–моему, ты сегодня не в лучшем виде, правда, Джил?
Джил (сжимает предплечье Сэма). А по–моему, так лучше некуда.
Сэм (целует её в щёку). Ах ты моя крошечка!
Айк. Его крошечка!
Сэм (крепко обнимая Джил). Если бы все бегуньи были, как она, я бы к женской лёгкой атлетике относился серьёзней.
Джил. Вы и должны относиться к ней серьёзней.
Сэм. Я серьёзно отношусь к тебе, дорогая, потому что ты женственна и красива.
Джил. Вот видите! Но не потому, что я хорошо бегаю!
Сэм. Я знаю, что ты хорошо бегаешь. Но для меня твоя женственность всегда будет стоять на первом месте, а бег — на втором.
Айк (обнимает Джил за талию). Правильно, Сэм! Теперь скажи, что её место дома, на кухне.
Джил (отходя от них). Да ну вас обоих.
Сэм. Дорогая, ты наше вдохновение! Ты наша Атланта! Будь моя власть, я бы выдал тебе авансом все золотые медали только за то, что ты такая, какая есть!
Джил. Меня интересует бег, а не победы на конкурсах красоты!
Сэм. Будь такие конкурсы среди бегунов, ты бы всегда на них побеждала.
Джил. Убеждать вас бесполезно. Всё равно не поверите, что женщина может быть предана спорту.
Сэм (снова обнимая её). Да верю я в это. Если бы каждый бегун был предан спорту, как ты, если бы Алан был предан ему, как ты…
Алан. Ну вот, опять за своё.
Сэм. Он бы выиграл не только бронзовую медаль.
Джил. Только?
Сэм. Он бы стал самым выдающимся спринтером нашего времени.
Айк (насмешливо, с американским акцентом). Самым быстрым человеком в мире.
Алан. Не хотел вас слушать, так мне и надо.
Сэм. На шанс у тебя был. Ты ведь начинал у меня тренироваться. Я был готов работать с тобой.
Алан. Зачем сейчас об этом говорить?
Сэм (как бы декламируя). В жизни мужчины бывают приливы и отливы.
Айк. Но время–то упущено, да, Алан?
Алан. Безвозвратно. Ничего, Сэм, домой я вас всё равно довезу.
Сэм. В твоей ракете? Боюсь, этот транспорт не по мне.
Алан. Тогда я возьму в машину Джил.
Сэм (обнимая Джил). Мою куколку? Не доверяю её тебе ни на минуту.
Айк. Когда Алан стал бегать медленнее, он купил скоростную машину.
Алан. Тонко подмечено.
Алан открывает дверцу спортивной машины, садится за руль, а Сэм, взглянув с гримасой на остальных, садится с другой стороны. Айк и Джил забираются в «Кортину» спереди, а Том — сзади.
Сэм. Ах, ничто не сравнится со скоростью человеческого бега!
Машины отъезжают.
Она — девушка серьёзная, это для неё самое подходящее слово. Не скучная или без юмора, не тупая, а серьёзная. Про Айка этого не скажешь, он относится серьёзно только к бегу. К своему бегу. Его мало волнует судьба других бегунов, всей лёгкой атлетики, то, как нами помыкают. Он не входит ни в какие комитеты, его нужно сильно уговаривать что–то подписать, и люди иногда сердятся на него. И я тоже.
Как повезло Айку, что он встретил Джил; к его возможностям она относится не менее серьёзно, чем он сам. Ему повезло вдвойне — ведь и сама по себе она прелесть. Я и сам на неё заглядывался, но меня остановила её серьёзность; она не из тех, с кем быстро сходишься в поездках, не для лёгких интрижек. Когда она меня отшила, в голосе слышался упрёк: «А-лан!» — и это тем обиднее, что она явно чувственна.
Было интересно наблюдать в Олимпийской деревне за влюблённым Айком, он ходил с таким отрешённым видом, в глазах дурман. Было ясно, что он думает не о рекордах, не о времени на круге. Хотелось посмотреть, как к этому отнесётся Сэм, и поначалу тот не выказывал недовольства. Ведь Джил с готовностью покорилась. Подчинила свои интересы интересам Айка, чтобы вместе тренироваться и быть рядом во время зарубежных поездок. Наверное, она из тех девушек, которые хотят принести себя в жертву какому–нибудь идеалу, желательно воплощённому в мужчине.
Как–то мы вместе наблюдали за его бегом — он захватил её целиком, она смотрела на Айка как завороженная, мне даже стало завидно, а она сказала: «Разве не великолепно он бежит?» Но и он обожал её. Не только в Риме, в последнем случае, некоторое время. Они оба были окружены тем особым ореолом, какой витает над влюблёнными. Рядом с ними ты чувствовал себя лишним.
Сэм, как я уже говорил, Джил принял, хотя вообще бегуний недолюбливал. Может, он понял, что тут его карта бита. Он часто говорит Айку в присутствии Джил: «Айк, ты уже победил на Олимпийских играх. Ты привёз из Рима кое–что подороже медали». На лице Айка — неуловимая улыбка, он смотрит на Джил, встречается с ней взглядом и снова улыбается — теперь уже ей.
Мы не занимались любовью в Риме. Кто–нибудь всегда был в моей или в её комнате, на женскую половину вообще попасть не просто. К тому же мы не хотели, чтобы первый раз всё было в спешке, когда приходится прислушиваться, нет ли кого у двери. Иногда это бывало даже забавно, но не с Джил, я знал: этим всё можно испортить.
Прилетев в Англию, команда остановилась на ночь в Ланкастер — Гейт, я и не думал, что всё случится именно там. В комнатах селили по два человека, я оказался с Аланом, все то и дело сновали из комнаты в комнату. На всё вышло непроизвольно, может, потому, что нам обоим этого очень хотелось.
Я за чем–то пошёл наверх — мой номер был на первом этаже — и когда поднялся на площадку второго этажа, из коридора появилась Джил. Вокруг никого не было. Мы посмотрели друг на друга, поцеловались, и вдруг поняли, что больше ждать не можем. Я быстро провёл её в свою комнату — знал, что Алан в баре, — а когда мы вошли, запер дверь на ключ. Так хорошо мне ещё никогда не было…
Когда она на три недели уехала на север, мне было плохо, как никогда. Я терзался из–за всего вдвойне. Не знаю, что было хуже — разлука с Джил или воспоминания о том, что случилось но Олимпиаде; ведь когда Джил была рядом, я был словно под анастезией, не чувствовал никакой боли. Я тогда тренировался, как дьявол, сперва залечивал ногу, потом снова в лесопарк — отвлечься мне было больше нечем. Я удивил даже Сэма, он и не догадывался о причине.
Он меня здорово поддержал в тот момент, подбадривал как мог, говорил, что теперь моя ближайшая цель — мировой рекорд: ведь до следующей Олимпиады четыре года. Конечно, я хотел отнять рекорд у Брэка, но я и раньше побеждал его и что я, собственно, докажу, если обгоню его ещё раз? Вот если бы я победил его в Риме…
Стен Линг добыл для Сэма спортзал, куда временами ходил и сам с другими ожиревшими бизнесменами. Частенько там занимались и спортсмены. Было смешно видеть Сэма среди серебристых штанг и плюшевых ковров в тех же потёртых джинсах и свитере, смотреть, как он гоняет старых толстяков. Наверное, Сэм согласился взять зал потому, что он стал для него финансовой базой — ведь со спортсменов он никогда не брал и гроша.
Мы с Джил собирались пожениться, договорились об этом ещё в Риме, и она решила перебраться в Лондон, устроиться учительницей. Джил раньше преподавала в Манчестере. Я поехал знакомиться с её семьёй, все они мне понравились. Её старик чем–то напоминал моего, он был из текстильной фабрике. Два старших брата уже имели свои семьи, а мать походила на Джил, только была полнее. Очень спокойная, она то и дело приносила чай. Конечно, им трудно было смириться с мыслью о том, что Джил переедет в Лондон, но вообще–то люди оказались очень славные. Главное, они не стали её отговаривать.
В Лондоне она стала преподавать в школе около вокзала Кингз — Кросс. Сперва она жила вместе с нами в Хекни, и это было чудесно, но потом сняла квартиру в районе Камдентауна, ещё с двумя учительницами. Я сказал, что нам самим бы не худо снять квартиру, но Джил отказалась из–за родителей: сперва надо пожениться. Она тренировалась в лесопарке вместе со мной, Сэмом и остальными. Сэм был от неё в восторге. Вообще–то он не любил тренировать девушек, они у него обычно не задерживались, но Джил ему нравилась, и мне это было приятно.
«Британский бегун Айк Лоу женится на хорошенькой двадцатидвухлетней Джил Дейли, спринтере международного класса. Они объявили о своей помолвке вчера, но товарищи по команде предсказывали её уже после Римской олимпиады. Там Айк, главная надежда на победу в забеге на 1500 метров, выбыл из строя в полуфинале из–за растяжения мышцы. А Джил вышла в финал на 100 метров.
Торгового представителя Айка и учительницу Джил в Олимпийской деревне часто видели вместе. Сейчас они готовятся к Токио, к Олимпийским играм 1964 года, и вместе тренируются.
«Я знаю, что Айк может завоевать золотую медаль, — сказала Джил, переехавшая из Манчестера в Лондон. — Уверена, он победил бы и в Риме, если бы не травма».
«Джил мне очень помогает, — сказал уроженец Хекни Айк. — Бегун всегда поймёт другого бегуна».
А каковы спортивные планы Джил?
«В Токио мы хотим сделать дубль».
Вот что сказал мне Сэм: «Джил очень славная девушка, прелестная молодая женщина. Твоё желание жениться на ней естественно и благородно. Будь я помоложе, я бы и сам на ней женился! Если спортсмен женится, лучше всего ему выбрать жену из своего круга — она поймёт его преданность спорту, не обидится, что спорт у него на первом месте. Потому что им обоим известно — компромисса быть не может. Но на этом этапе надо как следует подумать; ведь бег и супружеская жизнь предъявляют разные требования, можно ли их примирить? Женщине нужен домашний очаг. Ей нужны дети. Всё это биологически оправдано. Это естественные человеческие стремления. Но спортсмен стремится к физическому совершенству, к развитию собственных возможностей. Как совместить её требования со своими? Есть риск потерпеть неудачу в том и другом.
Женитьба — большое искушение для спортсмена. Жизнь легкоатлета — одинокая жизнь, это давно известно. Со стороны она может казаться эгоистичной, но любое призвание требует определённых жертв. Гораздо легче жить в пригороде, ездить каждый день на работу, где от тебя не ждут никакой инициативы, чем быть легкоатлетом, который должен постоянно поддерживать прекрасную форму, постоянно закалять волю, принимать решения в каждом забеге.
Женись. Женись обязательно, она чудесная девушка, но прежде как следует обо всём подумай».
Я думал об этом, много думал. Но я всё видел не так, как Сэм. Джил будет мне помощницей, ничего лучше и не придумаешь: жена — Джил, тренер — Сэм. К тому же она зарабатывает на жизнь, будет готова работать и дальше. Мне, наверное, придётся уйти из дому — это не так уж важно. Что до детей — заведём, когда захотим, не надо только спешить. Со временем захотим наверняка, но пока мы оба собираемся бегать. Во всяком случае, в ближайшие четыре года.
«Вчера в соборе Святого Иуды не раздавалась команда «На старт!», хотя, случись такое, никто бы не удивился. Ибо бегун женился на бегунье — спринтер Джил Бейли выходила замуж за милевика Айка Лоу.
Их тренер, Сэм Ди, был шафером, а среди прихожан были стайер Том Берджесс и обладатель бронзовой олимпийской медали спринтер Алан Белл.
Нет нужды говорить, что невеста и жених прошли рука об руку под аркой поднятых вверх шиповок. А сама свадьба состоялась, что тоже естественно, в окружении гантелей и эспандеров в роскошном спортзале тренера Ди в Хампстеде».
Всех интересовало: в каком виде Сэм придёт на свадьбу, что он наденет? Он явился во фраке и сером цилиндре, что, в общем–то, вполне можно было предвидеть. Свитер и джинсы в такой день не годились. С другой стороны, всё–таки это не был приём у королевы. Вообще, этот наряд ему шёл — лицо сатира под цилиндром: всё равно что на собаку напялить пуловер или на лошадь — соломенную шляпу.
Сэм, конечно, был душой общества, с присущем ему неистовством прыгал, смеялся, без счёта целовал Джил, обнимал Айка. Любой посторонний подумал бы, что он им приходится отцом, возможно, таковым он себя и чувствовал. Подлинные отцы со своими жёнами стояли где–то сзади, все четверо смотрели на него, как на какое–то диковинное животное. Можно было подумать, что эта свадьба — его идея с самого начала, что это его триумф. Потом он выступил с речью. Её стоило внимательно послушать, она была полна намёков.
Он стоял с бокалом шампанского — угощали хорошим шампанским и прекрасными закусками; наверное, за всё платил прирученный им миллионер Стен Линг; Сэм выступал, а на лице его мелькала знакомая плутовская улыбка.
Как чудесно, говорил он, когда двое прекрасных молодых людей вступают в брак, и ещё приятней сознавать, что они к тому же прекрасные спортсмены. Джил — очаровательная девушка, Айк — красивый, мужественный парень. Он смотрел на них во время церемонии, он видит их сейчас и думает — какая великолепная пара! Кто–то скажет, что они слишком молоды, но в наши дни ранние свадьбы вошли в моду. Нынешняя молодёжь свободна и независима, молодые теперь всё решают сами и следуют своим наклонностям, и особенно хорошо это заметно в среде нынешних молодых спортсменов.
Он уже говорил и готов повторить, что приз, завоёванный Айком в Риме, ценнее любой золотой медали (снова аплодисменты, Джил склоняет голову). Женившись на Джил, не только красивой девушке, но и чудесной бегунье, Айк приобрёл в её лице человека, который, надо надеяться, поможет ему реализовать весь его потенциал, а каждый из нас знает, каков этот потенциал, и он считает своим и нашим священным долгом его поощрять (он посмотрел на Джил, а она ответила пристальным взглядом). Он хочет внушить Айку — хотя едва ли в этом есть нужда, — что сейчас на нём лежит двойная ответственность: по отношению к спорту и к жене. Кто–то увидит здесь противоречие. Лично он так не считает, потому что знает Айка, знает Джил и уверен (снова взгляд на Джил, и снова пристальный взгляд в ответ), что Джил больше всех заинтересована, чтобы Айк достиг больших высот, покорить которые ему по силам.
В общем, они заключили брачный союз с гораздо большей мерой ответственности, чем просто муж и жена. Их связывает не только любовь, но и общее призвание, общие честолюбивые замыслы. (Бурные аплодисменты.)
Большое спасибо, говорит Айк, надеюсь, что выполню всё, чего от меня ждёт Сэм, как в беге, так и в супружестве.
Большое спасибо, говорит Джил, сдержанно, даже чуть стесняясь, выступать я не умею.
Но второй план от неё, конечно, не укрылся, она поняла, что происходит, хотя и не могла найти нужных слов. Она всё улавливала нутром, слова ей давались труднее. Ей всё сказал и тон Сэма и взгляд его глаз. Она смотрела не него спокойно, вопросительно и отчуждённо, словно получила предупреждение и теперь решала, как ей быть. Женский принцип. Она была исключительной девушкой, непохожей на большинство легкоатлеток, хихикающих, безвкусных девиц с городских окраин, со всеми их глупыми высказываниями насчёт «агрессивности» и «соперничества». Думаю, Сэм недооценивал её.
«Когда бегун женится на бегунье, кто занимается домашним хозяйством?
Айк Лоу, лучший британский милевик, и его жена, спринтер Джил, нашли демократическое решение. «Домашнюю работу мы делим пополам», — ответила прелестная двадцатидвухлетняя брюнетка, учительница Джил — Джил Дейли до замужества. — Мы разработали систему. Айк на хозяйстве четыре дня в неделю, а я — три, но во время школьных каникул, когда я больше бываю дома, порядок меняется».
Женившись в феврале, чета Лоу переселилась в дом в Финчли. Много места здесь занимают кубки и призы, завоёванные обоими. «Моя обязанность их начищать, — вздыхает Джил, — и это занимает уйму времени».
В настоящий момент кухней занимается она, хотя иногда вегетарианец Айк приносит ей завтрак в постель, и она потихоньку учит его варить яйца всмятку: «Это совсем нетрудно».
Три раза в неделю она тренируется с ним на Хампстед — Хит под руководством широко известного тренера Сэма Ди. Их трасса проходит через холмы и овраги, в дождь и под палящим солнцем и столь терниста, что некоторые бегуны называют её «полосой препятствий Сэма Ди». Но Джил бежит весь маршрут с мужчинами и не отстаёт от них.
— Просто нет слов, — восхищается Айк, — я боюсь расслабиться, а то она меня перегонит…
— Между вами есть соперничество?
— Никакого, — отвечает Айк, торговый представитель фирмы в Тоттенхэме, — ведь нам никогда не придётся соревноваться друг с другом.
А Джил добавляет:
— Я больше радуюсь, когда побеждает Айк, чем когда побеждаю сама. Но вы бы посмотрели, как он волнуется, когда бегу я!
Они вступили в брак вскоре после прошлогодней Римской олимпиады, когда Джил вышла в финал, а Айк сошёл с дистанции, получив травму, хотя многие предрекали ему победу. Сейчас супруги готовятся к следующей Олимпиаде и надеются стать первой в мире супружеской парой, которая завоюет олимпийские медали.
Эти две медали Джил, конечно, будет чистить с большим удовольствием!»
Эти два года, вплоть до Перта, я соревновался не с людьми, а со временем. Я готовился побить мировой рекорд. Конечно, соперников мне недоставало, они подгоняли бы меня к цели.
Я уже говорил — после Рима мировой рекорд казался поначалу утешительным призом, но со временем его ценность в моих глазах росла, и он уже сам по себе что–то значил. Если я установлю рекорд, мы с Сэмом докажем всему миру то, в чём сами не сомневались, — что я лучший в мире милевик, что я победил бы в олимпийском финале, не помешай мне травма. К тому же многие критиковали Сэма: он, мол, перегрузил меня тренировками, загнал, вот мышца и не выдержала. Критику наводили Рон Вейн, чего следовало ожидать, Джек Брейди, тоже имевший на него зуб, да и других хватало. Журналисты спрашивали меня, почему это случилось, не был ли я слишком перетренирован? Я всем отвечал, что тренировался не больше, чем перед Играми Содружества, когда я опередил Бэрка, но любители помутить воду находились.
Я вовсю разрабатывал ногу, давал ей солидную нагрузку в спортзале Сэма; рентген показал, что с ногой нет ничего страшного. Но меня всё мучило воспоминание о том дне, об испытанной боли и ужасном чувстве беспомощности; наверное, потому я так и жаждал этого рекорда, что в душе боялся — вдруг такое повторится? Четыре года — слишком большой срок, за это время можно заболеть или попасть под машину, но если установишь рекорд, то всё–таки войдёшь в историю спорта.
Я думал о Баннистере. Он не побеждал на олимпиадах, но помнить его будут вечно, как человека, впервые пробежавшего милю быстрее четырёх минут. С тех пор это доступно многим, но это не важно — первым был он. Сэм часто говорил: «Баннистер, возможно, не был сильным соперником на дистанции, но он расширил пределы человеческих возможностей».
Конечно, выйти из четырёх минут — тут было к чему стремиться; все последующие рекорды в беге на милю были, скажем, просто рекордами. Но в глубине души я знал, к чему стремлюсь, думаю, знал это и Сэм. Я хотел пробежать милю за 3.50 — это казалось невероятным, когда–то считалось, что и четыре минуты — результат недостижимый, а Баннистер его достиг.
Но зимой это невозможно, все соревнования проходили в закрытых помещениях и почти все в Штатах. Оставалось только тренироваться и думать о будущем, но после женитьбы мне стало легче, потому что рядом была Джил.
Алан тренировался вместе с нами; он ушёл из большого спорта, но ему хотелось сохранить форму. Он был любитель подпустить шпильку и частенько жалил Сэма, но тот отвечал ухмылкой; они походили на двух псов, готовых к схватке. Думаю, Сэм потому и разрешал ему тренироваться с нами, что, по сути, это подтверждало веру Алана в его идеи, к тому же Сэм, думая о прошлом, полагал: тренируйся у него Алан с самого начала, быть бы ему олимпийским чемпионом.
Однажды Сэм говорил о болевом барьере, а Алан сказал: «Вы хотите, чтобы ваши бегуны отдавали концы в каждом забеге, так?» А Сэм ответил: «Нет, не так. Я хочу, чтобы они преодолевали себя в каждом важном забеге».
Алан обычно поддразнивал и Джил. Я её уверял, что это ничего не значит, но Джил его недолюбливала. Она говорила: «Он говорит то, что думает, улыбается, чтобы ему не верили. Алан просто завидует». Я возражал: «В чём ему мне завидовать?» Но она отвечала: «Не только тебе. Он завидует всем, кто счастлив».
Я полетел в Чикаго и выступал на встрече Рыцарей Колумба. Стен поступил благородно: он оплатил дорогу Сэму и Джил. Дорожка была хорошей, участвовал Драйвер и снова Гэтц, и ещё новичок — школьник по имени Дюрран. Я уже привык к двенадцати кругам, насыпям и бортикам. Теперь я знал, как нужно действовать, не то что в первый раз в Нью — Йорке. Затереть меня уже не удастся.
И я победил, обогнал Драйвера. Мы бежали вровень, ожидая, когда другой ускорит бег, а Сэм сказал, чтобы я начал рывок на девятом круге — у меня больше скоростная выносливость, чем у Драйвера, значит, могу уходить в отрыв раньше, хотя обычно это игра в кошки–мышки. Я так и поступил. После восьмого круга впереди бежал другой янки, Келли, а мы с Драйвером держались позади, он на внутренней дорожке.
Я рванул, опередил Келли, Драйвера это застало врасплох, но вскоре он уже бежал следом. Я был впереди ярдов на десять и знал — никому в мире меня не догнать, когда до финиша всего 250 ярдов. Так я и пришёл первым. Драйвер отстал ярдов на десять. Потом он подошёл и сказал: «Ты меня удивил. В следующий раз учту». А я ответил: «В следующий раз я придумаю что–нибудь новенькое». Он добавил: «Если не ты, то Сэм».
Я едва сдержался, но подумал: да бог с ним. Я его слопал, это главное. Есть в нём это свойство, присущее многим янки, — «подзавести» соперника, сказать перед забегом какую–нибудь пакость и вывести тебя из равновесия; надо не обращать на них внимания, и всё. К тому же подобные подковырки я уже слышал, особенно от Алана.
Но однажды меня удивила Джил. Как–то после тренировки Сэм стал говорить о планах на текущий сезон, в каких соревнованиях я должен участвовать и в каких не должен, к каким относиться как к разминке, а когда идти на рекорд и так далее. На обратном пути в машине вижу — Джил сидит, будто в рот воды набрала. В чём дело, спрашиваю?
Она ответила: «Он говорит с тобой так, будто у тебя нет своей головы». Я сказал: «Брось ты, это же Сэм. Для него это норма». Она добавила: «Можно подумать, что ты — его творение». Я сказал: «Ну в каком–то смысле так и есть, милевиком меня он сделал». Она рассердилась — раньше я за ней такого не замечал. «Чушь! Никто из тебя ничего не делал. Он выявил то, что в тебе уже было». Я ответил: «Да, но кто–то должен был это выявить?» Она сказала: «Возможно, но у тебя уже всё было».
Я тогда не обращал на это особого внимания, просто у Сэма такая манера выражаться. Она раздражала многих, но потом люди привыкали. Я думал, привыкла и Джил. Ведь Сэм признавался: «Если нет задатков, мне не под силу их развить. Когда в земле нет нефти, бури хоть целый век — толку не будет». Позднее, вечером, когда я вспомнил его слова и пересказал ей, она ответила: «Да, я это слышала».
Мы уже лежали в постели. Я обнял её и прижал к себе, было приятно, что она во всём на моей стороне, даже когда в этом нет нужды. Скоро она расслабилась, повернулась ко мне, и я её поцеловал.
«Есть два различных метода, когда готовишься побить рекорд. Любой из них может привести к успеху, а может и подвести. Баннистер применил синтетический метод, когда весь забег строится так, как это выгодно идущему на рекорд. А в обычном, так сказать, честном забеге к рекордному результату тебя подталкивает естественный ход событий, и бегун, преодолевая себя, устанавливает рекорд.
Я считаю, эти методы нельзя сравнивать. Между честным рекордом и специально подготовленным есть большая разница. В подготовленном забеге претендент бежит строго по секундомеру, а остальные как бы стимулируют его бег. Рекорды, конечно, важны, но они не самоцель. В идеале они рождаются в соревновании. В твоём случае я готов терпимо относиться к заранее просчитанным забегам, но я от них не в восторге. Я готов с ними смириться, потому что знаю: тебе нужна цель, ан этом этапе твоей карьеры тебе как спортсмену важен рекорд, ты заслужил право стать рекордсменом, как и заслужил право победить в Риме. Но мне будет куда приятнее, если ты побьёшь рекорд в открытом соревновании, и я думаю, что так оно и будет, потому что ты настоящий бегун, бегун–боец».
Был тут и ещё один момент, о котором Сэм предпочитал умалчивать, — каждая попытка установить рекорд приносила мне много денег, и они были очень кстати: надо было обставлять дом мебелью и всем необходимым. Скажу честно, в некоторых забегах, где от меня ждали рекорда, я не слишком старался — приходил первым, но не лез из кожи вон. Ну и что ж, что мне платили, ведь все эти янки за свои занятия спортом получали стипендии и богатели куда больше меня. Не мог я сравниться и с русскими, о которых заботится государство. Разница была в том, что мне никаких денег вроде не полагалось, получал я их как бы втихаря.
Рекорд принадлежал Драйверу — 3.54,9; он установил его год назад в Лос — Анджелесе во время отборочных соревнований в олимпийскую команду США. Я для себя решил, что пойду на побитие рекорда в Калифорнии или в Австралии — словом, где–нибудь, где светит солнце и атмосфера подходящая, но только не в Англии с её вечно серым небом, дождём и тяжёлыми дорожками, хотя Баннистер и вышел из четырёх минут в Оксфорде.
Трудность была в том, что «организованный» забег был возможен только в Англии. В одном из них я чуть было не поставил рекорд. Со мной бежали четверо: Дон Мейтланд (он тоже был в Риме), Джек Ньюмен, Уолли Пратт и Дуг Мэдли. Обычная дистанция Дуга — четверть мили, на милю он вообще бегал несколько раз в жизни, но по плану он должен был здорово подстегнуть меня на первой четверти мили. Правда, первый круг я и сам всегда проходил довольно быстро.
Моё лучшее время тогда было 3.55,4, я его показал в прошлом году в Польше. Там к намеченному плану я отнёсся легкомысленно и перед последним кругом слишком отстал. Вот и поднажал что было сил. Если бы я шёл на такой результат заранее, наверняка ничего бы не вышло, по заказу получается редко.
Первый круг я, на свою беду, пробежал слишком быстро. Дуг понёсся вперёд, и мне пришлось выложиться, чтобы не отстать, — он–то бежал, как всегда, на четверть мили, и в конце первого круга между нами было всего несколько ярдов.
В результате второй и третий круги я пробежал хуже обычного. Джек Ньюмен обогнал меня на втором круге — он хорошо бегал милю в клубе, хотя никогда не выходил из четырёх минут, — но тут я с трудом за ним удержался. Мне тогда пришлось очень туго, лёгкие сдавливало, ноги двигались тяжело, даже тошнило. Думал, что за ерунда, что за дурь, ведь не будешь же бороться с болевым барьером на втором круге! Но так уж вышло, в глазах у меня было темно, я не видел ни стадиона, ни толпы, ни бегунов, даже самой дорожки; только бы выдержали ноги, только бы не лопнули лёгкие, каждый шаг давался с усилием, но я выдержал и, пробегая мимо Сэма, услышал его крик: «1.55,8!»
На третьем круге я догнал Уолли Пратта, другого клубного милевика. Будь на его месте Дуг Мэдли, который, естественно, уже отстал, я бы добился своего, но Уолли не мог «тянуть» меня с хорошей скоростью, а это мне бы не помешало, ведь болевой барьер я преодолел. А так я расслабился. Сэм прокричал: «2.58,3!» — и я понял, что для рекорда это слишком много.
На последнем круге хорошо бежал Дон Мэйтленд, он меня заставил поднапрячься, но после поворота он «испустил дух», я остался один, никто меня не подстёгивал, только голос Сэма и мысль о рекорде. Дона я опередил на двадцать ярдов, на финише чуть не упал. Мне потом сказали, что я, когда разрывал ленточку, от недовольства качал головой. Сэм подошёл и сказал: «Великолепно бежал», но я даже не спросил о своём времени — настолько был измотан.
Сперва подошли Дон и Уолли, потом другие, все меня хлопали по спине, говорили — хорошо бежал, но я только кивал, говорить ещё не мог. Голос из громкоговорителя объявил время: три минуты пятьдесят семь секунд. Я ругнулся и ушёл.
Когда я пришёл в себя, понял, что показал не такое уж плохое время; будь сильнее конкуренция на последних двух кругах и не выложись я так сильно на первом наверное, рекорд бы пал. Сэм сказал, что в следующий раз он постарается для первого круга подобрать бегуна на полмили, но последний круг всегда будет проблемой, потому что в стране не было бегуна, который мог бы «тащить» меня на финише.
У Джил, однако, было другое мнение. Она сказала: «Именно на втором и третьем кругах тебе нужны конкуренты. Ты всегда хорошо стартуешь, всегда хорошо финишируешь. Если бы первый круг ты бежал в своём ритме, мог бы быть рекорд. На втором круге я даже испугалась, думала, вот сейчас ты упадёшь». Я сказал, что тоже так думал, но преодолел боль. Тогда она посмотрела на меня. «Этот свой болевой барьер…» А чем он, спрашиваю, плох? Она ответила: «Ничем, просто у меня о нём своё мнение». Я спросил: «Ты в него не веришь?»
Она долго молчала, потом сказала: «Сэм так говорит о боли, будто это что–то замечательное». А я ответил: «Она и может быть замечательной. Если уметь ею пользоваться». Джил продолжала: «Некоторые вот так говорят о родах, его послушать, выходит, что бег без боли — это не бег». «Но ведь ребёнка не родишь без боли, верно?» — возразил я. Джил ответила: «Почему же? Я знаю многих, кому это удалось».
Я передал Сэму, что думает Джил о распределении сил на дистанции. Мы были в спортзале, я делал ненавистное упражнение — прыжки на корточках. Он спросил как бы самого себя: «Она так думает?» И пошёл через зал помочь какому–то толстопузому бизнесмену, который мучался со штангой. Когда вернулся, спросил: «А как думаешь ты сам?» Я ответил: «Не знаю. Может, она права, может, тут есть два варианта».
Он держал в руке тяжёлый блин и после моих слов бросил его со звоном на подставку для штанг и вышел. В тот день я его больше не видел.
На следующий день, когда мы тренировались в лесопарке — Сэм, я, Том и ещё несколько человек, — он спросил: «Сколько лет я тебя тренирую, Айк?» Я ответил, что точно не помню, кажется, около четырёх. Он сказал: «Как ты думаешь, знаю я хоть что–нибудь о том, что тебе требуется как бегуну. На что ты способен?» Я ответил: «Безусловно». А он добавил: «Хотя бы то, что требуется твоему телу — не душе, а телу?» «Да, конечно», — ответил я.
Мы ещё побегали, потом он сказал: «Я уважаю Джил и восхищаюсь ей как женщиной; я надеялся, что и она уважает во мне тренера». «Так оно и есть, — заверил его я, — нечего из–за этого расстраиваться. Могут же у неё быть свои мысли».
Не глядя на меня, он сказал: «Надеюсь, ты прав. Хотелось бы в это верить».
Не знаю, отчего и почему, но отношения Сэма к Джил внезапно изменилось. Раньше он засыпал её комплиментами, был медоточивым сверх меры, теперь вдруг стал очень вежливым, чуть ли не официальным, но главное — подозрительным. Вообще–то он подозрителен по натуре, как все самозванные пророки: подозрителен к журналистам, к начальству, к женщинам — словом, ко всем, кто не поклоняется рабски его теориям. Джил, ясное дело, эту перемену сразу почувствовала и тут же замкнулась, ушла в свою раковину.
По–моему, она не поняла, в чём причина. В лесопарке вид у неё был смущённый, подавленный. Держалась она настороже, как цветок, что свернул лепестки для самозащиты. Отразилось это и на Айке Уже не было прежней жизнерадостности, бьющей через край весёлости — в общем, треугольник перестал быль счастливым.
Изредка Айк смотрел на Сэма, потом бросал задумчивый взгляд на Джил, будто жалел о том, чего уже нет. Не знаю причины, но Сэм вступил в эту битву напрасно — ведь в этой битве его поражение неизбежно, особенно при его нраве. Мои слова иллюстрирует картина, стоящая у меня перед глазами: Джил и Айк, бегущие рядом.
Я убежал вперёд по команде Сэма. Когда он крикнул «Лёгкий бег!» — я оглянулся и увидел, как они бегут вдвоём, сами по себе, любовно смотрят друг на друга, напоминая какое–нибудь полотно викторианской эпохи под названием «Верность».
Джил всё реже появлялась в лесопарке. Вначале Сэм, с виду озабоченный, но по сути довольный, спрашивал: «А где же Джил?» И чему он только радовался? Айк же раздражённо отвечал: «Эту неделю она тренируется в клубе» — она перешла в «Атланту» — или «Задержалась в школе». Когда она приходила, Сэм держался с ней дружелюбнее, но она оставалась замкнутой и настороженной — притворяться не умела. Потом она вовсе перестала приходить.
— А где Джил!
— Поехала в «Кристал–палас». Ей там дорожка нравиться
Неубедительно.
Как–то Айк задержался, и Сэм спросил:
— Где был, Айк?
— В «Кристал–паласе», немножко побегал с Джил.
— В другой раз извести меня, ладно?
Айк стал извиняться:
— Понимаешь, я хотел её только отвезти, а там оказалось, что ей и побегать не с кем.
А потом стало нормой, что по средам он в лесопарк не приходит.
Я сказал Айку: «Жаль, что Джил больше не появляется». Он смутился: «Понимаешь, такая тренировка не по ней. Тут у нас всё рассчитано на выносливость, а спринтеру это ни к чему».
Как–то я и ей сказал, мол, жаль, что больше не приходишь. В тот день я подвёз Айка домой — их машина была у неё. Пока он переодевался, мы остались одни.
— Почему тебе жаль?
— Ты меня вдохновляла. Решила, что ты там лишняя?
— Ты очень любишь задавать вопросы.
У них небольшой уютный домик на окраине, она драит его до блеска. Это не удивительно, она их тех женщин, которые для всего находят время: тренируются, преподают, ведут дом, шьют.
Их дом похож на тот, где рос я, — впрочем, и они наверняка росли в таких же, — никакой особенной красоты, но удобно; только у их дома вид уже совсем ухоженный. Всё блестит, краски яркие, кругом подушки; столовая холодная. Наверняка необитаема, а кухня очень современная, с холодильником, посудомойкой. В гостиной — горка с кубками и медалями, никакого фарфора, а над камином — электрическим — большая фотография Айка, рвущего ленточку в Кардиффе во время Игр Содружества. И, конечно, разные зарубежные сувениры из бамбука, резные изделия, пепельницы, плакаты, сомбреро, стеклянные фигурки и куклы. Всё это безделушки, они не меняли характера жилья, такие сувениры купили бы и их родители, бывай они за границей, такие привозят из дальних стран солдаты. Ведь и мы, спортсмены, та же армия, только не ведущая боевых действий, ты путешествуем по миру, видим всё и не видим ничего, мы избалованы, хорошо тренированы, всегда ездим с высшей целью, а если мы нашли время по–настоящему узнать новый город, другую страну, то лишь за счёт того, во имя чего приехали.
Когда я слышу, о чём говорят между собой спортсмены, всегда вспоминаю рассказ солдата, побывавшего на войне: «Каир? Прелесть. Потрясающие забегаловки. Ветчина с яйцами. Неаполь? Обалдеть можно. Потрясная кухня. Треска с жареной картошкой». У спортсменов чуть иначе: «Милан? Там я побил европейский рекорд. Афины? Кошмар. Растянул мышцу. Стокгольм? Высший класс. Я пробежал первый круг за 55,2». Такова цена — если, конечно, считать это ценой. Айк наверняка не считает, насчёт Джил не знаю. У Айка на уме сейчас только мировой рекорд, и место, где он его установит, будет самым замечательным на свете.
Именно так его настроил Сэм, и Джил хочет того же. Она говорит о рекорде с не меньшим благоговением, чем Айк или Сэм. Однажды она меня спросила очень серьёзно: «Как думаешь, Алан, он побьёт рекорд?» «Конечно, — говорю, — уверен». Но сказал как бы между прочим, это была ошибка. Но когда в тебя впиваются, как клещами, такая реакция естественна.
Она посмотрела на меня подозрительно и сказала: «Ты говоришь так, будто это само собой разумеется». И я ответил: «Просто рассуждаю объективно. Айк самый талантливый милевик в мире. Он посвятил себя тому, чтобы побить рекорд, значит, рано или поздно он своего добьётся».
Она мгновение смотрела на меня, будто не удовлетворилась ответом — слишком уж легковесно звучала моя уверенность, но в общем придраться ей было не к чему. Я не смог сдержать улыбку, добавил: «Я верю в Айка», а она, пристально глядя на меня, сказала: «Правда?» И я ответил: «Конечно. Все мы верим. Только каждый по–своему». Она всё глядела на меня, такая прелестная и серьёзная, и я внезапно представил её себе в белом наряде, как богомолку в храме поклонения его таланту.
«На этой неделе я задал Айку Лоу откровенный вопрос. Мы сидели за ленчем в вегетарианском ресторане в Сохо — Айк не прикасался к мясу последние четыре года: «Вы действительно считаете, что можете принести Британии мировой рекорд?»
Двадцатичетырёхлетний лондонец, ростом в шесть футов, сделал паузу, оторвавшись от русского салата, потом посмотрел мне прямо в глаза и ответил: «Джон, этот рекорд для меня всё в жизни. Если бы я не чувствовал, что способен побить его, я завтра же повесил бы шиповки на гвоздь». Меня охватила патриотическая гордость при мысли, что британский бегун полон решимости и воли бросить вызов своим американским и европейским соперникам.
В прошлом мае в Слоу Айк лишь 0,8 секунды не дотянул до рекорда американца Джима Драйвера, установленного в минувшем году в Лос — Анджелесе. Айк открыто признаёт, что то было соревнование с заданным темпом. «Ведь и Баннистер тоже шёл с заданным темпом, когда пытался разменять четыре минуты». Айк считает, что его постигла неудача потому, что он взял слишком быстрый темп на первом круге. Это, разумеется, лишь относительная неудача, потому что Айк показал время 3.55,7.
Серия клубных побед, международные соревнования и выезды по приглашению не приблизили его к мечте. На празднике нортумберлендских шахтёров он прибежал к финишу за 3.55,3. «Чуть–чуть не хватило на последнем круге, а то рекорд был бы мой». В Уайт — Сити, выступая против венгров, он сделал такой мощный рывок на последнем круге, что даже олимпийский финалист Будаи остался позади примерно на двадцать ярдов. Время Айка — 3.56,8.
Уже в этом году он победил Драйвера — в Чикаго, в закрытом помещении. В эту среду Айк и его хорошенькая жена, спринтер Джил, вылетают в Лос — Анджелес в составе небольшой британской команды для участия в крупной международной встрече.
«Там будет Драйвер, — сказал Айк. — Там же он установил рекорд, и бежать против него будет нелегко. Возможно, приедет и Бэрк».
Если Айк победит в такой сильной компании, это как–то скрасит его прискорбную неудачу в Риме. Но он жаждет не просто победы — он хочет установить рекорд.
«В Лос — Анджелесе, — сказал он мне, — условия хороши, и соперники тоже. — В его глазах появилась решимость. — Если удача отвернётся от меня и в этот раз, то не потому, что я не старался».
В самолёте Джил сидела справа от меня, а Сэм — слева. По другую сторону прохода — Стен Линг с женой, а позади них — Рон Вейн, который вёл себя так, будто Сэма вовсе не было.
Предстоящий забег не шёл у меня из головы, ведь я поставил две цели: победить и побить рекорд; если забуду об осторожности, можно упустить и то и другое. Почти во всех соревнованиях сезона передо мной стояла одна из двух целей. В забегах с рассчитанным темпом — идти только на рекорд, а в международных встречах — сделать всё, чтобы победить; если же соперники побегут здорово, может, конкуренция и выведет меня на рекорд.
Мне хотелось поговорить об этом, разложить по полочкам, но я не знал, в чью сторону повернутся: заговоришь с Сэмом — обидится Джил и наоборот. Общего разговора быть не может. Всё это было поистине ужасно, и я просто не мог понять — моя жена и мой лучший друг, самые дорогие для меня люди в мире, без которых я себя не мыслю, дуются друг на друга из–за ерунды.
Они не спорили, ничего такого не было; уж лучше бы поспорили — всё бы наружу вылилось. И не грубили друг другу. Изредка Сэм обращался к Джил, она всегда отвечала или же он говорил мне при ней: «У твоей жены красивое платье». Открытого конфликта не было, но в атмосфере словно веяло холодом, и мне это не нравилось.
Я пытался наладить их отношения бог знает сколько раз. Однажды Сэм пришёл к нам на обед и весь вечер разговаривал, но Джил и слова не вставила. Он то и дело поглядывал на меня, будто ожидая, что она что–то возразит, но она молчала и даже после его ухода ничего не сказала; распрощался он, кстати, вполне по–дружески, поцеловал её и поблагодарил за вкусный стол. Когда мы потом мыли посуду, я спросил: «Что всё–таки случилось?» Она ответила: «Ничего», но было ясно — что–то не так. Я спросил: «Тебе Сэм разонравился?» Она ответила: «Это я разонравилась ему». Она говорила это и раньше, а я её заверял, что она ошибается, что он часто спрашивает, почему она не приходит на тренировки. А она отвечала: «Это чтобы ты был доволен. Уже больше месяца он со мной почти не разговаривает». Я сказал: «Это ничего не значит, просто он такой».
Она продолжала: «Ты же знаешь, я не хочу ничего менять. Он чудесный тренер, он тебе нужен». И вдруг начала плакать, беззвучно, только слёзы текли по щекам. «Джил, что с тобой?» — спросил я. Но она покачала головой, а когда я хотел её обнять, отодвинулась. «Слушай, он мне нужен только как тренер. Что же тут плохого?» Меня будто тянули в разные стороны, а самому хотелось и туда и сюда, я даже разозлился — до того всё это было несправедливо.
Я начал кричать на неё: неужели нельзя жить спокойно, неужели надо что–то выдумывать? Я понимал, что несправедлив к ней, но это меня злило ещё больше. Она ничего не отвечала, перестала плакать и продолжала мыть посуду, вытирать тарелки, методично расставлять их по местам. А когда закончила, вытерла руки, сняла передник и вышла из кухни.
Поднялась наверх, в спальню, и заперла дверь. Я чувствовал себя ужасно, мы никогда раньше не ссорились, хотелось уйти из дома и больше не возвращаться. Уже было схватился за телефон, спросить у Сэма: «Ты что, нарочно расстраиваешь Джил?» Схватил с полки тарелку, хотел было шваркнуть её об стену, но сдержался. Пошёл наверх, но дверь в спальню всё ещё была заперта. Постучал. Она не ответила. Я прислушался — не слышно ли плача, позвал: «Джил! Прости». Потом услышал, как она встала с постели, открыла дверь, посмотрела на меня и сказала: «Ты прости».
Я поцеловал её. Кажется, никогда ещё я так её не любил.
После этого случая мы почти не говорили о Сэме. Будто заключили соглашение, что он — неизбежная часть моей работы. Мне всё это не нравилось, очень не нравилось, мою жизнь будто разрезали надвое, но выхода я не видел.
Я слегка повздорил с Сэмом из–за того, что хотел по средам тренироваться с Джил в «Кристал–паласе». Он сказал: «Это нарушит ритм программы, которую я для тебя наметил». Я ответил: «Слушай, но я каждый раз пробегаю там по пять миль». Он заметил: «Это не одно и то же. Во–первых, там ты бежишь по дорожке, а не по пересечённой местности; во–вторых, там ты не под моим наблюдением». Я возразил: «Сэм, это мой долг перед Джил — тренироваться с ней хотя бы раз в неделю». Он сказал: «Пусть тренируется здесь, я буду только рад». Что я должен был ему ответить? Что ей здесь тренироваться не хочется? «Да, конечно, но тут ей тяжело, там нагрузки другие».
Какое–то время он спрашивал, почему я не являюсь по средам. Но с наступлением сезона, когда без тренировок на дорожке стало не обойтись, Сэм сдался. Раз–другой спросил, не может ли Джил тренироваться на дорожке с нами, но я ответил, что она уже привыкла к «Кристал–паласу», и он с этим смирился.
Я уже бывал в Лос — Анджелесе. Мне там не очень нравилось: сплошь дороги и бензоколонки, одно там хорошо — пляжи. Впрочем, устраивал меня и стадион «Колизей», дорожка там была отменная. А Джил попала туда впервые.
Наша команда прибыла на официальное соревнование, и в гостинице я не мог жить с Джил в одном номере. Сэм вообще разместился вместе со Стеном и его женой в одной шикарных гостиниц в Беверли Хиллз. Когда мы уезжали из аэропорта, он сказал мне: «Помни: будь молодцом!» — потом посмотрел на Джил и добавил: «Не забудь, что этот забег может стать главным в его жизни». Крепко сжав моё плечо, он ушёл.
Даже не глядя на Джил, я знал: она в ярости. Повернулся к ней и увидел, что её всю трясёт. «Как он смеет?!» — воскликнула она. Я хотел взять её за руку, но она меня оттолкнула. Видя её состояние, я оставил её в покое и не сказал того что хотел, — она бы просто взбеленилась, не обращая внимания на народ — Рона Вейна, спортсменов и, что ещё хуже, репортёров.
Когда мы ехали в гостиницу, она всю дорогу молчала. К счастью, в машине ехал Лори Китч, бегун на четверть мили, который никогда не отличался говорливостью. В пути я всё думал: со стороны Сэма говорить такое — чистое свинство, но ведь он ничего такого не имел в виду, во всяком случае, не то, в сём его заподозрила Джил. Он и раньше говорил мне нечто подобное, полушутя полусерьезно, я никогда не придавал этому значения, понимал, что он хочет мне добра. Он не раз говорил: обычный тренер сосредоточен лишь на мыслях о беге, а настоящий тренер думает обо всём, что связано с жизнью бегуна.
Я попытался как–то объяснить это Джил, когда мы приехали в гостиницу, но она сказала: «Я знаю, что он имел в виду. Он хотел оскорбить меня. И не говори, что у него такая манера. Меня уже тошнит, когда я это слышу, — «такая у него манера»; он делает всё, что ему вздумается, а ты ему потакаешь. Во всём!» «Это неправда!» — воскликнул я, едва сдерживаясь. Но ругаться не хотелось, я видел, что она готова заплакать. Она сказала: «Как ты можешь понять? Одно дело, когда он говорит такое тебе, и совсем другое, когда мне! И ты ему это позволяешь!» Я сказал: «Это несправедливо!» Но она меня прервала: «А что, по–твоему, справедливо? Позволять ему командовать твоей жизнью? Нашей жизнью? Прежде, чем заняться любовью, ты думаешь: одобрит ли это Сэм, да?»
Я не знал, что делать; меня бесило, что я стою и слушаю её, боюсь её остановить и тем более дать отповедь — будет ещё хуже. Так я стоял и ждал, когда она кончит, но она сказала: «Зря я вообще сюда приехала, надо было отказаться о приглашения. Это должно было случиться. Я здесь тебя только буду расстраивать, уже расстроила; из–за меня ты пробежишь хуже, чем можешь».
Я ответил: «Сама знаешь, что не права. Когда ты на трибуне, я всегда бегу лучше. Заставлю его извиниться. Ладно? Он же не хотел тебя обидеть». Она сказала: «Какой в этом смысл?» И ушла в свою комнату.
Но я поговорил с Сэмом, на следующее же утро, во время тренировки. Я сказал: «То, что ты позволил себе в аэропорту, обидело Джил». Он удивился и спросил: «Что я позволил?» Я ответил: «Сам знаешь. На счёт моей формы. Мне одному об этом говори сколько влезет». Он тут же согласился: «Я пойду и извинюсь, прямо сейчас». Она тренировалась с Джеком Брейди на другой стороне стадиона — отрабатывала старт. «Сейчас не надо, — возразил я, — она подумает, это я тебя послал; как–нибудь позже».
После полудня она получила в гостинице огромную корзину цветов с карточкой: «Самой красивой в мире женщине–спринтеру от её верного поклонника Сэма». Я был рад, когда она это прочитала. Посмотрела на меня и сказала: «Ты с ним говорил». И всё. Меня будто под дых ударили.
«Айк, я была не права, наговорила тебе кучу глупостей. Готова избить себя за свои слова. Нет, это не ерунда. Сама не знаю, что на меня нашло. Ведь я понимаю, что сейчас ничего не должно тебя тревожить. И вообще, это очень щекотливый момент, когда карьера одного человека затмевает другого, даже если этот второй приносит себя в жертву добровольно. Не будем больше об этом говорить. Я виновата и признаю свою вину».
— Привет, Айк! Снова привёз своего папочку?
— Да у вас здесь такого тренера в жизни не было.
— Просто мы добрые. Своих старичков мы отправляем на пенсию. Не таскаем их за собой по всему свету, когда им лучше сидеть дома и смотреть телевизор. Или, может, у вас нет телевидения?
— Есть. А чего у нас нет — это привычки трепать языком почём зря.
— Это точно. Я и забыл. Чего у вас ещё нет, так это мировых рекордов.
— Завтра буду.
Только вперёд. Всё выкинуть из головы — и вперёд. О рекорде не думать до последнего круга. Просто бороться и идти вперёд. Господи, до чего жарко! Первый круг буду держаться за этим ублюдком Драйвером. На втором и третьем он скиснет, тогда сижу на пятках у Бэрка, а с колоколом — пошёл! Драйвер попробует меня достать, но не тут–то было. Ну, скоро там старт!
— И вот старт! Британский милевик Айк Лоу впереди, на третьей дорожке. Он взял высокий темп. Позади него Джим из Сакраменто, обладатель мирового рекорда, который он установил именно здесь, на этом стадионе. По первой дорожке бежит Мартин Грин из Вильяновы, дальше остальные участники, в том числе олимпийский чемпион Джефф Бэрк из Австралии. Да, скорость для первого круга очень высокая — только посмотрите на этого англичанина! Похоже, он пытается измотать противников. Как считаете, Мэл?
— Сейчас рано судить, Джо. Айк Лоу всегда отличался мощным стартом, как и Джим Драйвер. Возможно, им ещё придётся за это расплачиваться.
— Пока они бегут легко. Пошли на второй круг. Айк Лоу опережает Драйвера. Какое время первого круга, Мэл?
— 55,8, Джо
— Да, очень быстро. Смогут ли они удержать темп, Мэл?
— Боюсь, Джо, это не так просто.
Не отстаёт, ублюдок. Ладно, пусть выходит вперёд и лидирует.
— Вперёд вышел Драйвер. Обогнал Лоу. Вы ждали этого, Мэл?
— Нет, Джо, на Джима это не похоже. Если он не лидирует на первом круге, то предпочитает и дальше держаться в тени, а потом всех обогнать на последнем круге.
— Ну, сейчас он бежит мощно, тут сомнений нет. А вот и Бэрк подтянулся. Он почти достал британца. Похоже, сейчас он его обойдёт.
Так, ещё и Бэрк. Что это со мной?
— Это забег троих. Джим Драйвер, мировой рекордсмен из Сакраменто оторвался от конкурентов ярдов на пять, верно, Мэл?
— Около этого, Джо.
— Начался третий круг, австралиец Бэрк сидит у Лоу на пятках; какое там время, Мэл?
— 1.55,9, Джо. Как только эти трое выдерживают?
— Мы можем стать свидетелями мирового рекорда, Мэл?
— Если они не рухнут на дорожку, Джо.
Драйвер меня заманивает, не иначе. Хочет, чтобы я шёл с ним. Ну нет! Пусть вперёд идёт Бэрк. Пусть грызутся, если хотят. А я посмотрю на них сзади.
— Третий круг был, пожалуй, самым интригующим, для знатоков тут возникло много загадок. Хотел ли Драйвер застать врасплох и измотать своих главных соперников, так мощно пробежав второй и третий круги? Хватит ли у Бэрка, принявшего вызов, выносливости и сил на свойственный ему финишный рывок? А Лоу, сознательно ли он держится сзади, надеясь, что соперники съедят друг друга, подобно двум легендарным килкенийским котам, или исключительно высокий темп бега вынудил его отойти на третью позицию? Как вы считаете, Мэл?
— Ничего не могу сказать, Джо. Любой вариант возможен. Думаю, каждый из троих ждёт, когда тот или другой выдохнется.
— Может, выдохнутся все трое, Мэл?
— Не исключено, Джо. Возможно, на последнем круге нас ждёт сюрприз, но сейчас в тридцати ярдах за ними никого нет.
— Колокол. Время, Мэл?
— 2.56,3, Джо. Круг за 1,02,4.
— Так как же? Мы ещё имеем шанс оказаться свидетелями мирового рекорда?
— Несомненно, Джо.
Вперёд!
— И вот англичанин Лоу из Лондона выходит вперёд! Смотрите, как он бежит! Похоже, теперь его не удержать! Он обходит Бэрка. Идёт рядом с Драйвером. Вырвался вперёд! А вот и сюрприз! Кэртис из штата Оклахома, Чарли Кэртис, совершает мощный рывок. Всего лишь на прошлой неделе он впервые пробежал милю быстрее четырёх минут. Где это было, Мэл?
— В Тюлейне, Джо.
— Да, в Тюлейне. Чарли Кэртис, Мэл, смотрите, какой великолепный рывок!
— Он отдаёт все силы, Джо.
— И всё–таки впереди Лоу. До финиша сто пятьдесят ярдов. Лоу впереди. Кэртис догоняет Бэрка и Драйвера. Вот он уже обошёл Драйвера. Финишная прямая! Айк Лоу, за ним Кэртис.
Не могу больше, не могу, надо остановиться или я умру. Это слишком. Я же умру! Господи, неужели уже финиш?
— Лоу, первым пришёл Лоу, а Кэртис, обойдя Бэрка, занял второе место. Англичанин Айк Лоу совершил поразительный финишный рывок! Какой забег! А время Мэл?
— По–моему, 3, 54,7, Джо.
— Это же новый мировой рекорд, Мэл! Подождём официального сообщения, прежде чем сказать — мы стали свидетелями нового мирового рекорда.
Ну его к чёрту, этого Сэма! Сейчас упаду, и всё!
— Ты побил рекорд, Айк! Побил, мой мальчик!
— О, Айк, дорогой мой! Как чудесно!
Это и её победа! Что за день!
Вечером мы праздновали. Стен повёз нас в потрясающее место — местные Гавайи, длиной примерно с милю, кругом во тьме горят огромные факелы. Были Джил, Сэм, Стен и Мэри. Я даже всего не помню. Я был очень счастлив и жутко взволнован. Думал, хоть бы все секундомеры на земле сейчас остановили, раз и навсегда. Мой рекорд. Про Рим я уже забыл. Мой рекорд. Стен сказал официантам: «Знаете, кто это? Этот молодой человек побил мировой рекорд».
Даже Драйвер поздравил меня. «Наверное, придётся переходить на орехи и простоквашу», — сказал он.
Стен заказал выдержанное шампанское. Я выпил стакан, даже Сэм пригубил. Но что меня обрадовало больше всего — они с Джил вроде бы помирились. Он часто к ней обращался, шутил, она смеялась. Даже старина Стен смеялся, из которого обычно не выжмешь и улыбку.
К нам всё время кто–то подходил, я даже не знал, что это за люди и откуда они взялись. Под конец мы оказались в клубе «Кихоул», в подвале большой солидной гостиницы, там играл оркестр и стулья были обиты красным плюшем. Кругом пташки в чёрных чулках, полураздетые, якобы официантки, — одна крупнее другой. Время от времени они выходили на эстраду, танцевали и пели, не очень хорошо. А потом со стриптизом выступил Сэм.
Он направился к эстраде, подражая этим девкам, их походке, манере выставлять груди и вилять задом. Он был великолепен, а ты помирали со смеху. Взобравшись на эстраду, он взял микрофон и сказал: «Леди и джентльмены, с большим удовольствием представляю вам нового мирового рекордсмена в беге на милю — Айк Лоу!» — и указал на меня.
Сперва мне стало неловко — все на меня уставились, повернувшись к нашему столу. Потом зааплодировали, и Стен сказал: «Вставай!» Я встал и слегка поклонился, потом снова сел, а Сэм продолжал представление.
В тот вечер на нём не было старых джинсов и свитера, — наверное, потому, что стояла жара. Он надел чёрную шёлковую рубашку с открытым воротом и облегающие чёрные брюки. Его даже не хотели впускать. Его стриптиз был ненастоящим, потому что он ничего с себя не снимал, только делал вид, что собирается раздеться, имитировал движения стриптизеток. Смешно повторял все их ужимки, показывал, будто снимает чулки, — вытягивая ногу, поворачивался к нам лицом и вдруг резким движением якобы бросал что–то на парня, сидевшего за передним столиком. Через несколько минут все валялись со смеху; ему даже подыграли, выключили свет и дали на него луч прожектора, а ударник бил в барабан. Под конец, когда он повернулся ко всем спиной, как бы стесняясь сбросить последнее, что на нём оставалось, творилось нечто невообразимое.
В этом клубе мы засиделись далеко за полночь, танцевали, развлекались. Джил потрясающе танцевала, особенно твист; можно подумать, все движения у неё были отработаны, казалось, она танцует сама по себе, но иногда наши взгляды встречались, и она мило улыбалась.
Сэм только один раз за весь вечер слегка подпортил настроение; он стал рассказывать нескольким американцам, как он планировал забег, как учил меня тому и этому. Заметив, как смотрит на него Джил, я испугался: вот сейчас что–нибудь выкинет — обнял её и быстро увлёк танцевать. Она сказала: «Можно подумать, что это он бежал, а не ты». Но в остальном всё было хорошо, просто блеск.
— Айк, каково это — быть мировым рекордсменом?
— Как в сказке.
— Когда вы порвали финишную ленточку, вы думали, что установили мировой рекорд?
— Да, была такая мысль.
— Значит, сюрприза не было?
— Как сказать, и да и нет. Ведь надежда–то всегда с тобой.
— Но вы и ваш тренер, Сэм Ди, твёрдо решили идти на рекорд в этом забеге?
— Да, план такой был. Я надеялся, что забег будет быстрый, значит, стоит попытаться.
— Наверное, такого темпа не ожидали даже вы?
— Да, на втором и третьем круге. Никак не думал, что Драйвер так рванёт.
— Возможно, и он не ждал от вас такой скорости?
— Может быть, не знаю.
— А он говорил с вами после забега?
— Да, сказал, что теперь перейдёт на простоквашу.
— Очень хорошо! Замечательно! А теперь, Айк, когда вы уже установили рекорд, к чему будете стремиться?
— К тому, чтобы его удержать.
Рекордсменом я оставался всего три месяца. А потом, не успели мой рекорд официально утвердить, его побил канадец. Какой–то Терри Купер, я о нём слышал краем уха. На Олимпиаде в Риме он пришёл восьмым.
Помню, когда я узнал об этом, страшно расстроился, будто меня обокрали. Позвонил спортивный обозреватель Артур Генри. Он спросил: «Слышали о новом рекорде, Айк?» У меня внутри всё как оборвалось: «Что? О каком?» Тогда он сказал, что Купер в Ванкувере пробежал милю за 3.54,5. потом спросил: «Могу ли я написать, что вы полны решимости вернуть рекорд?» Я ответил: «Да, так и напишите». Он добавил: «И то, что вы удивлены?» — «И это тоже».
Я всё ещё стоял у телефона, когда из кухни вышла Джил и спросила: «Что случилось?» Я сказал, что больше не рекордсмен. Канадец Купер пробежал милю за 3.54,5.
Она обняла меня, поцеловала и сказала: «Придётся тебе отвоевать его обратно. На то они и рекорды, чтобы их били». Я ответил: «Знаю. Но так быстро? Я даже не успел к нему привыкнуть».
Потом я позвонил Сэму, он уже знал. Он сказал: «Если он пробежал за 3.54,5, то в конце сезона ты пробежишь за 3.54. Наша ближайшая цель — 3.54,2».
Но в том сезоне у меня ничего не вышло. Настроение было — паршивее некуда. Честно говоря, даже хуже, чем в Риме.
Это поразительно. Всё больше походит на моралите. Айк — в роли простого человека, Джил — доброго ангела, Сэм — искусителя. Классическое распределение ролей: Джил иногда прямо–таки светилась добротой, а искуситель Сэм был на редкость сладкоречив.
Чем же Сэм его искушает, будто держит перед носом морковку? Мировым рекордом. Айк его установил, потом потерял, а теперь этот процесс может длиться вечно: завоевал рекорд, потом потерял, снова завоевал, и пока эта карусель вращается, от Сэма ему никуда не деться. Не знаю, в какой момент она это поняла. Просто я заметил: она стала иначе реагировать, когда Айк заговаривал о рекорде, — с религиозным, миссионерским видом, и глаза его выражали решимость крестоносца. Раньше, до того, как он побил мировой рекорд, она к этому относилась с такой же страстью, как Айк, но теперь она как бы замкнулась, отвечала всё впопад, но без энтузиазма крестоносца, и Айк это заметил. Он стал спрашивать: «Правда, Джил?», «Верно, Джил?» Она же отвечала: «Да, конечно, Айк», а иногда он просто бросал на неё взгляд, силясь угадать, что у неё на уме.
Как–то раз я сказал ей об этом, стараясь не дразнить её, — она ведь и так относится ко мне с подозрением. Это было на встрече в Уайт — Сити — кажется, на Британских играх, — мы сидели вместе в одном из первых рядов трибуны, ждали, конечно, забега на милю. Я сказал: «Ты, похоже, к рекорду относишься без прежнего энтузиазма». Она же сердито ответила: «Ничего подобного. Я всей душой желаю, чтобы он вернул себе рекорд». Я сказал: «Извини. Значит, мне показалось».
Она успокоилась, потом задумалась и примерно через минуту вдруг сказала: «Я просто не хочу, чтобы он из–за этого переживал». «Ну, это естественно», — ответил я. «Главное, он уже один раз побил рекорд. Уже был мировым рекордсменом. Я ему всё время об этом напоминаю». «А что говорит ему Сэм?»
Она посмотрела на меня так, словно внезапно вспомнила, кто я такой, и пожалела о своей откровенности. Потом сказала очень сдержанно: «Сэм настраивает его на рекорд».
В тот день я очень внимательно наблюдал на Айком. Я наблюдал за ним всегда, потому что удовольствие, эстетическое наслаждение, глядя на его сосредоточенные движения без усилий, тем более привлекательные, что знаешь, какой им вложен труд, сколько усилий потребовалось, чтобы его бег казался лишённым усилий, — работа, помноженная на талант.
Но сейчас, глядя на него более критически, я видел, что движения его не столь легки, скорее они механические, как у чудесного робота, — великолепия уже не было. Технически всё выглядело блестяще, как всегда: длина шага, поршневое движение рук, подвижность и стремительность торса — достаточно, чтобы выиграть забег, скажем, за 3.59,6. все движения были совершенны, но это были всего лишь движения.
Между тем рядом всегда находились добрый ангел и Мефистофель. Мефистофель вёл его от одной вершины к другой, от одной цели к другой, внушал ему уверенность в себе; несчастный добрый ангел тревожно трепетал где–то на втором плане. Но я по–прежнему делаю ставку на доброго ангела.
Не знаю, что со мной случилось. Может, я слишком вымотался в Лос — Анджелесе, но до конца сезона хороших результатов у меня не было. Кривая пошла вниз ещё до потери рекорда, а потом стало мешать ещё что–то, не исключено — я просто себя загнал.
Так или иначе, в том году я не приблизился к рекорду, лучшее время показал в Берлине — 3.56,8. И раз я был не в силах вернуть себе рекорд, победы в соревнованиях ничего для меня не значили. А пару раз я и не победил, например в Варшаве, в матче против поляков, и в Швеции, где, честно говоря, я не очень старался. Единственное хорошее, что принёс мне рекорд, — новая работа. Стен устроил меня прекрасно, ничего не скажу, но эта работа оказалась ещё лучше. Меня взяла крупная французская фирма, торговавшая обувью и спортивным инвентарём, платили мне сорок пять фунтов в неделю, дали «Рено», а всех дел — изредка ездить по оптовым торговцам да иногда выступать на пресс–конференциях. Действие контракта истекала только после Олимпиады в Токио. Они фотографировали меня где могли, но чтобы на фото красовалась марка фирмы — мне выдали большую белую кожаную сумку с названием фирмы.
Больше всего мне хотелось выйти на старт вместе с Купером. Ведь если я его обойду, я кое–что докажу, пусть и без рекорда; но случая не представилось. Он должен был приехать в августе в Уайт — Сити, участвовать в беге на милю, но что–то ему помешало. Потом говорили, что он приедет на соревнования в Скандинавию, но вместо этого он отправился в Австралию.
У меня была ещё одна попытка побить рекорд, в Уэлвин — Гарден-Сити, в «подготовленном» забеге, но перед последним кругом я был настолько впереди остальных, что утратил чувство времени и показал только 3.58,6.
Я читал о Купере всё, что попадалось: как он выглядит, откуда родом, как тренируется. В будущем году предстояла встреча с ним в Перте, на Играх Содружества, и мне казалось, что именно он будет моим главным соперником в Токио. Ведь в забегах на милю сюрпризы случаются редко. Новички в них не побеждают. За пару лет до Олимпиады обычно ясно, кто может претендовать на золото.
Я знал, что Драйверу могу показать дорогу домой заранее — после Лос — Анджелеса я обгоню его где угодно, да и Берка тоже, свой пик он прошёл. Появились новые хорошие бегуны среди янки, их было много всегда. Есть и европейцы, к примеру Гловацкий, который обошёл меня в Варшаве. Но по–настоящему меня волновал только Купер.
Несколько раз я видел его бег по телевизору. Высокий парень, примерно моего роста, только потяжелее — типичный студент, ему двадцать два года, носит очки в металлической оправе. Его тренера зовут Дон Макбейн, он приверженец интервальных тренировок. Сэм категорически против такого метода, говорит, что он убивает радость бега. Я всегда с ним соглашался, но теперь стал сомневаться: после Лос — Анджелеса я особой радости от бега не испытывал — так, иногда.
Тут было от чего забеспокоиться, я говорил о своём состоянии и с Сэмом, и с Джил. Сэм сказал, что тут нет ничего неожиданного. Это естественная реакция не столько тела, сколько души. «Ты так долго нацеливал все свои силы на достижение рекорда. Потеря рекорда, пусть временная, повлияла на душевный настрой. Тебе надо немедленно поменять обстановку. Я это устрою». «И Джил так считает», — сказал я. Он весь напрягся, как кот перед собакой, и спросил: «Что она говорит?» Я ответил: «Что не меня что–то давит, и очень сильно». Думал, он станет возражать, но он промолчал, кивнул и ушёл.
Через два дня он прислал мне по почте два билета на самолёт до Майорки. Я показал их Джил: «Смотри, что Сэм нам прислал». Она посмотрела на билеты, даже не улыбнулась, только спросила: «Он тоже едет?» А я ответил: «Сэм? Вряд ли. У него тут слишком много дел — тренировки и спортзал».
Итак, мы отправились в Пальму. Сэм проводил нас в аэропорт и принёс Джил огромную коробку шоколада. «Присматривай за ним, — сказал он, — не разрешай долго валяться на солнце. И отвлекай его от мыслей о рекорде».
Эта поездка была как медовы месяц: мы лежали у моря, грелись на солнце, но главное — всё время были вдвоём и ни о чём не думали. Всю эту неделю мы эту неделю провели словно во сне. Джил выглядела великолепно, она быстро загорела, но могла нежиться под солнцем целыми днями. Она лежала на пляже в своём чёрном бикини, закрыв глаза, с лёгкой улыбкой. Я часто любовался её загорелым телом, руками и ногами с крохотным золотистым пушком, её дыханием. Я трогал её за плечо и звал в гостиницу, а она показывала мне язык и качала головой. Потом мы поднимались к себе в номер…
Очень хорошо помню эту комнату: мозаичный пол, сквозь опущенные шторы пробиваются солнечные лучики и светят на постель, на Джил, чертят на ней белые полосы. Я думал: чем бы сейчас занимался, будь я в Англии? Бегал бы с Сэмом в лесопарке. И от этих мыслей становилось ещё приятнее.
Однажды она сказала: «Первый раз мы по–настоящему вместе и ничто нам не мешает». Я сразу понял, что она имеет в виду, потому что и сам думал так же, но мне стало стыдно — ведь именно Сэм отправил нас сюда, хотя деньги, конечно, выложил Стен.
В другой раз она сказала без всякой причины, просто так: «Он будто тень». И я снова всё понял, и снова мне стало не по себе.
О рекорде я забыл и думать. Курорт, вокруг ничего не происходит, никто тебя не знает. Джил на эту тему вообще не говорила. Но однажды, когда мы грелись на пляже, я спросил: «Как думаешь, я верну его себе?» Она, понятно, догадалась о чём я, но спросила: «Что ты себе вернёшь?» Я ответил: «Рекорд, что же ещё?»
Мы оба лежали на полотенцах, подставив спины солнцу. Джил сперва помолчала, потом спросила: «Разве это так важно?» Я подумал, что ослышался, даже сел. «Господи, ещё как важно». А она, не поднимая головы: «Важнее всего остального?» Я спросил: «Что ты этим хочешь сказать?» — «Только то, что сказала». «Конечно, нет, — ответил я, — я никогда не говорил, что он для меня важнее всего остального». Она сказала: «Не говорил, но ведёшь себя именно так». Я был до того поражён, что не мог её понять: «А по–твоему, он не важен?» Она ответила: «Важен, конечно, важен». «Так в чём тогда дело?» Она приподнялась, опёрлась на локти, но смотрела перед собой: «Ты из–за этого меняешься» Я спросил: «Из–за чего?» Она ответила: «Из–за рекорда. Он довлеет над твоей жизнью. Над нашей жизнью». У меня даже дух перехватило от отчаяния. «Неужели ты не понимаешь, что я должен его вернуть?» Тогда она посмотрела на меня и спросила: «Зачем? Зачем это так уж нужно?» Я сказал: «Потому, что я его потерял. Что с тобой?» А она: «Но ведь ты снова его потеряешь». — «И снова верну». Но она не унималась: «И так до бесконечности, пока ты не состаришься и вообще не сможешь бегать».
Мне просто не верилось — неужели это говорит она, Джил? Мне всё казалось настолько очевидным, что и объяснять ничего не надо.
«А если бы ты установила рекорд, разве ты не хотела бы его удержать?» Она ответила: «Конечно, хотела бы, но я бы не стала такой одержимой, как ты. Ты себя ведёшь так, будто рекорд — твоя собственность. Страшно смотреть, как ты себя терзаешь. Не знаешь ни отдыха, ни покоя. Даже когда рекорд принадлежал тебе, ты только и думал, как бы у тебя его не отняли. Ты уже доказал, на что способен, все знают твою истинную цену, может, ты ещё и вернёшь себе рекорд, но даже если нет, к чему так убиваться?»
Я сказал: «Послушай, ну как ты не понимаешь? Если я лучший милевик в мире, значит, и рекорд должен быть у меня, так?» Она лишь взглянула на меня и снова улеглась на живот. Я постоял с минуту, глядя на неё, потом подумал: «К чёрту всё!» — и пошёл к морю.
«Среди тех, кто присутствовал вчера на ленче в Букингемском дворце, находились бывший рекордсмен в беге на милю Айк Лоу и его жена — спринтер Джил.
Айк сказал: «Герцог Эдинбургский, видимо, хорошо разбирается в лёгкой атлетике. Он о многом меня спрашивал, а потом сказал: «А ведь мировой рекорд вы должны нам вернуть».
«Как себя чувствует жена, если она трудится в той же области, что и её муж?
Я говорил об этом с тремя женщинами: спринтером международного класса, знаменитой актрисой и скульптором, чьи абстрактные произведения оказались под огнём критики.
— На мой взгляд, общие интересы помогают в жизни, — ответила привлекательная двадцатидвухлетняя Джил Лоу, чей муж, Айк, — лучший бегун на милю в Британии. — Помогают, если жена по–настоящему заинтересована в том, чем занимается муж, и наоборот. Большинству жён надоедают разговоры мужей о фабрике или конторе, а мужьям неинтересны разговоры жён об их мелких домашних проблемах.
Я спросил, не считает ли она, что карьера мужа может затмить её собственную карьеру: «Ведь вы были известным спринтером ещё до того, как вышли замуж за человека, который потом побил мировой рекорд».
— Вовсе нет, — ответила эта красивая черноволосая учительница с великолепной фигурой. — Мы с Айком помогаем друг другу. Часто тренируемся вместе. Думаю, я стала бегать лучше после того, как вышла замуж за Айка. Я, конечно, понимаю, что Айк как легкоатлет много одарённее меня, хотя мужчин–легкоатлетов судят по более высоким меркам, чем женщин… Но я не принесла себя в жертву, не подчинила свои интересы его интересам. Просто у женщины всегда есть и другие заботы.
— Например, дети, — подсказал я.
— У нас обязательно будут дети. Но сейчас на первом месте бег.
— Бег Айка или ваш собственный?
— Наш бег, — твёрдо ответила она».
Зимой я много думал. Хотелось зарыться, как суслик в нору, и отоспаться до весны, ведь зима — мёртвый сезон, ты будто неприкаянный. Эта зима оказалась ещё хуже прошлой, тогда я хоть добивался мирового рекорда, стремился к тому, чего у меня ещё не было, а теперь, когда я им владел и снова потерял, такого заряда не было — я его снова верну, у меня его снова заберут, и так до бесконечности?
Даже Сэм стал говорить об этом реже. Его больше заботили Игры Содружества, но они только через год. Можно с тем же успехом думать об Олимпиаде, до которой осталось ещё три года, — ведь, по сути, они–то важнее всего. По сравнению с ними ничего не стоит даже мировой рекорд.
У меня есть фото Купера, я вырезал его из газеты и повесил над кроватью. Джил, увидев его, спросила: «Это ещё для чего?» Я ответил: «Так, для напоминания».
Она заметила: «Что ж, надеюсь, и он повесил твоё фото над своей кроватью». Я спросил: «Зачем? Потому что я красивее?» Она сказала: «Нет, просто н 6 адеюсь, что его так же тревожит мысль о тебе, как тебя — о нём. Если будешь продолжать в таком же духе, он тебя обойдёт раньше, чем ты выйдешь на старт». Я буркнул: «Сам знаю, что делаю». Над её словами задумался и через неделю фотографию снял, засунул в бумажник.
Сэм всегда говорил о Купере с насмешкой — кого, мол, он победил да какие крупные соревнования выиграл? Одно дело побить рекорд, а побеждать в соревнованиях — совсем другое. Послушаешь его — вроде всё правильно, но наедине с самим собой я думал: что там ни говори, а этот парень побил рекорд.
Как–то я сказал Джил: «Вот бы встретиться с ним пораньше, победить хоть разок, даже в закрытом помещении». Она ответила: «Вряд ли это нужно». — «Как так? Что ты имеешь в виду?» Я был очень взвинчен всё время, сердился на неё, когда со мной не соглашалась. Мне нужна была уверенность в себе, и казалось, что я её теряю. Но потом я успокоился и подумал: «Может, она и права, а не прав я или даже Сэм». По некоторым вопросам они так расходились во мнениях, что кто–то из них должен был ошибаться. Раньше я не сомневался в его правоте, был ещё молод, а он всё за меня планировал, и, как правило, всё выходило так, как он говорил. Одного я не мог понять: если мировой рекорд не так уж важен, чего ради прошлой зимой он столько говорил о нём? А этой зимой — только об Играх Содружества. Наверное, если я и на них сяду в лужу, на следующий год речь пойдёт только об Олимпиаде.
Но дело в том, что одно цепляется за другое. Если он не прав в одном, значит, может ошибаться и в остальном — в вопросах питания, например, или даже тренировок. Ведь методов — уйма, с кем ни поговори, у каждого своя методика. Например, у Купера интервальные тренировки; в Австралии бегают по песчаным дюнам; в Новой Зеландии все помешаны на беге трусцой. Некоторые вообще считают, что много тренироваться незачем, это даже вредно и выкладываться надо только на дорожке. Начнёшь всё сравнивать — никогда не кончишь.
Однажды я сказал Алану, когда мы бежали в лесопарке и под ногами была грязь, а над головой — мерзкое серое небо: «Господи, как я ненавижу эту зиму!» Он, естественно, всё превратил в шутку, сказал: «Ага, теперь у нас наступила зима тревоги нашей». Я ответил: «Тебе легко смеяться, ты всё делаешь для удовольствия, а я даже не знаю, на каком я, чёрт дери, свете — тут рекорд, там Игры Содружества». «Что это, — спросил он, — уж не одолевают ли тебя религиозные сомнения?» Я тотчас пожалел, что заговорил об этом. Знаю же его манеру. «Пошёл к чёрту», — сказал я ему. «Ну, успокойся, — ответил он, — ты просто растёшь. Это всего лишь болезнь роста».
Сколько раз я хотел поговорить с Сэмом, поставить всё на свои места, но в нужную минуту не мог найти слов, боялся, что он примет всё на свой счёт, обидится. Я уже думал написать ему письмо, но это было бы совсем смешно.
В конце года пришло приглашение бежать в «Мэдисон Сквер Гардене», сразу после рождества. Я обрадовался, думал, Купера тоже пригласили. Я позвонил Филу Дженкинсу, спортивному обозревателю, и просил узнать точно. Он перезвонил мне в тот же вечер и сказал — да, Купера пригласили, его там ждут.
Что ж, вот всё и разрешилось: мне было ясно, что я должен туда ехать. Сэм тоже обрадовался нашему приглашению, но Джил я поначалу ничего не сказал. Только потом она как–то спросила: «Чему ты улыбаешься? Что за радость?» Я ей рассказал, а она: «Айк, прошу тебя, не надо ехать». «Господи, — разозлился я, — давай не будем начинать всё сначала. Почему я не должен ехать? Что там может случиться?» Она ответила: «Тебе нужен отдых. Ты не готов сейчас бежать. Ты и не хочешь, а едешь только потому, что там будет Купер». Я заметил: «Ну и что, если так? Это меня раззадоривает, заставляет бегать, мне как раз и нужен раздражитель». Джил возразила: «Это плохой раздражитель, это не тот старт, какой тебе нужен. Может, этот Купер всю зиму бегал на закрытых стадионах». Я же ответил: «Ну так он окажется перетренированным, а я свежим. Почему бы нет? Откуда в тебе, чёрт возьми, столько дурацкого пессимизма? В конце концов, если не хочешь, можешь не ехать».
До соревнования было около месяца, и я стал очень серьёзно готовиться. Мы с Сэмом поехали на базу военно–воздушных сил в Косфорде, чтобы опять привыкнуть к разбивке бега на двенадцать кругов. Было не так легко планировать бег — ведь мы почти ничего не знали о Купере. Когда он побил рекорд, ему удался очень быстрый первый круг — 56,1, потом он заметно сбавил и второй круг прошёл секунды на две хуже, чем я в Лос — Анджелесе. Но на третьем круге он сделал рывок, а весь четвёртый промчался, как метеор. Там бежал и Джим Драйвер, он всё время держался за Купером, но на последней прямой тот так рванул, будто бежал один, и это тоже тревожило — ведь он показал рекордное время, хотя никто его не подгонял на последних сотнях ярдов.
Сэм говорил: «Сделать тут можно только одно: беги в своей манере, тогда ему придётся приспосабливаться к тебе». И мы решили, что я постараюсь начать как можно быстрее, примерно 56,8 на первых трёх отрезках, причём надо учесть усилия на поворотах; следующие три я побегу как в Лос — Анджелесе, потом не сбавляю скорости, а за четыре отрезка до финиша делаю настоящий рывок, тут нужна чёрт какая выносливость, но Сэм считал, что я выдержу.
Он здорово гонял меня в лесопарке. Бывали дни, я его проклинал. Мы бегали туда–сюда по более или менее нормальному маршруту, он за моей спиной, заставляя меня без конца ускоряться и взбегать на холмы, наконец, я уже думал — слава богу, скоро конец, но тут он кричал: «В обратном направлении!» И мы бежали ещё полстолько или же он находил другой маршрут с массой подъёмов и спусков. Но ко времени отъезда в Америку я чувствовал себя в отличной форме, как в разгар летнего сезона.
Перед нашим отъездом возник конфликт с Роном Вейном — он разобиделся, что ему не прислали приглашения. Это было глупо что участников ехало всего двое: я и бегун на четверть мили Лори Китч. Ясно, почему он был взбешен, — потому что ехал Сэм.
Алан сказал: «Рон может смириться с чьим–либо успехом, если он при этом играет вторую роль, но когда на его пути стоит ещё и Сэм… быть на третьих ролях — этого он не может вынести». И Рон действительно вышел из себя. Он позвонил мне и сказал: «Я послал в Нью — Йорк телеграмму — либо я сопровождаю вас как руководитель, либо вам не разрешат поездку». Я ответил: «По–моему, это коварно». Он вспылил: «Ах, вы так думаете? Позвольте вам сказать, молодой человек, что такая практика выработана задолго до того, как вы лично занялись бегом, и так оно будет долго после того, как вы перестанете бегать». Я ответил: «Может, такая практика есть для команд». А он всё в том же тоне: «При чём тут команда! Когда вы едете за рубеж, вы представляете свою страну, а мы отвечаем за то, чтобы вы вели себя достойно. Я готов поверить, что у вас самые лучшие намерения, но вы подвержены влияниям, которые оставляют желать лучшего, а это отражается на вашей физической форме».
Тут мне захотелось сказать ему, чтобы он заткнулся, и бросить трубку, но я испугался — вдруг тогда он действительно запретит мне ехать! Я только ответил: «Что вы имеете в виду? О чём речь?» Он сказал: «Вы прекрасно знаете, о чём я говорю, я не собираюсь называть никаких имён. Эти люди водят вас по ночным клубам, где вы развлекаетесь до утра. Наступит день, Айк, когда вы оглянетесь и поймёте, что мы всегда блюли ваши интересы, но не будет ли тогда слишком поздно?»
Я не удержался: «Слишком поздно для чего?» Он не ответил и продолжал: «И ещё вот что: будьте осторожны, Айк. Мне не нравятся некоторые слухи о вашей работе». Я сказал: «А что в ней такого? Я торговый представитель фирмы, продающей спортивный инвентарь. Что в этом плохого?» Он ответил: «Вы знаете не хуже меня — тут легко перейти грань дозволенного. И ещё. Вы слишком часто выступаете на мелких соревнованиях, Айк. На днях Джек Уотлинг сказал мне, что в июле и августе вы участвовали в забегах примерно по три раза в неделю».
Я заявил в ответ: «Я не обязан испрашивать разрешение всякий раз, когда выступаю в Англии, верно?» Но он сказал: «Рассматривайте мои слова как своевременное предупреждение. Нехорошо получится, если нам придётся не допустить вас до участия в Играх Содружества. Все останутся в проигрыше».
Я положил трубку и громко выругался. Джил пришла из другой комнаты, спросила: «Что случилось?» Я ответил: «Рон Вейн, чтоб он пропал! Сначала болтает, что не пустит меня в Нью — Йорк, а потом — что вообще отстранит меня от выступлений в сборной». Она встревожилась: «Из–за выступлений за деньги?» Я ответил: «Господи, да почти все берут деньги, так или иначе. А на что же нам жить, чёрт возьми? Правильно говорит Сэм, им на это наплевать. Им удобнее, чтобы мы бедствовали, тогда им легче нами командовать».
С горькой усмешкой она сказала: «Может, стоит мне с ним поговорить? Он считает, что я на тебя хорошо влияю». Я спросил: «Кто, Рон? Когда он это сказал?» И услышал в ответ: «Было дело, раз–другой. Подходил ко мне на соревнованиях, обнимал за плечи и говорил, я, мол, рад, что он женился на такой девушке, как ты, Джил, надеюсь на твоё хорошее влияние». Я спросил: «А чьё плохое? Сэма, надо полагать». Она пожала плечами: «Надо полагать». Я вскричал: «Чёрт возьми! Почему я не могу просто бегать, почему меня не оставляют в покое?»
В конце концов всё взял в свои руки Международный клуб. Тут потрудился Алан — он входил в состав комитета. После разных протестов и статей в газетах Рон наконец отступил. Но представил всё так, что дело не позволяет ему ехать и в такой ситуации он готов нарушить существующую практику. Я получил от него письмо, он писал, что не может понять моего поведения, хотя на протяжении всей моей карьеры он поддерживал меня. Он желает мне успеха и надеется, что я буду помнить: мне выпала честь защищать флаг Великобритании.
«На прошлой неделе в Гардене встретились бегуны на милю. Когда один из них буквально швырнул другого на дорожку, грохот разнёсся от лондонского Уайт — Сити до лос–анжелесского «Колизея». Наверное, услышали его и в университете «Бритиш Коламбиа», но стадионе которого часто тренируется мировой рекордсмен Терри Купер».
Купер выиграл в Гардене с посредственным временем — 3.58,8. Но вопрос о том, кто сейчас самый быстрый бегун на милю — он или Айк Лоу из Британии, — остаётся открытым.
У Сэма Ди, пятидесятивосьмилетнего тренера Лоу, похожего на Синдбада — Морехода, который выпаливает свои теории с такой же скоростью, с какой турникеты манхэттенского метро пропускают пассажиров, никаких сомнений на этот счёт никогда не было: самый быстрый — Айк Лоу. Он громко заявил это перед забегом и не менее громко заявляет это после него, когда Айк, прихрамывая после сильного ушиба, добрался до финиша четвёртым.
Лоу прилетел в Нью — Йорк с такой свитой, какая обычно сопровождает боксёра, а не бегуна. Его жена Джил, красивая брюнетка, которая отличилась на последних Олимпийских играх, естественно, Сэм, а ещё некий Стен Линг в пальто из верблюжьей шерсти и его жена — они приехали просто прокатиться.
Агента по связи с прессой у них не было, но он и не нужен — едва ли ему удалось бы вставить хоть слово, ибо когда говорит Сэм, все остальные молчат. Первое, что заявил Сэм слушавшим его с открытыми ртами представителям прессы, что рекорд, установленный Купером, — своего рода фикция, потому что самый быстрый бегун на милю среди двуногих — это Айк Лоу. Потом он заявил, что Айк Лоу покажет в Гардене в худшем случае 3.57, и ему бы хотелось увидеть, как Купер пробежит быстрее.
Что ж, Купер не смог, не пробежал быстрее, но не сделал это и Айк, потому что ноги его зацепились за ноги другого бегуна — это произошло на третьем круге, — в результате падение, о котором мы уже говорили.
Сэм, кстати, много распространялся об интервальных тренировках Купера, и от этого метода он явно не в восторге. Купер и его тренер Дон Макбейн не поддержали дискуссию. «Пусть Сэм тренирует своих бегунов, как ему вздумается, а нас устраивает наш метод, — сказал Дон. — Мы считаем, что его тренировки не отвечают современным требованиям. Он думает нечто подобное о наших. Думаю, каждый из нас волен делать то, что находит нужным, место, как говорят, найдётся для обоих».
Но в субботу вечером место нашлось только для Купера. Высокий белотелый очкастый студент, известный своим хладнокровием двадцатидвухлетний биолог, отнёсся к забегу, как к очередной проблеме, но не как к схватке не на жизнь, а на смерть. «Айк, наверно, неплох, — сказал он, — я видел его бег по телевидению на стадионе «Колизей». Мне только не нравится, что наша первая встреча пройдёт в закрытом помещении».
Купер и Лоу познакомились на ленче перед соревнованиями и, похоже, понравились друг другу. Айк сказал: «Терри вроде симпатичный парень. И скромно держится, верно?» А Терри остался доволен Лоу, потому что «он не давит на тебя, не то что американские милевики».
«Ему и не нужно ни на кого давить, — заметил Макбейн. За него это прекрасно делает Сэм».
У обоих бегунов был свой план бега. План Айка был академичным: относительно спокойный бег на первой четверти пути, вторая чуть быстрее, ровный хороший темп на третьей и включение всех двигателей на четвёртой.
Купер бежит без устали с таким постоянством, словно он запрограммирован компьютером, а его план был такой: не отстать от Лоу на первой четверти мили, которую британец — это всем уже известно — пробегает, как лань, а затем постараться сильно уйти вперёд, чтобы не менее известный финишный Лоу не смог ничего изменить.
«Мы знали, что Айк великолепно бежит первую четверть мили, — сказал Макбейн. — Знаем и как он силён на финише. Мы прикинули, что Терри сильнее на второй и третьей четверти дистанции, на этом отрезке мы и решили напасть на Лоу».
Но напали на Лоу совсем с другой стороны. Некий Том Бэнион, студент факультета физкультуры Калифорнийского университета в Лос — Анджелесе, коренастый бегун двадцати одного года, который впервые вошёл в команду США в прошлом году и выступал за неё лишь однажды, решил, что победить должен именно он. Потом он сказал: «Мне надоело натыкаться в газете только на два имени. Будто все остальные не имеют права бежать с ними рядом».
Итак, когда Лоу и Купер взяли старт после выстрела, Бэнион держался за ними по внутренней дорожке. На роковом третьем отрезке, когда Лоу пытался обогнать Бэниона с внешней стороны, возникла какая–то карусель из ног и локтей, и Лоу упал.
«А чего он ещё хотел? — спросил Бэнион, которому удалось финишировать вторым. — Я должен был лечь и дать ему пройтись по мне?»
«Это была подножка, — коротко сказал Айк, — вот и всё… Чистая подножка».
Как можно было ожидать, Ди не был столько краток. Столь страстное красноречие не снилось даже боксёрским менеджерам. «Это была преднамеренная агрессия, этого бегуна надо было дисквалифицировать. Если мои бегуны не будут защищены от подобных действий, я никогда больше не привезу их в Нью — Йорк».
Поскольку поступки такого рода совершаются с тех самых пор, как Адам погнался за Евой в саду Эдема, случившееся в «Мэдисон Сквер Гардене» не должно было особенно удивить Сэма. Но соревнования не получилось, и спор «кто кого» теперь откладывается до лета.
А я остался с тем, с чем приехал, — с неизвестностью. Нет, мне стало хуже — ведь, как бы там ни было, Купер победил. Его имя записано в книге рекордов. А что тебе поставили подножку и ты упал — это не записывают никуда, у него преимущество передо мной хотя бы потому, что он выиграл, и даже потому, что проиграл я именно так. Сама собой легла в голову мысль: когда буду бежать против него, обязательно что–нибудь случится, как тогда в Риме.
После финиша Купер подошёл и сказал: «Невезуха, Айк. Жаль, что борьбы не получилось». Я ответил: «Мне тоже». А вот тот поганец, который меня сбил, даже не извинился.
В первый раз этот ублюдок блокировал меня на повороте, и Купер вырвался вперёд. Второй раз, когда нас было рядом четверо или пятеро, на повороте он крутил локтями, словно ветряная мельница. Я держался подальше, а Купер просто обошёл его на вираже. Из–за этого рушился мой план пройти на скорости первую четверть пути, а на третьем отрезке, когда нас шло трое, я решил обойти этого подонка. Он был ярдах в пяти позади Купера и мог «сломаться» в любую секунду, но отпускать Купера слишком далеко было нельзя, и на вираже я попробовал обойти Бэниона, а он снова стал меня блокировать.
Я слегка притёр его — больше ничего не оставалось делать, — а он двинул меня локтём, но я отвёл удар. Стал его обходить, а он поставил мне подножку, и я тяжело бухнулся на левое колено. Вначале думал, даже не встану. Всё–таки встал, но все уже ушли вперёд; превозмогая боль, побежал. Постепенно боль отпустила, но пришёл я только четвёртым — на большее не хватило сил.
Я сказал Сэму: «Этот малый просто скотина. Таким вообще не место на дорожке». Сэм даже хотел заявить официальный протест.
До отъезда меня пригласили на другие соревнования, но Купер не мог туда поехать, он собирался в экспедицию на Гренландию или куда–то ещё. Узнав, что его не будет, я отказался от приглашения — что мне там делать?
Надо сказать, Терри мне очень понравился; он интересно рассказывал о своих тренировках, заметил, что мой метод, возможно, лучше, но для таких тренировок его занятия биологией не оставляют времени. Ему нужно нечто более интенсивное. Он даже сказал, что бег для него — возможность расслабиться, этого я не мог взять в толк. Но насчёт тренировок стал снова задумываться: надо ли так много и упорно вкалывать, как меня заставляет Сэм, год за годом, летом и зимой, пропади оно пропадом? Сэму я об этом и слова не сказал — он бы взвился до потолка. Но когда мы вернулись домой, я поделился сомнениями с Джил. Она слушала меня тихо, даже тише обычного, потом спросила: «Ты действительно хочешь знать моё мнение?»
Я ответил: «Конечно, хочу. Зачем бы я стал тебя спрашивать?» Она сказала: «Бывает по–всякому. Иногда ты спрашиваешь моё мнение, хочешь, чтобы я подтвердила твоё, особенно если речь идёт о Сэме».
«Ладно, сейчас я хочу узнать твоё мнение». Она посмотрела на меня на свой манер и ответила: «Да, я думаю, тебе нужно что–то новое». Я спросил: «Новое в тренировке?» И она ответила: «У Сэма только один метод тренировок».
Некоторое время мы молчали — было о чём подумать. Потом я сказал: «Он ведь может как–то разнообразить свой метод? Если я его попрошу. Сократить бег по пересечённой местности. Может уменьшить нагрузку?» Она продолжала смотреть на меня: «Нет, Айк, он не сможет, ты знаешь, что не сможет». Я пристально взглянул на неё и спросил: «Ты хочешь, чтобы я от него ушёл?»
Мы снова долго молчали — она смотрела на меня, не говоря ни слова, а я ждал, что она скажет. Наконец она ответила: «Речь не о том, чего хочу я».
Я поднялся с дивана — просто уже не мог сидеть — и сказал: «Слушай, он всё сделал для меня. Кем бы я стал без него? Что же мне теперь — сказать «спасибо» и уйти?» Она ответила: «Я знаю, уйти тебе нелегко. Он об этом позаботился». Я добавил: «А ты сама могла бы так поступить? Взять и уйти от него?» Она ответила: «Я бы назвала это не «уйти от него», а «крепко стать на свои ноги».
Кончилось тем, что мы поссорились. Я стал кричать: «Слушай, чёрт подери, он мой тренер, понимаешь, тренер!» А она ответила: «Он так не думает». Я уже не мог остановиться: «Проклятье, ты–то откуда знаешь, что он думает? Тебе просто неймётся. Я никогда не требовал, чтобы ты бросила свой бег, почему же ты всегда вмешиваешься в мой?» Она спросила: «Это тебе Сэм сказал, что я вмешиваюсь в твое бег?» Я ответил: «Неважно, что он сказал. Факт, что ты вмешиваешься». Она встала и вышла из комнаты, перед уходом заметив: «Не нужно мне было отвечать на твой вопрос, да?»
Через несколько дней я поговорил с Сэмом в спортзале: «Я тут думал насчёт интервальной тренировки». Он спросил: «Что именно?» Я ответил: «Ну, просто думал и всё. Может, она внесёт что–то новое». Он спросил: «Почему ты считаешь, что тебе нужно что–то новое?» Я ответил: «Ведь я застыл на месте. Уже много месяцев бегаю из рук вон». Он снова спросил: «И ты это объясняешь своей тренировкой? Ты решил, что я тебя неправильно тренирую?»
«Нет, не так. Совсем не так. Может, просто нужна свежая струя». Он сказал: «Но при чём тут интервальная тренировка? Потому, что ею занимается Купер? Только потому, что он временно владеет мировым рекордом? Или потому, что он выиграл забег, когда тебя сбили с ног? Давай на минуту забудем о моих методах тренировки, которые позволили тебе побить мировой рекорд и стать самым быстрым британским бегуном на милю. Давай забудем, что я к этому как–то причастен. Просто скажу одно: подражая методам Купера, ты доказал бы, что сдаёшься Куперу. Ты признаёшь его превосходство над собой. Если ты будешь подражать ему, он постоянно станет брать над тобой верх, потому что будет самим собой, а ты — его копией. Ты разочарован, временно потерял уверенность в себе. В таких ситуациях люди ищут магическую формулу, какой–то выход. И естественно думать, что нашёл её тот, кто тебя победил. Естественно, неразумно. Айк, если хочешь перейти к интервальным тренировкам, поступай как знаешь. Но не под моим руководством. Во–первых, я считаю её монотонным одурманиванием, превращением бегуна в машину, а во–вторых, рассматриваю это как предательство. Предательство по отношению к собственному достоинству».
Я сказал: «Да я не настаиваю на интервальных тренировках. Может, уменьшить бег по пересечённой местности или немного сократить нагрузку». Он долго всматривался в меня, потом сказал: «Я готов обсудить изменения в твоей программе. Она всегда была индивидуальной, разработанной только для тебя одного. Возможно, изменились требования твоего организма, хотя я так не считаю. Я считаю другое: у тебя депрессия, скоро она пройдёт. Если через месяц не пройдёт, проанализируем уже сделанное, подумаем, как можно изменить программу. Пока же продержись ещё месяц. Это нужно нам обоим».
Что мне оставалось делать? Пусть всё идёт, как шло, ещё месяц. Когда я сказал об этом Джил, она только кивнула головой, словно ей уже было всё равно. Я сказал: «Месяц, что такое месяц?» Она ответила: «Ты прав — что такое месяц?» Я вскипел: «Ну, хватит тебе, чёрт возьми!» Она сказала: «Я соглашаюсь с тобой, Айк, чего ты от меня ждёшь? Месяц — очень небольшой срок». Я ответил: «Ладно, всё ясно. Ты думаешь, он обвёл меня вокруг пальца?»
Она сказала: «Ему ведь это было нетрудно, верно?» И вышла из комнаты. Я пошёл за ней на кухню. Меня снова охватила злость, а её поведение ещё больше рассердило — она мыла и расставляла посуду так, будто меня тут и не было. Джил очень упрямая, я это заметил с самого начала: иногда забирается, как черепаха, в свой панцирь, и её нипочём оттуда не вытащить.
Чем дольше она молчала, тем больше я на неё налетал и говорил такое, чего и не думал. Сказал: «Сэм для меня сделал так много, как никто. Нет смысла ревновать к нему». Тогда она нарушила молчание: «Я? Ревную к нему?» А я добавил: «Ты же не думаешь, что он ревнует к тебе?» Она снова замолкла. Кончилось тем, что я попросил прощения.
Мы находились в спальне. Она стала снимать платье через голову, а я за ней наблюдал. Она всё делала так грациозно. Я снова сказал: «Извини, мне правда неловко». Подошёл и обнял её, поцеловал в плечо: «Ну, всего только месяц. Подожди, сама увидишь». Она ответила: «Если бы всё было так легко». Я заметил: «Как это может быть легко? Человек тренирует тебя пять лет, возводит на пьедестал…» Но она только вздохнула. «Ну в чём дело?» — спросил я. Она ответила: «Ни в чём. Пока ты будешь так думать, ты никогда от него не освободишься». Во мне снова стала вскипать злость, хотя я очень старался её подавить. Я сказал: «Просто я благодарен ему, вот и всё. Что в этом плохого?» Она ответила: «Ничего», — и отошла от меня. В постели она повернулась ко мне спиной и долго не засыпала — это было ясно по её дыханию.
Месяц прошёл, но всё осталось как было. И Сэм, и я молчали. К моему удивлению, молчала и Джил. Для себя я решил — подожду до начала сезона, тогда будет ясно, как я бегаю и как отношусь к своему бегу. Ничего такого я Джил не сказал — знал, что она ответит: мол, опять откладываешь неизвестно на сколько. Но дело обстояло не совсем так, просто трудно принять решение зимой, когда ничего не происходит. Естественно, зимой ты подавлен, погода не балует — целыми днями льёт дождь, а настроение такое, будто всё кругом вымерло.
Но отношения у нас были напряжёнными. Хотя Джил ничего не говорила, в самом воздухе чувствовалось — что–то между нами происходит. Во всяком случае, раньше я всем с ней делился — и как идёт тренировка, и что сказал Сэм, а теперь — нет, боялся, что она меня не поймёт.
К началу лета стало ясно, что у Сэма есть только один способ удержать Айка, — если тот одержит безоговорочную победу. Это может быть победа над Купером, эдаким узаконенным антихристом. Или новый мировой рекорд — его действие продлится, пока Айк его снова не потеряет. Но в его нынешнем состоянии безоговорочная победа Айку не светит — вот в чём загвоздка.
Он часто ворчит сейчас, раньше за ним такого не водилось; впервые он недоволен тренировками. Он даже как–то расспрашивал меня о других методах тренировок, в частности об интервальном: «Купер — сторонник этого метода, а Сэм его не признаёт». Я честно ответил ему, что не разбираюсь в таких тонкостях. По–моему, любой метод тренировки может быть хорош или плох. Всё зависит от того, как его преподносят, как подают, — всё равно что стиральные порошки. Или другое сравнение — они как лекарства, которые зависят от личности врача. Кто обладает силой убеждения, тот может лечить и подкрашенной водичкой.
Представляю, что творится у Айка в доме. Джил давит не него то намёками, то молчанием — по настроению. Уверен, что она готова вести длительную кампанию, столько в ней стоицизма. Иногда я вижу, как Сэм смотрит на Айка — во время бега или в паузах. В этом взгляде озабоченность и тревога: предан ли он мне? Такой взгляд был бы немыслим полгода назад, как и сомнения Айка.
Боюсь, бедняга Сэм не знает, что ему делать. Ведь он уже отправлял Айка на Майорку, и даже из этого ничего не получилось.
К концу зимы Айк стал пропускать тренировки, а это было равносильно тому, что новообращенный уклоняется от причастия. Он ссылался то на болезнь, то на необходимость выполнить задание своей спортивной фирмы, но было ясно, что Сэма эти оправдания не устраивают. Стоило спросить: «А где же Айк?» — боюсь, этот вопрос я задавал слишком часто, — Сэм ворчливо отвечал: «Говорит, что болеет». Думаю, для Сэма любая болезнь, которая отрывает от тренировок, в лучшем случае психическое отклонение.
В каком–то смысле их отношения напоминают неудавшийся брак — желаешь им, ради них же самих, чтобы они решились на разрыв. Сэм никогда на это не пойдёт первым; этот союз слишком много значит для его «я». Что касается Айка, у того, полагаю, слишком силён комплекс вины, чересчур долго но живёт в полной от Сэма зависимости. Время играет на руку Джил, и, думаю, она это знает. Проявить терпение — это в её силах.
Я пишу это в июне. Соревнования идут, но серьёзного значения не имеют — крупные встречи в будущем. Айк выиграл все забеги без особых усилий, но и без блеска. Три или четыре раза его время превышало четыре минуты. От подготовленных забегов на рекорд он отказался. Считает, что это бесполезно. «Если мне суждено побить рекорд, Алан, — как–то сказал он, — то это будет только в серьёзном забеге, как в Лос — Анджелесе. Здешние бегуны не в силах как следует «разогнать» меня, а если кто и может, тот не хочет». Наверное, он прав.
Когда он меня спросил: «Как ты оцениваешь мой бег?» — я ответил: «Не очень высоко». Он задумался, потом сказал: «Наверное, у всех бывают трудные времена». Я ответил: «Конечно», а сам подумал: сколько он может длиться, такой период?
Он никогда прямо не обращался ко мне за советом, а я никогда ему со своим мнением не навязывался. К тому же мне ясно, к чему идёт дело, и мои слова всё равно ничего бы не изменили.
Однажды как бы между прочим он сказал: «Я получил приглашение». Я спросил: «Какое?» Он ответил: «Поехать в Калифорнию, учиться на физкультурном отделении в местном университете». Я спросил: «И ты ещё думаешь?» Что может быть лучше — удрать от Сэма без слёз и взаимных обвинений, туда, где много солнца! Он ответил: «Три года — большой срок, да и Джил не в восторге» Я возразил: «Там прекрасный климат, бегай хоть круглый год. Ты же ещё и диплом получишь». Он сказал: «Да, надо подумать об этом». Но, судя по всему, он уже подумал, вернее, она подумала.
Изменилось и ещё кое–что: Айк стал реже участвовать в соревнованиях, почти перестал ездить на проходные встречи, которые, однако, давали заработок. Он сказал: «Я вынужден их сократить, Алан, эти забеги ничего не дают». Но всё это не меняло равным счётом ничего, и он это знал — так человек, заболевший раком, бросает курить.
Не могу точно вспомнить, когда он впервые заговорил со мной о Гиземане, — пожалуй, в один из понедельников, когда после соревнований на него накатила депрессия. Он спросил: «Что ты знаешь о Гиземане?»
Я ответил: «Почти ничего. Это он тренирует Коппеля? Этот немец только что установил новый европейский рекорд в беге на 400 метров». Айк сказал: «Он», и глаза его заблестели, как у искателя истины, которому только что сказали о появлении нового пророка. «Он в Нюрнберге, — добавил Айк, — и предпочитает интервальные тренировки». Я сказал, что слышал об этом. Об этом слышали все. Интервальные тренировки для него были святы. Я видел его раз или два: суровый немец, верит в свои идеалы; седые вьющиеся волосы, маленький рот, производит впечатление легкоранимого человека. Куда тише и спокойнее Сэма.
Я спросил: «Ты думаешь поменять тренера?» Он тут же стал отрицать: «Нет, что ты! Ничего подобного. Просто мне рассказали о Гиземане, вот и всё».
Я потом думал об этом, и мне пришло в голову, что для него это, может быть, единственный выход — поменять одного гуру на другого, сменить один тоталитарный режим на другой. И если Джил его поощряет — а я полагаю, что она как минимум его не отговаривает, — поступает ли она разумно? Или она просто хочет оставить всё как есть, только поменять точку отсчёта? Она очень проницательна — наверняка она всё это продумала, вернее, прочувствовала. Но она, скорее, живёт эмоциями, а не концепциями. К примеру, она едва ли сумеет объяснить, почему сторонится меня, но она чувствует во мне то, что я вижу в самом себе: склонность стоять в стороне и наблюдать. Или она просто отчаялась и считает, что игра стоит свеч, что как только Айк порвёт с Сэмом, ему не понадобится другой поводырь, и тогда неоспоримым центром его жизни, или, скажем, главным сателлитом, станет она?
Да, всё это занятно. Хотелось бы поговорить с ней об этом, но она сразу спрячется в свою раковину; да и вообще, чётко излагать свои мысли — не самое сильное её место. Я бы очень хотел ей помочь, да и Сэму тоже, но он безнадёжен. Несмотря на все его выходки, мне жаль его. Ведь он уже догадывается, что его ждёт, нюхом чувствует, как зверь в джунглях чует омут. Конечно, когда это случится, он не найдёт объяснения — как бога в Старом завете, его устраивает лишь полное подчинение.
Думаю, это будет для него сильный удар. В общем–то, у него ещё не было такого бегуна, как Айк, да и вряд ли теперь будет. Айк — смысл его жизни, Сэм всегда искал бегуна, который всем докажет его правоту, правильность его теорий. Можно относиться к ним скептически, но факты не опровергнешь.
Хотелось бы предотвратить это возмездие Немезиды, но, как в греческой пьесе, тут не остановить ход событий, даже если кто–то вмешается. Видно, этим мне и придётся утешиться.
Мало всего остального, так Курт ещё жил в Германии. Ездить туда — ужасная тоска, но, с другой стороны, неплохо быть на расстоянии друг от друга — никто не садится тебе на шею. Он лишь посылал мне указания, а я бегал. Он мне достаточно доверял, и это облегчало жизнь, да и Джил утихомирилась. Её роль в моей жизни сразу возросла.
Последние недели перед тем, как принять окончательное решение, были кошмарными. В это время мне здорово помогла Джил. Я ведь знал, каково будет Сэму, знал, что от этого никуда не деться. Я не связывался с Куртом напрямую, не писал ему, но участвовать в соревновании во Франкфурте согласился, в расчёте на то, что он там окажется. Я хотел поговорить с ним, потому что, если честно, был в полном отчаянии. Не хотелось тренироваться, не хотелось бегать — ничего не хотелось. Даже и не перейди я к Курту, оставить всё, как было, я бы всё равно не смог.
После Франкфурта, где я бежал средне — выиграл забег на 1500 метров за 3.40,1, — мы с Джил поехали в спортивный центр Курта, около Нюрнберга. Прекрасный спортивный комплекс, ничего похожего у нас в Англии нет: современное здание, много стекла, есть оборудование для всех видов спорта — баскетбола, гимнастики; был там и бассейн, и прекрасная дорожка для тренировки на воздухе. Курт возглавлял отдел спортивной физиологии. Целый день меня там обследовали: мерили давление, брали на анализ кровь и мочу, делали кардиограмму, замеряли мышечную силу. Под конец он сказал: «Ваше физическое состояние безупречно. Я бы внёс некоторые изменения в вашу диету и тренировки». По–английски он говорил с трудом, но мы понимали друг друга. По его мнению, я слишком много времени отдаю тренировкам, в этом, очевидно, вся проблема. «В настоящий момент у вас нет желания бегать», — сказал он.
Вечером, перед отъездом, я спросил Джил, считает ли она, что мне нужно уйти от Сэма и перейти к Курту. Я заметил: «Курт прав: я не могу больше тренироваться так, как требует Сэм». Она спросила: «А ты уверен, что с Куртом станет лучше?» Я ответил: «Надо попробовать». И она сказала: «Тогда пробуй». Я спросил: «Это всё, что ты можешь сказать?» Она вдруг повернулась ко мне и воскликнула: «Чего ты от меня ждёшь, Айк?! Чтобы я сказала — уйди от Сэма? Чтобы потом сказать — это я тебя заставила? Лично я думаю, что попробовать надо, может, что–то выйдет. Но кто тебе даст гарантию? Пробуй!»
Домой я привёз много инструкций Курта и сразу же стал по ним тренироваться в «Кристал–паласе», кода ходил туда вместе с Джил. Сказал Сэму, что хочу тренироваться с ней два–три раза в неделю. Он посмотрел на меня испытующе, я думал сейчас устроит мне скандал, но он промолчал, только кивнул.
Мне понравилась интервальная тренировка, в ней всё было разложено по полочкам, можно много успеть за короткое время и всё сделать самому, нужны только дорожка и секундомер. Нет нужды в надзирателе, чтобы кто–то всё время толкал тебя в зад. Но одно стало ясно: нельзя смешивать оба метода. Мне всё меньше хотелось идти в лесопарк, а когда я туда приходил, всё меня раздражало; вытерпеть такую тренировку стоило мне колоссальных усилий.
Продолжаться дальше так не могло, и я стал прикидывать, как сказать ему, как порвать с ним? Я сказал Джил: «Он так много для меня сделал». А Джил ответила: «И ты очень много сделал для него». Я спросил: «Что я такого сделал для Сэма?» Она сказала: «Ты сделал его знаменитым». Я возразил: «Перестань. Кем бы я был без него?» А Джил заявила: «Кем бы он был без тебя?»
Как–то я пришёл в лесопарк и увидел в руке Сэма журнал. Он едва владел собой. Как только я подошёл, он сказал: «Ты мне ничего об этом не говорил». А в журнале опубликовали статью о Курте, о бегунах, которых он тренировал, и один абзац о том, как мы с Джил ездили к нему в Нюрнберг. Я сказал Сэму, что мы были там всего пару дней после соревнований во Франкфурте. Помню, стояла прекрасная солнечная погода, лесопарк светился зеленью и пышной растительностью, и впервые перспектива побегать здесь — хоть и в пятитысячный раз — показалась вполне заманчивой.
Сэм сказал: «Я всегда настаивал на полной честности. Отношения между бегуном и тренером должны быть абсолютно откровенными, иначе они становятся невозможными. Ты не был откровенен со мной Айк!» Я заметил: «Чёрт возьми, Сэм, мы просто побывали у него в гостях».
Он ответил: «Именно. Побывали у него! Побывали у тренера, идеи которого полностью расходятся с моими. Почему вы туда поехали, с какой целью? Только с одной — предать меня! Польститься на его методику и отказаться от моей!»
Я пытался его прервать, вставить хоть слово, но куда там — его понесло:
«Если ты почувствовал, что под моим началом больше тебе не добиться, первым делом надо было прийти ко мне и так сказать. Всё обсудить открыто. Любезно дать мне возможность защитить свою позицию. Ты волен приходить и уходить по своему усмотрению. Я никогда не ущемлял твоей свободы. Я в жизни не взял с тебя и пенни. Мне ничего не нужно, кроме преданности и верности. Ты меня разочаровал, но я не виню тебя одного. Знаю, какому давлению ты подвергаешься. Зависть, маскирующаяся под симпатию. Ненависть неудачников к победителю, слабых к сильному, продажных к честному.
Ты долго держался, но сейчас не устоял. Как Самсону, решающий удар тебе нанесли скорее друзья, чем враги. Я не стану тебя отговаривать. И нет нужды тебе возвращаться, раз ты уже ушёл. Стоило нашим отношениям дать трещину и их уже не склеить. Для обеих сторон лучше, чтобы разрыв стал ясным и полным. У тебя тяжёлый период, каждый спортсмен проходит через такое. Но великий спортсмен должен использовать эти периоды для переоценки, как трамплин для новых достижений. Я считал бы своим долгом показать тебе, как это сделать. Но ты предпочитаешь более лёгкий путь — обвинять в твоих неудачах других. Я готов принять такое обвинение. Как готов доказать тебе, что ты не прав, но ты не готов дать мне эту возможность. Твои поступки подтверждают это. Не буду лгать, что мне легко. Нет, мне горько и тяжело. Ты был для меня не просто учеником — я считал тебя своим сыном. Твои успехи давали мне радость в жизни. Я надеялся, что буду твоим наставником да конца твоей спортивной карьеры, но ты решил по–иному. Под моей опекой ты стал великим бегуном, но настоящее величие ждало тебя впереди, увы, боюсь, теперь оно не состоится. Я считаю, ты делаешь только первые успехи. Мои планы позволили бы полностью развить твой потенциал. Но ты отвергаешь эти планы. Пусть так. Я уже сказал — выбирай сам. Не буду пытаться влиять на тебя. Я считаю, что ты совершаешь ошибку и еще о ней пожалеешь. Я вовсе не буду радоваться, когда моя правота будет доказана. Но повторяю: назад пути нет. Такие отношения, как наши, не могут быть половинчатыми. Либо всё, либо ничего».
Я остановился, когда увидел их на горе. Картина походила на библейский сюжет — Сэм на вершине, эдакий прорицатель, Айк чуть пониже — с опущенной головой, кающийся. Его изгоняли, сомнений не было. Я не слышал слов, но этого и не требовалось. Интересно, уж не сознательно ли Сэм выбрал возвышение? С его склонностью к мелодраме вполне возможно. Сэм из тех, кто даже из поражения умеет извлечь последнюю каплю удовольствия.
Айк то и дело открывал рот, вставить слово, — объяснить или успокоить, — но безнадёжно. Я ждал последнего великого жеста, простёртой руки и указующего перста — «уходи!» — но не дождался. Сэм опустил голову, как и Айк, оба были угнетены. Когда последние слова были сказаны, Айк повернулся и быстро сбежал по склону.
Он пробегал мимо меня, и я увидел, что он плачет…
«Когда стало известно, что Айк Лоу — пожалуй, наш лучший милевик за все времена — и Сэм Ди, его тренер, расстались после пяти с лишним лет плодотворной совместной работы, это скорее опечалило, чем удивило. Отношения между тренером и спортсменом подразумевают разрыв подобного рода, в данном же случае уже некоторое время ощущались признаки того, что нужда в «тренере–отце» у Айка отпала.
Он сам говорил мне на пошлой неделе: «Сэм — поразительный человек, но он хочет владеть твоим телом и душой. Без него я бы ничего не достиг, но наступает время, когда тянет совершать собственные ошибки».
Для Лоу это время, возможно, наступило в августе прошлого года — он уступил мировой рекорд в беге на милю канадцу Трри Куперу. Когда разговариваешь с этим живым, красивым, молодым и чуть крикливо одетым лондонцем, создаётся впечатление, что он говорит очень искренне. «Когда я не смог вернуть себе рекорд, — сказал он, — я стал задумываться; со мной явно что–то случилось, у меня пропало желание бегать».
Каждому спортсмену ведомо такое чувство, и он его боится не меньше, чем писатель боится потерять желание писать. Кто–то временно отказывается от бега, надеясь, что отдых позволит ему вернуть форму, кто–то, наоборот, увеличивает тренировочный цикл, кто–то поступает так, как Лоу, — меняет методику тренировок.
Лоу отдыхал на Майорке в конце сезона, потом сократил объём тренировок — всё бесполезно. Это были лишь отчаянные попытки отложить разрыв между замечательным, но деспотичным тренером и бегуном, теперь уже мужем, который повзрослев как мужчина и как спортсмен.
Приходится только сожалеть, что они не нашли возможности для компромисса. Впрочем, все, кто знает Сэма Ди и его взгляды, понимают, что компромисс невозможен. Ди — абсолютист, который ждёт от своих бегунов полного подчинения и рассматривает малейшее отклонение как измену. Он увидел Лоу, когда тот был посредственным бегуном на четверть мили, и превратил его в бегуна на милю мирового класса, но все пять лет требовал от него напряжённой тренировки, — наверное, после Затопека так не тренировался никто. Правда, между разными системами существует большие различия, но каждая из них требует от бегуна, чтобы он достиг пределов своих возможностей и даже вышел за эти пределы.
В отличие от Затопека, тренировки которого сводились к неустанному бегу, методы Ди хитроумно рассчитаны. Он считает, что бегун должен переходить за грань того, что он называет болевым барьером, причём не только во время соревнований, но и в тренировках.
Теперь же Лоу, взявший в жёны Джил Дейли, которая сама спринтер–олимпиец и потому хорошо понимает, с какими проблемами сталкивается первоклассный бегун, явно получил от своего тренера максимум того, что мог. Он выбрал для себя менее требовательную, но более насыщенную и весьма напряжённую систему интервальных тренировок, которую исповедует профессор Курт Гиземан из Спортивного института в Нюрнберге.
Совершенно очевидно, что такой крутой поворот нелёгок для него самого, да и Сэму он нанёс тяжёлый удар. Будем надеяться, что Лоу обретёт прежнюю форму, а Ди найдёт нового воспитанника».
Много ночей после этого я не мог заснуть, а когда засыпал, видел одни и те же сны. Он в них был обязательно. Джил говорила, что я кричу по ночам. Как–то сел в постели и завопил: «Я падаю! Падаю!»
Журналисты вцепились в меня будто клещами. Телефон трезвонил. Газеты принялись обсасывать эту историю, что говорил Сэм (как он надеется, что я не пожалею о содеянном и т. д.), что якобы сказал я. Даже мама на меня накинулась. Она позвонила и спросила: «Ты уверен, Айк, что поступаешь правильно? Ведь он сделал тебе столько добра». Я ответил: «Знаю, мама, знаю, но тут ещё очень много такого, чего ты не поймёшь». Она продолжала: «Конечно, у него свои причуды. Никогда не забуду, как мы поразились, когда он первый раз к нам пришёл, но он всегда хотел как лучше». Я сказал: «Да, конечно, хотел. Но многое изменилось. Это нелегко объяснить. Думаю, с другим тренером я стану лучше бегать». Она вздохнула: «Ну что ж, если тебе это принесёт счастье…» Я знал, что она со мной не согласна, но разве ей всё объяснишь?
В тот вечер, когда я от него вернулся, Джил только посмотрела на меня и сказала: «Разговор состоялся, да?»
Я кивнул, ещё не оправился от потрясения. Она спросила: «Он обвиняет меня?» Видно, она в этом не сомневалась. Я ответил: «Он приплёл сюда историю Самсона». Она заметила: «Надо думать, у меня была роль Далилы!» Я добавил: «Он сказал, что вроде потерял сына». Она кивнула, словно ждала и этого.
Потом она почти ничего не говорила — видела, в каком я состоянии. Она всегда улавливала, когда мне не хотелось слушать болтовню. И в последующие несколько дней я почти всё время молчал. О многом тогда передумал. В голове всё возникали слова, сказанные им там, на холме в Хампстед — Хит.
Мы с Джил ежедневно тренировались в «Кристал–паласе» — у Джил были каникулы, — и я бегал до полного изнурения, просто чтобы не думать. Было несколько соревнований, но выступал я ужасно: на матче между графствами в Уайт — Сити я чуть не проиграл, да и в Бирмингеме не вышел из четырёх минут. Когда бежал, в груди была тяжесть.
Рон Вейн подошёл ко мне в Уайт — Сити и сказал: «Айк, все мы вздохнули с облегчением». А я сделал вид, что не понимаю, о чём речь, посмотрел ему в глаза и спросил: «По поводу чего, мистер Вейн?» Он слегка растерялся, потом сказал: «Того, что в вас наконец заговорил здравый смысл. Это надо было сделать несколько лет назад, Айк. Послушаться нас. Этот человек эксплуатировал вас в своих целях». Я спросил: «Разве, мистер Вейн?» Он ответил: «Безусловно. Я в этом абсолютно убеждён». Потом он, видно, понял, что я насмехаюсь, кивнул мне и сказал: «Оставайтесь с Гиземаном, его влияние куда более здоровое». И отошёл.
При каждом звонке я стрелой мчался к телефону, надеясь, что звонит Сэм. Но, как правило, навязывался очередной чёртов репортёр. Когда Джил была в комнате, она наблюдала за мной, и я угадывал её мысли. Несколько раз меня тянуло ему позвонить, однажды я даже набрал номер, но повесил трубку, не дождавшись ответа.
Наконец я написал ему письмо, как я ему за всё благодарен, что я многим ему обязан и спрашивал, не можем ли мы оставаться товарищами. Но он не ответил.
Однажды Джил спросила: «Почему бы тебе ни поехать на время в Германию?» Я ответил: «Здесь или в Германии — какая разница?» Джил продолжала: «Ведь Курт сказал, что всегда будет тебе рад».
Я поехал, и она оказалась права: именно это мне и требовалось. Курт принял меня тепло, к моим тренировкам отнёсся с полным вниманием. Держался сдержанно, но всегда как будто наперёд знал все мои желания.
День или два вообще не давал мне тренироваться, предлагал то плавание, то баскетбол. Была у него своя присказка: «Во всём важно разнообразие». Как–то он даже увёз всю нашу группу за город, в лес — мужчин и женщин. Там мы пробежали трусцой милю или две. Потом устроили пикник. Он сказал мне: «Вы сейчас в состоянии как бы отравления, главным образом психологического, и вам прежде всего нужно из него выйти». Потом начались интервальные тренировки, вначале очень щадящие — так, по четверти мили за минуту. Потом нагрузка постепенно увеличилась, и к концу недели приходилось бегать быстрее чем за минуту и перемежать с бегом на 200 метров. После окончания каждой пробежки я ложился, а Курт выслушивал сердце и отсчитывал пульс. Всегда очень спокойно, ничего общего с Сэмом, никаких бьющих по ушам окриков, никаких громогласных наставлений.
Но, надо признаться, иногда мне не хватало Сэма. Словно тебе отрезали руку — хочется ею что–то сделать, а её уже нет. Я узнал от Алана, что Сэм сильно уязвлён, — этого следовало ожидать. Наверное, он считает, что за ним нет никакой вины. Алан мне сказал: «Твоё имя — что–то вроде табу; назовёшь его — он тут же выходит из себя; и тогда пошло–поехало, как король Лир». И Алан довольно хорошо спародировал Сэма, размахивая руками и восклицая: «Я всё сделал для этого мальчика; я не ожидал награды, но и не ждал, что меня предадут!»
А иногда он накидывался не на меня, а на Джил. Алан и это представил: «Нельзя бороться с мужчиной, мужчина противостоит вам открыто, но женщина подточит вас изнутри».
Это меня задело: «Обвинять Джил — это бессовестно». Но Алан возразил: «Это легче, чем обвинять самого себя. К тому же ты ведь знаешь, как Сэм относится к женщинам, особенно к спортсменкам».
Курт всегда был очень мил с Джил, очень вежлив. Когда я пробыл у него две недели, он добыл ей приглашение принять участие в соревнованиях, в которых участвовал и я, так что она смогла приехать и побыть со мной во Франкфурте. Мы встретили её в аэропорту, и Курт пришёл с цветами. Как приятно было снова увидеть её! Первыми её словами были: «Ты выглядишь намного лучше!»
Я сказал: «Это всё Курт». И он чуть улыбнулся, очень приветливо.
Потом я спросил Джил: «Он тебе нравится?» Она ответила: «По–моему, к тебе он относится хорошо». Я повторил: «Но тебе–то он нравится?» Она, как все северяне, поначалу относилась к людям настороженно.
А мне и впрямь было хорошо. Сейчас меня уже по–настоящему тянуло тренироваться и участвовать в соревнованиях, но я их и боялся — не знал наверняка, хорошо ли будет бежаться. Здесь с Куртом я вдруг почувствовал себя таким свободным, каким давно не был. Нет, тренировка была тяжёлой, я всё время бегал по секундомеру. С Сэмом в некотором роде было больше разнообразия, хотя тренировки занимали куда больше времени. Сейчас тренер мне помогал, а не командовал. Раньше были секундомер и Сэм, а сейчас остался только секундомер.
В соревнованиях во Франкфурте участвовали Эрхардт из Германии, Буаси из Франции, Будаи из Венгрии и чех по фамилии Куна, который этим летом показывал очень хорошее время. Но они меня не беспокоили: будто в хорошей форме — всех обгоню. Боялся же я самого себя — как побегу после стартового выстрела? Я так волновался, что почти не спал ночь перед соревнованиями, Джил тоже. Один раз она протянула руку и крепко сжала мою. Она была настоящей подругой.
Перед стартом мне было ещё не по себе, но как только начался бег, я обо всём забыл. Я летел вперёд, как метеор, вернулось старое ощущение, которого я не испытывал бог знает сколько: вот я бегу, и тело работает на полную мощность, и даже есть ощущение полёта, будто сидишь в машине и жмёшь на педаль газа.
У меня не было плана забега. Если начну хорошо, не понадобится никакой план, а если нет, то и план не поможет. Думаю, Курт всё понял, потому что и не пытался предложить мне план, как всегда делал Сэм. Он только вкратце рассказал о соперниках, которых я не знал: у Куны очень сильный финишный рывок, и лучше обойти его до удара колокола. Эрхардт с его выносливостью может бежать до бесконечности, но всё время в одном темпе — так бегают на три мили.
И вот я бегу — ни плана, ни постылого болевого барьера, ничего. Это, пожалуй, и было самым главным — не слышать изо дня в день разговоры о болевом барьере, не бороться с ним на тренировках и не думать в страхе, что придётся пройти через это на соревнованиях. Когда я спросил у Курта, что он думает о болевом барьере, он улыбнулся и сказал: «Никакого болевого барьера нет, есть лишь то, на что способен бегун и на что он не способен».
Я лидировал в этом забеге не 1500 метров от старта до финиша. После колокола Куна шёл за мной, но он только раззадорил меня, а у финиша отстал на двадцать ярдов, и я пришёл первым, показав лучшее для себя время в этом сезоне — 3.37,8. Старина Курт просто сиял, а Джил прыгала от радости. Она тоже выиграла свой забег на сто метров, и день был чудесным для нас обоих. Вечером Курт повёл нас в один из пивных погребков. И все там, надев смешные шапочки, распевали песни. Признаюсь, что и я влил в себя пинту–другую, будь то яд или не яд.
«Когда в прошлом году британец Айк Лоу побил мировой рекорд в беге на милю в Лос — Анджелесе, это выглядело, хотя он и не подозревал, как конец старой песни. Когда же на прошлой неделе он повторил свой результат — и опять в «Колизее», — показалось, что это — начало новой.
Впервые бегун на милю Лоу установил рекорд под руководством тренера Сэма Ди; старый британец превзошёл своими эксцентричными выходками самых диких битников. Ди кормил своих бегунов фруктами, орехами и овощами, тренировал их в лесопарке, подгонял их вперёд не соревнованиях, стоя у дорожки; его рекламные интервью для печати звучали громче, чем у голливудских агентов по связям с прессой и повсюду — от спортивных стадионов до королевских приёмов — он появлялся всё в тех же потрёпанных джинсах и свитере.
На сей раз Айка привёз его новый тренер — профессор Курт Гиземан, германский физиолог, который практически считает ваш пульс всякий раз, когда пожимает вам руку. Двадцатичетырёхлетний британец поменял лошадей, то есть тренеров, в разгар сезона, в начале июля, потому что чувствовал, что топчется на месте, то есть не может превзойти время Терри Купера, мирового рекордсмена из Канады. Ди ворчливо заявил: «Единственное, чему я не смог научить мальчика, — это терпению».
С точки зрения Ди, Гиземан вообще ничему не научит Айка: «Интервальная тренировка Гиземана годится не для бегунов, а для роботов». Услышав его слова, один американский бегун высказался так: «Конечно, все мы, бегуны, — роботы. Разница только в том, что одни роботы бегают быстрее других».
В прошлое воскресенье под калифорнийским солнцем никто не пробежал быстрее Айка Лоу, который не согласен с определением Сэма. «То, что сказал Сэм, несправедливо, — возразил он в беседе со спортивным обозревателем. — Как минимум с Куртом я чувствую себя свободнее, чем с Сэмом. С Куртом можно и поспорить».
Гиземан — загорелый, 55-летний седовласый тренер с голубыми, как у младенца, глазами и с таким обиженным выражением лица, словно только что услышал, что его жена сбежала с его лучшим другом; он руководит отделом физиологии в Спортивном институте в Нюрнберге, в Германии, там, где обычно проходят ралли. В своё время нацисты сняли фильм о ралли, они назвали его «Триумф воли», и это, пожалуй, единственное, что у них есть общего с Гиземаном и его философией бега. Он также считает, что победа на дорожке — триумф воли.
«Тренер, — говорит он, — должен подготовить не только тело бегуна, но и его дух. Я не верю в разговоры о боли, но что бегун иногда должен быть готов к страданиям — правда. В решающие моменты крупнейших соревнований только бегун, способный превзойти себя, добивается победы».
Это не так сильно отличается от болевого барьера, о котором говорит Ди и о котором ничего больше не хочет слышать Лоу. Когда он порвал ленточку, пробежав последний круг за 56,1, а все остальные, кроме Льва Семичастного из России, оказались далеко позади, у Лоу ещё остались силы для круга почёта.
«Всё зависит от душевного настроя, — сказал он. — Как говорит Курт, барьер есть только тогда, когда ты о нём думаешь».
Единственным барьером Лоу на пути к победе в «Колизее» был Семичастный, сержант Советской Армии двадцати одного года, который сильно рванул после колокола. Ему удалось обойти Лоу, но на финишной прямой британец резко вырвался вперёд, выиграл забег и повторил мировой рекорд.
В этой бочке мёда для Лоу была лишь маленькая ложка дёгтя: Терри Купер из Ванкувера, с которым он разделил мировой рекорд, в забеге не участвовал. Он остался дома на лечении — у него растянута мышца.
«Всегда что–нибудь мешает нам сразиться очно, — сказал Лоу, — однажды ему пришлось уехать на Гренландию, сейчас — растяжение мышцы. А тот единственный раз, когда мы бежали вместе, меня сбили. Остаётся ждать встречи в Перте, там я постараюсь добиться своего».
В Перте в ноябре состоятся Игры Британского содружества. Да, чтобы посмотреть на эту милю, стоит отправиться в путешествие за много миль».
Я тоже прекратил тренировки с Сэмом. Это просто невыносимо — то приступ меланхолии, то приступ паранойи. У него и раньше бывали чёрные дни, когда он обижался на то, что его избегают, обманывают, не ценят, замышляют против него что–то дурное, но такие дни возникали спорадически. Сейчас они стали почти постоянными, а прежние дни веселья, клоунад и пародий не повторялись. Единственное, что могло бы помочь, — возвращение Айка как блудного сына с просьбой простить его и снова принять к себе, но на это нет надежды. Особенно сейчас, когда он вернул себе мировой рекорд и выигрывает на всех соревнованиях.
Наверное, из–за этого Сэму особенно тяжело, да ещё в печати Айк то и дело хвалит Гиземана. Сэм противопоставлял ему собственные интервью, ругая Гиземана и осуждая Айка.
Нет нужды говорить, что Сэм всё предвидел; он ведь втолковывал Айку, что его ждёт подъём, нужно только пережить трудный, инкубационный период, и сейчас его слова оправдались — только заслуга приписывается другому…
Конечно, Сэм мог бы подготовить бегуна, способного превзойти Айка или, по крайней мере, добиться блестящих успехов на другой дистанции. Но где найти такого? Сэм знает, что его окружает атмосфера сомнений. Люди говорят: ему просто повезло, что он нашёл Айка, который теперь прекрасно обходится без него. Уверен, подсознательно Сэм боялся этого и потому так стремился сохранить Айка до конца его карьеры. Я уже говорил: пока Сэм его тренировал, никто не усомнился, что Айк — его детище. Но сейчас Айка тренирует Гиземан, и другой пожинает то, что Сэм посеял.
Гиземан вёл себя умно, значительно умнее Сэма: не подчёркивал своих заслуг, а говорил, что Айк — бегун от бога, но в то же время изредка намекал, что Айк нуждался в тщательно рассчитанной тренировке, что бегуну следует давать почувствовать — он сам себе хозяин.
Но такой ли уж хозяин? Я стал иногда тренироваться с Айком и Джил в «Кристал–паласе». И когда Гиземан прибыл на матч Великобритания — США в Уайт — Сити, я постарался туда попасть. Я понял, почему Айк перешёл к нему от Сэма. По контрасту с Сэмом он был спокойным, сдержанным, почти отстранённым, причём с очень точным научным подходом, не выпускал из руки секундомера. Но почему–то он напоминал мне дрессировщика, который всего добивается мягкостью. Я предпочитаю Сэма. При всём его чудовищном эгоизме, показухе и криках, погоне за рекламой и непримиримости он человечен, даже сверх меры человечен. Он командовал Айком и подавлял его, но поступал как отец с сыном, а не как дрессировщик с тигром или изобретатель с машиной.
Именно так Гиземан говорит об Айке — с большим восхищением, глубочайшей серьёзностью, но так, будто речь идёт о машине или великолепном животном. «Объём его легких исключителен. Необычен также ритм его сердца — он намного медленнее нормального. Способность к восстановлению сил у него выдающаяся, и эти показатели улучшаются». Курт всё воспринимает по–деловому. Улыбки на лице почти никогда нет. На шутки не реагирует, как не реагирует машина, случайно задавившая собаку.
Круг по дорожке и лежать, круг по дорожке и лежать, истощённым, тяжело дыша, как человек, вытащенный из моря. Тогда Гиземан наклоняется, кладёт руку на сердце Айка, в другой — неизменный секундомер, хмурится и беспокоится — выдержит ли машина? Не умрёт ли тигр? Наконец кивает головой. Айк встаёт и бежит новый круг, иногда вместе с Джил. Вот это преданность.
Когда Джил тренировалась вместе с Айком, она пробегала несколько кругов, иногда через круг, очень серьёзная, с лицом девственницы–весталки, участвующей в религиозном ритуале, которым вершит уже новый жрец.
Как–то я спросил её: «Тебе он нравится?» Она ответила: «Кто, Курт?» — и посмотрела на меня обезоруживающим детским взглядом, который покоряет своей невинностью или рассчитан на то, чтобы покорить. Может, мой вопрос показался ей недобрым, может, она законно защищалась от провокационных вопросов? «Да. Он мне нравится», — коротко сказала она, и разговор был окончен.
Если он ей не нравится, Курту не позавидуешь; то, что она сделала однажды, она может сделать снова, но на сей раз с позиции силы. Думаю, она не будет вмешиваться, пока будет считать, что занятия с Куртом Айку не пользу, что ему нужен именно такой тренер.
Айк же снова обрёл желание бегать, это бросается в глаза. На дорожке «Кристал–паласа» он походил на гончую, ожидающую команды идти по следу, охотится, доказать свою силу. А на соревнованиях он выглядит непобедимым, излучает уверенность в себе настолько, что даже если кто–нибудь его обходит — так было в матче с американцами, когда Драйвер ненадолго его обогнал, — чувствуется, что он не против, поскольку забег становится более интересным и создаётся впечатление, что ему бросают вызов. Под конец он запросто оторвался от Драйвера, как и от Кёртиса, другого американца, не говоря уже о Джордже Коллинсе — втором британце.
Если бы Олимпийские игры проводились в этом году, а не через два года, он наверняка победил бы. Сейчас у него единственный достойный соперник — Купер, но по тому, как Айк теперь бегает, при всей эйфории, последовавшей за переменной тренера, он одолел бы и Купера. Но до Олимпиады ещё два года, и бог знает, что может произойти за это время.
«Один из наиболее известных вегетарианцев Британии возвращался к стандартным бифштексам. После пятилетнего воздержания сообладатель мирового рекорда на милю Айк Лоу стал счастливым мясоедом.
«Сперва я себя чувствовал вроде виноватым, — сказал Айк, — особенно когда набросился на мясо с таким удовольствием. Но потом привык и, по правде говоря, понял, как мне его не хватало».
Перемена диеты у Айка совпала с переменой тренера. Сэм Ди, который открыл Айка и тренировал его до этого лета, — убеждённый вегетарианец, и он настоял, чтобы Айк питался именно так. А новый тренер, профессор Курт Гиземан из Германии, считает, что бегуну нужны протеины, которые содержатся в мясе.
Но кто пришёл в восторг — это жена Айка Джил: «Жить стало намного легче. Теперь мне не нужно изобретать два разных меню».
Пока это не случилось, всё шло чудесно. Конечно, я должен был знать — уж слишком хорошо всё складывалось, так не бывает. Единственное, что мешало, — мысли о Купере, они преследовали меня, будто тень. Иногда казалось, что он сознательно избегает меня, не хочет встречаться со мной до Перта, чтобы я не мог победить его.
Когда я поделился этими мыслями с Куртом, он сказал, что так не думает, что мы с Джил придаём слишком много значения этой встрече. Может, он прав, не знаю, но хотелось бы победить Купера до Перта, иначе там слишком многое будет поставлено на карту.
Частично всё объяснялось тем, что он канадец. Матчи между нами и Канадой не проводились, но мы посылали туда приглашения на соревнования в беге на милю. Когда приглашали Купера, всегда было интересно. В этом сезоне он показывал хорошее время: только дважды не вышел из четырёх минут. В Сан — Франциско его время было 3.55,4, в Торонто‑3.55,8, но ни разу он не приблизился к моему времени в Лос — Анджелесе. Курт анализировал его выступления, уточнял все данные о забегах Купера по каждому кругу в каждом соревновании за последние два года. По мнению Курта, чтобы его обогнать, нужно спуртовать раньше, до середины третьего круга: если отпустить его вперёд, он продержится до колокола, а там его уже не догнать. «Ты должен оказаться сильнее, чем он. Пожалуй, есть смысл взять лидерство прямо со старта». Едва ли найдётся милевик, которому такая тактика по душе, особенно когда есть кого бояться; всё время думаешь: что он там замышляет сзади?
В остальном всё шло как нельзя лучше. Я наведывался в Германию примерно раз в месяц, оставался там несколько дней, иногда дольше; в остальное время пользовался планами и графиками тренировок, которые мне присылал Курт. Их было очень много, каждое занятие разбивалось на бег по кругу и полукругу, для каждого отрезка указывалось время, причём если соревнований не было, нагрузки возрастали. Он советовал, как питаться сейчас, когда я снова стал мясоедом, сколько часов спать, особенно в поездках. Он придавал этому большое значение; влияние перелёта на физическое состояние организма — это была одна из его тем. Он ничего не упускал из виду, ничего.
Я выступал хорошо, выиграл забег в Уайт — Сити у американцев, снова победил Драйвера, что всегда доставляет мне удовольствие. Победил и Семичастного в Москве; после Лос — Анджелеса я знал, что он сделает всё, чтобы меня опередить, тем более на своём стадионе.
Мне всегда нравилось ездить в Москву — вот где действительно любят лёгкую атлетику. На стадионе там всегда собирается восемьдесят с лишним тысяч зрителей, которые кричат что есть мочи, а мне это здорово помогает — не важно, подбадривают меня или других.
Семичастный — крепкого телосложения, с короткой стрижкой. Внешние данные — спринтера, а не милевика. Думаю, ему бы лучше бегать 800 метров. Впрочем, в Лос — Анджелесе он после колокола рванул будь здоров, да и в Москве повторил этом номер, но тут я уже был начеку и удержался рядом. На последнем круге я ушёл вперёд, к финишу обогнал его на двадцать пять ярдов. Моё время на 1500 метров — 3.38,6.
Потом я вернулся домой на седьмом небе, и тут на меня, как снег на голову, свалилось это.
Я знаю, что многие с тех пор осуждают меня, и не говорю, что вёл себя лучшим образом, но хочу вот что сказать: у нас с Джил была договорённость — подождать с ребёнком по крайне мере до Токио, а уж потом посмотреть, как быть дальше. Не говорю, что она в чём–то виновата, хотя она часто повторяла: «Ты ведёшь себя, будто я виновата». Но ведь она даже не посчиталась с моей точкой зрения — раз так случилось, надо было попробовать всё уладить. Приятного, конечно, мало, но так она сделала хуже нам обоим.
Так или иначе, едва я приехал, сразу почувствовал — что–то неладно. Она открыла дверь, у меня было полно новостей, обычно она бывала возбуждена не меньше меня. На этот раз её не включили в команду, в Москву поехала одна шотландка. Как только я увидел Джил, поцеловал её и сказал: «Всё в порядке — 3.38,6! Я выиграл!» Она ответила: «Чудесно, я рада» — и улыбнулась, но какой–то усталой улыбкой, будто говорила заученные слова.
Было около десяти вечера. Она приготовила сэндвичи, вскипятила чайник. На кухне я сказал: «Ну, в Перт ты поедешь обязательно, уж Англия без тебя не обойдётся» — на Игры Содружества посылали отдельные команды Англия, Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс.
«В Перт я не поеду». Я поначалу не врубился. «Не будь дурочкой. Конечно поедешь. В сборную тебя включат, тут и думать нечего. К тому времени тебя, скорее всего, вернут и в команду Великобритании. Та шотландка бежала хуже некуда».
Она сказала: «Дело не в том, включат меня или нет. Я сама не смогу. Я беременна».
Меня словно молотком ударили. Голова закружилась. Потом я с трудом выдавил из себя: «Что значит — ты беременна?» Она ответила: «Я сомневалась. Пошла к врачу. Результаты узнала в пятницу».
Первой моей реакцией было: «Что будем делать?» Она холодно ответила: «Что ты имеешь в виду?» Я воскликнул: «Но мы не можем сейчас его заводить!» Она промолчала, и я понял, что решение принято. Она со мной не согласна. Она хочет ребёнка.
Я спросил: «Ты его хочешь?» Она ответила, не поднимая глаз от стола: «Да, хочу». Я возразил: «Но мы же договорились. Всё наметили». Она сказала: «Что поделаешь, я не виновата». А я в ответ: «Конечно, но раз это случилось, можно что–то сделать».
«Я ничего не хочу делать». Тут, я сорвался и закричал: «Господи! Именно сейчас! Как будто у меня не полон рот забот перед Токио!» Она сказала: «Тебе незачем беспокоиться. У тебя лишних забот не появится. Я могу запросто уехать домой». Я продолжал: «Очень хорошо! Прекрасно! Ты уедешь домой, а что будет со мной? И откуда возьмутся деньги, тем более если ты уйдёшь с работы? Тогда мне тоже здесь делать нечего».
Она сказала: «Как хочешь», — потом встала и вышла. Я не пошёл за ней наверх, всё сидел, пока не решил, что она уже заснула. Всё думал: «Вот влипли!» — и злился на Джил. Но что делать? Одно было ясно: она своё решение не переменит, на это можно не надеяться. Когда она что–нибудь возьмёт в голову, её не собьёшь. Она даже не станет спорить, только замолкнет, и чем больше на неё напирать, тем крепче она будет стоять на своём.
Я и впрямь подумал: не бросить ли её — так был выведен из себя. Уехать в Нюрнберг и остаться там. Курт сказал, что я могу приехать в любое время и на сколько мне нужно: «Здесь тоже твой дом». А она пусть делает что ей заблагорассудится, может даже подать на меня в суд. Потом я подумал: как прекрасно всё было до сих пор, и почему это должно было случиться, уж больно несправедливо! Затем сделал нечто вовсе мне не свойственное — достал из буфета бутылку виски и тяпнул три рюмки кряду.
Когда я поднялся наверх, свет был выключен, но она не спала. Я чувствовал, что она лежит и смотрит в темноту. Но заговаривать с ней не стал, будто бы решил, что она спит. Мне впервые захотелось иметь собственную спальню, чтобы не спать рядом с ней, — вот до чего дошло.
На следующее утро я проснулся, когда она уже ушла в школу. Обычно, если я поздно просыпался, она оставляла мне завтрак на плите, но на сей раз там ничего не было. Я подумал: что ж, так тому и быть, позвонил по телефону Курту и сказал: «Сегодня я приеду». Он спросил: «Надолго?» Я ответил: «Не знаю, поглядим».
Я упаковал чемодан и после обеда уехал. Ей оставил записку, что решил слетать в Нюрнберг, оттуда позвоню. Я должен был уехать — от неё и всего остального.
«Англия не пошлёт супружескую пару бегунов на Игры Содружества в Перт, Западная Австралия.
Красивая, двадцатичетырёхлетняя спринтер Джил Лоу, жена мирового рекордсмена Айка, сказала, что не может войти в сборную. Она ждёт ребёнка.
Айк сейчас живёт в окрестностях Нюрнберга, где тренируется в Спортивном институте под руководством знаменитого тренера профессора Курта Гиземана. Джил заметила: «Я не стану ему поперёк дороги. Знаю, что он мечтает о золотой медали».
Несколько недель назад, когда я пошёл в «Кристал–палас», я увидел, что Джил тренируется в одиночестве.
— Где Айк?
— В Нюрнберге.
Вот и всё. И побежала дальше. Я догнал её, чтобы расспросить.
— Надолго?
— Не знаю.
И снова побежала, на сей раз к раздевалке:
— Мне надо уходить.
И больше уже там не появлялась.
Пару раз я ей звонил, но всегда слышал в ответ: «Не знаю. Не имею представления. Не могу сказать».
Меня это озадачило и даже встревожило. Не из–за любопытства, хотя и оно меня одолевало, но я как–то заволновался за неё, за него — что могло между ними произойти? Неужели был ещё один бой, и на сей раз она проиграла, уступила Курту? Нет, едва ли. И всё же ей явно не нравилось, что Айк уехал, а он с этим не посчитался. Довольно глупо с его стороны. Мелко и эгоистично. Ставить на первое место свои спортивные цели! Ведь она для него должна быть в десять раз дороже Курта и его дурацкого секундомера!
Теперь я понимаю, почему ей так хотелось, чтобы Айк остался дома. Тошнота по утрам и всякое такое. Или тут ещё что–нибудь. Может, всё вышло случайно? Чем больше думаю об этом, тем больше понимаю: тут свою роль сыграл случай, для него крайне нежелательный.
Я её — Хельгу — раз–другой здесь уже встречал. Но тогда у меня было не такое настроение, как сейчас. Она изредка улыбалась мне, будто я ей нравлюсь. У неё была особая манера глядеть на человека, словно она его хладнокровно оценивает, но тогда все её пассы я оставил без внимания.
Выглядела она потрясающе — очень высокая, даже выше меня, с длинными, сильными ногами, но не большими и тяжёлыми, как у многих немецких бегуний. Она часто распускала свои длинные чёрные волосы. Впервые я увидал её в Белграде, на европейском чемпионате, когда она победила в беге на 400 метров, а я — на 1500.
Её отец, франкфуртский промышленник, был человек при деньгах, и она водила красный «Феррари», который мчался, как метеор. Видно было, что девица самостоятельная и ни в чём не знает отказа, к тому же училась в университете и была умна.
Наутро после того, как я приехал в Нюрнберг, она тренировалась со мной и Куртом. Мы вместе бегали по кругу, и она двигалась хорошо — ноги–то длинные. На третьем круге мы начали соревноваться. Она убежала вперёд, а я решил, что не потерплю такого, и давай за ней.
Тогда она ускорила бег, обернулась и рассмеялась. Курт нам кричал: «Медленнее, медленнее!» Но мы не обратили внимания — будто бросили вызов друг другу. Оба ринулись вперёд, под конец я её опередил, всего на ярд, но мне и впрямь пришлось выложиться.
Курт подошел с грустным видом, покачивая головой. Мы оба легли на травку, чтобы он проверил пульс, а она повернула ко мне голову и снова засмеялась. Она смеялась и тогда, когда Курт что–то говорил ей по–немецки, она отвечала — не знаю, что именно, но явно с ним не соглашалась. Потом он сказал мне: «Соревноваться бесполезно. Тренировка не для состязаний». Я ничего не ответил, он был прав, но ведь она начала, я же не мог ей уступить…
Вечером она отвезла меня во Франкфурт. Я сперва колебался — ехать ли, но она сказала: «Конечно, поехали! Я привезу вас обратно вовремя, ещё наспитесь!»
Она гнала так, что испугала меня до смерти: не меньше восьмидесяти миль, а порой и выше ста. То и дело она поглядывала на меня и улыбалась. Не знаю, удавалось ли мне отвечать ей улыбкой, — уж больно она рисковала, обгоняя машину за машиной.
Во Франкфурте она отвезла меня в модный ресторан, где можно было потанцевать. Услышав музыку и увидев наряды присутствующих, я слегка вздрогнул. Наверное, она это заметила, потому что сказала: «Не беспокойтесь, счёт я выпишу на отца».
Как и Джил, она танцевала хорошо и с наслаждением. Разница была лишь в том, что Джил во время танца как бы отключалась, уходила в себя, танцевала очень грациозно, очень ритмично, но соло. А Хельга танцевала с тобой, не переставая улыбаться и как бы поддразнивая. На ней был ярко–зелёный костюм, и со своими развевающимися волосами она выглядела, как на картинке.
За ужином она сказала: «Сейчас вы едите мясо, а раньше, кажется, не ели». Я ответил, что был вегетарианцем. Она снова как–то странно улыбнулась и спросила: «Наверное, вы от многого отказываетесь ради бега?» Я сказал: «Приходится. А вы разве не отказываетесь?» Она пожала плечами: «Не так уж часто. Бег для меня — не вся жизнь». Мы посмотрели друг на друга, она с присущей ей многозначительностью. Я протянул через стол руку, и она крепко сжала её своими сильными пальцами. «Вы любите джаз? — спросила она. — У меня дома есть записи «Модерн джаз–квартета». Я спросил: «А возвращаться мы не собираемся?» Она снова пожала плечами — ей этого явно не хотелось: «Я позвоню Курту и скажу, что машина сломалась. Она часто ломается».
Квартира у неё была как в сказке — очень современная, с паркетными полами, много комнат, ковров, на стенах — картины, на которых ничего не поймёшь, и модная металлическая мебель.
Когда мы вошли, она сказала: «Ты можешь меня поцеловать». Но поцеловала меня она, тесно прижавшись ко мне всем телом, обвив руками шею — словно питон.
Спустя пять минут мы уже были в постели — огромной, двуспальной, укрытой белым мехом, а на ней — куча игрушечных зверюшек: всяких мишек, слоников. Одним движением она всё сбросила…
Она позвонила Курту только к полуночи, да и то потому, что я настаивал. «Не понимаю, что ты так волнуешься».
Когда мы вернулись на следующее утро, Курт ничего не сказал, только кивнул с обиженным видом. Но позднее, когда мы с ним остались наедине, он заявил: «Спортсмен должен идти на определённые жертвы. Я не могу приказывать, я только советую. Твой пульс сегодня сильно частит».
После этого я заставлял её отвозить меня домой пораньше, иногда сам садился за руль — так было спокойнее.
Через неделю я написал Джил. От неё не было ни слова. Я не мог себя заставить позвонить ей: во–первых — из–за нашей ссоры, а во–вторых — из–за Хельги. Сейчас я уже не сердился, просто не хотелось говорить с ней о ребёнке и всём прочем. Хотелось быть от всего этого подальше, хотя я, наверное был не прав. Я считал: с Хельгой или без неё, мне нужно время, чтобы справиться с собой.
Но я всё же написал, что жалею о своём внезапном отъезде, — мол, подчинился импульсу, захотелось побыть одному. Я бы всё ей объяснил, будь она в то утро дома. Просил прощения за своё поведение и за всё, что наговорил тогда, — мол, был усталым и ничего подобного не ждал. Как только вернусь, мы поговорим обо всём, но мне ещё нужно время, чтобы осознать происшедшее. Хотя времени тут у меня было не таки много — то Курт, то Хельга.
Курту всё это не нравилось, он продолжал отпускать замечания на счёт сердцебиения и пульса, а однажды сказал: «В жизни женщины бег никогда не играет такую важную роль, как в жизни мужчины». Я понял, что он имеет в виду, и знал — он прав, я ставлю под удар свои шансы, но не будь у меня сейчас этой отдушины, я просто сошёл бы с ума.
Однажды, когда мы лежали в постели, Хельга сказала: «Я видала твою жену в Белграде; по–моему, она мила». Потом обняла меня. Я вроде небрежно ответил: «Ты думаешь?» Она спросила: «Ты не любишь говорить о своей жене?» Я сказал: «Не всегда же позволяют обстоятельства». И она засмеялась.
Прошла неделя, а ответа от Джил не было. Я забеспокоился и как–то вечером позвонил. Никто не ответил. На следующее утро, очень рано, примерно в половине восьмого, я снова позвонил домой, и опять никакого ответа.
Я подумал: может, она уехала к родителям — и позвонил в Манчестер.
Долго не мог прозвониться. Потом к телефону подошла её мать и настороженно спросила: «Да, кто говорит?» Я ответил, и она очень холодно сказала: «Слушаю». Когда же я спросил, — у них ли Джил, она ответила: «Да» — и так, будто хотела добавить: а зачем она тебе нужна? «Можно её?» Чуть помолчав, она сказала: «Сейчас узнаю».
Я ждал бог знает как долго, мне показалось, чуть ли не час; наверное, около минуты, потом я услышал голос Джил: «Да», и звучал он ещё холоднее, чем у её матери. Я спросил: «Ты получила моё письмо?» Она ответила: «Да, получила». Я сказал: «Думал, ты тоже напишешь». — «О чём?» — «Хотя бы о том, что ты в Манчестере». Она ответила: «И ты мог бы сказать, что едешь в Нюрнберг».
«Послушай, если ты хочешь, чтобы я признал свою ошибку, я её признаю, я же написал об этом в письме, верно?» Она спросила: «А что это меняет?» — «А то, что мы снова можем всё обговорить». Она сказала: «Мне твои взгляды известны. Вряд ли такой разговор что–то изменит». Тут взбеленился и стал кричать: «Чёрт возьми, как это не изменит?! В смысле ничего не изменит для тебя! Ты всё хочешь делать только по–своему!» Она сказала: «Так мы ни до чего не договоримся» — и повесила трубку.
Меня всего трясло. Ну и чёрт с ней, больше к ней не вернусь. Приехала Хельга — она появлялась теперь почти ежедневно — и спросила: «Что случилось, Айк?» Я ответил, что ничего особенного. Но в этот вечер мы снова сказали Курту, что машина сломалась.
«В окрестностях старинного города Нюрнберга, контрастируя с его средневековыми замками и соборами, стоит большое современное здание.
Здесь усиленно тренируется Айк Лоу, самый блестящий бегун на милю в Британии. Он знает, что его ждёт труднейшее испытание: финал в беге на милю в Перте, на Играх Содружества.
Там двадцатичетырёхлетний лондонец, представитель спортивной фирмы, почти наверняка встретится и должен будет победить того, с кем он делит мировой рекорд: с выдающимся Терри Купером из Канады.
Я говорил с Айком на прошлой неделе возле Спортивного института на красной беговой дорожке, которая стоила 10 000 фунтов, Лоу сказал: «По сути, я готовлюсь к этому выступлению уже больше года. С того дня, когда узнал, что Купер побил мой мировой рекорд».
Высокий, загорелый, полный решимости, Айк Лоу, чьё тело — это мускульное чудо, тренируется безжалостно, даже беспощадно и намерен прийти к соревнованиям в Перте в пике спортивной формы. Его тренировки ведёт всемирно известный физиолог профессор Курт Гиземан, в работе которого нет места случайностям. Вес Айка, его пульс, сердцебиение и скорость восстановления ежедневно проверяются и записываются.
Вместе они смотрели фильмы о забегах Купера и проанализировали их круг за кругом. Айк пошутил: «Когда придёт время ехать в Перт, я буду знать о Купере больше, чем он сам».
Уже шесть недель Айк живёт и тренируется в Спортивном институте, выполняя жёсткую программу Гиземана по интервальной тренировке. К этой системе он перешёл в июне, после пяти лет тренировки на выносливость под началом яростного противника ортодоксальности британского тренера Сэма Ди.
«Сэм был для меня прекрасным тренером, — сказал Айк, — но мне кажется, с ним я уже достиг максимума возможного. Не исключено, что менять метод тренировки вообще надо каждые пять лет».
Бывший бегун на четверть мили, впервые пробежавший милю, когда ему было лишь восемнадцать лет, так ответил на вопрос, поддерживает ли он контакт с Ди: «Нет, хотя мне бы этого хотелось. — Хмурое выражение появилось на его лице голливудского красавца. — Сэм воспринял мой уход очень тяжело. По–моему, он великий тренер.
Просто на этом этапе моей карьеры Курт, как мне кажется, может дать мне больше, чем Сэм».
Спокойный, вежливый Гиземан — полный контраст с яростным Ди, — наблюдая за бегом Айка рядом с блистательной рекордсменкой на 400 метров из Германии, брюнеткой вагнеровского типа Хельгой Вальтер, пояснил: «Каждому бегуну нужен не только подходящий тренер, но и тренер, нужный в подходящее время. Мы с Айком, к счастью, нашли друг друга в момент, когда я, кажется, могу ему помочь. Для меня почётно работать с таким талантливым бегуном».
Айк же сожалеет, что его жена Джил, британский спринтер международного класса, не может быть с ним в Нюрнберге или в Перте.
«Весной она ждёт ребёнка, — сказал Лоу, — и сейчас живёт у родителей в Манчестере».
Да, как говорит Гиземан, «каждый спортсмен должен быть готов к жертвам».
Сэм говорит о преодолении боли, а Гиземан — о жертвах. Видно, для Айка тут есть какая–то разница. Для меня же эта разница минимальна. Оба, словно древние христианские отшельники, проповедуют спасение через умерщвление плоти. Я себе представляю, как их ученики в результате попадают в пантеон: святой Айк, святой Эмиль из Праги, святой Роджер из Иффли. Все они взирают на нас с Олимпа, ведут нас к большим высотам, к быстрейшим скоростям, к большим жертвам.
Я бы не сказал, что Айк так уж во всём себе отказывает: в газетах хватает фотографий, запечатлевших его тренировки с валькирией, но и она, как я понимаю, занимает своё место в этом его вознесении: искушение, посланное дьяволом, которому он поначалу поддался, потом отверг его и наконец одолел.
Может, я ему просто завидую? Ведь пойди я в своё время на жертвы и большее умерщвление плоти, то добился бы золотой медали, а не бронзовой. Сожалею ли я об этом. В некотором смысле да, безусловно. Я жалею, что не завоевал золотую медаль, не повесил её на стену или не поместил в застеклённый футляр, не увидел своего имени в почётном списке. Как я, собственно, распорядился своим временем вместо того, чтобы использовать его для умерщвления плоти? Осталось несколько уже стёртых воспоминаний. Должен ли человек стремиться к чему–то постоянному, что остаётся с тобой навсегда, что можно показывать друзьям и знакомым, что может пережить тебя самого? Не думаю. Я не настолько честолюбив и не стремлюсь оставить что–то после себя, даже детей. Что такое человек, как не сумма наивысших достижений в его жизни? Юность — она для радостей, а не для самоистязаний. Нет, пожалуй, в общем я ни о чём не сожалею. Да и кто скажет наверняка, что я выиграл бы золотую медаль? Мог бы остаться и без бронзовой.
Два дня назад Айк позвонил мне из Нюрнберга. В голосе смущение: «Не хотелось бы тебя просить, но не можешь ли ты позвонить Джил и поговорить с ней. Она в Манчестере, разговор я оплачу». — «А что мне ей сказать?» Он совсем смутился. «Ты ведь знаешь, она беременна. Ну вот, она не в восторге от того, что я уехал в Нюрнберг».
«Тебя это удивляет?» — спросил я.
«Нет. На меня тогда будто что–то нашло. Я как раз вернулся из Москвы. Она меня просто ошарашила».
Значит, я был прав. «Ну, а сейчас?»
«Сейчас я вроде с этим свыкся. Раз уж так вышло, значит, так тому и быть».
Я спросил: «Не лучше ли тебе самому позвонить и сказать ей это?»
Он ответил: «Не знаю, как она это воспримет. А ты знаешь нас обоих. И она поняла бы, что я вправду согласен».
Я сказал: «А ты уверен, что я для этого подхожу? Мне всегда казалось, что Джил сторонится меня».
«Нет, нет, — ответил он слишком поспешно, — она тебя любит, просто иногда не знает, как относиться к твоим шуткам».
Я понял, что он совершенно отчаялся, потому что, как и я, прекрасно знает — это неправда. Он сказал: «До Перта я хочу внести полную ясность».
Тут слова сами сорвались у меня с языка: «Значит, ты хочешь пойти в бой с чистой совестью? Хорошо. Я съезжу к ней, Айк. Это разговор не телефонный».
«Поедешь? — И он вздохнул с огромным облегчением, видно, на это и надеялся. — Может, лучше приехать без предупреждения. А то мне неизвестно, что они скажут, её семья. Сам знаешь, северяне».
Итак, я поехал. На их маленькой тёмной улице мой белый «лотос» выглядел так же экзотично, как космический корабль, а я у двери Джил — так же неожиданно, как астронавт.
Поборов удивление, Джил спросила с застывшем лицом: «Тебя послал Айк?»
Я ответил: «Не совсем так, но говорить с ним я говорил». Она сказала: «Ничего не хочу об этом слышать». — «Неужели ты отправишь меня обратно в Лондон?» В тот момент я думал, что она так и сделает. Бедная девочка, ей явно приходилось несладко! Лицо её уже худее, хотя сама она слегка раздалась; было ясно, что она мало спит и прекрасное внутреннее спокойствие, которое раньше озаряло её лицо, уступило место глубокой грусти. Наконец она сказала: «Заходи» — и отошла в сторону, пропуская меня.
То был дом бедного человека, подобный тому, где некогда жил я, благочестивый дом рабочих людей, где живут на кухне, а гостиная, как святыня, содержится в чистоте и блеске.
Мать вышла в гостиную в переднике, располневшая и седая, глаза милые и проницательные. Она поинтересовалась, кто я такой, и, не поняв, друг я или враг, повела себя настороженно, но вежливо, спросила, не хочу ли я выпить чаю.
Когда она вышла, а мы с Джил сели, я сказал: «Он мне звонил из Нюрнберга два дня назад». Я знал, что разговор предстоит трудный. В её нынешнем положении любое неосторожное слово могла ранить.
«Тебе звонил?» — Она смотрела на меня пристально и враждебно; конечно, это было унизительно, что он втянул в их междоусобицу меня. — И что же он просил передать?» Я ответил просто: «Он уже думает по–другому. Пусть всё будет так, как ты хочешь». Она продолжала: «И он послал тебя, чтобы ты это сказал?»
«Послушай, Джил…» — Но она меня прервала: «Ты можешь ему передать: если он хочет мне что–то сказать, пусть делает это сам». Она была совершенно права. «Джил, я хочу, чтобы ты только в одно поверила. Я знаю, ты меня недолюбливаешь. — Она промолчала. — Но я и вправду хотел помочь, думал, мой приезд что–то даст».
Она слушала, не глядя на меня, потом, помолчав, сказала: «Я тебя не виню». Пожалуй, рассчитывать на большее я и не мог.
Вернувшись в Лондон, я ему позвонил и посоветовал прилететь самому и всё уладить.
Какое далёкое, какое трогательно видение: вот они бегут вместе в Хампстед — Хит. Наверное, счастье недолговечно…
До отъезда в Перт мы не встречались; по правде говоря, я боялся встречи с ней: если бы мы поссорились, это могло бы начисто выбить меня из колеи. Увозить всё это с собой за двенадцать тысяч миль? Мысли о ней давили бы на меня день и ночь.
После визита Алана я позвонил Джил, и если бы она говорила по–дружески, как–то подбодрила, я поехал бы в Манчестер. Но она была холодна, как прежде. «Послушай, — сказал я, — я хочу ребёнка. Рожай его на здоровье. Серьёзно». А она только ответила: «Очень хорошо, Айк».
«Это всё, что ты можешь сказать?»
«Да, всё». — Казалось, она вот–вот расплачется, но она повесила трубку. Никаких «как у тебя», «как тренировки». Поэтому, вернувшись в Лондон, чтобы присоединиться к команде, я уже больше не звонил ей — наверное, был не прав, но уж очень боялся. Правда, я написал ей, что сильно изменился, что люблю её и не заехал перед отъездом только потому, что ужасно волновался перед таким событием, — она должна понять меня, зная, что мне предстоит.
Я даже не зашёл домой — не мог там быть без Джил, — вместе с командой жил в «Ланкастер — Гейт». Жаль, что с нами не ехала Хельга, — может, её присутствие мне бы помогло, но не исключено, конечно и обратное.
В последние две недели она уже не тренировалась в Спортивном институте. Оказывается, Курт отчитал её, велел оставить меня в покое перед таким важным соревнованием, заявил, что она обязана думать о других. «Я ответила, что ты не ребёнок, и сам знаешь о предстоящем соревновании, и пусть он тебе говорит, что надо делать, а не мне».
Словом, она скрылась из виду, и так действительно было лучше. Я ездил во Франкфурт один, и она не подбирала меня на своей проклятой машине. Как–то она сказала: «Знаешь, Курт предпочёл бы иметь дело не с мужчиной или женщиной, а с роботами, на которых можно всё измерить, а когда они не бегают, он бы их выключал».
В некотором отношении Курт не отличался от Сэма. Со стороны всё воспринимаешь иначе; хотя Хельга была бегуньей и тренировалась у него, он тоже к ней относился несерьёзно, потому что она — женщина и бег для неё просто хобби.
Перелёт в Австралию сплошь взлёты и посадки. Только заснёшь, тебя тут же выкидывают из самолёта.
Я знал, что в пути ко мне обязательно начнёт приставать Рон Вейн. Он сел рядом, едва мы взлетели в Лос — Анджелесе. Сперва, как обычно, он сказал, что очень доволен моими результатами, а потом: «Что я вам говорил, Айк? Не был ли я прав? Стоило только поменять тренера. Это надо было сделать давным–давно». Я отделался кивком головы — говорить с ним всё равно бесполезно.
Курт собирался в Перт, но там будет и Сэм — ещё одна головная боль. Сэм тренировал двух парней из команды: барьериста Джека Скотта и бегуна на 800 метров Ронни Блека. С Джеком я какое–то время тренировался, второго парня не знал. Со мной они почти не общались, только поглядывали да пошептывались. Представляю, что им наговорил обо мне Сэм…
В Перте всё оказалось таким же, как в Кардиффе. Не погода, не люди — атмосфера отличалась от Олимпийских игр, больше напоминала атмосферу большого пикника. Мы все жили в коттеджа, со мной — другой бегун на милю, Питер Карсон. Я ему отчасти завидовал: он на высокое место не рассчитывал и спокойно участвовал во всеобщем веселье, а я до финала не мог об этом и подумать.
В первый же день тренировки с Куртом я встретил Купера. Он был очень дружелюбен, протянул руку и сказал: «Привет. Надеюсь, тут ни один из нас не упадёт».
Пожав ему руку, я ответил, что тоже на это надеюсь. Он предложил мне пробежать с ним несколько кругов в лёгком темпе, но я поблагодарил и отказался — у меня, мол, тренировка с Куртом. Он улыбнулся, сказал: «Ничего страшного, не переживай» — и побежал один. Симпатичный малый, но даже с таким надо быть начеку, тем более перед ответственным соревнованием. Возможно, он позвал меня без всякой задней мысли, а может, хотел пронюхать, не перетренирован ли я, когда он, к примеру, полон сил. Или, скажем, согласись я сейчас бежать с ним, он припустит, как заяц, два первых круга, оставит меня позади и выведет из равновесия.
На третий день случилось то, чего я боялся. Появился Сэм. До этого мне удавалось не попадаться ему не глаза. Он бывал на многих соревнованиях, где я выступал, но, видно, как и я, не стремился к разговору. Однажды в Уайт — Сити я кивнул ему и спросил: «Всё в порядке, Сэм?» — но он отвернулся, а я подумал — катись, раз такой гордый. Но на сей раз он явно жаждал крови. Стоял выпятив грудь, упершись рукой в бедро и с ухмылкой сверлил взглядом меня и Курта.
Я предупредил Курта: «Там Сэм». Он посмотрел и сказал: «Мне незачем с ним ссориться». Я заметил: «Вам, может и не придётся».
На дорожке тренировались Джек и Питер. Сэм гонял их, как в своё время нас. Рывок — стоп, рывок — стоп. Мы шли к старту, и пришлось пройти мимо них. Я сказал: «Доброе утро, Сэм». Но вместо ответа он повернулся к окружающим — их было немало — и произнёс такую речь:
«Леди и джентльмены. Сейчас вы имеете возможность наблюдать в действии два противоположных метода тренировок. Один из них — интервальный метод, который использует профессор Гиземан, вот он сам, на мой взгляд, этот метод превращает бегунов в роботов. Мои методы, как вам известно, не отличаются рабской привязанностью к беговой дорожке. Для них нужно пространство, где бегун может свободно бегать, предпочтительно в прекрасном и вдохновляющем окружении природы: холмов, деревьев и травы. Здесь мои два бегуна, Джек и Питер. Лишь наводят лоск на то, что уже проделано в Лондоне.
Так оно и должно быть, так мне кажется. Хорошо подготовленный бегун не нуждается в напряжённом беге непосредственно перед соревнованием. Но методы профессора Гиземана чисто механические. Однообразный механический труд только в одном темпе и одним способом. Это не значит, что тренируемый им бегун Айк Лоу не победит в этих Играх. Пять лет он тренировался у меня и не может всё растерять за несколько месяцев.
Если он придёт первым, найдутся люди, которые скажут, что он победил не благодаря моим методам, а вопреки им, потому что его тренировал профессор Гиземан. Это меня позабавит, друзья мои. Я уже давно потерял всякое уважение или вкус к публичному признанию. Наградой для меня служат достижения моих воспитанников, даже если они попадают в руки моих соперников или хулителей. Я знаю, и они знают, кто по–настоящему обеспечивает их успех. Я не таю злобы на тех, кто меня покидает, я просто их жалею. Мне жаль их потому, что они отказываются от тренировок, которые рационально рассчитаны на спортсмена, и принимают метод, который превращает их в ноль.
Вот перед вами человек, который мог стать величайшим в мире милевиком. Обратите внимание на его прекрасные движения. Именно я научил его так двигаться. Если он честен, то не станет этого отрицать. Но я боюсь, что теперь ему уже не удастся использовать всех своих возможностей, а я никогда не соглашусь снова тренировать его, даже если он будет умолять меня. Возврата быть не может. Если спортсмен от меня уходит, это окончательно. Наши отношения не ограничиваются физической подготовкой, в них есть нечто большее, чем чисто механические усилия.
Посмотрите на него. Вы видите перед собой великого спортсмена, который сам себя предал».
А на следующий день я получил от неё письмо.
«Дорогой Айк. Долго думала, нужно ли отвечать тебе. Десятки раз принималась писать, но переставала после первой или второй строчки — так трудно выразить словами мои чувства, тем более написать о них.
Я не собираюсь упрекать тебя за твоё поведение. Я поняла, что твоей вины тут в общем–то нет, ты не мог вести себя иначе. Я даже поняла, что все мы, в том числе и я, помогли тебе стать таким.
Признаюсь, вначале мои чувства были иными. Но здесь мне ничего не остаётся делать, как думать, и я думаю о многом. Ведь сначала я не хотела говорить тебе о ребёнке, и уж, во всяком случае, не так, как получилось, сразу после твоего возвращения из Москвы. Это была моя ошибка. Я ведь хотела от него избавиться, если честно; такой была первая реакция, я же помнила, как и ты, о своём обещании, о нашей договорённости. Но в решающую минуту у меня просто не хватило на это сил; мне так хотелось ребёнка, и, поверь, прежде всего из–за тебя. Ведь я любила тебя, а он был твоим…
Не уверена, что ты поймёшь. Но я просто не могла убить дитя, избавиться от него, Айк, ибо это убило бы меня. Я бы уже не была такой, как прежде.
Ты потупил жестоко, послав ко мне Алана, — наверное, ты об этом не подумал, но лучше бы ты приехал сам. Зачем ты его послал? Почему ты ему говорил то что следовало знать только мне и тебе? Я никогда ему полностью не доверяла. С ним я чувствую себя как обезьянка в клетке, на которую смотрят через прутья; я и сейчас считаю, что он тебе завидует. Что не любит меня, хотя, может, тебе он говорит другое. По–моему, он будет только рад, если мы расстанемся, хотя и вёл себя очень мило, когда приехал ко мне.
Надеюсь, ты победишь в Перте, Айк, верю всем сердцем. Знаю, как это важно для тебя, важнее всего на свете. Я поняла это ещё до того, как узнала о ребёнке. Но в тот вечер осознала это со всей полнотой, и мне стало ужасно больно. Господи, я так хочу, чтобы ты победил в Перте, а уж тем более в Токио, но сейчас, когда во мне растёт дитя, я не могу думать, Айк, что главнее твоих побед нет ничего на свете.
Когда ты ушёл от Сэма, я была рада и вздохнула с облегчением, я чувствовала, ты найдёшь себя и станешь самим собой, он тебе никогда этого не позволял. Но, мне кажется, ничего не изменилось. Курт тобой не распоряжается, как Сэм, он, пожалуй, не отталкивает меня, как Сэм. Но тоже стремится — по–своему — владеть твоим телом и душой. Вот почему я показалась тебе чужой, когда мы говорили по телефону в последний раз. Я думала и всё ещё думаю: что же остаётся для меня и что останется для ребёнка, когда он появится на свет?
Правда, ты говоришь, что признаёшь за ним право родиться, но говоришь так, словно хочешь как–то выйти из неловкого положения. А я не могу обещать, что после рождения ребёнка буду относиться к тебе с прежним вниманием.
Я постараюсь отдать тебе всё, что смогу, но меня мучает ужасное предчувствие, что этого будет недостаточно.
Я всё ещё люблю тебя. Молюсь, чтобы ты победил. Но я боюсь за нас обоих, Айк. Будь со мной терпелив».
Большего я и не желал.
— Айк, у нас выступал ваш бывший тренер, Сэм Ди, и он считает, что вы совершили ошибку, поменяв тренера.
— Что поделаешь, как он может считать иначе?
— А вы думаете, что потупили правильно?
— Если бы я так не думал, я бы не менял тренера.
— Скажите нам что–нибудь о разнице между системой Сэма и той, по которой вы тренируетесь сейчас, — системой профессора Гиземана.
— Система Гиземана — интервальная тренировка — состоит в том, что пробегаешь отрезки — четыреста метров, двести метров — с интервалом времени между ними.
— А система Сэма?
— Сэм предпочитает бег по пересечённой местности. Вверх и вниз по холмам с разной скоростью, беговой дорожки мало.
— Почему вы решили переменить тренера, Айк?
— Я тренировался с Сэмом пять лет. Стал бегать хуже и решил, что мне нужна перемена.
— Сэм явно считает, что профессор Гиземан превращает бегунов в автоматов.
— В кого?
— В роботов. Вы согласны с этим?
— Да-а! вы же видите, что у меня из головы торчит проволока.
— Что вы думаете о предстоящем состязании? Верите в себя?
— Думаю, что нужно верить в себя, иначе шансов никаких.
— Ваш главный соперник Терри Купер, верно? Ведь вы с ним делите мировой рекорд.
— Верно.
— Есть ли у вас план, который поможет его обогнать?
— Да. Бежать быстрее Купера.
— Начинается финальный забег на милю. Айк Лоу — великая надежда Англии. Вон он стоит у старта, очень напряжён.
Только посмотреть на него. И бровью не ведёт. А может, не так он и спокоен. Просто мне очки втирает.
— А вот Терри Купер. Вместе с Лоу он обладатель мирового рекорда в беге на милю. Именно его Купер должен сегодня победить, если хочет удержать титул, завоёванный им в Кардиффе четыре года назад. Купер с виду исключительно спокоен. Ему двадцать шесть лет, он морской биолог из Ванкувера.
А где же Сэм? Ведь я видел его где–то у дорожки. Лучше бы его там не было.
— В этом году Лоу бегал быстрее всех, а в Лос — Анджелесе показал то же время, что и Терри Купер, — мировой рекорд. Они никогда раньше не соревновались на открытом стадионе. В «Мэдисон Сквер Гардене», где Лоу поскользнулся и упал в начале забега, Купер победил. Купер на второй дорожке, Лоу — на четвёртой.
Внутри будто вода булькает. Надо же, всего трясёт, как новичка.
— Вот и выстрел, и как же стартовал Лоу! Бежит так, будто забег на четверть мили. Купер за ним. Купер принял вызов. Потрясающий спурт у обоих.
Господи, он всё ещё тут! Тогда обгоняй, чёрт тебя возьми!
— Как видите, Купер обогнал Лоу. Между ними не больше ярда. Какое время не круге, Сесл?
— 54,2, Джордж. Просто уму непостижимо. Не представляю, как им удастся сохранить такой темп.
— Гроган из Австралии идёт третьим, отставая на добрых двадцать ярдов. Он может надеяться только на то, что они спасуют.
Да он меня просто провоцирует, что б его! Сейчас замедлит, никуда не денется.
— Потрясающий темп. Но вот скорость как будто падает.
Так–то лучше. А теперь ещё полидируй.
— С каким временем они прошли второй круг, Сесл?
— 55,4, Джордж.
— Не так быстро, как на первом, но всё равно очень хорошее время.
— Просто замечательное. Если они не сникнут, возможен новый мировой рекорд.
— Купер как будто уходит вперёд, разрыв составляет около пяти ярдов. Думаю. Дальше Лоу его не отпустит.
Ну и ну. Бежит, будто сил невпроворот.
— Да, Лоу почти догнал Купера — как раз к удару колокола. Последний круг — это будет нечто. Какое время на третьем круге, Сесл?
— 57,3, Джордж.
— Невысокое.
— Относительно. Это неизбежно после таких резвых двух кругов.
— Соревнуются, по сути двое. Оба — Купер и Лоу — снова бегут в немыслимом темпе.
Пора! Я должен его догнать!
— Они идут почти рядом. Купер бежит великолепно, но Лоу у него за спиной. На прямой всё по–прежнему. Но вот Лоу чуть приблизился. Они идут плечом к плечу.
Какая боль! Не выдержу. Пусть побеждает, чёрт с ним!
— Последний поворот и вот — финишная прямая, а они всё ещё рядом.
Всё, больше не могу!
— Лоу чуть впереди! До финиша пятьдесят ярдов, а он на шаг впереди. Они снова рядом! Лоу снова впереди!
Сдавайся же, всё равно тебе конец!
— Лоу победил! Он финиширует на ярд впереди Купера. Что за финиш! Какой удивительный финиш английского парня! Сесл, окончательное время?
— 3.54,7, Джордж. Всего на две десятых секунды ниже их общего мирового рекорда.
— Какой великолепный забег! И какой классный результат двадцатичетырёхлетнего лондонца, представителя спортивной фирмы! Итак, ещё одна золотая медаль для Англии, которую заработал Айк Лоу, показав время 3.54,7.
— А это, Джордж, новый рекорд Игр Содружества.
Умираю. Господи, провалитесь все куда–нибудь, меня сейчас вырвет.
— Вот Купер пожимает руку Лоу. Этот канадец — настоящий спортсмен.
— Хорошо бежал, Айк.
Не знаю, откуда у него силы.
— Спасибо, Курт!
Сэм там, смотрит на меня. Со своей улыбочкой. На тебя не угодишь.
— Спасибо. Ты тоже здорово бежал.
Думал, умру, честное слово.
Сэм потом сделал любопытное заявление, в котором всю заслугу, конечно приписал себе: «Он победил потому, что я научил его преодолевать болевой барьер».
Внезапно меня осенило — не такая уж это глупость, я думал об этом и раньше. Ведь Сэм добивается, пусть подсознательно, некоего возрождения путём страданий. Бегун бежит по долине смерти, преодолевает болевой барьер и возрождается, словно святой дух. Тут есть нечто мистическое, и сами бегуны обязательно должны в это верить, иначе они никогда не подчинятся. Что касается Гиземана и остальных с их ужасной болтовнёй о жертвенности, то, в общем, они так или иначе преследуют ту же цель. Это аскетическая, положенная на алтарь спорта жизнь очищает через боль. Боже, неужели, что бы выиграть олимпийскую медаль, надо прежде принять эту веру?
«Бегун на милю Лоу, золотой медалист Англии, герой Игр в Перте, вчера был встречен в лондонском аэропорту своей женой Джил, которая сама могла бы завоевать для Англии ещё одно золото. Но Джил покинула команду: она ожидает ребёнка в апреле.
«За себя я не очень расстроилась, — сказала спринтер, брюнетка двадцати трёх лет, — но мне так хотелось своими глазами увидеть, как Айк победит. В его победе я не сомневалась».
Ещё остаются надежды на олимпийский дубль через два года. Джил говорит: «Когда ребёнок родится, хочу снова выступать. Многим матерям это удаётся».
Я на такое не мог и надеяться и уж никак этого не ждал. Сквозь дверной пролёт таможенного зала, где толпились все встречавшие, я увидел её и не поверил своим глазам. Потом Джил улыбнулась мне, и это было чудесно. Пожалуй, меня ещё так не радовала её улыбка. Убедившись, что это всё–таки она, я помахал рукой, и она помахала в ответ, что–то сказала, но я, конечно, не услышал.
То было прекрасное завершение — лучше не придумать. Правда, я получил от неё телеграмму: «Поздравляю, дорогой». Но это могла значить и всё, и ничего. К тому же, если честно, я тогда развлекался с южноафриканочкой, фехтовальщицей, темнокожей пташкой, чем–то напоминавшей Джил.
Но вот Джил меня встретила, и я был рад донельзя. Пока таможенники просматривали мои вещи, мы продолжали улыбаться друг другу и махать руками. Таможенник спросил: «А где золотая медаль?» Я вынул её из кармана и показал ему. Наконец я вышел и поцеловал Джил. Мне было плевать на проклятые телекамеры. Не знаю, как долго мы стояли, целуясь, словно хотели восполнить всё время разлуки.
Она была на машине, и мы покатили домой. В пути мало говорили, то и дело улыбались друг другу и при красном светофоре целовались. Дома сразу забрались в постель. Всё было великолепно.
Мы снова ходили на тренировки, и мне это нравилось, хотя она только наблюдала со стороны. Джил опять преподавала в школе, но приходила со мной, когда могла. Мы много говорили о том, что, когда родится ребёнок, она снова будет выступать за Англию и вместе со мной поедет в Токио. К мысли о ребёнке я привык; не скажу, что был от этого в восторге, но, по крайней мере, мне стало ясно, как пойдёт жизнь после его появления. Мы никогда не были так близки, и когда появится ребёнок, ничто не изменится.
Сейчас я ездил в Нюрнберг примерно раз в месяц, а по телефону мы говорили с Куртом примерно раз в десять дней. Когда я поехал туда, немного нервничал из–за Хельги, надеялся, что она не появится, и боялся: а вдруг приедет, узнав, что я здесь? Но её не было, и, как ни странно, мне её не хватало.
Во второй мой приезд она позвонила по телефону, спросила: «Что случилось? Почему ты не звонишь?» А я, услышав её голос, заволновался, хотя надеялся, что ничего такого не почувствую, и ответил: «В прошлый приезд я был недолго». Она засмеялась и сказала: «Ну что ж, поздравляю с победой», превратив всё как бы в шутку — это она умела.
Как только я услышал её голос, понял — отказать ей во встрече не смогу. Знал, какие доводы ни выдвигай, она только станет насмехаться, и я почувствую себя полным идиотом.
Когда же они сказала: «Приезжай вечером во Франкфурт», я не ответил отказом, как следовало бы, а просто молчал и не знал, что ответить. Она засмеялась и сказала: «Ладно, я приеду за тобой на старое место около семи». Мы встречались на остановке автобуса в миле от Нюрнберга.
В течение нескольких часов я то и дело менял решение: уговаривал себя, что надо окончательно порвать с ней, а потом думал: «Если я не поеду сейчас, она заедет за мной в следующий раз, потому что она не такая, как другие пташки, — те сочли бы себя оскорблёнными, а этой всё нипочём».
И вот она подкатила — с развевающимися волосами, вся из себя потрясная; едва я её увидел, понял: путей к отступлению нет. Во мне всколыхнулись прежние чувства.
У неё дома она сказала: «Ну, у тебя с женой опять полный порядок?» Я коротко ответил: «Да». Я никогда не любил говорить с ней о Джил, особенно когда мы с Джил были в ссоре. Она спросила: «Поэтому ты такой застенчивый?» Я ответил: «Возможно». Она продолжала: «Неужто и в Австралии скромничал?» — и рассмеялась. У неё нет понятия о том, что хорошо, что плохо. Она только берёт что захочет, и когда ты с ней, сам становишься таким же. Делаешь что хочешь и ни о чём не думаешь, будто всё это происходит с тобой как бы во сне.
Однажды она спросила: «Твоя жена про нас знает?» Я ответил: «Вряд ли». Она добавила: «То есть ты надеешься, что она не узнает?» И мне даже показалось, что ей было бы приятно, стань всё известно Джил.
Иногда мне казалось, что Джил догадывается: если в газетах что–то появлялось о Хельге, Джил спрашивала меня о ней и как–то по–особому на меня смотрела, но прямых вопросов не задавала. Я отвечал: «Я же тебе говорил, Хельга там больше не тренируется», а она так смотрела, будто не могла решить, можно ли мне верить.
Иногда я встречался с Хельгой в Нюрнберге — я любил этот город с его старинными зданиями и соборами. Она повела меня в музей посмотреть картины какого–то немца — они мне понравились, яркие краски и грубые лица, — но, по–моему, больше получаса там делать нечего. Это её позабавило, как, впрочем, забавляло всё остальное. Она словно хотела, чтобы я стал зевать от скуки, — опять есть над чем посмеяться: «Бег, бег — что ещё есть в твоей жизни?» Я ответил: «Есть ещё кое–что», а она добавила: «Да, я знаю, что именно» — и прильнула ко мне. Никаких тормозов, что взбредёт в голову, то и делала.
Итак, они снова вместе. Их, я уверен, сблизила золотая медаль, вся связанная с ней эйфория. Ирония судьбы — ведь именно его погоня за золотой медалью их разлучила.
Они снова являют пример верности: опять оба на дорожке «Кристал–паласа». Я тренировался там с ними только один раз. Они держались очень холодно, словно для их примирения понадобилось найти козла отпущения — меня. Я слишком много знаю, меня попросили вмешаться, а теперь они хотят от меня избавиться. Я их стесняю. Нельзя сказать, что они вели себя невежливо, но в воздухе что–то такое витало. С Джил у меня отношения были натянутыми всегда, теперь и в Айке появилось нечто новое. Как ни обидно, но я понимаю причину.
Может, оно и нехорошо с моей стороны, но я задаю себе вопрос: долго ли продлится этот восстановленный мир, устоит ли он перед появлением ребёнка, приближением Олимпиады?
Что касается Токио, Сэм предсказывает мрачный конец. Я видел его на соревнованиях в закрытом помещении.
«До Перта было слишком мало времени, чтобы пропали плоды моего труда. Он ещё не успел превратится в робота. Но Олимпийские игры лишь через два года, а за это время, всё что было мной заложено, постепенно исчезнет».
Я спросил: «Ужасно будет, если он победит в Токио, да?» Но Сэма не собьёшь. Он ответил: «Напротив, я был бы рад, если бы он победил в Токио, и за него и за страну. Но сейчас это невозможно. У него есть только один шанс — вовремя вернуться ко мне, но я уже говорил — об этом не может быть и речи. За два года Гиземан лишит его желания бегать. Способности спортсмена нельзя измерять в лаборатории или рассчитывать на электронной машине. Нельзя взвесить и измерить силу человеческого духа. Это тевтонские методы, Айк же не немец, а англичанин».
Возможно, он прав, как и в том, что Айк не победит на Олимпиаде. Два года — большой срок, интервальная тренировка может смертельно надоесть, но Айку приелись и методы Сэма. Это забавно, но, проходи Олимпиада сейчас, едва ли у него нашлись бы достойные соперники. Думаю, Куперу его не победить. Бегун, проигравший на ответственных соревнованиях, подобен боксёру–тяжелоовесу, проигравшему матч на звание чемпиона мира. Может, он и уступил–то совсем чуть–чуть, но само поражение столь сокрушительно, что прежнюю форму не восстановить. То же относится и к бегуну — тут очень силён психологический фактор.
Хотелось пойти к Айку и сказать: «Уходи. Бросай всё, пока ты победитель. Будь отцом и главой семьи». Уверен, что в глубине души этого хочет и Джил. Но предлагать такое, разумеется, бессмысленно.
— Скажите, миссис Лоу, считаете ли вы несовместимым материнство с карьерой бегуньи международного класса?
— Нет, не считаю. Я думаю, для женщины лучше ещё чем–нибудь заниматься, помимо круга домашних обязанностей.
— Но в наше время бегунья такого класса должна очень много тренироваться и часто разъезжать, ведь так?
— Да, конечно.
— Как же вы это совмещаете?
— Ребёнка беру с собой. На тренировки, разумеется. Мне кажется, ему это нравится.
— Ему нравится?
— Да.
— Вот оно что. Это прекрасно!
— Выглядит он довольным. Что–то мурлычет себе под нос.
— Но если ехать за рубеж? Ребёнка вот так запросто туда ведь не возьмёшь?
— Нет, и я не буду выступать за границей, пока он не подрастёт.
— А если бы пришлось?
— Оставлю его с мамой в Манчестере. Или же в Лондоне со свекровью. Я думаю, тут была бы даже конкуренция.
— Главное, чтобы не пришлось искать истины у царя Соломона.
— Надеюсь, обойдётся без этого.
— Миссис Лоу, ваш муж очень известный бегун. Помогает ли это вашей карьере?
— Меня всегда об этом спрашивают. Я думаю, что помогает. Мы тренируемся вместе.
— Правда? И как часто?
— Каждый день, когда у меня нет занятий в школе. Чем выше его достижения, тем больше хочется добиться и мне.
— Значит, в каком–то смысле вы соревнуетесь?
— Нет, нет. Я с ним не соревнуюсь, как и он со мной. Просто это меня стимулирует.
— А вы не думаете, что в подобных ситуациях дух соперничества в женщине может вырасти до огромных размеров?
— Нет, не думаю. К тому же даже если женщины не бегают, они соперничают в другом, ведь так? К примеру, у кого лучше шуба, у кого самый красивый дом и тому подобное.
— Хотели бы вы, чтобы ваш сын тоже стал бегуном?
— О да! Но заставлять его насильно не буду. Он, наверное, и так думает, что мы ненормальные, если целый день проводим на беговой дорожке.
Я и представить себе не мог, что будет так плохо. Всё менялось, рвалось на части, гнало меня из дому. Конечно, в последние два–три месяца она сильно переменилась, но я как–то не внял этому «предупреждению». Она будто удалилась в какой–то другой мир с лёгкой улыбкой на лице. Ты с ней говоришь, а она не слышит.
Ей совсем не мешало то, что она полнеет, грузнет, носит эту тяжесть. Она, конечно, бросила преподавание, но легче от этого не стало, тренироваться она, естественно, уже не могла. Чего я не мог понять — она явно ждала от меня, что я тоже буду счастлив. Но я в лучшем случае мог отвечать улыбкой на её шальные улыбки. Если бы я не ездил в Нюрнберг и не встречался с Хельгой, я бы, наверное, полез на стенку.
Тренироваться было очень трудно — бегаешь один, гоняешь себя день за днём, выполняешь графики по кругам и отрезкам, которые присылал Курт. Ты да секундомер. Бегаешь по кругу, пока не заболят голени, и так ежедневно. Всё же я показывал результаты, какие он требовал, хотя он постепенно увеличивал скорость и укорачивал время на восстановление. Его графики я посылал обратно, отмечая, как он велел, все показания секундомера на каждом отрезке, а потом он присылал новый график.
Только мысль о Токио подгоняла меня, но до него было ещё так далеко… Бывали дни, когда я просыпался, видел следы дождя на окнах и думал: к чёрту всё, сегодня останусь дома. Но не оставался. Иногда мне не хватало Сэма, кого–нибудь, кто уговорил бы тебя, убедил, — это необходимо; дистанционное управление подводило. Рядом была Джил, с ней я, по крайней мере, мог поговорить, но она отключилась, впадала в транс, как я стал называть эти её состояния. Иногда она отвечала, но не так, как было раньше, и по её виду было ясно, что мысли её где–то далеко.
«Токио или уход из спорта — так считает Айк Лоу, двадцатичетырёхлетний обладатель мирового рекорда в беге на милю и золотой медалист Игр Содружества.
«Я сделаю всё возможное, чтобы победить в беге на 1500 метров на Олимпиаде. Но даже если этого не произойдёт, я всё равно уйду из спорта. Ведь это будет моя вторая Олимпиада, а требования становятся всё более жёсткими. Люди не понимают, на какие жертвы идёт спортсмен международного класса».
Она разбудила меня в четыре утра. Я спал без задних ног. Мне снилось, что я лечу, Сэм и Курт смотрят на меня снизу, и Сэм говорит: «Конечно, он включил автопилот. Потом я почувствовал боль в том месте, где моё правое крыло соединялось с телом, понял, что дальше лететь не могу и вот сейчас упаду… Я проснулся от того, что Джил трясла меня за плечо.
Она сказала: «Прости, дорогой, но я уже два часа терплю боль». Я подскочил и отвёз её в больницу. Нас там очень любезно приняли. Предложили чашку чая. Потом, когда её уводили, на лице её было такое выражение, словно она хотела просить у меня прощения, будто думала, что уже никогда не вернётся. Мне даже стало страшно. Стоял как истукан, пока не пришла санитарка и не сказала: «Ну, мистер Лоу, незачем волноваться». Я хотел ответить: «Вам–то, конечно, незачем».
Я поехал на стадион — всё лучше, чем торчать дома, но мне было не до тренировки. Я всё время названивал в родильный дом, — наверное, надоел им до смерти. Позвонил своей матери и матери Джил, обе были довольны, совсем не волновались. Но я не мог не волноваться, — ведь всякое возможно, мало ли как повернётся…
Я то и дело отвлекался от бега, всё звонил. Тренировка казалась тяжелее некуда, мне было не до секундомера. Наконец я совсем ушёл с дорожки и сразу побежал к телефону. И узнал: мальчик. Дежурная сказала, что оба они в хорошем состоянии.
Я положил трубку — слава богу, с ней всё хорошо, слава богу родился мальчик. Как ни странно, я ждал только мальчика, — наверное, как любой отец. Думал, чему я его научу, каким он станет.
Вечером я поехал к ним. Джил лежала откинувшись на подушки, удивительно красивая, счастливая, лицо так и светилось. Она вообще часто улыбалась, но как бы с лёгкой грустью. А сейчас улыбка была просто сияющей.
Потом я посмотрел на ребёнка, на маленький пакетик рядом с ней. Я и раньше видел малюток, только, может, постарше. Но здесь лежала белая обезьянка со сплющенным носом, зажмуренными глазками и краснотой вокруг них, а на голове торчал хохолок, как у индейца. Джил сказала: «Он прелесть, да!» Я ответил: «Да, прелесть». Но на улице мне стало как–то муторно, будто у меня что–то отняли.
Дело не только в малютке. Что–то в ней самой, в её улыбке на меня подействовало. Конечно, улыбка была обращена и ко мне, но прежде всего — к малютке, и Джил думала, что и я стану умиляться.
Нельзя сказать, что он не был мне дорог. Я делал для него всё: вставал к нему по ночам, качал на руках и поглаживал спинку, когда у него бывали колики. Но когда я смотрел на них обоих, на то, как она с улыбкой играет с ним, я спрашивал себя: где тут место для меня?
Было бы не так плохо, если бы мы хоть иногда могли принадлежать друг другу; но об этом не могло быть и речи. Иногда мне становилось совсем невмоготу: Сэма я потерял, Джил в каком–то смысле — тоже, а Курт находился в Нюрнберге. Бывало, хотелось плакать прямо но дорожке: бежишь под дождём, голени болят, сверяешь время в конце каждого круга, отдыхаешь и снова пошёл мотать круги по дорожке. Это хуже всякого болевого барьера — бег в одиночку, когда душа не на месте.
Мне было очень тяжело. Я не мог этого перенести. И стал всё чаще наведываться в Нюрнберг: уезжал на выходные и оставался на неделю или уезжал на неделю и оставался на две. Там меня ждали Курт и Хельга. Да. Иногда мне было очень стыдно, но что я мог поделать? Останься я в Лондоне, я бы просто сошёл с ума.
Так проходил сезон, не такой уж плохой, но какой–то пустой, без всякой цели. Потерять можно многое, а стремиться вроде и не к чему. Побеждаешь — это считается естественным. Проиграешь — значит, сдаёшь позиции. Даже мировой рекорд уже не был таким стимулом — он ведь и так у меня, пусть на пару с Купером. Больше заботили другие — вдруг наш рекорд побьёт кто–то из новых? Так оно и вышло. В июле. Новым рекордсменом мира стал Кейта.
Бедный Айк. Сперва — Купер, теперь — Кейта, обыкновенный африканский сержант полиции и отец восемнадцати или девятнадцати детей. Благородный дикарь, примитивный и чистый, не имеющий машины, бегавший всю свою жизнь просто для того, чтобы попасть из одного места в другое. Он улучшил рекорд на секунду с четвертью, и у Айка есть лишь несколько недель до окончания сезона, чтобы вернуть себе рекорд, а нет — придётся мучиться всю зиму. Едва ли он вернёт его в этом году. Он сейчас не в той форме и знает это. 3.54,8‑его лучшее время за сезон, и он проиграл на двух соревнованиях, в Англии и в Швеции.
Айк снова утратил радость от самого бега, словно цирковой конь, скачущий по кругу, великолепный, с плюмажем, но движимый жестокой волей мягкого дрессировщика — Курта.
Нельзя сказать, что виноват во всём Курт. Больше виноват ребёнок — этого можно было ждать. Ведь сейчас её чувства раздвоены, и он не может этого перенести. Теперь в их семье новая ситуация — материнство, которое на него не распространяется. А Джил в материнстве со своим красивыми, серьёзными глазами прямо цветёт.
Когда у нас нет соревнований, он всё время проводит в Нюрнберге, где к его услугам всё: Курт, его валькирия, постоянное внимание. Не знаю, долго ли Джил будет это терпеть.
Айк уговорил меня снова тренироваться с ним, — несомненно, за неимением лучшего. Как–то в начале лета он позвонил и застенчиво спросил: «Алан, почему ты больше не ходишь в «Кристал–палас?» Он не хуже меня знал, почему я туда не хожу, но говорил так просительно, что я согласился тренироваться вместе.
Он очень жалел себя: «Иногда появляется желание всё бросить». А я ответил: «Такое бывает с каждым бегуном».
Круг — передышка, ещё круг — ещё передышка. Потом он спросил: «И так каждый день — тебе бы это понравилось?» Я ответил: «Я бы это возненавидел». «С ним там, в Нюрнберге, тоже не сахар, а уж когда совсем один…» — и добавил: — «особенно когда люди, на которых раньше мог опереться, тебе больше не помогают».
Пожалуй, если Сэм играет роль пророка, Айк заслужил право называться мучеником. Иногда перед глазами встаёт занятная картина: Айк, распятый на стрелках секундомера.
И вот… Кейта.
Мы с Айком тренировались, когда стало известно о новом рекорде. Айк сказал: «Сначала один, а теперь, чёрт возьми, другой объявился. Как голова Гидры. А Курт, — добавил он, — не может достать его время по кругам. У них там и рекорды толком не регистрируются. — В голосе звучало отчаяние, почти что слёзы. — В этом чёртовом Тунисе».
Я посочувствовал. Неизвестного противника всегда боишься больше.
Теперь мне приходится играть новую роль — я уже не посредник, а утешитель, прежде это была её функция. Я подаю голос, когда ему нужно, но не даю советов, потому что он нуждается не в них, только в утешении. Я бы дал ему совет — уходи из спорта! — но как раз такой совет ему не нужен. Когда он не жалуется на Джил, то говорит о Кейте в уничижительном тоне: «Где и что он выиграл? На Олимпиаде всё по–другому». Это верно. «Ничто не заменит участия в ней».
Ну, может, кое–что и заменит: истый талант и темперамент туземца. Возможно, Кейта обладает тем и другим. Неграмотный полицейский из отсталой страны — да у него масса преимуществ. Там человек не подвержен бесчисленным давлениям: со стороны прессы, выпытывающих микрофонов, телевизионных камер. Впрочем, я видел его по телевидению, Айк тоже. Он высок, строен и двигается как бог. Сразу заметно — никто его не учил. Кажется, что он просто скользит без всяких усилий, без напряжения и, значит, свободен от всяких комплексов, связанных с назойливой теорией.
У него, кстати, есть тренер, какой–то англичанин, с виду вполне скромный и разумный, эдакий окружной уполномоченный, любящий туземцев. Нет сомнений, какой–нибудь американский колледж скоро поймает его на крючок — да и Кейту тоже — и превратит в очередного учёного мужа от спорта.
Айк сказал: «Хорошо двигается, правда? — и добавил: — С виду не сильный».
В общепринятом смысле слова — да, но я уверен, что он силён. Нам всегда подавай внешние и очевидные признаки силы, мы не думаем о жизнестойкости, о форме, какую обретает сила в эволюции. Какой силой обладает птица? Или рыба? Лучше ли плавал бы осётр, если бы тренировался в подъёме тяжестей? Кейта — результат эволюции поколения людей, привыкших ходить и бегать.
Итак, бедняга Айк волнуется из–за Кейта, а Кейта, я уверен, вовсе не волнуется из–за Айка. Он, возможно, о нём и не слышал.
Я уже вижу его в Токио — отстранённый, как многие африканцы, без всякой экспрессии, в пелене спокойствия, а когда раздаётся выстрел, он помчится вперёд, как газель. Может, он и не победит, но всё будет именно так. Айк же будет скован, с одеревеневшими мышцами, в голове каша из болевых барьеров и жертв, в ушах осами жужжат секунды, но плечах беремя колоссальной ответственности — он выступает за свою страну, но него смотрит весь мир и ждёт от него выдающегося результата… и так далее и тому подобное.
Не исключено, что он всё же победит. Но я в это не верю.
«Айк Лоу, блестящая надежда Британии на золотую медаль в Токио, не думает о Кваме Кейте — человеке, отнявшем у него мировой рекорд, — пока не думает.
«Едва ли мы встретимся до Токио, — сказал мне высокий двадцатипятилетний лондонец, прервав не короткое время напряжённую тренировку в «Кристал–паласе». — В этом году Игр Содружества не будет, а в Европе он никогда не выступает. Конечно, если бы милевиков со всего мира собрали здесь или в Америке, тогда другое дело, но я совсем не ищу встречи с ним. Слишком терзаться из–за соперника ни к чему. Пусть он терзается из–за меня».
Я спросил золотого медалиста Игр Содружества, намерен ли он во что бы то ни стало вернуть себе мировой рекорд до Токио.
«Нет, — ответил он, — вовсе не намерен. Получится так получится. Моя цель — Токио, всё остальное — на втором плане. Хочу прибыть в Токио в своей лучшей физической и психологической форме. А если только и думать о мировом рекорде — даже если в конце концов ты его установишь, — можно морально надломиться. К чему мне такой риск? Так недолго и выдохнуться».
«Но в прошлом сезоне, — напомнил я, — многие как раз и считали, что вы выдохлись. Куда–то девались — пусть временно — ваша неукротимая воля к победе, яростное честолюбие, всегда придававшие вам силу на беговых дорожках мира».
Айк помолчал, потом ответил: «Да, бывали сезоны и получше. Но бегун — не машина. Люди это забывают, Том. Ведь сколько я настраивался на Игры в Перте! Такой забег — на финише Айк обошёл канадца Купера, это было незабываемое, полное драматизма зрелище — изнуряет тебя до предела, эмоционально и физически».
Думает ли он, спросил я, что в этом виноваты его нынешние методы тренировок? «Кое–кто считает, что интервальный метод, по которому вас тренирует профессор Курт Гиземан, может тяжело сказаться на бегуне».
«Всё это ерунда! — воскликнул он. — Когда бегаешь плохо, все готовы свалить это на метод тренировок. Когда меня тренировал Сэм Ди, у которого совсем другие методы, их точно так же хаяли. Конечно, Курт меня здорово гоняет, но так же гонял и Сэм. Любой бегун знает: хочешь быть среди первых — иди на жертвы».
Одна из них — почти всё время до Токио Айку придётся провести в Спортивном институте в Нюрнберге, вдали от его прелестной жены–спринтера Джил, — не исключено, что её ещё возьмут в сборную — и сына Нила, которому минуло четырнадцать месяцев.
«Вы всё ещё намерены уйти из спорта после Токио? — спросил я, — независимо от результата?»
«Да, — твёрдо ответил он, добавив с улыбкой: — Конечно, хотелось бы уйти победителем!»
Бомба всё–таки взорвалась. Да и не могла не взорваться, если подумать.
Она ничего не говорила про то, что я часто отлучаюсь, про Хельгу, но всякий раз, возвращаясь, я чувствовал: в воздухе витает гроза. Она теперь никогда не заговаривала со мной первой; если улыбалась, то только Нилу. Против него я, понятное дело, ничего не имел. Отличный малый, всегда рот до ушей, спокойный. Глаза синие, щёки пухлые, светлые кудряшки. Но теперь у неё был только он, а я — по боку. Я даже не предлагал ей вместе потренироваться — знал, что она скажет: «Я очень занята».
Как–то в воскресенье я понял: всё, дальше невтерпёж. Я вернулся из Уайт — Сити, мы выступали против Франции. Выиграл, но время было слабое — 3.59,8. Я сидел и листал газеты, почти все писаки меня критиковали. Она туда даже не поехала — ребёнку нездоровилось. Так что поддержка у меня была что надо. Сейчас она кормила Нила, что–то ему гугукала, и я вдруг понял: больше не могу. «Может, мне лучше вообще убраться отсюда?»
Она повернулась ко мне и сказала: «Может, и лучше». Вот так. Она совсем изменилась. Когда смотрела на меня, улыбка сразу исчезала. Я сказал: «Хорошо, я перееду в Нюрнберг».
Она ответила: «Почему бы нет? Сможешь жить со своей подругой всё время, как хорошо». Она про это сказала первый раз, здорово меня ошарашила.
«Что ты имеешь в виду?» — спросил я.
«Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду», — и продолжала кормить Нила, будто меня тут не было.
Тут в меня как бес вселился. Я схватил её за руку: «О чём ты говоришь?»
Она высвободилась, взяла на руки ребёнка и, что–то ему приговаривая, вышла. Я снова сел за стол, весь измочаленный. Кажется, хуже не бывает.
Скоро она вернулась и сказала: «Я его уложила. Не хочу, чтобы мы при нём ссорились». Я ответил: «Ну да! Первым делом он». Она посмотрела так, будто не поняла, и сказала: «Он совсем крохотный, Айк. Совсем беспомощный».
Я спросил: «Что это за разговор о моей подруге?» она чуть вздохнула: «Айк, не надо. Мне давно всё известно». Я спросил: «Откуда? Кто тебе сказал?» Она ответила: «Все знают. Ты ведь не делал из этого большого секрета, верно? Не представляешь, как люди рады, что могут такое рассказать».
«Ну хорошо, а чего ты ждала? Сама отвернулась от меня, совсем отошла». Она покачала головой, улыбнулась и сказала: «Это не я отошла от тебя, Айк, а ты от меня. Столько, сколько ты требуешь, не может дать никто». Я возразил: «Требую не больше, чем ты мне когда–то давала».
Потом поднялся и вышел из комнаты. Оставалось только упаковать чемодан.
Вечером он пришёл ко мне и с порога заявил: «Я ушёл от Курта» — таким тоном, каким мужчина говорит: «Я ушёл от жены». Правда, от жены он действительно ушёл. Она с ребёнком уже больше месяца как в Манчестере.
Я пригласил его зайти, машинально предложил выпить, но он согласился и враз проглотил то, что я ему налил. Выглядел он расстроенным, каким–то подавленным, жалким. Понятно, ведь совсем один — ни жены, ни опекуна. Когда ушёл от Сэма, была, по крайней мере, Джил, появился Курт, а сейчас… Только и мог прийти то ко мне.
«Жаль, что так вышло», — сказал я. Он ответил: «А мне не жаль. День изо дня по этой осточертевшей дорожке, уже от голеней ничего не осталось. Давно надо было это сделать».
«Ну, а что дальше?» — спросил я.
«Чёрт его знает».
«Не хочешь вернуться к Сэму?» — сказал я так, будто такое и в голову никому не могло прийти. Но он ответил: «К чёрту Сэма. К чёрту всех. Ты бегаешь, а они стригут купоны».
«Я мог это давно тебе сказать».
«Почему не сказал?»
«Потому, дорогой Айк, что ты не стал бы меня слушать».
Он поднялся со стула и заходил по комнате. Энергия так и рвалась наружу, как у скакового коня перед стартом. «Сперва Джил, — сказал он, — теперь это. Как раз то, что надо в олимпийский год».
Я заметил: «Ещё неизвестно, как ты из этого выйдешь: может, на щите, а может, и со щитом». Он не понял. Я продолжал: «Ты сейчас впервые сам себе хозяин, верно?» Лицо его прояснилось, он повернулся ко мне и сказал: «Да, зрелому бегуну не нужен тренер, который давит на него, гоняет как мальчишку. Возьми этого бельгийца, я с ним в Бельгии разговаривал. Дал своему тренеру под зад и стал лучше бегать! На моё решение это знаешь как повлияло! Он мне так и сказал: «Тренер! А на кой он мне сдался?» Я ответил: «Ну, кое–кому он нужен. На определённом этапе».
Он стал рассказывать, как объявил Курту, что хочет от него уйти. Я прекрасно представил себе реакцию Курта: покачивание головой, плаксивое непонимание.
«Я ему сказал: смотрите, какое у меня время в этом сезоне. Лучше 3.57,2 ни разу не было. Мне уже не хочется бегать. Вот что вы со мной сделали…»
«Так что же, будешь сам себе тренером?» — спросил я. Он снова повернулся ко мне и взмолился: «Алан, ты не откажешься тренироваться со мной?»
«Нет, конечно, если ты считаешь, что я могу тебе помочь».
«Ещё бы. Знаешь, как тяжко, когда совсем один».
Потом он развеселился, будто джинн, выпущенный из бутылки. «Не представляешь, как будет здорово без этих проклятых графиков, когда бежишь круг за кругом как заведённый».
«Ну почему, представляю».
«А ещё он кладёт руку на сердце после каждого круга, и на его лице такое выражение, будто ты вот–вот умрёшь. Ну разве надо столько тренироваться? Особенно в сезон. Немного побегал на выносливость, на скорость, по пересечённой местности».
Я ждал, что он заговорит о Джил, может, снова попросит меня поговорить с ней. И вдруг он сказал: «Знаешь, с Джил всё кончено».
«Мне очень жаль», — заметил я.
«Да! Понимаешь, она узнала о Хельге, это и сыграло роль. Это — и ребёнок. Она изменилась, когда он появился».
«С женщинами так бывает».
«Но ведь нас столько связывает… — Он будто не мог смириться с изменой. — Мы столько пережили вместе…»
Оказалось, после того, как они разъехались, он ни разу не встретился с ней, не позвонил, а дом сдал внаём. «Я уже не мог там оставаться». Несколько раз, когда он приезжал для участия в матчах, оставался с командой на базе. Я ему предложил перебраться ко мне, если есть желание, у меня удобный диван.
Вот что с ним произошло. Думаю, всё это временно. Рано или поздно он отправился в Манчестер, в Каноссу (Замок в Сев. Италии, где в 1077 г. отлучённый от церкви и низложенный император Священной Римской империи Генрих 4 вымаливал прощение у своего противника римского папы Григория 7. «Идти в Коноссу» — значит согласиться на унизительную капитуляцию.), или его Каноссой станет Хампстед — Хит…
«За два месяца до Олимпиады в Токио британский бегун на милю Айк Лоу решил готовиться к ней один.
Это значит, что его больше не тренирует профессор Курт Гиземан из Германии, известный приверженец метода интервальных тренировок из Нюрнбергского спортивного института.
Уже вторично Лоу, живший в Нюрнберге большую часть сезона, покидает первоклассного тренера. Два года назад он положил конец пятилетнему содружеству с болтливым вегетарианцем Сэмом Ди, заявив, что больше не верит в необычные методы последнего.
Он отдал себя в руки Гиземана и продолжал добывать золото для Британии, блестяще выиграв милю в Перте на Играх Содружества.
Сейчас, когда в течении сезона он не смог, к своему разочарованию, вернуть мировой рекорд, побитый новым чудо–бегуном Кваме Кейтой, он ушёл от Гиземана, решив обойтись без тренера.
«Не думаю, что мне сейчас нужен тренер, — сказал он мне. — Конечно, я многому научился у Сэма и Курта, но теперь пришло время стать на собственные ноги. Я собираюсь победить в Токио и думаю, мне это удастся. А способ один — доказать другим, что ты сильнее. Самому доказать — на беговой дорожке.
— Айк, многие думают, что тренеры склонны переоценивать свою роль в достижении питомцев. Согласны ли вы с этим?
— Да, согласен.
— Вы судите по собственному опыту?
— Да, до некоторой степени. Я не хочу сказать, что они мне не помогли, Сэм и Курт, но иногда задаёшься вопросом: «Чёрт возьми! Кто же всё–таки бежал в этом забеге — он или я?»
— Потому вы и решили в будущем обойтись без тренера?
— Отчасти да.
— Накануне Олимпиады такое решение может показаться довольно опрометчивым.
— Я потому так и поступил, что Олимпиада — не за горами. Ведь я знал, что бегаю плохо.
— Вы считаете, что потеряли форму из–за интервальных тренировок?
— Да, я так считаю. Они меня истощили, пропал вкус к бегу.
— А сейчас снова появился?
— Да.
— Но когда вы расставались с Сэмом Ди и перешли к интервальным тренировкам под руководством профессора Гиземана, вы говорили примерно то же.
— Разве?
— Ну… более или менее. Всё же вскоре после перехода к другому тренеру вы добились великолепной победы в беге на милю в Перте.
— Наверное, вначале интервальная тренировка помогла мне. В смысле внесла разнообразие. Я тренировался по системе Сэма пять лет. А тут — что–то новое. Может, всё дело в этом.
— Как вы будете тренироваться до Токио?
— Буду чередовать бег на дорожке с бегом по пересечённой местности. Надоест одно — перейду к другому.
— Вам не кажется, что бегуну мирового класса, у которого исключительно напряжённые графики тренировок, трудно обходиться без надзора?
— Нет, не кажется. Я часто тренировался один, когда бегал по системе Курта. Он посылал мне свои графики, я их выполнял.
— Но он составлял их очень тщательно, да?
— Теперь я их буду составлять сам.
Через пару недель после приезда в Лондон я поехал к Джил. С того дня, как я ушёл из дома, мы не общались, не писали друг другу. Но мне очень хотелось чтобы она вернулась, мне это было необходимо.
Знаю, многие думали, что я повёл себя как подонок. Так думали и мои родители, хотя прямо ничего не говорили, только намекали. Мама качала головой и ворчала, жалела милую Джил и расстраивалась из–за малютки. Не мог же я от них всё скрыть, да и дом свой я сдал. Всё равно они и раньше догадывались о наших отношениях.
Все считали виноватым меня — понятно, они видели только одну сторону, вот и защищали Джил. Не говорю, что я прав или что моей вины вовсе нет. Мы оба не правы, каждый по–своему…
Может, это смешно, но мне не хватало и малыша, чудесный же пацанёнок! Хотелось видеть его почаще, но слишком много было поставлено на карту. Надеюсь, ещё придёт время, после Токио, когда все мы снова будем вместе.
Я толком не знал, чем займусь потом. Может, продолжу работу в фирме, только на более высокой должности, — скажем, торговым директором или что–нибудь в таком роде. Правда, стоило мне завести об этом разговор, они пытались его побыстрее свернуть, увиливали… Если выиграю в Токио, всё будет хорошо. А если нет, на повышение рассчитывать нечего. Не исключено, что потеряю и ту работу, какая есть. Все эти мысли не давали мне покоя.
Итак, я поехал в Манчестер; от разных мыслей пухла голова, два раза чуть не попал в аварию. Знал, как она меня встретит, как всё будет трудно, но надеялся, что втолкую ей свою точку зрения.
Мне открыла её мать. По её лицу я понял, что она готова захлопнуть дверь перед моим носом. Я быстро спросил: «Можно видеть Джил?» Она ответила: «Боюсь, она не захочет говорить с тобой». Я сказал: «Пожалуйста, спросите её».
Она снова бросила на меня враждебный взгляд и позвала Джил: «Джил, это Айк» — таким тоном, будто речь шла о ветрянке. А она ответила: «Айк?» И я услышал голосок малыша Нила. Честно говоря, что–то дрогнуло во мне — так захотелось его увидеть. Я позвал: «Нил!» — а он ответил: «Папа!» Я услышал, как на верхней площадке она его тихонько уговаривает, потом начинает спускаться. У меня возникло чувство, как перед выстрелом на старте, — вроде что–то забулькало в желудке.
Когда она появилась с малышом на руках, он смялся во весь рот, тянул ко мне ручонки, её же лицо замкнуто, губы стиснуты. У первой ступеньки лестницы она остановилась и просто сказала: «Да, Айк?» А Нил всё время лепетал, и я начал говорить с ним, а не с ней. Мне так было легче — всё–таки начало.
Я не спешил. Мы зашли в гостиную, я посадил Нила на колени, играл с ним, смешил его. А что она могла сказать, если его это радовало? Когда её мать встала, чтобы приготовить чай, я понял: первая гроза миновала.
Джил посмотрела на меня и спросила: «Чего ты хочешь, Айк?» А я ответил: «Чтобы ты вернулась».
«Нет, ты этого не хочешь», — сказала она. «Господи, Джил, зачем тогда я приехал?» Она сказала: «Я уже возвращалась. Вот к чему это привело». — «Слушай, но сейчас всё по–другому». Я хотел встать со стула, а она протянула руки к Нилу. Опять он. Она сказала: «Ничего не изменилось» — и прижала к себе Нила, словно боясь, что я его отниму. «Изменилось лишь то, что ты ушёл от Курта. Не волнуйся. Найдёшь кого–нибудь другого».
Я признался: «Я ушёл от него, и от неё тоже». Она спросила: «А ты им сказал об этом? Или просто взял и ушёл?» Потом стала покачивать Нила на колене, и он снова стал смеяться, а перед этим был спокойный и серьёзный, будто понимал, что происходит.
Я сказал: «Знаешь, в чём твоя беда? Ты ни в чём не хочешь уступить». Она ответила: «А твоя беда в том, что ты ждёшь уступок от каждого».
Я не стал возражать. Но то, что сказал ей, было правдой: я ушёл не только от Курта, но и от Хельги. Для меня она была неотъёмлемой частью всего Нюрнберга, хотя они с Куртом не очень ладили. С одной стороны — он, с другой — она, от обоих для меня только вред. С Хельгой дело было не только в сексе, хотя и в сексе тоже, — она подсмеивалась надо мной, над моим серьёзным отношением к тренировкам. Однажды спросила: «Если проиграешь в Токио, что станешь делать? Застрелишься? Точно! Застрелишься из стартового пистолета!» А мне вовсе не было смешно.
К тому же она собиралась в Токио в составе сборной ФРГ. Мне только там её не хватало — будет таскать меня в постель.
Мать Джил принесла чай, потом Джил стала купать и укладывать Нила. Поговорить всё не удавалось. Тут вернулся с работы её отец и со мной, как и её мать, едва разговаривал. Я спросил Джил: давай куда–нибудь съездим, чтобы спокойно поговорить. Но она не захотела оставлять Нила: он стал просыпаться по ночам. И мы снова вернулись в гостиную.
Я сказал: «Слушай, дом я могу быстро вернуть, если тебя это волнует». Она ответила: «Нет, не волнует». — «А что волнует? Скажи, я всё сделаю, как ты хочешь. Или ты думаешь, что я не люблю тебя? В этом дело?» Но она только покачала головой, — мол, всё это безнадёжно.
«Конечно, чёрт возьми, я люблю тебя. Зачем я, по–твоему, сюда приехал? — Я взял её руку, она её не отнимала. — Только не говори, что ты не любишь меня». Она на меня посмотрела со слезами на глазах и ответила: «Сейчас уже не люблю, Айк. Я застыла, ничего не чувствую. Такой я стала после твоего ухода. И если такое повторится, мне конец».
Я стал перед ней на колени, попытался поцеловать в губы. Она отвернула голову, и мне досталась только щека. Я сказал: «Не повторится, дорогая. Обещаю».
Она ответила: «Нет, Айк, сейчас тебе, может, так и кажется, потому что тебе тревожно и одиноко, но ты не изменишься. Я и раньше это знала и всё же вернулась к тебе. Сама виновата. Но больше так не будет. Никогда».
Я сказал: «Чёрт возьми, Джил, сразу после Токио я бросаю спорт; неважно, выиграю там или проиграю». Она ответила: «Опять же это ты сейчас так говоришь. Вряд ли ты уйдёшь из спорта. Особенно если не выиграешь».
«Послушай, — сказал я, — а если я пообещаю, поклянусь, что после Токио со спортом покончено, при всех вариантах?» Но она снова покачала головой: «Бесполезно, Айк. Я никогда не смогу доверять тебе. Надеюсь, ты победишь в Токио, потому что для тебя это значит больше всего на свете. Именно поэтому я и не могу вернуться. Разве ты не понимаешь?»
Тренируясь с Айком последние недели, я стал лучше понимать, какие опасности стоят на пути тренеров. Эти опасности подстерегали и Сэма, и Курта, и всех остальных. Теперь мне ясно, как легко поддаться искусу и взять на себя роль всемогущего господа. Ведь этого хочет сам спортсмен, ему нужно, чтобы с ним обращались, как с ребёнком, чтобы тренер говорил, что делать и когда, заботился о залечивании травм и подбадривал его, всё время давая понять — за ним стоит человек опытный и неравнодушный, способный убедить его, что боль — это хорошо, и, если нужно, вызвать эту боль.
Сомневаться не приходится: сейчас Айк действительно бегает лучше, секундомер тому свидетель. «Ты для меня много сделал, Алан», — говорит он, а я отвечаю: «Ничего я не сделал». И знаю, что говорю правду. Но как легко было бы ему поверить! А ведь всё дело в том, что срабатывает эффект смены ему сейчас вольготно без Курта, но продлится это не дольше нескольких недель, нескольких соревнований.
Он всё ещё живёт у меня. Свой дом сдал, а возвращаться к родителям не желает. Я ничего не имею против. Он постоянно мне исповедуется, всё время ждёт успокоения. Поехал к Джил и вернулся ни с чем. Похоже, она сказала, что никогда к нему не вернётся — уж слишком ясно, что для него самое главное.
Довольно справедливо, но нет ли тут и её вины? Ведь иллюзию верности и преданности питала она сама. Сама была верховной жрицей. Ему я ничего такого не говорю, только сочувственно слушаю. Раз позволил ему втянуть себя — к несчастью, — и больше не надо.
Почти каждый вечер мы тренируемся в «Кристал–паласе», потом едем в парк побегать на выносливость. В парке приятно: встречаются олени, вокруг холмы — куда веселее, чем на безликих беговых дорожках, где трудишься в поте лица, или в спортзале, где Айк ворочает железо. Но тут я проявляю твёрдость: в эти малопривлекательные места он ходит без меня.
Перемены в нём удивительные, чисто психоматические; ведь мы, спортсмены, — самые неврастеничные люди на земле. За несколько дней ему удалось расслабиться. «Алан, — сказал он, — я снова обрёл чувство полёта». — Лицо его сияло от радости. Выступая против русских в Уайт — Сити, он пробежал милю великолепно: 3.55,8, и Семичастный остался далеко позади.
Между тем Кейта сбросил ещё десятую секунду со своего мирового рекорда, но Айк отнёсся к этому безучастно. «Он бежал в Калифорнии. Все мы ставили там рекорды. Посмотрим, что будет в Токио».
Мне пришлось пообещать, что и я туда поеду. Не знаю, правда, удастся ли, — всё–таки дорого. Можно попробовать с туристами, тогда будут экскурсии к буддистским храмам и посещение театра Кабуки.
Настроение у Айка то и дело меняется. То маниакальная уверенность в себе: «Я знаю, что выиграю, просто чувствую», то жажда утешения: «Как думаешь, Алан, я приду первым? Ты правда так думаешь? А Джил, наверное, нет. Она говорила: если я проиграю, ни за что не уйду из спорта».
Это его сильно огорчало. Ведь некогда именно она больше всех верила в его победу, я же не могу слепо верить, просто надеюсь, что он победит. В отличие от Сэма и Курта мне успех Айка не принесёт никаких дивидендов. Они извлекали из его побед прямую выгоду — подтверждение своей правоты. Они должны были верить в него так же, как он в них. А я по–прежнему чувствую, что ему не выиграть, свой настоящий шанс он упустил в Риме. И дело не в Кейте, он лишь как бы олицетворяет мои опасения.
«Этот Кейта, Алан, ведь негры, они прославились в основном как спринтеры?»
«Или марафонцы».
«Да, верно, но на средних дистанциях они никогда не блистали».
Бедный парень. Ему нужен более пылкий наставник, чем я.
«Айк Лоу, наша надежда на олимпийское золото, показал в Уайт — Сити время 3.54,9 и заявил: «Теперь я готов к встрече с Кейтой».
У высокого, ростом в шесть футов, двадцатишестилетнего Лоу сейчас нет тренера. В Уайт — Сити он обошёл трёх своих соперников в Токио: канадца Терри Купера, венгра Пала и Блаттлера из Западной Германии.
Айк сказал: «Я пошёл на риск, когда решил остаться без тренера, но, похоже, это себя оправдывает. Я приближаюсь к пику формы в самое подходящее время. Кейта, я готов к встрече!»
«Когда Айк в беге на 1500 метров показал 3.40,8 и остался вторым после венгра Золтана Пала из Будапешта, он с разочарованием сказал: «Я бежал с трудом. Перед забегом у меня были нелады с желудком, и я не мок показать всё, на что способен».
Хампстед — Хит. Послеполуденные часы в начале сентября.
Осень ещё не наступила. Деревья по–прежнему тёмно–зелёные. Солнце светит мягко, небо слегка затуманено.
Словно пилигрим или кающийся, Айк Лоу всходит на вершину небольшого холма и оглядывает лесопарк. На нём светло–голубой шерстяной, с открытым воротом свитер, который надет на другой — тёмно–бордовый, под горло. Синие брюки по моде узки, без отворотов. Завершают туалет чёрные туфли–мокасины.
Вдалеке из–за кустов появляются три крошечные фигурки в белом. Айк наблюдает за ними — они то исчезают, то вновь видны и становятся всё крупнее. На них трусы и майки, один — седовласый, второй — брюнет, третий — блондин. По мере их приближения Айк всё больше нервничает. Заложив руки в карманы, он поворачивается налево, направо, не решаясь пойти им навстречу. Наконец решительно распрямляет плечи, не вынимая рук из карманов, демонстративно замирает и ждёт.
Трое мужчин продвигаются вперёд неравномерно. То блондин, то брюнет ускоряют бег, словно за ними гонятся, потом один догоняет другого. Седовласый бежит с постоянной скоростью, двое замедляют темп, чтобы позволить ему себя догнать.
На расстоянии нескольких сот ярдов их уже можно узнать. Седовласый — Сэм, он загорелый, жилистый, худой и стройный. Брюнет, самый высокий — Том Берджес, стайер, на его лбу появились морщинки, лицо напряжено, будто что–то не ладится, а он не знает что. Блондин, Ронни Блэк, — барьерист международного класса.
На лице Айка — сильное волнение, глаза прищурены, рот чуть искривлён, но голову он держит высоко, словно часовой, которому приказано не покидать пост даже под огнём. Бегуны ярдах в двухстах внезапно поворачивают направо. Айк открывает рот, будто хочет их окликнуть, но не произносит и звука.
Голос Сэма хорошо слышен: «Том, рывок!»
Том Берджес послушно спринтует.
С лица Айка медленно сходит напряжение, уступая место удовлетворению. Он похож на человека, который сознательно подверг себя риску, испытанию, но в итоге всё обошлось. Он делает несколько шагов по склону, но внезапно поворачивается в сторону бегунов и бежит за ними, не вынимая рук из карманов, двигается длинными, лёгкими, мощными шагами.
Сэм. Хорошо, стоп! Ронни!
Ронни Блэк спринтует.
Айк вдруг вынимает руки из карманов и тоже спринтует, проносится мимо Сэма, не глядя на него, обгоняет Тома Берждеса — тот улыбается, наблюдая за ним с удивлением. Айк догоняет Ронни. Блэк оглядывается с таким же удивлением, спотыкается, Айк, пробегая мимо, хлопает его по плечу и останавливается.
Айк. Порядок, Рон?
Блэк не отвечает, только тяжело дышит. Сэм и Том, придя в себя, бегут к ним. Молчаливая встреча. Айк смотрит на всех троих с некоторой бравадой, но дружелюбно. Ронни Блэк разглядывает Айка с удивлением, Том держится настороженно, Сэм со странной кривой усмешкой слегка кивает, всем видом показывая, что ждал такого возвращения. Но вот Айк и Сэм стоят друг против друга. Выражение лица Сэма не меняется, Айк же взвинчен и смотрит как бы вызывающе, словно виноватый и непослушный ребёнок.
Айк (наконец). Решил прийти повидаться.
Сэм только кивает, всё так же улыбаясь.
Айк. Хотел посмотреть, как вы тут.
Сэм. Я знал, что ты вернёшься, Айк.
Айк. Знал?
Сэм. Но ты не знаешь, возьму ли я тебя назад.
Айк хочет что–то возразить, но молчит.
Сэм. Ты испытал на себе прелести интервальной тренировки, пытался тренироваться самостоятельно, а теперь вернулся ко мне. Ты вернулся, потому что я тебе нужен, ты понял, что я один знаю, что нужно тебе (его голос звучит всё громче), только я могу вдохновить тебя на то, чтобы ты превзошёл сам себя. Только я могу дать тебе шанс победить на Олимпиаде, — достичь вершины карьеры любого спортсмена. Ты сам пришёл ко мне…
Айк (как бы нехотя). Я ничего такого…
Сэм (непреклонно). Но готов ли я вернуться к тебе? После того, как ты меня бросил, предал. Публично меня критиковал, осуждал.
По мере того как он говорит, слова его звучат всё более язвительно, он сам себя разжигает.
Сэм. Над моими идеями насмехались. Мои методы тренировок, благодаря которым ты стал таким, какой есть, осмеивали. Над ними издевались маньяки и шарлатаны, самозванцы, которые разрушают талант, утверждая, что они якобы его развивают.
Сэм поворачивается к Тому Берджесу и Ронни Блэку, которые смотрят на Айка с презрительным упрёком, как верующие на ренегата.
Сэм. Что мне ему сказать? То, что он заслуживает, на что я тысячу раз имею право? Послать к чёрту? Пусть хлебает, что он сам заварил: растраченный талант, рухнувшие честолюбивые замыслы? Что ему сказать?
Том и Ронни молчат, понимая, что эти вопросы — чисто риторические. Выражение лица Айка — напряжённое и тревожное. Наконец он нарушает затянувшееся молчание.
Айк. Тебе решать, Сэм.
Сэм. Конечно, мне. И я удивлю тебя. Я поведу себя с тобой как христианин, хотя часто не одобряю, когда подставляют вторую щёку. Пять лет я пестовал тебя и твою карьеру, а ты меня отблагодарил изменой. Но я не буду платить тебе той же монетой. Понимаю, ты действовал не по злому побуждению, а по слабости характера, тебя сбили с толку люди, которых ты считал друзьями и даже близкими людьми. Поэтому я принимаю тебя. Но хочу предупредить: не исключено, что уже поздно.
Наступило молчание. Айк очень взволнован, он отводит взгляд. На лицах бегунов медленно появляется улыбка.
Правая рука Айка поднимается будто сама по себе и тянется к Сэму, тот берёт её в свою и пристально смотрит на Айка, наконец Айк поднимает глаза, и их взгляды встречаются.
Сэм. Но помни: не исключено, что уже поздно.
«Они снова вместе! Милевик Айк Лоу и тренер Сэм Ди. Два года длился их разрыв, и оба клялись, что это навсегда.
Айк — одна из величайших надежд Британии на золотую медаль в Токио на 1500 метров — сказал: «Сейчас я понимаю, что совершил ошибку, уйдя от Сэма. Я рад, что он снова готов работать со мной».
Шестидесятилетний Сэм признал: «Мне не хватало Айка. Не в моих правилах брать бегуна, который однажды ушёл от меня, но на сей раз я делаю исключение. Я всё ещё верю в этого парня».
Гамлетовская нерешительность Айка, одного из тех, на кого мы действительно возлагаем надежды в Токио, просто доказывает, под каким колоссальным давлением находится спортсмен международного класса в год Олимпиады и как ему нужно дружеское плечо, на которое можно опереться.
Лоу, сменивший два года назад вспыльчивого, бескомпромиссного и авторитетного Ди на нюрнбергского профессора Курта Гиземана — приверженца интервальных тренировок, в этом сезоне ушёл и от Гиземана. Несколько недель он тренировался сам, а сейчас вернулся к Ди. Бессмысленно критиковать его решение с точки зрения жёсткой логики и сравнения разных систем тренировок. Факт остаётся фактом — когда бегун мирового класса достигает определённого уровня, он сам знает, что для него лучше. Хорош ли пудинг на вкус, мы узнаем в Токио».
Итак, ему пришлось идти в Каноссу дважды.
Быть снова с ним как–то странно. Будто тебе снится сон, который ты уже видел. Снова тебя всё время подгоняет его голос: делай то, делай это. Обращается с тобой, как с ребёнком, а ведь я от этого уже отвык. И всё же не так уж плохо снова оказаться в лесопарке, а не на опостылевшей беговой дорожке в Нюрнберге или в «Кристал–паласе», где бегаешь по кругу, пока не заболят голени, носишься, как белка в колесе.
А вот без чего я мог бы обойтись, так это без болевого барьера. Я уже отвык от его команд и окриков, подгоняющих до такой степени, что больше ничего не остаётся в мире, кроме тебя и боли, когда всё черно перед глазами и боль свербит в голове. Господи, вот уж чего не люблю! Правда, Сэм всё–таки устраивает эту пытку не часто, а вот в интервальной тренировке… Я понимал, что это нужно, что в Токио мне придётся преодолевать болевой барьер: если хочу победить Кейту, нужно бежать так быстро, как я не бегал ещё никогда.
Сэм не давал мне забывать, что я ушёл от него, что бранил его методы в разных интервью. К примеру, говорит нам, куда бежать, и вдруг вставляет: «Только никаких своих идей. Так сказал Айк. Так он объявил в прессе. Сэм запрещает своим питомцам думать. Приходится исправляться. Теперь я только предлагаю. Согласны ли вы с моими указаниями? Можете проявить независимость. Вопросов нет? Предложений нет тогда вопрос Айку: профессор Гиземан позволял тебе думать? Да? Нет? Я жду ответа».
Что я мог ему ответить?
О Джил он почти не говорил. Только однажды спросил, где она. Я сказал — в Манчестере, он кивнул головой и улыбнулся, будто ничего другого и не ждал. Когда я сказал, что живу у Алана, он точно так же кивнул и улыбнулся. Потом предложил: «Живи у меня. Есть свободная комната». Так я и сделал — переселился к нему в спортзал.
Когда я сказал Алану, что возвращаюсь к Сэму, он только улыбнулся: «Естественно». Я добавил: «Ты так много для меня сделал, Алан, по–настоящему», но он ответил: «Я уже тебе говорил — я не сделал ничего. Это Сэму нравится, когда его благодарят».
Если честно, я бы остался у Алана, но после Будапешта, где меня подвёл желудок, всё как–то разладилось. Удивительно, как на тебя могут влиять такие вещи: ведь проиграл я потому, что был нездоров, ясно это понимал, понимали и все остальные, но проигрыш есть проигрыш, и это тебя угнетает. Потом дома, в Бирмингеме, я выступил совсем из рук вон — 4.02. И в Варшаве я бежал плохо, хотя и победил. В общем, депрессия, а до Токио всего несколько недель.
Да, я был в отчаянии, и к кому же мне было идти, как не к Сэму? И я сразу почувствовал себя лучше. Думаю, тут дело не столько в тренировке, сколько в нём самом, в умении влиять на меня. Курту так не удавалось.
Взять Кейту. Курт бы только и делал, что высчитывал время по кругам, сравнивал бы результаты забегов, выводил средние цифры. Сэма это совсем не заботило. Он только сказал: «Кейта ни разу тебя не обогнал, ни разу не доказал своё преимущество в очной встрече. Самое главное — он никогда не участвовал в Олимпиаде. Его мировой рекорд имеет относительное значение. Он доказывает, что Кейта — великий бегун, тут мы отдадим ему должное, но отсюда вовсе не следует, что он истинный боец, а вот ты свои бойцовские качества подтверждал не раз и не два».
Именно такая поддержка и была мне нужна, а не разглагольствования о его времени по кругам. От этого времени он только вырастал в моих глазах.
Сэм ещё говорил: «Этот Кейта фаворит — прекрасно. Пусть им и остаётся. Это тебе на пользу. Пусть несёт бремя фаворита, а ты знай спокойно работай. Пусть будет фаворитом, — главное, чтобы победителем стал ты».
Как в старые времена, мы ходили в гости к Стену, а его жена по–прежнему строила мне глазки.
Кто был по–настоящему возмущён, так это Рон Вейн. Олимпийская сборная встретилась в «Кристал–паласе», и он мне сказал: «Право, Айк, вы меня удивили. Я думал, что вы уже повзрослели, набрались разума. Почему вы со своими проблемами не пришли ко мне? Вы же знаете, я всегда готов вам помочь».
Я ответил: «Знаю, Рон». Он заметил: «Я думал, вы его всё–таки раскусили. Знаете, что теперь получится? Он снова будет сидеть на наших шеях в Токио, всем действовать на нервы в Олимпийской деревне. Это очень плохо влияет на команду».
Перед Токио я почти не выступал — не было смысла, но два раза показал хорошее время в Швеции: 3.55,6 и 3.54,7.
Жить у Сэма было хорошо. В другое время он раздражал бы меня своими бесконечными разговорами, но сейчас мне его болтовня помогала, возвращала уверенность.
Смешно было смотреть, как он сам готовит, сам убирает, всё у него лежало на своих местах, кругом чистота и порядок. Стоило оставить ботинок посреди спальни или не положить на место гантель, он делал замечание. «В торговом флоте, — говорил он, — я приучился к аккуратности. Самое скромное жилище можно содержать в чистоте и опрятности, и самое роскошное — превратить в свалку».
О Джил я думал не часто, хотя то и дело с болью вспоминал о Ниле: как он там, что делает, что она ему говорит обо мне? Теперь все мысли были о Токио, и встреча с ней обязательно выбила бы меня из колеи. Вот после Токио, может, всё как–нибудь устроится. К тому же она не требовала развода.
— Вы действительно надеетесь на победу, Айк?
— Да, надеюсь.
Идиот.
— Многие считают, что Кейта непобедим.
— Меня он пока не побеждал.
Я знал, о чём они думают, но не обращал внимания. Это раньше я бы стал терзаться и печалиться. Но радом был Сэм. Снять напряжение — на это он был большой мастер.
Тут была своя закономерность, даже неизбежность. Перед ним стоял выбор — Джил или Сэм? Она его оттолкнула, вот он и пошёл к Сэму. Сэм принял его, — видимо, по двум причинам. Во–первых, он не нашёл никого под стать Айку, кто прославил бы его в Токио; во–вторых, он ничего не терял. Если Айк победит, то благодаря ему: ведь Айк выступал плохо, когда Сэм его простил. А если проиграет, что ж, он вернулся слишком поздно.
«Айк Лоу, претендент на олимпийское золото в Токио, сегодня обещал мне: «Я отдам все силы, снесу любую боль, чтобы завоевать золотую медаль для Британии…»
потом спокойным голосом он добавил: «Мне говорят, что обладатель мирового рекорда Кваме Кейта — супермен, что его не победить. Что ж, посмотрим. Ведь у него как и у меня, только две ноги».
И Лоу бросил такое предупреждение гарцующему полисмену: «Кто бы ни выиграл этот забег, победа достанется ему в мучениях».
Всё такое странное, прямо–таки нереальное! Нереальное, хотя они усердно подражают всему плохому, что есть на Западе: автомобили, ужасающие небоскрёбы, длинные, унылые и жалкие американские бары. Как они, должно быть, презирают и проклинают самих себя! Нет, простой любовью к нам это не объяснишь — их бесконечное щёлканье фото– и кинокамерами, направленными на всё уродливое, что есть на Западе.
Но за этим новым городом, грубой пародией на нас, мне кажется, притаился другой город, настоящий Токио. Японские бизнесмены возвращаются к вечеру домой, снимают с себя городской костюм и надевают кимоно. В этом убеждаешься, прогуливаясь по узеньким улицам, освещённым очаровательными бумажными фонариками, оглядывая чистенькие одноэтажные домики, которые прячутся за небоскрёбами, в тени остроконечных деревьев.
Я приехал сюда как турист, и мне слегка не по себе, как солдату, чей полк стройными рядами шагает без него, а он остался, потому что его покусали москиты. При этом видишь много больше, а чувствуешь много меньше.
Однако стадионы здесь замечательные, совершенно непохожие на омерзительные небоскрёбы. Крыша над плавательным бассейном похожа на волны кубистского моря.
Но боже, до чего мы с ними разные! В нашей группе очаровательная переводчица. Вчера вечером я пригласил её поужинать, потом она осталась у меня ночевать. Я был потрясён, когда, проснувшись утром, увидел совершенно чужое лицо на подушке, закрытые раскосые глаза, желтоватую кожу. Правда, когда она проснулась и улыбнулась, странное ощущение, словно она пришла из другого мира, исчезло.
Вот и весь город жаждет нравиться, страстно хочет любви, как парвеню на королевском приёме. Как непохоже на Рим, там презренными выскочками казались мы.
Старый солдат, едва раздаются выстрелы, не чувствует себя счастливым среди гражданских лиц. Вот и я целыми часами торчу в Олимпийской деревне. Обычная нервная, но хорошая атмосфера. Высокие негры, как башни, возвышаются над всеми в ресторане. Сильные русские женщины упорно тренируются на велосипедах. Сэм мелькает всюду, весело хвастается и произносит бахвальные речи. Айк то напряжён и недоступен, то разговорчив и рассеян. Говорит только о предстоящих забегах: «На вечерней тренировке Кейта показал 3.37,8». Он меня спрашивал, видел ли я, как бегал Кейта, и что я о нём думаю. Я ответил, что видел, по–моему, он в очень хорошей форме… Кейта оказался таким, как я и предполагал, — прекрасным животным в лучшем смысле этого слова, необыкновенно динамичным в движении и совершенно расслабленным в состоянии покоя. У него приятное лицо с впалыми щеками, весь он собран и сдержан. Я ещё не видел, чтобы он улыбался, даже своему тренеру, серьёзному полнотелому блондину, который словно оберегает его от посягательств белых.
А его бег доставляет эстетическое наслаждение, бежит он без видимых усилий, его тонкие чёрные ноги как бы пожирают дорожку. Если он — прекрасное животное, то Айк — великолепно отлаженная машина.
«Вчера в Олимпийской деревне я сообщил Айку Лоу, что его соперник в беге на 1500 метров Кваме Кейта пробежал 800 метров за 1.45,6.
«Хорошо! — воскликнул динамичный Лоу. — Завтра я пробегу за 1.44».
В таком настроении двадцатишестилетний чудо–лондонец готовится к важнейшему, как он считает, соревнованию за всю его спортивную карьеру. В олимпийском ресторане он решительно отказался от мясного филе, предложенного ему японским поваром.
«Я не ем мяса, — воскликнул он, — с тех самых пор, как вернулся к моему тренеру–вегетарианцу Сэму Ди!» Я сидел рядом с этим парнем ростом в шесть футов и наблюдал, как он уплетает горошек, морковь и картофель».
— Ну как, Айк, вы ещё верите в победу?
— Конечно, верю.
Сегодня мы присутствовали на церемонии открытия. Как странно быть сторонним наблюдателем, а не участником… Эта церемония, как всегда, до безумия претенциозна, и всё же она снова меня захватила. Удивительна сила массового ритуала, пусть даже насквозь фальшивого. А здесь торжественность и помпезность японцев сделали его совсем абсурдным… Гул и шум электронных гонгов, похожих на звуковые эффекты голливудского фильма о таинственном Востоке, так и ждёшь, что в клубах дыма сейчас появится жрица. Но вместо неё на стадион вбежал маленький японский бегун с факелом и поднялся по огромной, бесконечной зелёной лестнице — зажечь огонь, священный огонь.
Прошествовали крупные и до смешного маленькие делегации. А потом, будто перед войсками, с пространным обращением, полным лицемерия, выступил старик — о юности, подлинном любительстве и олимпийском духе.
Меня он даже тронул тем, как обращался к молодёжи, — будто генерал, зовущий их идти на смерть. А они молча слушали эти избитые, пошлые лозунги, готовые всё отдать за медаль. Но разве в своё время я был лучше их?
Я увидел Айка в составе сборной Великобритании. Он хорошо маршировал, по–солдатски размахивая руками. Я смотрел на него в бинокль, когда выступал старик, и был рад, что Айк его совсем не слушает, думает о чём–то своём, — наверное, о Кейте.
А команда Кейты состояла всего из шести человек. Он нёс флаг с достоинством, лицо ничего не выражало. Во время речи он тоже как бы отключился, но едва ли он в эти минуты о чём–то думал…
У беговой дорожки Сэм подошёл к тренеру Кейты, англичанину, и сказал: «Сэр, я приветствую вас как соперника и друга». И они обменялись рукопожатием. Потом он подвёл Кейту, и мы тоже пожали руки друг другу. Я как–то растерялся. Я против него ничего не имею, но что ему сказать? Надеюсь, что вы придёте вторым?
Я сказал: «Желаю удачи». Но он, видно, не знал английского. С тренером он говорил на каком–то африканском языке.
Тренер тоже больше помалкивал, впрочем, Сэм не оставил ему выбора. Он смотрел на Сэма, будто в жизни не встречал такого человека. А Сэма несло: «Олимпийский идеал не имеет для меня значения. Меня интересует только человеческий идеал. Олимпийские игры сами по себе ничего не значат, но они преследуют цель братства. Мы должны соревноваться не как враги, а как братья, не как англичанин против африканца или немец против русского, а как брат с братом — в атмосфере дружбы. С помощью спорта мы должны показать людям Земли дорогу к миру».
А тот тренер только кивал и поддакивал. Вид у него был чуть встревоженный. Потом он быстро увёл Кейту, будто опасался, что Сэм безумен и Кейта может от него заразиться.
Здесь Хельга. Слава богу, питаются они в другом ресторане, но я знал, что рано или поздно столкнусь с ней в деревне. Так и вышло. Мы оба были на велосипедах. Смешно было видеть, как она крутит педали рядом с другой немкой, блондинкой, весьма привлекательной. На велосипеде Хельга смотрелась не хуже, чем за рулём своей машины. Она пела, а увидев меня, крикнула: «Привет!» — и чуть улыбнулась, но не остановилась, будто мы едва знакомы, я даже слегка обалдел. Даже слез с велосипеда — вот это номер! Хотел было её догнать, да испугался — вдруг даст при всех от ворот поворот? Потом подумал: «Вот и слава богу, больно надо мне с ней сейчас связываться». И решил держаться от неё подальше.
К Курт вёл себя так, как Сэм в Перте. Он, конечно часто находился у беговой дорожки, и Сэм, старый плут, как–то подошёл к нему и демонстративно пожал руку: надеюсь, вы на нас не сердитесь? Сэм, мол, всегда знал, что я к нему всё равно вернусь, но он даже доволен, что я уходил именно к Курту, — теперь передо мной чудесная перспектива.
Курт ничего не ответил, выглядел он расстроенным, слушал Сэма, а мне едва кивнул. Что же, не мне его осуждать.
Сэм, как всегда, разработал всю тактику. Предварительный забег и полуфинал пробежать вполсилы, только чтобы пройти дальше. Он сказал: «Ты сейчас в отличной форме, и нет нужды выигрывать каждый забег, чтобы доказать своё превосходство. Кейта — бегун одного темпа. У него нет ни стратегии, ни тонкого расчёта. Обрати внимание на его время в забегах на 1500 метров и на милю. Оно меняется разве что на две–три секунды. Я таких называю монотонными бегунами. А ты — бегун–творец, у тебя есть темперамент. Ты можешь блеснуть в ответственном забеге и остаться в тени во второстепенном. Чем меньше духовной и физической энергии ты затратишь в предварительных забегах, тем больше останется для финала. В финале же ты позволишь Кейте задать свой темп и будешь всё время держаться за ним ярдах в десяти, а на финишной прямой обгонишь его. Он уже не сумеет перестроиться, увеличить темп — психологический шок будет слишком силён».
Всё это было прекрасно, пока он говорил, но мне становилось не по себе, когда я видел, что на меня махнули рукой и не сомневаются в победе Кейты. На беговой дорожке все фотографы и репортёры гонялись за ним, снимали его, говорили о нём. Я не завидовал, просто мне это не нравилось, может, пару раз я высказывался не по делу. Боюсь, и Алан не верит в мою победу. Он, правда, ничего такого не говорит, но я чувствую.
Вчера ко мне на беговой дорожке подошла Хельга. Шёл дождь, и я сперва её не узнал. В это время тренировался Кейта. Она кивнула в его сторону и сказала: «Здорово бегает, а?» Я согласился и добавил: «Посмотрим, как он побежит на будущей неделе».
В деревне мы жили в одной из белых хижин вместе с Ронни Блэком; с ним мне было хорошо, — может, потому что он тоже воспитанник Сэма. Ему бежать на 110 метров с барьерами. Он знает, что шансов у него нет, но жаждет показать всё, на что способен. В команде вообще хороший настрой. Даже Рон Вейн не смог его испортить.
Ронни мне говорил: «У этих африканцев нет силы воли. Они хороши, пока всё идёт хорошо. И вообще, тут он в непривычной обстановке, ещё больше, чем мы».
Пожалуй, он прав, к японцам ещё надо привыкнуть. Они всё время глазеют на нас, будто мы явились из космоса. Чудаки–фотографы приходят в деревню, сперва снимают тебя, а потом спрашивают, кто ты такой. На стадионе из громкоговорителей несутся таки звуки, каких мы раньше не слыхали, а толпа иногда ведёт себя так тихо, будто тут не Олимпиада, а похороны.
Кое–кто из спортсменов ездит в Токио поглядеть на город, но только не я — всё кончится, тогда можно и Токио посмотреть. Я оставался в деревне, и мне она нравилась больше, чем в Риме, здесь зелено, кругом велосипеды — бери любой, а потом можешь его оставить где угодно. Правда, Сэм не советовал мне увлекаться велосипедом, это нехорошо для мышц.
Я сошёлся с Купером — в каком–то смысле наше положение было одинаковым: у обоих отнят рекорд; не будь Кейты, мы считались бы фаворитами, а так на нас никто не обращал внимания. Терри даже пошутил: «Давай, Айк, бросим монету, кому из нас серебро, кому бронза». А я ответил: «Пусть забирает себе обе, меня интересует только золото».
Честно говоря, я встревожился, когда увидел, как Кейта пробежал в предварительном забеге, лучше бы и не смотрел, а просто потом узнал его время, которое, кстати, говорило само за себя. Сэм уверял меня, что он бежал на пределе, но я чувствовал — он мог бы легко сбросить ещё три–четыре секунды.
После этого забега я уже не мог спать. Всё думал, как мне бежать в полуфинале, особенно если мы попадём в один забег.
Сэм сказал: «Беги так, как мы планировали. Я уже говорил тебе — он бегун одного темпа и ему не надо особенно напрягаться. Чтобы показать такое время. Но это также означает, что бежать быстрее он не может. Уверен, он в жизни не сталкивался с болевым барьером, и тут у тебя перед ним колоссальное преимущество. Под моим руководством ты привык к боли, научился побеждать её. Но не надо напрасно расходовать энергию. В полуфинале тебе важно выйти в финал — больше ничего. Значение имеет только финальный забег, только он оставляет след».
В день полуфинала погода была дрянь — сыро. Я сидел с Сэмом в автобусе, который вёз нас из деревни на стадион, и знал, что Кейта где–то сзади. Слава богу, по жребию мы попали в разные забеги. Сэм сказал: «Для тебя такая погода в самый раз, а он к ней не привык». Но я лично предпочёл бы солнце, этот дождь действовал на нервы.
Кейта бежал в первом полуфинале вместе с Купером. Терри шутил накануне вечером в клубе: «Ладно, посмотрим, действительно ли этот парень — человек». Я себя чувствовал скверно и молился, чтобы Терри выиграл — ведь если он обгонит Кейту, значит, смогу обогнать и я.
После стартового выстрела Кейта помчался вперёд, как ветер, но Терри не отставал. Сэм зафиксировал 52,4 на первом круге. Терри держался рядом, но Кейта не обращал внимания и бежал, будто на тренировке.
На втором круге он ускорил темп. Хотя Терри всё не отставал, но по лицу его было видно. Что у него в запасе не так много сил.
В начале третьего круга Кейта был впереди на несколько ярдов, но было ясно — Терри его уже не догонит, дай бог не отстать: расстояние между ними постепенно увеличивалось — пять ярдов, десять и почти пятнадцать при звуки колокола.
Я вскочил на ноги: «Вперёд, Терри, обгони его!» Но я знал, что всё бесполезно. Терри отстал на двадцать пять, ещё двое его обошли. Терри пришёл лишь четвёртым, но вышел в финал.
Кейта показал 3.36,4, и когда он порвал ленточку, то выглядел так, словно ему это ничего не стоило. Терри же шатало во все стороны, как пьяного, и кто–то из японских официальных лиц накинул на него одеяло.
Сэм сказал: «Видишь, как Купер расплачивается за свою ошибку… На финал у него уже нет сил. Счастье, что он вообще туда попал. Он бежал так, как того хотел Кейта. Теперь видишь, как важно не растратить энергию». Но меня это не убедило: как бы Терри ни бежал, Кейта всё равно бы доконал его.
Когда я подошёл к дорожке, Терри уже уходил в тренировочном костюме. Я сказал: «Не повезло, старина». А он скорчил гримасу и ответил: «Айк, этот парень не человек». Только этого мне не хватало перед забегом, и стартовал я плохо. На первом повороте меня затолкали, и в конце второго круга я всё ещё был позади. Впереди шёл венгр Пал, а он победил меня в Будапеште. Лишь при звуке колокола я перестал примериваться и рванул по–настоящему. На прямой я обогнал нескольких бегунов и вдруг почувствовал прилив сил.
Кто–то, наверное из нашей команды, крикнул: «Давай, Айк!» В тот момент между мной и Палом оставалось ярдов двадцать, а на прямой уже десять. Я знал, что, если захочу, догоню его. Он оглянулся в панике, мне даже стало смешно: к чему так волноваться, дурачина? В финал ты всё равно попадёшь. Я сбавил темп, вспомнив слова Сэма. Пришёл вторым, чувствовал себя хорошо, на время — 3.39,8‑можно было не обращать внимания. После финиша я даже смеялся.
«Этой ночью в Олимпийской деревне двадцатишестилетний англичанин будет так же упорно бороться за сон, как завтра на Олимпийском стадионе — за победу в беге на 1500 метров.
Его зовут Айк Лоу, и противостоять ему может только Кваме Кейта, главный фаворит в этом драматическом финале.
Айка не беспокоит, что его шансы расценивают невысоко. «Чем меньше от тебя ждут, тем легче удивить», — сказал он. Лондонец шести футов роста сказал мне, что они с тренером Сэмом Ди разработали план, который поможет взять верх над Кейтой. «Я, конечно, не скажу, что это за план, но мы думаем, что он выполним».
И всё же у Айка мало шансов. Предварительный забег и полуфинал Кейта выиграл с бешеной скоростью, Айк же оба раза пришёл вторым с весьма скромными результатами. С другой стороны, ясно, что у Айка есть неиспользованные ресурсы.
Его преследует одно воспоминание. Четыре года назад, в Риме, он был настроен преподнести величайший сюрприз в олимпийской истории последних лет. Тогда в полуфинале на 1500 метров произошла трагедия: растяжение мышцы у двадцатидвухлетнего Айка убило все надежды Британии на золотую медаль.
После этого он установил и затем потерял мировой рекорд. Дважды победил на Играх Содружества и явно настроился выиграть золотую медаль в Токио. Но в прошлом году на беговой дорожке появился Кейта.
«Завтра я выложусь без остатка, — обещал мне Айк. — Это будет забег всей моей жизни. Победа или конец! Прийти вторым для меня — всё равно что прийти последним».
Спал я, наверное, не больше трёх часов. Думал обо всём. В голову лезло чёрт знает что. Не только про забег, про Кейту, но и про Джил, и про Нила. Если выиграю, даст ли она о себе знать завтра? Пока в Токио он неё ни слова. Вспомнилось, как она приняла мою победу в Перте, как потом встретила меня в аэропорту, что я почувствовал, увидев её. Может, и сейчас будет так же? Пришлёт телеграмму, встретит меня в аэропорту, если я выиграю? Тогда ей будет, за что меня простить. Победа даст мне многое.
Лезли в голову секунды, какие показывал я и какие показывал Кейта. Я никогда не бегал 1500 метров так быстро, как он здесь, в Токио. Моё лучшее время — 3.37,8, а он своё и без того высокое время может ещё улучшить — ведь в предварительном и в полуфинале он бежал без конкуренции. Ясно, что его считают фаворитом. Но ведь и у меня не было конкурентов, стимулировать меня может только он, Кейта, ведь я, как говорит Сэм, темпераментный бегун — чем больше поставлено на карту, тем лучше бегу — и знаю, что могу улучшить свой результат на 1500 метров, умею преодолевать этот проклятый болевой барьер. Вопрос лишь в том, какой запас у него?
Всё утро я был как в тумане, мало что помню. От Джил ничего — никакой телеграммы. Сэм вёл себя как обычно, но в моём нынешнем состоянии я его не воспринимал. Будто где–то звучало радио: какие–то слова доходили до сознания, а в основном — просто шумы.
«Ты выиграешь этот забег, Айк: он самый важный в твоей жизни и станет самым прекрасным, иначе тебе его не выиграть. Ты побьёшь не только олимпийский рекорд, но и мировой. Для этого тебе придётся преодолеть болевой барьер. Ты это знаешь и готов к этому. Тебе не впервой, но сейчас несколько секунд боли могут вознаградить бессмертием. В тебя не верят те, кто ничего не понимает в лёгкой атлетике и в возможностях человеческого организма. Ты победишь, потому что впервые осознаёшь свой истинный потенциал. А я буду приветствовать тебя, когда ты порвёшь ленточку».
Ко мне то и дело подходят пожелать удачи. Рон Вейн, пожав мне руку, сказал: «Желаю победы, Айк». Даже Хельга, неожиданно появившись в ресторане, поцеловала меня, пожелала успеха и тут же ушла. Сама она, кстати, выступила неплохо — получила бронзу.
Я пришёл в себя только у старта, когда снимал спортивный костюм и вдруг услышал своё имя из динамиков. День был что надо — не жарко, не холодно, а в голове неожиданно мысль: «Четыре года подготовки — и всё пролетит меньше чем за четыре минуты».
Как спокоен Кейта, как безмятежен! Чёрный в ярко–зелёной майке, он делает лёгкие пробежки, но не потому, что ему это надо, просто так делают все.
Айк разминается на полном серьёзе. Но он в меру расслаблен и даже в бинокль выглядит на редкость собранным. Чувствуется работа Сэма. Накачал он его хорошо.
Как мне знаком этот миг ожидания, когда для тебя не существует ничего, только надежда на победу! И я сейчас чувствую себя не только зрителем. Сижу на трибуне, а сам нерасторжимо связан с Айком, каждый шаг его станет моим собственным, его триумф — моим триумфом, его поражение — моим.
Где же Сэм? Вон он, прорвался сквозь полицейский кордон и стоит у края дорожки. Даёт Айку последнее ободряющее напутствие. Тот кивает.
Тренера Кейты там нет. Он там не нужен.
— Айк Лоу — на четвёртой дорожке. Кейта — на шестой. Невероятно тяжёлый забег для англичанина. Он знает: если хочешь победить, надо бежать так быстро, как он не бегал за всю свою спортивную карьеру. Но утром он сказал мне в Олимпийской деревне, что это ему по силам. Замечательный бегун и выдающийся соперник. А вот Кейта. Сухой, худощавый. Сержант полиции, обладатель мирового рекорда, на пути к финалу он уже дважды показал здесь фантастическое время. Тут и Терри Купер, который вместе с Лоу владел мировым рекордом и потерпел ощутимое поражение от Кейты в полуфинале. Лоу и Кейта встречаются впервые. Вот они подходят к старту. Весь гигантский стадион замер в ожидании олимпийского финала в беге на 1500 метров. Старт!
Хоть вырвался из этой кучи, где все молотили локтями. Впереди Пал. Кейта там, где я и хотел, всего в паре ярдов передо мной.
— Очень высокая скорость на круге. Венгр Пал задаёт темп. Сразу за ним Кейта, Семичастный из России, потом Айк Лоу из Великобритании. Заканчивается первый круг, цепочка бегунов растягивается, и вот пошёл Кейта! Боже, какое ускорение! Пал остался сзади. Вместе с Кейтой рывок сделал и Айк Лоу! Видимо, англичанин решил не допустить, чтобы Кейта так рано захватил лидерство. Какое время на первом круге, Сесил?
— Скорость в этом забеге будет очень высокой. Впереди Кейта, за ним Айк Лоу, потом Семичастный. У Британии ещё есть свой шанс в этом забеге из девяти человек. Сейчас девятым идёт Терри Купер из Канады, бывший обладатель мирового рекорда на милю, на нём явно сказалось поражение в полуфинале от Кейты.
— Держись с ним, Айк!
Это Сэм. А я‑то что делаю?
— Кейта развил потрясающий темп, но Айк Лоу у него на хвосте. Британский парень бежит очень мощно. Только он способен противостоять Кейте. Но Кейта уходит от него. Явно опережает. В начале третьего круга расстояние между ними пять или шесть ярдов.
Господи, помоги мне его догнать!
— Какой рывок делает Лоу — великолепно! Он сократил расстояние на три, на два ярда. Они бегут почти рядом!
Неужели есть надежда? Или это иллюзия? Ведь ясно, что Айк отдаст все силы, а Кейта бежит изящно, как лань. Всё написано на их лицах: на одном — мучение, на другом — безмятежность.
Вот она — боль… Последний круг. Вперёд!
— Звучит колокол! Последний круг! Кейта ещё лидирует. Но как спуртует Лоу! Между ними два ярда, один!
Стой, паразит, куда ты? не вижу его. Глаза застлало от боли. Ноги, ноги! Перетерпеть — и всё пройдёт. Расступится тьма, я снова смогу видеть. И увижу, что он позади. Нет же, впереди! Будь он проклят, где только берёт силы? Значит ещё раз, через боль. Вперёд! Господи, грудь сдавило! Я сейчас упаду! Всё черно, ничего не вижу. Ну, давай!
Вот он, Айк. Неужели это его лицо? Он уже не бежит. Только падает, падает, падает…






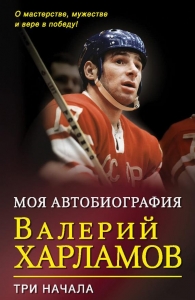




Комментарии к книге «Олимпиец», Брайан Гланвилл
Всего 0 комментариев