Пит Сампрас Размышления чемпиона. Уроки теннисной жизни
© 2008 by Pete Sampras
This edition published by arrangement with The Waxman Literary Agency and
The Van Lear Agency All rights reserved.
© ЗАО «Олимп – Бизнес», перевод на рус. яз., оформление, 2011
Заманчивый свет очень яркой звезды Предисловие к русскому изданию
Уже хотя бы потому, что американский теннисист Пит Сампрас был не очень-то разговорчив в ходе своей блистательной карьеры, его книга вызывает несомненный интерес. Эта книга написана для тех читателей, которых волнуют не подробности частной жизни родившегося почти сорок лет назад великого чемпиона, а то, как такими чемпионами становятся.
Родители Пита – Джорджия и Сэм – прибыли за океан из Греции. Познакомились они в Вашингтоне, поженились, и у них родились четверо детей – двое мальчиков и две девочки. Будучи третьим ребенком в семье, Пит хорошо ладил со старшими братом и сестрой и не обижал младшую. Отца он немного побаивался, хотя тот не был каким-то тираном. Мать Пита, отличаясь чуткостью и отзывчивостью, тихо и незаметно благотворно влияла на всю четверку. «Если от папы, – пишет Пит, – я унаследовал невозмутимость и сдержанность, то от мамы – упорство, стойкость и… упрямство. <…> Думаю, от нее мне передалась способность полностью, без остатка концентрироваться на своей задаче. В течение всей карьеры я никогда не забывал о главной цели, не отвлекался на второстепенные вещи – что бы ни происходило со мной вне корта».
С юных лет Пит понял, что рожден для игры в теннис, и это его понимание хорошо иллюстрирует с детства прочувствованная мальчиком мысль: «Если сызмальства знаешь, кто ты и чего хочешь – скажем, выступать со скрипичными концертами или строить высочайшие небоскребы, то у тебя есть стартовое преимущество перед остальными на пути к цели».
Удачному старту Пита чрезвычайно способствовало то обстоятельство, что его отца, работавшего инженером-механиком в Министерстве обороны в Вашингтоне, перевели в 1978 г. в Калифорнию – «теннисный рай» даже по американским меркам.
В семь лет Пит стал брать там уроки тенниса у знаменитого тренера Роберта Лэнсдорпа. Поначалу застенчивый и замкнутый, ребенок сразу же осознал, что получаемый им энергетический заряд от крайне сурового мэтра привел к ситуации, когда многие не только тебя замечают, но и предсказывают карьеру великого игрока. И Пит не просто поверил в эти прогнозы – он решил, что обязательно должен выиграть Уимблдон и Открытый чемпионат США по теннису.
Конечно, самым великим целям и устойчивой вере в себя всегда должна сопутствовать удача. И она не отвернулась от юного теннисиста. Уже в Калифорнии на отца вышел некий Пит Фишер, который в результате завязавшегося знакомства стал своеобразным куратором карьеры юного тезки, приняв на себя полную ответственность за нее. Однако его незаурядные организаторские способности были сопряжены со слишком назойливой любовью к детям, и хотя на семейство Сампрасов эта «любвеобильность» не распространилась, неприятный осадок, что называется, остался, после того как Фишер был отправлен за свое не понятое обществом поведение в тюрьму.
В книге Сампрас с удовлетворением вспоминает, как «втянулся в плотный тренировочный процесс. Лэнсдорп ставил мне удар справа и другие удары с отскока, Фишер служил статистом, помогавшим совершенствовать подачу, а другой местный тренер, Дел Литтл, следил за работой ног и общей физподготовкой. Удары с лета я оттачивал у Ларри Исли, профессионального игрока Клуба Крамера, который тренировал мужчин-теннисистов в Университете Лонг-Бич. Такова была моя неофициальная тренерская команда». Можно только восторгаться тем, что юный Пит проходил разностороннюю выучку у такого мощного, прямо-таки профессорского коллектива. Очевидно, что при столь продуманном, системном подходе к работе с детьми потери истинно талантливых юных теннисистов минимальны.
И еще очень важный момент. Сампрас вспоминает, что в годы его «теннисного взросления» ему никогда не говорили: «Ты обязан выиграть эту встречу!» И в результате Пит даже при проигрыше не терял уверенности в себе, что очень пригодилось ему в течение всей карьеры на корте.
Вот почему размышления настоящего чемпиона об уроках, полученных в его насыщенной огромными достижениями и определенными потерями теннисной жизни, заслуживают внимания не только поклонников спорта, но и профессиональных «жизнелюбов» на любом поприще.
Из турниров «Большого шлема» Сампрас ни разу не выиграл только чемпионат Франции. Однако он семь раз был сильнейшим на Уимблдоне, шесть раз побеждал на чемпионате США и дважды становился лучшим в Австралии. Вполне естественно, что в его книге есть специальная глава «Уимблдон – это навсегда!». Как гимн Уимблдону звучат слова Пита: «Уимблдон – волшебное место, освященное множеством вековых традиций и ритуалов. Но больше всего меня привлекала простота тенниса на траве. Это игра непринужденная, естественная. В ней нет ничего лишнего, она ведется на чистой, красивой, ухоженной сцене. Мои ощущения не изменились даже после того, как дебаты о „наводящем тоску травяном теннисе“ привели к замедлению игры на Уимблдоне (там сменили мячи и состав травы). Хотя этот процесс пришелся на вторую половину моей карьеры, для меня почти ничего не изменилось. С начала и до конца моих выступлений на Уимблдоне я показывал один и тот же атакующий теннис, основанный на сильной подаче». Тут как раз тот самый случай, когда соблюдается полная гармония: и место красит человека, и человек красит место.
По ходу чтения книги я обнаружил, что Пит склонен к самоанализу. Вот один весьма выразительный пример: «Когда я размышляю о том, как мне удавалось выигрывать столько матчей на протяжении многих лет, на ум приходят несколько ключевых моментов. Прежде всего, я верил в себя и свой Дар. Совершив крупную ошибку, я просто „стирал ее с жесткого диска“. Не могу точно сказать, как именно я выработал способность двигаться вперед, а не топтаться на месте, но она у меня была. Думаю, это феномен скорее умственного, нежели эмоционального плана – нечто вроде сверхнацеленности на успех. И, конечно, огромную роль играл волевой настрой. Если вы приучите себя подниматься над обстоятельствами, они вас не заденут. Хотя, наверное, нужно иметь определенные задатки, чтобы данный настрой действовал в полную силу».
В то же время Сампраса можно смело причислить к аналитикам, очень трезво и ярко рассуждающим о теннисной элите. «Меня часто спрашивали, кого я считаю Величайшим теннисистом всех времен. С моей точки зрения, этого звания достойны пятеро – из тех, чья карьера <…> приходится на Открытую эру, начавшуюся в 1968 г. По совести говоря, я не чувствую себя вправе оценивать великих теннисистов любительской эры, когда ведущие игроки становились профессионалами и теряли возможность выступать на турнирах „Большого шлема“. Моя пятерка – Род Лейвер, Бьорн Борг, Иван Лендл, Роджер Федерер и (без лишней скромности) я.
Мои доводы просты: Величайший – не просто тот, кто собрал столько-то титулов или продержался на самой вершине столько-то лет. Величайший – это еще и тот, кто в течение своей карьеры добился несомненного превосходства над главными соперниками. <…> Поэтому моя первая пятерка именно такова – при всем уважении к Коннорсу, Макинрою и Андре Агасси, которых я зачисляю во вторую пятерку первой десятки всех времен».
Не обошел вниманием Сампрас и лучших российских теннисистов – Евгения Кафельникова и Марата Сафина.
«Мне было легко играть с Евгением. Единственное исключение – тот прискорбный матч 1996 г. в Париже, где он разгромил меня в полуфинале на „Ролан Гарросе“. Это, наверное, самое сокрушительное и болезненное поражение в моей карьере. В общем и целом, Евгений ничего не мог противопоставить мне, хотя умело давил на тех, кого ему удавалось лишить уверенности или запугать. Безобразный на вид удар справа был у него лучше, чем казался, а удар слева – просто очень хорош».
«Марат великолепно сыграл против меня в финале Открытого чемпионата США 2000 г. Это была одна из самых впечатляющих побед в истории турниров „Большого шлема“. Марат – крупный, мощный парень, но при своих габаритах удивительно хорошо двигается. У него сильный удар справа и хороший, резкий удар слева. Он умеет играть с лета – и на быстрых покрытиях, вероятно, мог бы атаковать чаще, нежели себе позволяет. Когда Марат в форме, он поистине беспощаден. Некоторое время только он и мог измотать Роджера Федерера, причем на большинстве типов покрытия. Однако Марат всегда играл неровно. Он наделен всеми нужными качествами за исключением психологической стабильности».
В этом небольшом отклике на книгу я не стремился выразить свое личное отношение к многолетнему лидеру мирового тенниса. Тем не менее хочу особо отметить, что Пит отлично знал себе цену (безусловно, весьма высокую) и в то же время всегда оставался скромным, симпатичным парнем. Я много раз комментировал матчи с участием Сампраса, посещал его пресс-конференции, но почему-то мне особо запомнилась случайная встреча в аэропорту Лос-Анджелеса, куда я в конце 1980-х годов прилетел из Новой Зеландии с ветеранского турнира в рамках Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТП), перед тем как отправиться на аналогичное соревнование в город Феникс (штат Аризона). Друзья представили мне Пита и сказали, что он мой попутчик. Как многообещающего мальчика, его пригласили в Феникс на «взрослый» турнир АТП. Я порадовался за Пита (хотя со своей «ветеранской позиции» слегка позавидовал его возрасту) и подумал: если много обещаешь – надо выполнять! И он никого не подвел. Молодец!
Книга является хорошим пособием как для начинающих теннисистов, так и для мастеров, стремящихся к совершенству, а особенно – для родителей юных дарований.
Александр Метревели, Заслуженный мастер спортаО книге
Пита Сампраса можно без преувеличения назвать величайшим теннисистом всех времен. Благодаря упорству и трудолюбию он добился беспрецедентного достижения – сохранял звание первой ракетки мира 286 недель подряд. Исключительная одаренность позволила ему поставить еще один рекорд – завоевать четырнадцать титулов «Большого шлема». И если его более словоохотливые соперники чаще мелькали на страницах газет, то Пит предпочитал, чтобы за него говорила ракетка, – пока не появилась эта книга.
В «Размышлениях чемпиона» великий теннисист, который никогда не разрешал «заглянуть себе в душу», сам раскрывает ее перед читателем. Одаренный спортсмен, Пит с самого начала занятий теннисом отказался от всего, что могло встать между ним и его любовью к игре. Столь полная концентрация позволила ему добиться выдающихся успехов в теннисе, но за них приходилось платить. Постоянное напряжение конкурентной борьбы на величайшей мировой сцене – под неусыпным оком медийной машины, жаждущей большего, чем одни лишь спортивные подвиги, – взяло свою дань.
В своей книге Пит впервые откровенно говорит о том, что означало для него обладание Даром. Он рассказывает о личных невзгодах – в том числе о смерти тренера и друга, с которым провел многие годы, – и о внутренней борьбе, которую он переживал, находясь на вершине мирового тенниса. Среди самых захватывающих эпизодов книги – сокрушительное поражение от Стефана Эдберга, заставившее Пита принять почти монашеский обет верности своему природному таланту; изматывающая борьба (более четырех часов) с Алексом Корретхой, во время которой Пит почувствовал себя плохо; яростные битвы на корте с соперником и другом Андре Агасси; и наконец, завершивший карьеру Пита триумфальный матч в финале Открытого чемпионата США 2002 г.
В «Размышлениях чемпиона» один из самых титулованных, успешных и скрытных игроков в истории тенниса предлагает взглянуть на жизнь выдающегося спортсмена изнутри – его же глазами.
* * *
Считайте эту книгу пятнадцатым «Большим шлемом» Сампраса. Это поистине захватывающее чтение, которое не только рассказывает о блестящей спортивной карьере, но и позволяет проникнуть в сознание чемпиона. На страницы книги словно выплеснуты все переживания и мысли, которые Сампрас предпочитал таить в себе, когда был действующим игроком.
Джон Вертхейм, корреспондент и писатель, «Sports Illustrated» и SI.comКак свидетельствует название книги, это замечательная попытка заглянуть в сознание чемпиона и, вероятно, одни из лучших теннисных мемуаров всех времен. Пит рассказывает, какое напряжение чувствует тот, кто поднялся на вершину. Он приглашает нас выйти на корт вместе с ним, и мы ясно понимаем, что сделало его выдающимся игроком: он был исключительно собран, стремился выяснить сильные и слабые стороны соперников, никогда не позволял себе уступить хоть очко без борьбы. Пит писал эту книгу так же, как играл в теннис, – вкладывая в нее всю душу.
Род ЛейверДаже если играешь на высоком уровне, нелегко представить, чего стоит побеждать и оставаться на вершине. Все мы по-разному переносим и напряжение, и блеск славы. Сохранить равновесие невероятно трудно, и эта поразительно искренняя книга свидетельствует, что именно редкая способность Пита замыкаться в себе и черпать эмоциональную поддержку у семьи помогла ему достичь высочайших спортивных вершин. Пусть ваше чемпионство уже в прошлом или еще только в мечтах – не важно: история Пита расскажет вам о многом.
Моника СелешКогда я рос, Пит Сампрас был одним из моих кумиров. Он достиг высочайшего мастерства и выиграл много важнейших матчей на самых значительных соревнованиях. Эта книга знакомит читателя с блестящей карьерой Пита и объясняет, как он настроил себя на то, чтобы стать лучшим игроком в мире. Его размышления могут оказаться полезными для всех нас.
Роджер ФедерерОт автора
Я хочу поблагодарить моих родителей Сэма и Джорджию, брата Гаса, сестер Стеллу и Мэрион за любовь и поддержку.
Благодарю моих тренеров Пола Аннакона и покойного Тима Галликсона: мало того, что я обязан им своими достижениями, – они были мне истинными друзьями!
Благодарю команду, так много сделавшую для моей карьеры: мастера по ракеткам Нейта Фергюсона, фитнес-тренера Пэта Этчберри, личного врача Тодда Снайдера и моего личного тренера Бретта «Муса» Стивенса.
Хочу выразить признательность моему соавтору Питеру Бодо – за то, что он понял меня, понял мою игру и помог мне «разговориться».
И наконец, мои болельщики. Благодарю вас за непрестанную поддержку на протяжении всей моей карьеры. Я любил вас и всегда буду любить!
Предисловие
Еще несколько лет тому назад мне (а вам и подавно!) и в голову не могло прийти, что я напишу книгу о своей жизни, о годах, проведенных в теннисе. Ведь за меня всегда говорила ракетка. Одержимый желанием собрать как можно больше титулов «Большого шлема», я был сосредоточен лишь на победе, вел замкнутое, аскетическое, почти монашеское существование. Я тщательно охранял свою личную жизнь и избегал любого повода для нездоровой шумихи — шла ли речь о теннисном корте или о моей семье.
Но когда я завершил выступления, у меня появилось достаточно свободного времени, чтобы поразмышлять над тем, как я жил, чего добился и чем история моей карьеры может быть полезна для других людей.
Первым делом я подумал, что мои теннисные достижения, наверное, будут интересны и любопытны моей семье. Если мои дети (и многочисленные родственники) захотят узнать и понять, что я собой представлял и каким ощущал себя в разное время, пусть они увидят все моими глазами. Сейчас, когда я пишу эти строки, оба наших сына, Кристиан и Райан, уже способны метко послать теннисный мяч — именно в этом мой отец Сэм усмотрел первый признак моего спортивного таланта. Я хочу, чтобы мои болельщики (да и все поклонники тенниса) тоже взглянули на меня моими глазами. Эта книга — мое наследие.
И еще одна важная вещь. Мне удавалось избегать всеобщего любопытства, и это принесло неоценимую пользу моей спортивной карьере. Я смог сосредоточиться на главном, не выставлял себя напоказ, и в результате о моей жизни мало что было известно. И вот мне захотелось соединить разрозненные фрагменты информации в рамках более обширного полотна и прояснить внутренние связи, которые не при-влекли особого внимания или остались незамеченными.
Работая над книгой, я осознал, что мне очень повезло в жизни, несмотря на целый ряд неблагоприятных обстоятельств. Мой первый тренер оказался в тюрьме. Наставник, чьи уроки были бесценны, когда я только начал обретать зрелую игру, заболел раком и вскоре умер. Несчастный случай унес из жизни одного из моих лучших друзей-теннисистов. На почве перенапряжения у меня не раз возникали физические проблемы, а одна травма вообще поставила под угрозу мою карьеру — как раз в то время, когда я готовился обойти Роя Эмерсона по абсолютному числу призов «Большого шлема» в одиночном разряде. Случались у меня крупные размолвки с коллегами-спортсменами, даже с моими спонсорами и теннисным истеблишментом. Но почти никто из людей, которым известно мое имя, не подозревает об этих испытаниях. Я рад, что они до сих пор оставались в неведении, почти горжусь этим, но все же хочу рассказать о печальных и трудных событиях, объяснить, что они для меня значили и как на меня повлияли.
Эта книга не из тех, которые написаны с целью произвести впечатление на публику. С самого начала я хотел вести речь преимущественно о теннисе и поведать свою историю так, чтобы и сама игра, и сцена, на которой разворачивались действия, предстали в самом привлекательном свете. Я исповедую принцип «живи сам и давай жить другим». Я никогда не уклонялся от проблем: всегда встречал их лицом к лицу и двигался вперед.
Мой теннис пришелся на эпоху великих перемен. О ней возвестил взрывной рост уровня международного соперничества, сопровождавшийся революционными новшествами в экипировке, интенсивной коммерциализацией тенниса, первым крупным допинговым скандалом на высшем уровне и замедлением темпа игры (с чем я впервые столкнулся на самом любимом и успешном моем турнире, Уимблдоне).
То было славное время, особенно для американского тенниса. Наше поколение дало четырех чемпионов «Большого шлема» (Майкл Чанг, Джим Курье, Андре Агасси и я), а спортсмены из других стран вошли в число моих самых сильных и целеустремленных соперников. Напряженное соперничество продолжилось с появлением Роджера Федерера — швейцарца, ставшего моим близким другом. В рекордные сроки он собрал все призы «Большого шлема». В зависимости от происходящих событий время течет быстрей или медленней. И для меня настала пора добавить собственную историю в общую кладовую.
Тэд Уильямс, знаменитый отбивающий «Бостон Ред Соке», как-то сказал, что хотел от жизни только одного: чтобы прохожие на улицах указывали на него и говорили: «Вот идет мастер удара, величайший из когда-либо живших». С первых дней моей карьеры я испытывал сходное желание. Оно может показаться самонадеянным, но это своего рода энергетическая подпитка, без которой невозможны действительно высокие достижения. Бывали у меня моменты, когда в критические минуты важнейшего поединка я подходил к линии подачи и делал паузу, чтобы впитать атмосферу стадиона. Бурля адреналином, я смотрел на зрителей и вызывающе твердил про себя: «Сейчас я вам покажу, кто я такой».
Большинству чемпионов присущ этот яростный напор, настрой на борьбу. Он набирает силу, когда вы «застолбили свою территорию». Если вам нечего защищать, вы не продержитесь долго под прицелом конкурентов. Но есть и другая сторона: в нашем спорте лучшие игроки и жесткие соперники, как правило, ведут себя по-джентльменски, подавая пример для подражания и на корте, и за его пределами. Достаточно взглянуть на Рода Лейвера, представителя более ранней эпохи, и Роджера Федерера, задающего тон теперь.
Эта книга неспешно и обстоятельно расскажет вам о том, кто же я на самом деле такой.
Лос-Анджелес, январь 2008Моей жене Бриджит и моим сыновьям Кристиану и Райану. Вы значите для меня больше, чем все победы в «Большом шлеме» и мировая теннисная слава
Глава 1 Теннисный мальчик 1971–1986
Чтобы стать великим теннисистом, наверное, совсем не обязательно с самого начала знать, кто ты такой и чего хочешь. Разные игроки шли к своему призванию разными путями. Я же знал'. Почти с первых дней знал, что рожден для тенниса! Может быть, в этом и нет абсолютной необходимости, но если сызмальства знаешь, кто ты и чего хочешь — скажем, выступать со скрипичными концертами или строить высочайшие небоскребы, то у тебя есть стартовое преимущество перед остальными на пути к цели.
Я родился в Потомаке (штат Мэриленд) 12 августа 1971 г. и был в семье третьим ребенком из четырех. Брат Гас старше меня на четыре года, сестра Стелла (еще один серьезный теннисный игрок в нашем семействе) — на два, а самая младшая — моя вторая сестра Мэрион.
Мой отец Сэм — грек по происхождению. Когда я родился, он работал инженером-механиком в Министерстве обороны в Вашингтоне. Поскольку одной зарплаты на семью (жена Джорджия и четверо детей) не хватало, отец держал на паях с тремя родственниками ресторан и гастрономический магазин в округе Мэклейн, Виргиния. Это не были в полном смысле заведения греческой кухни, но мое семейство сумело познакомить местную публику с характерным для греков пристрастием к вкусной еде, и дело процветало.
О жизни в Потомаке я мало что помню, но все же не забыл, как мне попалась старая теннисная ракетка: она-то и стала моей любимой игрушкой. Я пулял мячиком во все поверхности, от которых он мог отскочить, — чаще всего в бетонную стену соседней прачечной. Постепенно я добрался до местного парка, где было несколько кортов, и получил первые уроки. Я тут же заболел игрой, погрузился в нее с головой, и, думаю, на то была все та же загадочная причина, по какой Тайгер Вудс взял в руки клюшку для гольфа, а Уэйн Гретцки — хоккейную клюшку.
Отец рассказывал, что однажды в парке к нему подошел какой-то парень и заметил: «А у вашего сына, похоже, неплохие способности к теннису». Надо полагать, отец отнесся к похвале с полной серьезностью, хотя сам не особенно интересовался спортом, да и никаких теннисных традиций в нашем семействе не было. Мы ведь принадлежали к американцам греческого происхождения, и с нашими корнями нас многое тесно связывало. В Европе есть небольшие страны, богатые теннисными традициями, например Хорватия и Швеция. Но Греция не из их числа. Поэтому теннис исторически оставался вне нашего кругозора.
Отец ничего не знал о теннисе и не возлагал на меня никаких надежд в этой области, пока я сам не проявил к ней интерес. Естественно, он не имел и связей с окружающей теннис средой — замкнутой и состоящей по преимуществу из тех, чьи семейства увлекались этой игрой на протяжении многих поколений. Отец понял, однако, что мои спортивные задатки достаточно велики. Даже малым ребенком я уже мог сильно бить по мячу. Это у меня получалось как бы само собой.
Когда мне исполнилось семь, отца перевели в район Лос-Анджелеса — известного центра аэрокосмической и военной промышленности. Понятное дело, о моем теннисном будущем он тогда и не помышлял. Но, к счастью, совершено неожиданно оказалось, что Южная Калифорния — также и центр американской теннисной культуры, особенно в ее общедоступных формах.
Теннис в Соединенных Штатах существовал в двух ипостасях. На северо-востоке — в Бостоне, Ньюпорте, Нью-Йорке и Филадельфии (где по традиции проходили самые крупные турниры, включая Открытый чемпионат США) — это всегда был привилегированный спорт для богатых. Игра там велась в строгом соответствии с давними правилами и почти до самого моего рождения — только на травяных кортах.
Калифорния же представляла собой нечто совершенно иное. Благодаря теплому климату Западного побережья здесь можно было круглый год играть на открытом воздухе, без больших затрат и к тому же в абсолютно демократичной обстановке. Свободного места хватало, и общественные корты располагались повсюду. Покрытие было, как правило, бетонное: эти площадки дешевы, и их нетрудно содержать в порядке.
Так Калифорния стала еще одним теннисным центром. Первые большие игроки, взращенные Западным побережьем, — Элсворт Вайнс (до сих пор известный своей невероятно сильной подачей), Джек Крамер, Панчо Гонзалес, Стэн Смит, Билли Джин Кинг и Трейси Остин.
Сильная подача и напористая, наступательная манера — отличительные особенности «калифорнийского стиля». Что касается техники, то она, конечно, разная — в зависимости от региона и типа покрытия. И различия эти достаточно заметны. Даже основные стили хвата ракетки — континентальный (европейский), восточный и западный — получили названия по регионам, где они были распространены и подходили к местным условиям.
Одна из моих заслуг (во всяком случае, так мне говорили) заключается в том, что я стал почти образцовым универсальным игроком. Я обладал сильной подачей, агрессивно играл на задней линии — то есть был типичным представителем «калифорнийского народного стиля». Затем я освоил подачу с выходом к сетке и причинил соперникам-европейцам очень крупные неприятности на их любимых кортах, победив семь раз в мужском одиночном разряде на самом главном и, без преувеличения, элитном мировом турнире — Уимблдоне. Единственное покрытие, которое я так и не освоил полностью, — это медленные европейские грунтовые корты. Поэтому я никогда не выигрывал Открытый чемпионат Франции — крупнейшие соревнования на таких площадках.
Что касается моего стиля и результатов, то я превзошел региональный и даже национальный уровень, видимо, в большей степени, чем некоторые мои предшественники, завоевавшие титул первой ракетки мира. Взять хотя бы моего соотечественника Джимми Коннорса. Он был родом из Иллинойса, но довольно рано переехал в Калифорнию и совершенствовал свой стиль на местных кортах с твердым покрытием. Чувствуя себя уверенно на любых площадках, он «всего лишь» дважды выиграл Уимблдон, но его игра была достаточно хороша, чтобы пять раз победить на Открытом чемпионате США, причем трижды — на любимых им кортах с твердым бетонным покрытием.
Главное достоинство Калифорнии заключалось в тех возможностях, которые открывала развитая, самобытная и прочно укорененная местная «теннисная культура». Но в нашем семействе не было таких традиций: нам предстояло все схватывать на лету и усваивать на ходу. По счастью, мы оказались в самом центре урагана Открытой эры. Он разразился в 1968 г., когда профессионалам наконец предложили соперничать с любителями на четырех «главных» турнирах «Большого шлема» (Открытые чемпионаты Австралии, Франции, США и Уимблдон). Переход к Открытому теннису означал, что все сильнейшие игроки мира отныне могут участвовать в одних и тех же турнирах и претендовать на полноценный чемпионский титул. Результатом стал теннисный бум. На кортах появились миллионы новых любителей и потенциальных профи.
Когда мы оказались в Калифорнии, штат изобиловал игроками мирового уровня и теми, кто подавал большие надежды. Возможностей для учебы, тренировок и игры было предостаточно. Перспективы казались завораживающими — вернее, казались бы, сумей мы по достоинству их оценить. Но мы пока не умели.
Чтобы отправиться в Калифорнию, отец продал свою долю ресторанного бизнеса. Ему уже наскучило это дело, а заодно и партнеры-родичи. Денег пока хватало, и он хотел передохнуть. Вместе с тем отец внутренне уже подготовился к тому решительному шагу, который до него совершили многие новоиспеченные американцы и иммигранты, следуя «американской мечте», — он обратил взор на Запад, к Калифорнии. Несколько раз отец съездил на западное побережье, устроил наш дом в Палос-Вердес и, наконец, перевез туда нас.
Ясным утром 1978 г. мы сели в машину. Помню, это был маленький синий «форд пинто», бюджетный автомобильчик без всяких излишеств (потом он приобрел печальную известность: если в машину врезались сзади, мог загореться бензобак). Мы набились в него вшестером и двинулись на Запад. Впрочем, погодите: всемером, поскольку с нами ехал наш попугай Хосе. Если вы смотрели классический фильм с Чеви Чейзом «Рождественские каникулы» («Christmas Vacation»), то без труда вообразите эту теснотищу.
Когда мы приехали в Палос-Вердес и вошли в наш скромный дом (примерно 150 квадратных метров), я ощутил прилив энтузиазма. Отдельная комната полагалась только Гасу, как старшему из детей, а меня поселили с Мэрион. Своя комната появилась у меня только в пятнадцать или шестнадцать лет.
Очень скоро мы обнаружили, что нас окружает насыщенная теннисная среда. Неподалеку, в Роллинг-Хиллз, находился Клуб Джека Крамера, сыгравший выдающуюся роль в подготовке многих прекрасных игроков (в том числе Трейси Остин). А еще был Весл-Энд, где я начал брать уроки у одного из лучших тренеров всех времен — Роберта Лэнсдорпа.
Я рос застенчивым, замкнутым ребенком. Но если ты получаешь энергетический заряд от Лэнсдорпа, то сразу начинаешь владеть ситуацией и многие тебя замечают. Сейчас это кажется невероятным, но вскоре после того, как я начал работать над своей игрой, нам стали говорить, что из меня выйдет великий теннисист. Почти сразу же меня начали сравнивать с такими парнями, как Элиот Тельтшер, — говорили, что уже в четырнадцать лет я буду столь же хорош, как несомненно одаренный Элиот в шестнадцать. (Тельтшер сделал великолепную профессиональную карьеру и вошел в первую мировую десятку.)
Еще подростком я решил, что должен выиграть Уимблдон и Открытый чемпионат США, и считал эту задачу вполне посильной. Многие дети, которым твердят, будто они замечательно талантливы, что они должны верить в себя, работать над собой и так далее, в конце концов оказываются на обочине. Им может не хватить характера или физических ресурсов, порой им трудно оправдать собственные ожидания, у них могут возникнуть неустранимые изъяны в технике, психологическом настрое или в представлениях о своей карьере. Если человек убежден, что с ним не случится ничего плохого из того, что могло бы случиться, это почти наверняка обманчивая надежда — не считая случаев, когда она все же сбывается.
Может быть, именно вера в то, что я сравняюсь с лучшими из лучших, помогла мне стать тем, кто я есть. В глубине души я всегда в это верил. Я не сомневался. Но самое поразительное заключается в том, что действительно не случилось ничего, способного разбить, поколебать или отнять у меня эту веру, и я прошел сквозь преграды, грозившие встать между мной и моим призванием.
Вскоре после того как я начал играть в Клубе Крамера, папа познакомился с одним из его членов по имени Пит Фишер, известным педиатром из Нью-Йорка. Это был типичный «доктор» и в теннис играл соответственно. Плотный, с большим животом, он демонстрировал, наверное, самую ужасную манеру игры из когда-либо виденных мной. Зато Пит был умным и проницательным знатоком тенниса — можно сказать, провидцем.
Взглянув на меня, он тут же отметил мой незаурядный талант, сдружился с папой, который возил меня на тренировки, и в конце концов убедил его, что может сделаться моим наставником. Теперь, задним числом, я, конечно, понимаю, что «наставник» — не вполне подходящее для Фишера определение, ибо главное его достоинство заключалось в том, что он точно знал, чего не умеет. Будучи никудышным теннисистом, он совершенствовал мою игру весьма мудро — подыскивал тренеров и специалистов, дававших мне неоценимые уроки. Пит имел на меня виды грандиозные, почти фантастические. Он представлял собой смесь генерального подрядчика и полупомешанного ученого, одержимого идеей создать величайшего чемпиона «Большого шлема».
Наконец Пит (и это был его мудрейший шаг) сумел убедить папу, что сможет руководить моей теннисной карьерой. Он стал нашим советником, наперсником и посредником между нами и миром тенниса.
Оглядываясь назад, больше всего я ценю то, чего добился Пит в плане моих отношений с отцом. Он исключил из них теннисную тему и полностью взял ее на себя. Папа, который с самого начала твердил, что ничего не смыслит в теннисе, был избавлен от всякой ответственности за мой прогресс. Эта граница между родителем и руководителем всегда оставалась незыблемой, поэтому мои неудачи никогда не выводили папу из себя и не делались источником сильных переживаний. Естественно, он следил за моей карьерой, но словно со стороны. Как потом сказал Роберт Лэнсдорп, «он был похож на бесстрастного наблюдателя, стоящего далеко за оградой».
Такое положение вещей меня чрезвычайно устраивало, если учесть характер отца. Нельзя сказать, что он любил уединение, но в целом, конечно, был человеком не слишком общительным, скорее замкнутым, подобно большинству мужчин семейства Сампрасов, включая Гаса и меня. Мы не сразу входим в контакт с людьми, предпочитаем держаться в тени, избегаем переднего плана. Нам присуща саркастичность. Такой склад характера не очень-то удобен в обстановке профессиональных турниров, где вы постоянно в движении, знакомитесь с новыми людьми, беседуете с ними, стараетесь запомнить имена. С другой стороны, наша природная сдержанность и немногословность помогают держаться подальше от всякого рода склок и не попадать в ситуации, чреватые неприятными последствиями. Это ценное свойство имеет большое значение для тех, кто уже покорил теннисные вершины.
В детстве я нечасто общался с отцом: ведь он был занят на двух работах и заботился о содержании семьи. Все наши потребности и в бытовом и в эмоциональном плане удовлетворяла мама. Лишь занятия теннисом позволили мне проводить больше времени с папой. Он доставлял меня на тренировки и обратно, мы ездили с ним на детские соревнования по выходным. Но это отнюдь не означало, что мы так уж часто беседовали. Моей наперсницей стала сестра Стелла. Она была немного старше, и я прислушивался к ее мнению. К тому же в нашей семье кроме меня лишь она серьезно занималась теннисом. Со временем мы стали ездить на юниорские турниры всем семейством. Поначалу для этих путешествий служил потрепанный микроавтобус «фольксваген».
Отца я немного побаивался, хотя он если и не был моим лучшим другом, то уж никак и не тираном. Помню, однажды у меня вырвалось бранное слово, и отец намазал мне рот мылом. Рукоприкладство он отвергал, но тогда нас, собственно, и не за что было сурово наказывать. Поздние гулянки? Марихуана? Что-нибудь похуже? Ничего подобного в юности мы не знали. А на меня соблазны вообще не действовали — я с головой окунулся в теннис и даже помыслить не мог, что сверну с этого пути.
Нашим воспитанием занималась мать Джорджия, человек чуткий и отзывчивый. Она всегда была готова выслушать, поговорить и разъяснить, о чем бы ни зашла речь. На нас она влияла тихо и незаметно, но, тем не менее, самые жесткие черты характера я, вероятно, унаследовал от нее. Мама была чудеснейшей женщиной на земле, она нас холила и лелеяла, откликалась на все наши переживания. Однако за этой теплотой и заботливостью скрывалась твердость.
Мама родилась и выросла в Салакии, деревушке неподалеку от Спарты. Семья жила в бедности. У мамы было двое братьев и пять сестер, и вплоть до юности спать ей приходилось на полу. Старший брат эмигрировал в Канаду, а потом вызвал к себе остальных. Так мама приехала в Северную Америку, не зная ни слова по-английски. Через какое-то время, вместе с сестрами, близкими ей по возрасту, она начала работать косметологом в районе Торонто.
Маме было за двадцать, когда она перебралась с сестрами в Вашингтон и познакомилась с папой (у них имелись общие друзья). Отец папы советовал ему жениться на гречанке, и Джорджия оказалась подходящей парой. Они одинаково ценили семейную жизнь и хотели завести дом, где их дети чувствовали бы себя довольными и счастливыми.
Поскольку мама стала американкой лишь недавно, мы росли в атмосфере, пропитанной греческими традициями. Мы обзавелись многочисленной родней — у меня было, наверное, не меньше тридцати двоюродных братьев и сестер. Правда, моя спортивная карьера не позволяла мне поддерживать с ними тесные отношения. Каждую неделю мы ходили в греческую православную церковь, не пропускали ни одного национального праздника и гуляния — совсем как в фильме «Моя большая греческая свадьба» («Му Big Fat Greek Wedding»). Мама до сих пор готовит греческие блюда — спанакопиту (кушанье со шпинатом) и долму, а уж бузуки (греческой гитары) я наслушался на всю жизнь. Тем не менее мы хотели походить на американцев: скажем, никогда не носили экстравагантную национальную одежду, а на обед у нас часто подавали болонские спагетти.
Когда я думаю о маме, о ее полуголодном детстве, я хорошо понимаю, какой она неунывающий, сильный человек. Уже к двадцати трем годам она, происходившая из консервативного, патриархального общества, освоилась в совершенно чуждой ей культуре. Конечно, ее поддерживала родня, однако маме все далось ценой немалых усилий.
Если от папы я унаследовал невозмутимость и сдержанность, то от мамы — упорство, стойкость и... упрямство. Она помогла мне осознать мои базовые ценности, объяснила, что я ничего не добьюсь, выбирая самый легкий путь. Думаю, от нее мне передалась способность полностью, без остатка концентрироваться на своей задаче. В течение всей карьеры я никогда не забывал о главной цели, не отвлекался на второстепенные вещи — что бы ни происходило со мной вне корта.
Маме всегда хватало хлопот с нами четверыми, а мой расцветавший талант лишь прибавил новых. Сначала Стелла и я — два спортсмена-энтузиаста — как бы отодвинули на задний план Гаса и Мэрион, а потом я затмил и Стеллу. Я стал «надеждой семьи», и — хотел я того или нет — мне уделяли больше внимания, на меня тратили больше денег. Впрочем, время от времени это порождало обиды.
Гас увлекался серфингом, у него было много знакомых, и меня это устраивало, позволяя оставаться при отце. Конечно, мне, как и всякому младшему брату, иногда очень хотелось «потусоваться» с Гасом и его приятелями. Наверное, нет нужды объяснять, что такое «комплекс младшего брата». Но мне помог теннис. Он настолько захватил меня, что я счастливо избежал многих переживаний переходного возраста. В детстве я не испытывал ревности со стороны старшего брата — разница в четыре года означала, что мы обитали в разных мирах. Но я знал, что мое привилегированное положение иногда вызывает у него досаду. Время от времени Гасу приходилось возить нас со Стеллой на тренировки, и было заметно, что эта обязанность не доставляет ему удовольствия. Думаю, тут проявлялась его реакция на дефицит внимания со стороны отца. Гас чувствовал себя немного «заброшенным», тогда как Стелла и я (особенно когда подросли) заняли положение фаворитов.
Иногда Гас вел себя навязчиво. Помню, отец купил ему гитару, и он заходил к Стелле или ко мне (точнее, к нам с Мэрион) и наяривал что есть мочи. Мне это очень докучало, но я догадывался: он просто хочет, чтобы и ему уделили толику внимания. Гас считал, что раз меня балуют, то он имеет полное право хотя бы «побацать» на гитаре. Стелла, которая сейчас тренирует женскую теннисную команду Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, была не способна никого обидеть. Она являлась образцовой дочерью — наверное, благодаря дружелюбному, отзывчивому характеру и какой-то общей одаренности (в том числе и по части тенниса). К примеру, родители не сомневались: если Стелла и Гас ссорятся — значит, виноват Гас. У меня с ней практически не случалось размолвок. Увлечение теннисом сделало нас союзниками.
Самое яркое воспоминание о Стелле относится к тому времени, когда мы занимались у Роберта Лэнсдорпа. (Как ни удивительно, мы почти всегда тренировались вместе — тридцать минут она, тридцать — я. Это было незыблемое правило.) И вот однажды она стояла у сетки, а Роберт прямо-таки расстреливал ее мячами. Он намеренно ее не щадил, а она едва успевала отражать его удары. Это смахивало на самооборону. У Стеллы сбилось дыхание, потекли слезы. «Ты что там нюни распустила? — грубовато буркнул Роберт, притворяясь крайне недовольным. — А ну-ка соберись!» Стелла повернулась и ушла, не желая больше терпеть эти солдафонские штучки. Помню, я подошел, обнял ее и попытался утешить: «Будет тебе, Стелла, все нормально, все хорошо». Конечно, сценка выглядела забавно — двенадцатилетний сопляк в роли утешителя: «Не горюй, все в порядке!» Мне было так за нее обидно, что эпизод накрепко врезался в мою память: кажется, будто это случилось вчера.
Сестренка Мэрион играла в детский теннис, и очень успешно. Она была самой младшей, и поэтому ее слегка «оттеснили». В общем, тут нет ничего удивительного. Застенчивость мешала ей искать с нами контакт. К тому же мы со Стеллой усиленно занимались теннисом, Гас был мальчишкой, намного старше Мэрион, и ей просто не с кем было общаться. Порой она сильно переживала.
Когда Мэрион немного повзрослела, она обрела веру в Бога и воистину расцвела. Вера помогла ей счастливо преодолеть трудности подросткового периода, а в церкви нашлось много друзей. Она стала более уверенной в себе, открытой, общительной — словом, поистине светлой личностью. Я тоже верующий, но не наделен подобной религиозностью. А Мэрион показала мне, как много вера способна сделать для человека.
В общем и целом, мы были хорошими детьми и жили дружно, несмотря на неизбежные среди братьев и сестер размолвки и соперничество. Если родители уделяли Стелле и мне больше внимания, то не потому, что сильнее любили, а из-за тенниса. Думаю, это понимали все. По крайней мере, надеюсь. Возможно, именно поэтому у нас никогда не случалось неприятных эксцессов. В некоторых отношениях мы были типичной американской семьей, в других — нет. Но мы очень близки и по сей день.
В восемь лет я помышлял о теннисе уже вполне серьезно. Остались позади те дни, когда мама в свободное время кидала мне мячики. Теперь я интенсивно занимался. Вспоминая годы своего начального обучения, я как сейчас вижу: вот отец идет к банкомату, снимает шестьдесят долларов (или сколько это тогда стоило?) и протягивает их мне, чтобы я заплатил Роберту Лэнсдорпу.
<<Вжик-вжик, вжик-вжик...» — банкомат мы навещали часто. Нельзя сказать, что отец так уж много получал, но работа у него была совсем неплохая. К тому же он отложил деньги, вырученные за ресторанный бизнес. Они пригодились потом, когда приспело время крупных затрат.
Вскоре после того как Фишер взял на себя роль «куратора» моей карьеры, я втянулся в плотный тренировочный процесс. Лэнсдорп ставил мне удар справа и другие удары с отскока, Фишер служил статистом, помогавшим совершенствовать подачу, а другой местный тренер, Дел Литтл, следил за работой ног и общей физподготовкой. Удары с лета я оттачивал у Ларри Исли, профессионального игрока Клуба Крамера, который тренировал мужчин-теннисистов в Университете Лонг-Бич. Такова была моя неофициальная тренерская команда.
Основы моей игры заложил Лэнсдорп — легендарная в теннисных кругах Южной Калифорнии личность, — прославившийся чисто сержантской муштрой без скидок и послаблений. Школа Лэнсдорпа до сих пор чувствуется в моих лучших ударах справа с отскока.
Почти все его ученики имеют мощный удар справа. Он ставил максимально плоский, чистый, экономичный удар и особенно успешно работал с девушками. В числе его воспитанниц Трейси Остин, Линдсей Дэвенпорт, Мелисса Гарни и Стефани Рехе. Все они в свое время сенсационно заявили о себе и сделали успешную (в той или иной степени) профессиональную карьеру. Что касается мужчин, то до меня лучшим достижением Роберта был Элиот Тельтшер. Правда, Элиот прославился, напротив, мощным ударом слева, и именно это я имел в виду, когда говорил, что у каждого игрока есть природные задатки, в значительной мере предопределяющие манеру его игры.
У Роберта с Фишером отношения не сложились. Роберт считал Фишера дилетантом, а это много значило, поскольку Роберт к моменту нашей с ним встречи являлся персоной известной и авторитетной, отличался резкостью, честностью и предельной прямотой. Если вы были ему неинтересны, он этого и не скрывал. Такой характер, конечно, доставлял ему массу неудобств, но Роберт был ярко выраженным одиночкой и всегда действовал так, как считал нужным. Не знаю, побаивался ли его Фишер, но худо-бедно они все же работали сообща.
В детстве я был работягой и уважал Роберта. Он внушал мне некоторый страх — здоровенный мужик с огромными ручищами и до крайности грубыми манерами. Занятия были по четвергам, и я помню, как, еще сидя в школе, начинал волноваться и смотреть на часы, потому что занимался у Роберта с трех до четырех. Но вот что удивительно: насколько меня притягивала тренировка с ним, настолько же нетерпеливо я ждал ее конца.
Когда я начал играть, еще не завершилась эпоха деревянных ракеток. Роберт учил меня правильно пользоваться «деревом». Через несколько лет технологии изменили ракетку, и стало гораздо проще отрабатывать удары. Мне же тогда это давалось с немалым трудом. Некоторые упражнения были максимально просты. Роберт расстегивал мягкий виниловый чехол на молнии, который надевался на головку ракетки, вкладывал в него свои ключи и закрывал. Ключей у него было штук сорок, так что весила эта конструкция весьма прилично. А потом я отрабатывал удар справа такой утяжеленной ракеткой. Для ребенка это нелегкое упражнение, но я научился бить по мячу. Роберт считал самым важным умение видеть площадку и посылать мяч туда, куда наметил.
Никаких особых секретов в методике Лэнсдорпа не таилось. Главная наука состояла в повторении, и это давало важный эффект — цементировало строгую технику удара. Роберт вывозил на корт большую тележку (вроде тех, что дают в супермаркетах), полную мячей, и мы в течение часа (или получаса, если со мной занималась Стелла) отрабатывали разные элементы: подход к мячу, прием короткого мяча, удар справа (ставший моим коронным). Мы повторяли, повторяли, повторяли...
Элиот Тельтшер считает, что Роберт гениально подкидывал мячи (на первый взгляд работенка не особо трудная). Но Элиот прав! Роберт посылал мяч за мячом в надлежащее место, а ведь речь идет о сотнях мячей в час, и так каждый день. Я отбил их, наверное, миллион! И это дало принципиально важный результат — появилась мускульная память, укоренившаяся во мне, словно врожденная способность наносить нужные удары.
Одной из любимых штучек Роберта было подкидывание сильно закрученных мячей прямо на меня. Ведь он, если помните, мужчина очень крупный, весом около ста кило, а я тощий, и было мне всего-навсего двенадцать. Зато я привык биться с ним один на один и отражать его удары. Это закалило меня физически.
Роберт обычно сгибал одну ногу, чтобы легче доставать мячи из тележки, одной рукой быстро хватал их, другой бил по мячу — и так часами. В конце концов ему сделали операцию на бедре, и могу поручиться, что всему виной именно эта его наклонная стойка. Роберт располагался на центральной линии подачи и подкидывал мячи ударом справа через весь корт пятнадцать раз в минуту. Это была изнурительная работа.
Мой удар справа с ходу — всецело заслуга Роберта. Я его, как правило, использовал для выхода к сетке с середины корта — пусть не слишком эффектного, но зато одного из самых коварных приемов в теннисе. Он мог быть как защитным, так и завершающим или использоваться просто при обмене ударами. Удар труден, потому что гораздо легче бить по мячу, двигаясь из стороны в сторону, чем вперед и назад. Этот удар должен быть сильным, исполненным в быстром темпе так, чтобы мяч пролетел низко над сеткой, но при этом готовиться к нему следует незаметно.
Уже в ходе профессиональной карьеры я слегка усовершенствовал свой удар справа и сделал его более крученым, чтобы уменьшить число ошибок. Но в принципе за многие годы он мало изменился, и если кто-нибудь из моих детей захочет играть в теннис, а Роберт по-прежнему будет на корте, я снова обращусь к нему.
Несколько лет назад я был в клубе «Ривьера», где Роберт в то время вел тренировки. Он попросил меня сыграть с двенадцатилетней девочкой, которая у него занималась. Я охотно ему помог и сразу забыл про этот случай, а через несколько лет увидел ту самую девочку по телевизору. Это была Мария Шарапова. Роберт умел распознавать таланты и интуитивно чувствовал, кто, так сказать, «годится» — у кого есть запас психологической прочности для покорения вершин. Он сразу угадывал, каков ты и чего стоишь. Но, боже мой, до чего же он был свиреп!
Фишер со временем стал своим человеком в нашем семействе, а у меня все шло накатанным путем. По вторникам я занимался с Делом Литтлом, по четвергам с Лэнсдорпом, а по пятницам с Фишером. Между этими занятиями и по выходным я для практики играл с другими юниорами или ездил на турниры.
Литтл дружил с семейством Остинов — своего рода теннисной элитой Южной Калифорнии. Из него вышли Трейси, Пэм, Джон и Джефф — все они выступали в профессиональных турнирах, а Трейси являла собой образец для подражания как, возможно, самое выдающееся дарование в истории тенниса.
Литтл вел занятия в Клубе Крамера, но многих детей брал к себе (он жил в окрестностях Ломиты). Место восторга не внушало: рядом с двумя кортами, которые он использовал, находилось нечто вроде стоянки для грузовиков. Литтл был великим учителем. Он становился в углу корта, гонял меня туда-сюда, посылая мячи в разные стороны, и особенно внимательно контролировал работу ног. Мы выполняли много разных упражнений — например, разножку и тому подобное. Но очень важно, что он никогда не терял чувства меры.
Фишер не мог уделять теннису много времени. Он сотрудничал с компанией Kaiser Permanente, работающей в области здравоохранения, и был очень востребован как эндокринолог и еще больше как педиатр. По рабочим дням Фишер занимался со мной редко, но зато регулярно заходил, ужинал с нами и беседовал с отцом. Он хорошо разбирался в стилях тенниса, в стратегии игры и хотел передать эти познания нам. Пит был прекрасным педагогом, и я многим ему обязан; особенно это касается подачи, с которой сопряжено немало сложностей. Пит и Дел Литтл придумали забавное словечко «Чонг». Господи, до сих пор не могу удержаться от смеха, когда о нем вспоминаю. Оно звучит таинственно, будто некий термин из области боевых искусств, а на самом деле обозначает исходную стойку при подаче и расположение ног под правильным углом. Я все не мог уловить этого, но было так занятно слышать от Фишера: «Теперь правильно, Чонг!»
Одна из особенностей моего игрового почерка — начало движения при подаче (некоторые игроки, в том числе и Шарапова, переняли эту мою манеру). Я ставлю левую ногу на заднюю линию, приблизительно в том направлении, куда подаю. Затем чуть откидываюсь назад и отрываю носок левой ноги от площадки, показывая, что сейчас буду подавать. Так меня научили Пит и Дел, потому что это каким-то образом обеспечивало расположение ног для «Чонга».
Не знаю, в «Чонге» дело или нет, но я выработал четкое, простое движение при подаче, и это стало серьезным достижением. Чем больше у вас сбоев и накладок при подаче, тем вероятнее неудача. Потом Пит часто говорил, что я, мол, очень «обучаемый». Но я был просто ребенком и вел себя соответственно — впитывал все, словно маленькая губка.
Еще одна важная заслуга Фишера состояла в том, что он научил меня маскировать тип подачи. По его сигналу я посылал мяч вверх, а он показывал, куда мне бить, с какой подкруткой или вовсе без нее. Мои соперники потом говорили, что им трудно угадать, куда пойдет моя подача или как будет вращаться мяч. Все это — достижение Пита.
Со временем я разработал запястье, и оно приобрело особую «гибкость», то есть я мог его поворачивать так, чтобы одним основным движением выполнять подачи разного типа. Единственное исключение составляла крученая подача с высоким отскоком. Чтобы придать мячу сильное вращение, нужно подкинуть его дальше назад и влево, а это, конечно, скрыть нельзя. Но даже при такой подаче я не обнаруживал свое намерение столь явно, как большинство игроков.
Ларри Исли вступил в игру, когда я отказался от удара слева двумя руками и начал использовать подачу для выхода к сетке. Мастер ударов с лета, он здорово выручил меня. У нас были серьезные сомнения и колебания во время перехода к новой технике (об этом я расскажу позже). Члены Клуба Крамера считали, что я поступаю глупо, меняя удар слева, особенно когда в результате мой соперник Майкл Чанг приобрел заметное преимущество надо мной. Вот пока и все о моих тогдашних достижениях.
В детстве у меня не было героев — ни теннисных, ни иных. Я не вешал в своей комнате плакаты, не собирал с одержимостью фаната автографы или сувениры. Но теннис стал семейным делом, потому что я занимался им всерьез. Мы вместе смотрели дома все финалы турниров «Большого шлема». Однажды наш телевизор перестал работать. Стало ясно, что его не починить, и тогда отец вызвался своими силами помочь нашему общему делу. Мы все поехали в Клуб Джека Крамера к шести утра, чтобы посмотреть финал Уимблдона. Это было словно большое семейное приключение, которое мне хорошо запомнилось.
Иногда после обеда Пит Фишер приводил к нам Дела Литтла, обладателя большой коллекции старой теннисной хроники. Отец доставал столь же древний 16-миллиметровый проектор, Дел наводил его на белую стену нашей столовой, и все мы — отец, Пит, Дел, Стелла и я — смотрели финальные встречи таких великих игроков, как Род Лейвер, Кен Розуолл и Лью Хоад. У Пита тоже были пленки с Родом Лейвером, и я помню, как Лейвер перемещался по корту на стене нашей столовой. Его ровная, плавная игра производила яркое впечатление даже в зернистом черно-белом изображении.
Утром, к восьми часам, я ходил в школу Виста-Гранде и занимался там до полудня. Потом мама забирала нас и доставляла домой. Я ел, переодевался, к трем ехал в Клуб Крамера и там играл сет или два с теми, кого заставал в тот день. Способных ребят было много — в этом теннисное преимущество Калифорнии! — и партнеров мне хватало с избытком. Вот с кем я играл: Мелисса Гарни, Джой Лэдэм, Пит Фицпатрик, Том Блэкиор, Эрик Эменд и другие. Гарни и Эменд сделали профессиональную карьеру. Прочие так и остались талантливыми любителями. Два дня в неделю у нас в клубе проходил теннисный семинар, а в остальные дни я тренировался, и чем дальше, тем больше. Мой день заканчивался в семь вечера. Я ужинал дома, делал школьные уроки, шел спать и вставал утром, чтобы начать все с начала.
Жизнь моя подчинялась режиму, со временем все более жесткому. Но если хочешь чего-то достичь, нужно отдавать этому все силы. Не стоит рассчитывать, как говорится, «объять необъятное». Невозможно совместить интенсивное общение, серьезную учебу и спорт так, чтобы все оказалось главным. Для постижения тенниса требуется масса сил и времени, и детские годы тут принципиально важны.
При этом нельзя сказать, что я пренебрегал школой. Нет, я был примерным учеником — пусть не отличником, но уж точно твердым хорошистом, даже с запасом. Я учился старательно, упорно, всегда входил в продвинутую математическую группу класса, поскольку формулы давались мне легко. Но уже тогда я не выказывал особой склонности к насыщенному эмоциональному общению. Зато я добросовестно читал — правда, и надоедало мне это довольно быстро. За всю жизнь я прочел, наверное, несколько десятков книг. Что мне действительно понравилось и запомнилось — это «Над пропастью во ржи», классический роман Дж. Д. Сэлинджера. Я открыл его в десятом классе, и мне было очень любопытно, что же произойдет с главным героем, Холденом Колфилдом, молодым человеком, крайне на меня не похожим, как вы уже догадались.
В школьные годы у меня не было «закадычных» друзей, как, впрочем, и времени для немногих приятелей. Свою долю общения я получал в Клубе Крамера. Мы, «теннисные дети», играли друг с другом, вместе ездили на турниры и в клубе чувствовали себя не хуже, а то и лучше, чем в школе. Такое ощущение сохранялось у меня все школьные годы.
В клубе, конечно, царил теннис, но бывали и развлечения — вечеринки с барбекю или нечто подобное. Игра у меня шла сама собой, и я чувствовал спокойную и, пожалуй, наивную уверенность, что все получится: я выиграю множество турниров, заработаю кучу денег, куплю красивую машину и массу прочих вещей, которые, как потом выяснилось, ровно ничего для меня не значили. В этом смысле я ни разу ни в чем не разочаровался.
Потом я перешел из Виста-Гранде в среднюю школу Риджкрест. Теннисные занятия и тренировки шли своим чередом, а когда настало время переходить в старшие классы, обстоятельства сложились так, что в значительной мере определили мое будущее.
Большинство учеников из Риджкреста перевели в среднюю школу в Роллинг-Хиллз, а Гаса и меня по неизвестным причинам направили в такую же школу в Палос-Вердес. Если бы я попал в Роллинг-Хиллз, то оказался бы среди прежних однокашников. А здесь я никого не знал. Между тем занятия теннисом отнимали все больше времени, и я практически не имел шансов завести новых приятелей.
Обычно я возвращался домой из школы в 11:30. Компании у меня не было — ведь приятели остались в Роллинг-Хиллз. Мои интересы ограничивались домом и Клубом Крамера. Я был застенчивым с самых ранних лет, а по мере взросления моя замкнутость только росла. Если другие думали о совместных развлечениях или свиданиях, то для меня наступил совершенно особый период. Девочками я не интересовался и помышлял только о теннисе. Стелла вела не столь однообразную жизнь: ходила на свидания, вечеринки, гулянья. Но мне это было ни к чему. Я не претендовал на роль вожака в классе и хорошо знал, кто я и кем стану — теннисистом. В школе меня прозвали «теннисным мальчиком».
В моей школе теннис, несмотря на обилие талантов в округе, был менее популярен, чем футбол. Я играл в футбольной команде и за два года не пропустил ни одного матча. Но существовал я в некоем одиночестве — если не по собственному выбору, то в силу обстоятельств. Отчасти это объяснялось отсутствием времени на общение. С другой стороны, меня не слишком интересовало, чем занимаются все остальные. Я никогда ни с кем не соперничал и вообще не сравнивал себя с другими. Я не вступал в конфликты и не завидовал защитнику нашей футбольной команды — важной персоне по школьным меркам. Я пребывал в какой-то иной реальности, лишь изредка пересекавшейся с обыденной жизнью старшеклассников.
В Палос-Вердес было немало весьма состоятельных людей, и некоторые дети усвоили умонастроение подросткового «ничегонеделания». Они не имели цели, не знали, чем себя занять, зато свои материальные запросы и прихоти удовлетворяли без труда. Реалии повседневной жизни их словно не затрагивали, не считая социального школьного статуса или альтернативной иерархии, существовавшей среди детей бунтарского склада. Кое-кто из ребят во время перерыва на завтрак покуривал «травку», да и вообще чувствовалась атмосфера «подпольной жизни»; но меня все это ничуть не увлекало. Тут теннис мне здорово помог — уберег от глупостей, притупил подростковые страхи и комплексы.
Зная теперь, как замкнуто я жил, вы можете счесть меня своего рода теннисным роботом. Но это неверно, поскольку я действительно любил свое главное занятие. Конечно, бывали дни, когда что-то во мне бунтовало, и я не хотел заниматься, не желал по два часа отбивать мячи. Но в принципе я вполне охотно делал свое дело. И основная заслуга тут бесспорно принадлежит Питу Фишеру. Не отец говорил мне, что я должен идти тренироваться: именно Пит Фишер поддерживал мой энтузиазм. Отец отошел на вторые роли, а первую уступил Фишеру. Не помню, чтобы папа хоть раз мне попенял, когда я отлынивал от тренировки.
Конечно, какая-то часть моей души желала удовольствий, требовала того же, чем тешили себя другие дети, но я никогда не переживал серьезной внутренней борьбы. Я обладал твердым настроем и в плане тенниса ощущал какую-то внутреннюю поддержку. Конечно, меня порой подгоняли, но я никогда не чувствовал, что меня принуждают, — фактически я заставлял себя сам. Я понимал, сколько денег на меня уходит, по всей нашей жизни видел, что получаю львиную долю внимания. Сколько всего для меня делалось — к примеру, шестичасовые поездки на машине, чтобы я мог выступить на юниорском турнире «Кубок Фиеста». Я не замечал на лице отца ни малейшего неудовольствия, когда он день за днем снимал деньги в банкомате, чтобы заплатить за мои тренировки. «Вжик-вжик», вот так... Я сознавал, что деньги эти отнюдь не лишние. Я любил игру ради игры, но вместе с тем чувствовал себя обязанным добиться такого результата, который оправдал бы все жертвы и усилия родителей, брата и сестер, тренеров. Это было мое твердое убеждение.
Мои сверстники и даже учителя вряд ли представляли, на что я нацелился. Когда я начал выезжать на турниры, я иногда оставлял учителям письмо с объяснением, почему меня несколько дней не будет на занятиях. Наш преподаватель математики, мистер Эберхард, до крайности изумился, узнав из одного такого письма, что мне нужно на десять дней слетать в Южную Африку. Было нетрудно прочитать его мысли: «Да кто ты такой, что позволяешь себе десять дней не ходить в школу? Шансы, что из тебя выйдет великий теннисист, близки к нулю». Пожалуй, на его месте я подумал бы то же самое — шансы действительно стремились к нулю...
Я понимаю, в каком отношении жизнь «теннисного мальчика» может показаться унылой — она лишена удовольствий и подчинена режиму. У меня не было свиданий и дружеской компании. Я круглый год работал, тренировался. Но я сам сделал выбор и тогда был вполне доволен. У меня есть близкий приятель, актер Люк Уилсон, который ведет чрезвычайно активную светскую жизнь. Я не раз ему говорил: «Если бы мы познакомились, когда мне было двадцать пять, я выиграл бы всего-навсего шесть главных турниров — и то в лучшем случае!»
Когда я был игроком младшего возраста (от десяти до четырнадцати лет), то обычно воплощал собой покой и безмятежность. Но в пылу схватки с лучшими игроками, особенно при проигрыше, меня могло прорвать, и я начинал вести себя в не свойственной мне манере. Вы, пожалуй, не поверите, но тогда я кидал ракетку, не отходил от задней линии, бил слева двумя руками. И я всегда громко кричал — но скорее от радости и напряжения, нежели от разочарования. Помню, я играл с моим главным на тот момент соперником, Майклом Чангом, бил слева двумя руками и вопил — очень громко. То есть тогда я проявлял гораздо больше эмоций, чем потом, уже в профессиональном спорте.
Папа был человеком строгих правил. Я слышал, что легендарное самообладание Бьорна Борга выработалось вскоре после того, как его отец на несколько недель лишил сына ракетки, поскольку Бьорн слишком шумно вел себя на корте. Мой отец никогда не отнимал у меня ракетку, но я ощущал его неодобрение, да и недовольство Пита Фишера тоже, когда переходил границы, и эти важные для меня люди четко и ясно доводили свое мнение до моего сознания.
Переломный момент в моем развитии пришелся, наверное, лет на четырнадцать. Именно тогда Пит Фишер убедил отца, что мне пора переходить на удар слева одной рукой. Помню, Фишеру пришлось очень постараться, чтобы я ему поверил, поскольку двуручный удар выходил у меня совсем неплохо. Но Фишер умел повлиять на меня. Он всегда был уверен в себе, а во мне видел второго Рода Лейвера. Это означало, что я выиграю Уимблдон и начну выступать на быстрых травяных кортах, а стало быть, необходимо разработать удар слева одной рукой.
Чтобы понять, какой трудный и рискованный шаг мы сделали, нужно оценить его сквозь призму юниорского тенниса. Конкуренция на этом уровне яростная, ее не регулируют ни общественное мнение, ни дотошное внимание прессы. Схватки беспощадны, но принципу «кто кого слопает». Сумасшедшие родители, неистовые тренеры, ради победы готовые на все, способные на любую уловку, лишь бы их чадушко поднялось выше в рейтинге, привлекло внимание, добилось известности. Эта стратегия в какой-то мере эффективна. Можно задирать и запугивать соперника, подавлять его волю — для юниорских схваток это норма, но в профессиональном теннисе подобные приемы не приняты, да и не срабатывают. Кто пробился на высший уровень, тот уже не особо чувствителен к большинству видов психологического давления.
Переход на удар слева одной рукой принес очевидные неудобства — мне было очень трудно (в моем случае переучивание заняло два года). Ни один юниор в здравом уме, никто из тех, кого я знаю, не пошел бы на такой крупный риск. Ведь в юные годы характер и дух еще не закалены. Если внезапно перестаешь выигрывать и отступаешь назад, тут же все начинают шептаться у тебя за спиной, и ты непрерывно слышишь это шушуканье. Я уже не говорю о реакции родителей, которые непосредственно занимаются твоей карьерой.
Перед тем как я начал переходить на удар слева одной рукой, я очень напряженно соперничал с Майклом Чангом. Его родители, Бетти и Джо, — люди весьма напористые, но «поединок Джо Чанг против Сэма Сампраса» проходил без эксцессов. Несмотря на весь накал наших схваток, отцы быстро нашли общий язык. Помню, когда я встретился с Майклом в самый первый раз и выиграл в трех сетах, мой отец был не слишком доволен, потому что один сет я все же проиграл. Вернее, он вовсе не был доволен. Я уже позабыл, что он говорил мне тогда и в каких выражениях, но точно помню одно слово, которое с тех пор возненавидел: «погано». Отец сказал, что в проигранном сете я действовал погано. Очень неприятно слышать такое. Но если я заслуживал порицания, он неизменно заявлял: «Ты играл погано».
Перейдя на удар слева одной рукой, я стал проигрывать всем подряд, в том числе, разумеется, и Майклу. Это был кошмар. Когда тебе четырнадцать, трудно прозревать перспективу, а передо мной лежали очевидные факты: мы с Майклом играли примерно на равных; в нашем соперничестве я, возможно, даже слегка его опережал, пока не перешел на новый удар. И тут он начал меня громить. Жуткое ощущение.
Но еще хуже другое. Мы с ним были одногодками, но Майкл играл в своей возрастной категории, а я — «с опережением». То есть он выступал в группе «четырнадцать лет и младше», а я — в группе «шестнадцать лет и младше». Многие смотрели на меня неодобрительно: дескать, Пит так делает потому, что хочет легкой жизни. Он играет со старшими по возрасту, значит, от него нельзя требовать побед, а поражение всегда можно оправдать. Он перешел на одноручный удар слева, ему трудно, вот он и уступает парням, у которых нужно выигрывать. Это просто трусливая увертка.
Можно, конечно, взглянуть на проблему и по-другому. Я отлично знаю, какое напряжение испытываешь, когда от тебя ждут очередной победы над теми, у кого ты регулярно выигрывал. Мне это хорошо знакомо, потому что потом, в профессиональном теннисе, со мной неизменно так и случалось. А тогда, в юниорские годы, меня поддерживала только уверенность Фишера в том, что я не должен беспокоиться, какой у меня счет в играх со сверстниками. Мне нужно смотреть далеко вперед и думать о том, куда выведет меня моя игра в конечной перспективе. Фишер упорно стоял на своем, и отец ему верил.
Для нас самым главным всегда было вести правильную игру, постоянно ее совершенствуя. Этому принципу я следовал в течение всей карьеры. Мы сознательно шли на риск. Если ожидания не оправдаются, значит, я оказался недостаточно хорош или поставил себе невыполнимые задачи. А многие мои сверстники напоминали отчаянно голодных людей, без разбора поглощающих все съестное подряд. Они не думали о будущем, жили только сегодняшними результатами, не отдавая себе отчета в том, что вещи, подходящие для юниоров (например, бесконечный обмен несильными навесными ударами), в профессиональном спорте могут оказаться бесполезными.
Есть и еще один фактор. В юниорском теннисе главное испытание — избежать стресса, который может оказаться весьма глубоким, особенно на национальных турнирах (самых важных юниорских соревнованиях, открытых для воспитанников всех юношеских секций Теннисной ассоциации США — United States Tennis Association, USTA). Приняв решение об улучшении своей игры, я не очень волновался по поводу побед. Я хочу объяснить начинающим теннисистам: в их возрасте я прежде всего заботился не об очках, а о том, чтобы играть хорошо, играть «правильно». Поэтому я мог не только получать удовольствие от процесса игры, но и совершенствовать ее в силу своих возможностей.
Однако вернемся к прерванной истории. Осваивая новую технику, я все яснее видел, какое тяжелое бремя возложили на себя некоторые мои сверстники, одержимые желанием побеждать во что бы то ни стало, и как это отразится на их спортивной карьере. Могу заявить со всей уверенностью: на меня никогда не давили ни отец, ни Пит. Мне никогда не говорили: «Ну-ка, давай, ты просто обязан выиграть эту встречу».
Еще один полезный побочный эффект моих выступлений в старшей возрастной группе и перехода на новую технику состоял в том, что я научился проигрывать. Тот, кто хочет стать чемпионом, не должен думать о поражении — в этом я никогда и не сомневался. Но я освоил и умение проигрывать так, чтобы не утратить уверенности в себе. Это очень пригодилось мне впоследствии, и не только в общей перспективе, но даже в конкретных встречах, когда на меня сильно давили. Страх поражения парализует игрока.
Наверное, теперь вам легче понять, как у меня выработалась одна черта характера, очень помогавшая мне на протяжении всей карьеры, хотя мало кто ее замечал (потому, вероятно, что она теснее связана с тем, чего я не делал, нежели с тем, что я делал): мне всегда «хватало дыхания», во всяком случае, насколько я себя помню. Поймите меня правильно. У меня выпадали неудачные дни, случались встречи, когда я был сам не свой — из-за переутомления или потому, что не мог найти свою игру. Иногда мне не хватало настроя, и я проигрывал. Однако «нехватка дыхания» — совсем другое дело. Это когда ты объективно можешь выиграть, но внезапно чувствуешь полный упадок сил или духа. Такого со мной не бывало — уверен, именно потому, что я никогда не боялся проиграть.
Мне нисколько не вредило то обстоятельство, что, при моей способности собраться и настроиться на борьбу в решительный момент, я обычно ничего не принимал близко к сердцу и не особенно переживал по поводу поражений. Завсегдатаи Клуба Крамера дали мне прозвище «Зубоскал». Мартин Блэкмен, бывший игрок Стэнфорда, сделавший хорошую профессиональную карьеру, помнит, как играл со мной в финалах утешительного раунда на одном и том же турнире два года подряд. В первый раз, когда я еще использовал двуручный удар слева, я выиграл. На второй год, когда я уже перешел на удар одной рукой, он меня разгромил. Но оба раза, по его словам, я подбегал к сетке, чтобы пожать ему руку после игры, с одной и той же нелепой, словно приклеенной улыбкой. Не хочу сказать, что результат решительно ничего для меня не значил. Просто я верил своим наставникам и к поражениям относился легко.
Это, конечно, банальность, но нельзя забывать, что все люди разные. Нет никакой универсальной, равно пригодной для всех методики развития. Если бы она существовала, с десяток или больше игроков красовались бы на верхней строчке рейтинга, имея по два «Больших шлема» каждый. Я далеко не уверен, что, скажем, Майкл Чанг сильно выиграл бы от перехода на одноручную игру слева или благодаря ей победил на Уимблдоне. Для этого нужно совпадение множества различных факторов.
Я хочу сказать вот что: нужно наблюдать за своей игрой и смотреть далеко вперед — куда могут вас привести ваши природные спортивные данные через пять, десять, пятнадцать лет? При небольшом росте Майкла и темпе его передвижения нелепо прививать ему игру с выходом к сетке после подачи, требующую большого расхода сил. Было на двести процентов ясно, что наилучших результатов он добьется у задней линии, отбивая мячи с отскока.
Темперамент и характер у всех людей тоже разные. Податливы вы или тверды? Терпеливы или склонны к риску? Нуждаетесь во внимании и одобрении или способны упорно работать, стиснув зубы, и выигрывать вопреки всему? Достаточно у вас душевных сил, чтобы справиться с поражением, или вам нужен запас уверенности, приносимый регулярными победами? Есть у вас прочие качества, порой совершенно не связанные с тем, как вы бьете по мячу или держите ракетку, без которых трудно сделать карьеру, достойную Зала славы?
При всех трудностях переучивания, которое превратило меня из двуручного отбивалы, приклеенного к задней линии, в универсального игрока, я получал и немало удовольствия. Мне нравилось путешествовать и жить в отелях. Тамошний сервис я считал просто классной штукой. Папа был поклонником ресторанной сети Denny’s, где акт приема незатейливой пищи в обшитых узорчатой искусственной кожей кабинках, с ламинированным меню в руке, казался мне настоящим пиршеством. Вдобавок рядом со мной находилась Стелла. В некоторых отношениях она испытывала те же трудности, что и я (хотя и была на два года старше). Она отличалась добротой, служила мне примером для подражания и источником приятных эмоций.
В моей Южнокалифорнийской секции имелись отличные игроки. Кроме Майкла Чанга, был Джефф Таранго и еще несколько. Из них формировалась команда для участия в национальных турнирах, например в Восточном Кубке. Но когда я играл на главном турнире Южной Калифорнии — в Уиттере, то Чанг, Таранго и прочие из их компании становились моими главными соперниками.
Отец находил общий язык практически со всеми. Никто не говорил о Сэме Сампрасе ничего такого, что мы порой слышали о других родителях. Он никогда не вступал с папашами конкурентов в словесную перепалку (не говоря уж о рукопашной), неукоснительно «держа планку». А я был покладистым ребенком.
Я тогда, конечно, не знал, что ждет меня в будущем, то есть чего именно я добьюсь. Свое призвание я видел в теннисе, но в пятнадцать-шестнадцать лет лишь пытался нащупать свою игру. Пит Фишер учил меня играть с выходом к сетке, и хотя я не показывал стремительного прогресса, Гленн Бассетт, тренер Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, наметил меня кандидатом в свою команду «Брюинс». Это было лестно, но объективная реальность пока заключалась в том, что я еще не выигрывал национальных первенств. Я лишь добился неплохих результатов в своей секции Теннисной ассоциации США (возможно, одной из самых сильных в стране), но не более того. К тому же я стремился не столько побеждать, сколько совершенствоваться. Я безоговорочно верил в Пита Фишера и в то, что он творил с моей игрой.
Во многих отношениях самым мощным (хотя и скрытым) стимулом моего развития был отец. Его суждения и наставления очень много для меня значили. Помню, в двенадцать лет я играл с Дэвидом Уитоном, который был чуть старше. Я победил Уитона (он потом стал крепким профессионалом) на грунтовом корте во втором раунде национального первенства, где он был посеян под вторым номером. Я очень собой гордился, и местный репортер взял у меня интервью. Настроение великолепное — казалось, весь мир у меня в кармане.
На следующий день, на том же самом корте, я проиграл Мэлу Вашингтону со счетом 6:1, 6:0. Он просто преподал мне урок тенниса. После встречи тот же самый репортер подошел уже к Мэлу и взял интервью у него. Папа отвел меня в сторону и сказал: «Видишь того типа? Он говорил с тобой вчера. А теперь беседует с Мэлом. Вот и пойми: мало быть на высоте один день — нужно быть на ней ежедневно».
Таков был папа: он всегда схватывал суть дела на лету. В конце концов стал таким и я. Назовите это реализмом, прагматизмом — чем угодно. Какая разница? Проиграв в тот день Вашингтону, я расстроился, и папа решил подлить немного масла в огонь, чтобы я хорошенько усвоил урок. Я сыграл «погано». Но вчерашний день уже не актуален. Важно то, что происходит сегодня, и то, что случится завтра.
Глава 2 Волшебная сказка Нью-Йорка 1986–1990
Путь к вершине теннисного рейтинга оказался для меня не слишком извилистым, и я двигался по нему довольно быстро благодаря созданным мне прекрасным условиям для совершенствования игры. Конечно, подъемы чередовались со спадами, но при этом основная моя задача состояла в том, чтобы внутренне окончательно перестроиться с оборонительного стиля игры на атакующий. А для этого, помимо прочего, мне нужно было усвоить новое теннисное мышление.
Игрок оборонительного стиля может не проявлять активности. Он дожидается вашей ошибки, пытаясь заставить вас торопиться с завершением розыгрыша очка.
Атакующему игроку приходится думать больше. Какую выполнить подачу: плоскую или крученую? Выйти к сетке или завершить розыгрыш очка ударом с отскока? Как обмануть принимающего соперника изменением направления и типа подачи?
Основное различие между атакой и защитой в том, что первая требует плана действий, а вторая — хорошей реакции и умения обороняться. Конечно, в обоих случаях очень важна техника выполнения ударов.
В раннюю пору я пытался атаковать при очень посредственной подаче. Она у меня окончательно наладилась только во второй половине 1989 г.
Вы, наверное, видели, как в крикете подающий посылает мяч мощным круговым движением? Пусть я преувеличиваю, но моя подача тогда смотрелась примерно так же. Я, конечно, посылал мяч в нужное место, с достаточно хорошей скоростью и вращением, но свободной, резкой, «взрывной» подачи у меня не было — этому еще предстояло учиться.
По мере того как я осваивал наступательную игру, мне открывалось важное обстоятельство: именно этот стиль соответствовал моим способностям и складу характера.
Но ставка на атаку, в результате чего изменились вся моя игра и позиция на корте, требовала повышенного атлетизма. И тут я допустил одну существенную ошибку. Излишне полагаясь на свои природные данные, я ослабил внимание к физической подготовке.
Конечно, тут сыграли роль и естественные факторы, возникающие при вступлении в юношеский возраст. К шестнадцати-семнадцати годам я стал более замкнутым. У меня возникло ощущение уязвимости, умножились душевные переживания, и это отразилось на игре. Процесс возмужания шел довольно долго, и все это время в плане тенниса я фактически топтался на месте. Тем не менее я уже кое-что умел — вполне достаточно, чтобы прощупать почву на профессиональных соревнованиях.
Мой дебют состоялся в 1988 г., когда мне еще не исполнилось семнадцати, в Филадельфии, на профессиональном турнире в закрытом помещении.
Это было подходящее место для появления на сцене. Турнир в Филадельфии — престижные соревнования с богатыми традициями. Руководители турнира Эд и Мэрилин Фернбержер — представители старой школы, члены теннисного истеблишмента. Они поддерживали высокий статус соревнований. Этот профессиональный турнир был знаменательным событием в зимнем спортивном календаре Филадельфии и всегда привлекал повышенное внимание любителей тенниса. Соревнования проходили в феврале, на пещерообразной арене «Спектрум» (вмещавшей семнадцать тысяч зрителей) — в ту пору домашнем стадионе местных команд: хоккейной «Флайерз» из НХЛ и баскетбольной «76» из НБА.
Супруги Фернбержер были давними и преданными поклонниками тенниса. Они наладили нужные связи и постепенно заручились поддержкой лучших игроков, включая таких теннисных кумиров, как австралийцы Род Лейвер и Кен Розуолл. Бывших чемпионов руководители турнира всегда приглашали в качестве почетных гостей. Во время турнира клубный ресторан всегда был открыт до трех, а то и четырех утра. Там участники соревнований, организаторы и журналисты могли в непринужденной обстановке общаться друг с другом и именитыми гостями — Доном Баджем, Виком Сейксасом, Джоном Ньюкомбом. Чтобы придать турниру дополнительную значимость, супруги Фернбержер обычно приглашали полный самолет английских репортеров.
В феврале 1988 г. я отправился в Филадельфию, получив право выступить в квалификационных соревнованиях. Для победителей «квалификации» было зарезервировано несколько мест в основном турнире. Квалификационный турнир проходил обычно в местном теннисном клубе или в большом гимнастическом зале. Зрителей эти встречи почти не привлекали, ведь участвовали в них спортсмены среднего уровня — стареющие ветераны да перспективная молодежь, полная желания заявить о себе.
Я пробился через квалификационные состязания и испытал необычайный прилив эмоций, выйдя на арену «Спектрум», чтобы потренироваться уже в качестве участника основного турнира.
Крашеные бетонные коридоры, ведущие на арену, были обклеены плакатами с изображениями Брюса Спрингстина, Рода Лейвера, Элтона Джона и прочих знаменитостей. Организаторы турнира возместили мои расходы — отель, питание, транспорт, и это тоже было здорово. Однако эйфория продолжалась недолго. В первом же круге я проиграл Сэмми Джаммалве. Но все равно я уже почувствовал вкус успеха.
Через несколько недель мы с Гасом поехали в Индиан-Уэллс. Остановились в каком-то мотеле — паршивом, убогом заведении, где машины парковались прямо напротив нашей двери и постоянный шум не давал спать.
В Индиан-Уэллс я опять прошел квалификационный турнир, и мне, уже как участнику основных соревнований, дали бесплатный номер в фешенебельном отеле «Хайатт Гранд Чемпионз». Гас и я ощущали себя везунчиками, только что сорвавшими джек-пот в Лас-Вегасе. Когда мы вошли в номер, у нас челюсти отвисли при виде корзины фруктов, предназначенной для новых постояльцев. Полотенца были большими и пушистыми. Мы плюхнулись на кровать, смотрели кабельное телевидение и фильмы по заказу, грызли фисташки — абсолютно бесплатные, они попросту там лежали! Еще никогда я не чувствовал себя таким счастливым.
В Индиан-Уэллс я победил Элиота Тельтшера и Рамеша Кришнана, входивших в первую мировую двадцатку. Дело, кажется, пошло! Меня заметили, и вскоре я стал получать wild cards — резервные места в основной сетке турнира. Ими ведает распорядитель соревнований, который может дать место бывшей звезде, игроку, только недавно оправившемуся от травмы, перспективному местному юниору и вообще кому захочет. На турнирах «Большого шлема» резервируются 8 мест из 128, на менее крупных — меньше. Если у вас. есть wild card, вам не нужно тратить силы и нервы на квалификационный тур. Кроме того, вам гарантированы призовые (даже проигравшим в первом круге, чего им вполне хватает для возмещения расходов на поездку).
В то время wild cards стали для распорядителей турниров важным инструментом, помогающим завязать отношения с перспективными игроками. Если вам досталось такое приглашение (а начинающие профессионалы ценили их на вес золота), то вы получаете все привилегии, положенные участникам основного турнира: бесплатный номер в хорошем отеле, бесплатное питание, машину с водителем, набор всяких полезных вещей и сувениров. Директор турнира может на славу угостить вас и ваших родителей, чтобы произвести хорошее впечатление, вызвать чувство признательности и желание выступить на этих соревнованиях еще раз.
Когда я выиграл у Тельтшера, в то время уже очень известного в Индиан-Уэллс, агенты положили на меня глаз. Пит Фишер не замедлил войти в круг «нового светила», чтобы «погреться в лучах моей славы». Тогда я уже знал, что Глен Бассетт, тренер теннисной команды Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, был немало разочарован тем, что я вовсе не собирался поступать ни в его университет, ни в какой-либо еще. Жребий был брошен, и теперь вопрос заключался лишь в том, когда же я приобрету статус профессионала. Мы решили сделать этот шаг сразу же после того, как я победил Кришнана.
Для меня это означало полную смену образа жизни. Кто будет меня сопровождать? Что мне нужно подписывать? Где я буду играть — сейчас и в следующий раз? Я в этом совершенно не разбирался и представлял ситуацию примерно так: «Ладно, вот теперь я профессионал, а дальше что?» Но отец и Пит Фишер взяли дело в свои руки, и оно быстро пошло на лад.
В самом начале моей профессиональной карьеры я часто говорил себе: «Пойми, да ведь это полезнейший опыт!..» Так я пытался защититься от чрезмерного стресса, поскольку почти мгновенно попал из огня да в полымя. Еще вчера я был приличным любителем, растущим не слишком быстро, — и вдруг стал настоящим профи «с парой неплохих скальпов на поясе» и букетом всевозможных надежд. Я играл хорошо, но не настолько, чтобы показывать на профессиональных турнирах ровную игру. У меня оставалась масса прорех, и все их я должен был «зашивать», убеждая себя: «Какой же это бесценный опыт...»
Летом 1988 г. я окончил школу и поехал на какой-то турнир. Даже не помню точно, где я тогда играл, но в парном разряде моим партнером был Джим Курье, и мы с ним что-то выиграли. С Джимом мы познакомились в шестнадцать лет, на юниорском Кубке Дэвиса, и выбрали одно и то же агентство, International Management Group (IMG). Представлял наши интересы Гэвин Форбс, тогда еще молодой парень; его дядя Гордон недурно играл и написал классическую книгу о взлете любительского тенниса — «А Handful of Summers» («Прекрасные годы»).
Гэвин интуитивно почувствовал, что Джиму и мне пойдет на пользу дружба, которую я по своей застенчивости сам предложить ему не решался, и организовал для нас совместные тренировки во Флориде. В сравнении со мной Джим был игроком искушенным и опытным. Он проложил себе путь в жесткой борьбе, в престижной Теннисной академии Ника Боллеттьери, в те годы, когда уже проявлял свой неукротимый нрав Андре Агасси. Самое же главное, Джим был талантлив, честолюбив и наделен невероятной работоспособностью.
Мы с Джимом подружились. Он наглядно показал мне, сколько усилий нужно приложить, чтобы поддерживать игру и физическую форму хотя бы на приемлемом уровне. Мы работали с мячом по три-четыре часа, бегали для укрепления ног и повышения скорости, занимались в тренажерном зале, развивая мускулатуру. Все это было для меня в новинку, и я старался подражать Джиму. Мы жили в Теннисной академии, и там Джим познакомил меня с Джо Брэнди, профессиональным игроком и тренером. Я начал брать у него уроки (правда, на неофициальной основе), поскольку Пит Фишер по-прежнему был занят своей медициной.
В течение двух следующих лет я получал помощь от многих людей. Тогда на меня уже обратили пристальное внимание люди из Теннисной ассоциации США. В ее задачи входит поддержка молодых талантов, поэтому Ассоциация организовала мне серию последовательных стажировок у разных тренеров. В Палм-Спрингс я занимался с Хосе Хигейрасом, специалистом по грунтовым кортам. (Хосе потом тренировал Джима Курье и привел его к славным победам на Открытом чемпионате Франции.) В Джексонвилле (Флорида) со мной работал Брайан Готфрид, представитель старой школы, предпочитавший подачу с выходом к сетке (как, впрочем, и я). С ним я шлифовал различные аспекты атакующего стиля. Утром мы полтора часа тренировались, днем играли, и так до четырех часов, после чего Брайан отвозил меня на квартиру, которую мне сняли. Стажировка длилась три недели. Здесь было совсем не так, как в Клубе Крамера, — мне приходилось гораздо труднее, и чувствовал я себя более одиноким.
Очень быстро, уже в 1989 г., я закрепился в сотне лучших игроков мировой классификации. Первым действительно большим успехом в моей профессиональной карьере стала победа над Матсом Виландером во втором круге Открытого чемпионата США, где он защищал свой титул. Матс — образец «правильного парня», превосходный командный игрок. Сейчас, когда я пишу эти строки, он по-прежнему капитан шведской команды в Кубке Дэвиса.
Но за типичными для шведа любезными, спокойными, скромными манерами скрывался один из самых жестких, упорных и неустрашимых бойцов Открытой эры. Матс доказал это в 1988 г., когда впервые после Джимми Коннорса (1974) выиграл три из четырех главных турниров за один год (только Уимблдон ему не покорился). Побеждать Матсу помогали ум, воля и уверенная, гибкая игра на задней линии.
Встреча с Матсом во втором круге стала моим первым появлением на арене имени Луи Армстронга, в Национальном теннисном центре Теннисной ассоциации США. Мы играли вечером, и я не мог сдержать волнения. Я знал, что нас будет окружать толпа тысяч, наверное, в восемнадцать (места на арене только стоячие), и что нью-йоркские болельщики отличаются буйным нравом.
Я немного побаивался: ведь я был еще совсем «зеленым» в эмоциональном, интеллектуальном, да и чисто техническом плане. Удар справа (лучшее мое оружие) еще не набрал полную силу, и если взглянуть на вещи объективно, то ничего, достойного называться ударом слева, у меня тогда попросту не было. Но внезапно выяснилось, что одна вещь все же у меня есть — подача. В 1989 г. я вдруг начал подавать навылет. Не спрашивайте как, потому что внятно ответить я не смогу.
Пит Фишер и Гэвин Форбс приехали на мой матч. Благодаря хорошим подачам я победил, выиграв пятый сет 6:4. Успех был крупным и в известном смысле многообещающим — ведь мой напор не смог остановить даже Матс со своей умной и мощной игрой. Помогли мне и некоторые побочные обстоятельства. Отец Матса в тот момент страдал от обострения хронической болезни, а сам Матс чувствовал переутомление после исключительно успешного, но трудного сезона 1988 г. Он явно «перегорел» и вскоре после Открытого чемпионата США начал резко опускаться в мировой классификации.
После матча моя маленькая команда возвращалась на Манхэттен по Гранд Сентрал Парквэй, и Гэвин сказал: «Знаешь, ты ведь завтра попадешь во все газеты!» А я подумал: «Ладно, это здорово, но дальше-то что?»
А дальше я выиграл еще один круг, а потом уступил Джею Бержеру, взяв только восемь геймов в трех сетах. Но я сказал себе: «Матс из пятерки лучших, он защищал в Нью-Йорке чемпионский титул. Я же до сих пор был начинающим, мало кому известным игроком, а теперь — и во время матча и после — на меня обратили внимание и зрители и пресса».
Быстрые перемены, связанные с неожиданным успехом, грозили разрушить мой привычный распорядок жизни. Пит Фишер, занятый своей медицинской практикой, не мог, конечно, все бросить, чтобы ездить со мной. Но он любил популярность и с удовольствием принимал похвалы за то, что поставил мою игру. Как только Фишер увидел, что я становлюсь именно таким игроком, как он предрекал, он явно возгордился и вместе с тем возревновал. Его надо понять: он находился дома, в Калифорнии, а я тренировался во Флориде у людей, куда более авторитетных, чем Фишер. Думаю, он опасался, что его оттеснят в сторону, и потому старался наложить руку на все, хотя не стал (да и не мог стать) моим настоящим тренером. К тому же он желал вознаграждения за свои труды.
Еще до моей победы над Виландером Пит начал выставлять требования — почти астрономические. Он хотел получать 25 процентов от моих гонораров в турнирах «Большого шлема» и 50 процентов от прочих. Короче, он стремился иметь долю во всем. Однажды вечером Пит зашел к нам домой (в Калифорнии) и начертал свои условия на бумажной тарелке: если я выигрываю все четыре турнира «Большого шлема» за год, он получает уйму наград, включая дорогущую машину «Феррари». Все это было перечислено на тарелке! А еще я помню статью в журнале «Tennis», где напечатали фотографию Пита, сидящего в кресле в стиле ампир, в кепке с эмблемой... «Феррари».
Тот вечер, когда Пит исписал тарелку, был каким-то «сюрреалистическим». Я помню его в мельчайших деталях. Пит сильно повздорил с моим отцом, и всем это было очень неприятно, поскольку он, в сущности, был членом семейства и никто не хотел портить с ним отношения. Мы понимали, как много он для нас сделал, чувствовали благодарность, но невнятные условия долгосрочного сотрудничества, которые он мог предложить, ни в коей мере не соответствовали его материальным требованиям. Поняв, что уступать мы не намерены, Фишер едва не послал все к дьяволу. На самом деле это было попросту смехотворно. Помню, я подумал: «Мне всего-то семнадцать, я пока едва справляюсь с мячом на корте, а Пит хочет, чтобы я за год выиграл „Большой шлем“ (за всю историю тенниса это удалось лишь двум спортсменам), ему же подавай „Феррари"!» Но главная нелепость заключалась в том, что Пит, по сути, вовсе не нуждался в деньгах. Он был преуспевающим врачом с обширной практикой, жил в особняке на участке в пять акров.
«Вечер бумажной тарелки» положил конец нашему сотрудничеству. Трезво рассудив, отец решил отказаться от услуг Фишера — не только из-за его непомерных запросов, но и по другой, пожалуй, более веской причине. Отца беспокоило, что я слишком зависим от Фишера и это вредит моему развитию. Мне уже пора выйти в мир и самостоятельно учиться строить с ним отношения.
Когда разрыв с Фишером стал реальностью, я решил нанять себе личного тренера-консультанта и остановил выбор на Джо Брэнди. Все складывалось очень удачно: я жил в Теннисной академии Ника Боллеттьери, а Джо вел там тренировки. У него были тесные отношения с Джимом и его тренером Серджио Крузом. Поэтому мы проводили много времени вчетвером, в том числе в разъездах.
Тогда я уже хорошо представлял достоинства Джо. Когда он начал ездить со мной, лет ему было уже порядочно — наверное, за пятьдесят. Моя жизнь меня абсолютно устраивала. Джим и я вместе тренировались и вместе выступали в парном разряде (в 1989 г. мы выиграли Открытый чемпионат Италии). После тренировок или матчей мы вчетвером ходили обедать. Не могу сказать, что мы с Джо стали близкими друзьями — он ведь был гораздо старше меня. Но дружба с Джимом пошла мне на пользу — мне нужно было взрослеть, а Джим в качестве приятеля и сверстника чрезвычайно упростил «эволюцию».
То, чего я уже добился, распахнуло передо мной новые двери. В конце 1989 г. мне позвонил Иван Лендл и пригласил погостить у него в Гринвиче, Коннектикут (это слово он выговаривал на свой манер: «Коннект-э-кут»). Тогда он был первым игроком мира и жил в огромном особняке. Когда я вошел в гостиную, Иван представил меня своей жене Саманте, показал собак (Лендл разводил немецких овчарок) и устроил экскурсию по своим владениям. Потом я восторженно описал отцу все увиденное, а он в ответ лишь спокойно заметил: если я стану работать как Лендл, то и жить, наверное, буду не хуже.
Иван имел репутацию и внешность «железного человека», а временами казался даже свирепым — со своим рубленым чешским акцентом и жестким выражением лица. Но я в его доме чувствовал себя вполне комфортно. Со мной он был любезен и заботлив. Меня просто поразило, когда я узнал, что всю нашу неделю он заранее распланировал: во сколько вставать, тренироваться, есть, спать. Сам Иван всегда вставал в шесть утра и свой режим соблюдал неукоснительно. Подобная жизнь кому-то покажется чересчур «механической» (во всяком случае, многие так считают). Но Иван был просто воплощением собранности — он точно знал, чего хотел и как этого добиться.
В те дни я помогал Ивану готовиться к предстоявшему в конце года заключительному турниру серии «Мастерс», на котором выступали лучшие игроки года. Потом он был преобразован в финальный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (Association of Tennis Professionals, ATP), а в конце концов стал называться просто Чемпионатом АТП.
Иван много говорил о том, как упорно нужно работать. Я-то пока еще в основном плыл по течению; наверное, почувствовав или поняв это, он просто хотел мне объяснить, чего требуют великие победы. Иван подробно расспрашивал о моей игре и вообще о планах на жизнь.
На меня произвело впечатление то, как Иван работал над собой. Через день или два мы с ним поехали кататься на велосипедах и сделали, вероятно, миль тридцать по холоду и слякоти, хотя перед нами шла машина сопровождения, теплая и уютная.
Иван тогда был первой ракеткой мира, и я не мог понять, чем ему приглянулся. Вряд ли он стремился быть моим наставником — забот у него и так хватало. Скорее всего, он просто хотел понять, что я собой представляю и на что способен, поскольку я уже явно претендовал на первые роли в мировом теннисе. К тому же Иван смотрел в будущее — подумывал заняться спортивным менеджментом. У него была предпринимательская жилка, и он уже приобрел несколько теннисных клубов. Возможно, он видел во мне потенциального клиента.
Несколько месяцев спустя, в 1990 г., я вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, а еще через несколько недель встретился с самим Иваном в полуфинале крупного турнира на закрытых площадках в Милане. Первый сет я выиграл довольно легко, но потом Иван просто затоптал меня. Это был совсем не тот предупредительный Лендл, с которым я тренировался у него дома, а совершенно незнакомый свирепый субъект. Увидев, как лихо я начал, он постарался сбить темп, и это в немалой степени помогло ему предугадывать мои действия. Молодые азартные игроки вроде меня в пылу схватки забывают и о стратегии, и о тактике.
До этой встречи я почти не встречал соперников, способных ошеломить меня своей игрой. Но Иван оказался на голову выше меня. У него были сногсшибательный удар справа и мощная подача. Он мог неподражаемо «выстрелить» своим подкрученным одноручным ударом слева или послать точный резаный удар справа. В нужные моменты он так взвинчивал темп и так умело обрабатывал мяч, что я чувствовал себя попросту загнанным. Я даже не успевал выровнять игру и занять правильную позицию для самого обычного обмена ударами. После встречи мне казалось, что я контужен. Или будто на меня набросился тигр и растерзал в клочья (хотя прежде мне симпатизировал...).
В 1990 г. в Филадельфии фортуна проявила ко мне благосклонность. На этот раз я выиграл все встречи. После схватки с Андре Агасси за вход в четвертьфинал — он прекратил игру из-за желудочных колик при счете 7:5 в мою пользу — я убедительно переиграл Андреаса Гомеса, который был на подъеме (позже, весной, он выиграл турнир «Большого шлема» в Париже, первый и единственный). Мое место в мировой классификации неуклонно повышалось!
В последующие месяцы я продолжал выступать в различных турнирах, но был еще явно не готов к соревнованиям на грунтовых кортах, кульминацией которых является Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос». В тот год я сыграл лишь на одном из европейских весенних турниров на грунтовых кортах — в Мюнхене, где меня «отделал» представитель когорты шведских «дьяволов», Йонас Свенссон.
Потом начался летний цикл игр на травяных кортах, и я, несмотря на неприязнь к травяному покрытию, выиграл небольшой турнир в Манчестере. На Уимблдоне я уступил в первом же круге Кристо ван Ренсбургу, весьма успешно игравшему на травяном покрытии.
Так я «перебивался» вплоть до летних соревнований на харде в США.
На Открытом чемпионате Канады в Торонто в четвертьфинале я встретился с Джоном Макинроем. При всей несхожести игры Виландера и Макинроя ни тому, ни другому не удавалось ошеломить меня так, как это проделал Лендл.
Да, Джон мог доставить мне немало неприятностей, особенно своей косой, уходящей подачей левой рукой, которую было чертовски трудно отбить, но я никогда не чувствовал, что мне с ним не хватает важнейшей вещи — времени на подготовку при обмене ударами.
Когда я играл с Макинроем в Торонто, его карьера уже клонилась к закату. Я чувствовал себя вполне комфортно. К тому же я немного знал Макинроя. Просто удивительно, как быстро испаряется страх перед великим игроком, когда попадаешь в профессиональный тур, особенно если это твой соотечественник и вас связывают встречи и общие воспоминания. Я прекрасно понимаю, почему Джимми Коннорс всегда был таким одиноким, замкнутым и необщительным. Он хотел, чтобы соперники — все без исключения — преклонялись перед ним. Джон относился ко мне с неизменной любезностью, как и Лендл. Но если игра Лендла пока еще приводила меня в замешательство, то играть с Джоном мне было удобно — и физически, и психологически. В Торонто я победил его со счетом 6:3 в третьем сете, а в полуфинале, к изрядному своему огорчению, уступил Майклу Чангу, и тоже в третьем сете (7:5).
В конце августа мы вдвоем с Джо Брэнди приехали в Нью-Йорк на Открытый чемпионат США и остановились в «Паркер Меридиен», в одном номере. Я еще не привык к жизни больших городов: мне было всего девятнадцать, и знал я лишь дорогу из отеля на корт. Сейчас я даже не помню, храпел ли Брэнди, так как сам спал очень крепко (потому, наверное, что терять мне было нечего). Никакого напряга. Единственный, с кем я приватно общался во время турнира, был мой друг Джим Курье.
Свое выступление на кортах «Флашинг Медоуз» я начал темной лошадкой, хотя, конечно, меня знали соперники, специалисты и осведомленные болельщики. В 1990 г. я постепенно стал гораздо лучше двигаться, набрал хорошую физическую форму, да и подача, уже вполне приличная к тому времени, тоже совершенствовалась. Дело тут было не в каком-то волшебном средстве, тренерских новшествах или особых технических приемах. Мощь подачи как-то вдруг просто появилась и с каждым месяцем росла.
В первых кругах чемпионата я выиграл у Дэна Гольди, Петера Лундгрена и Якоба Хласека. Это были сильные соперники, и каждая победа лишь ускоряла набранный мною разгон. В течение всего турнира я сохранял идеальный настрой — то слаженное, уравновешенное состояние разума и тела, когда знаешь: все пойдет как надо и так будет всегда, мяч кажется большим, как грейпфрут, и ничто не в силах сбить тебя с пути или остановить.
Если и наступил «подходящий» для меня момент, чтобы вновь сразиться с Лендлом, то именно тогда — в четвертьфинале на площадках «Флашинг Медоуз». Конечно, задача была трудной. Иван многократно выигрывал турниры «Большого шлема», имел больше громких титулов, чем Макинрой, и твердо нацелился девятый раз подряд (что стало бы беспрецедентным успехом) выйти в финал Открытого чемпионата США. Он был в самом расцвете сил (или приближался к нему) и полон решимости пополнить список своих достижений. Поэтому мне предстояло нечто совсем иное, чем матч с Виландером в 1989 г.
Впрочем, я имел основания полагать, что теперь разгромить меня не так легко, как это случилось в Милане. Я знал, на что способен Иван, и не ждал особых сюрпризов. Но усилившаяся подача увеличивала мои атакующие возможности, делала меня более опасным, а отсюда вытекали немаловажные последствия как психологического, так и физического плана. За шесть месяцев, которые прошли после нашей встречи с Иваном, я стал играть сильнее и точнее. Я не сомневался, что смогу сыграть в полную силу. Правда, меня несколько беспокоила мысль о том, что на исход матча может повлиять уверенность Ивана при игре на задней линии. В этом компоненте он по-прежнему меня превосходил, и довольно значительно.
Первые два сета я выиграл 6:4, 7:6, показав теннис высокого класса. Я мощно подавал, и моя стратегия заключалась в том, чтобы держаться раскованно и остро играть справа в разных направлениях. Так я мог использовать любую промашку или слабину в игре Ивана. Но после второго сета я совершил ошибку, типичную для неопытного молодого игрока. Считая, что игра у меня под контролем, я решил: дело сделано. Но я упустил из виду, что передо мной соперник, готовый сражаться насмерть. Боец, которого критические ситуации (а он попадал в них не раз) лишь подстегивали к сопротивлению. Именно в такие моменты опыт и решимость Лендла проявлялись в полной мере.
Лендл вернулся на корт с яростным настроем — за его спиной были восемь (подряд!) финалов Открытого чемпионата США и восемь выигранных турниров «Большого шлема». Все это вдохновляло его на борьбу. В двух следующих сетах он победил 6:3, 6:4. Но в пятом сете мои подачи стали, наверное, самыми сильными и точными за весь матч. У меня часто проходили подачи навылет, и я заметил, что Ивану все труднее отбивать мои удары. Особенно меня радовало что, когда он перехватывал инициативу, я не паниковал и не чувствовал ни малейшего страха.
Когда даешь сопернику передышку, какую я временами позволял Ивану, внутри слышится тоненький голосок: «Ты его достал, теперь берегись... Не паникуй, но положение серьезное... Действуй осторожно... имитируй наступление... забудь о своей игре, послушай меня — и что-нибудь да выйдет!» Прислушаться — значит потерять веру в себя, и если бы я так поступил, то, без сомнения, проиграл бы матч. А проиграв, наверняка потом в аналогичных обстоятельствах слышал бы все ту же песенку. Правильно говорят, что победа должна войти в привычку. Стоит только открыть полный сомнений ящик Пандоры, и оттуда вылетят все беды и неудачи. Не могу выразить, как важно сохранять ясность ума в минуту сомнения, когда ты просто обязан оставаться спокойным и верить в свои силы. Тут нужна твердость духа. Я все-таки смог сохранить свою игру, и это стало для меня важным событием в жизни. Победные подачи летели с моей ракетки, и я выиграл пятый сет 6:2.
Все же я победил в этом матче скорее за счет своей уверенной игры, чем благодаря каким-то внутренним усилиям. Правда, должен сказать, что при этом ни сердце, ни голова ни в чем мне не мешали. Когда все кончилось, я почувствовал, что поднялся еще на одну ступень. После нашего матча журнал «Sports Illustrated» вышел с заголовком «Новая звезда».
Но тогда я не слишком долго об этом раздумывал, полностью сосредоточившись на предстоящей полуфинальной встрече с Макинроем. На подготовку остался день, в течение которого я дал несколько интервью.
Я по-прежнему чувствовал себя легко и свободно. Странное дело: в детстве я грезил выступлениями на таком турнире, как Открытый чемпионат США, а теперь, когда я действительно на него попал, мне казалось, что он не больно-то и отличается от соревнований в Цинциннати или Торонто. О том, что меня пока еще не считали по-настоящему опасным соперником, свидетельствовали слова Макинроя, который накануне встречи заявил: «Я и мечтать не смел, что в полуфинале мне достанется Пит Сампрас». Он, конечно, не хотел меня обидеть, да я и не обиделся. Просто Лендл, царивший на «Флашинг Медоуз», теперь не мог встать на пути Макинроя. А я был новичком и радовался всему, что предлагал мне этот турнир.
Большой удачей было то, что я не до конца осознавал свой реальный уровень. Я просто концентрировался на очередном матче и совершенно не думал о возможных последствиях моего успеха. У меня не было страстного желания стать знаменитостью и вызывать всеобщее восхищение. Я любил играть, наслаждался этим и действительно не понимал, почему не нужно или невозможно играть на одном корте точно так же, как на другом. Мысли мои были просты: «Ну вот, я здесь и делаю то, что всегда хотел делать... Сейчас я подброшу мяч, подам изо всей силы и, вероятно, попаду куда метил». Спортивные психологи получают деньги за то, что пытаются привить спортсменам такое сознание. Ко мне оно пришло естественным образом, и я сомневаюсь, что это можно внушить или втолковать.
Я встречался с Макинроем в третьем, последнем матче «Большой субботы» и начал его именно с того, чем закончил игру с Лендлом. Мне удались несколько эффектных ударов над головой в прыжке, которые потом стали элементом моего фирменного почерка. Я часто подавал навылет, удачно выходил к сетке после подачи, хорошо играл слева. А это залог успеха, когда твой соперник левша, особенно Макинрой с его опасной резаной подачей во второй квадрат. Два сета я уверенно выиграл, но в третьем Макинрой начал понемногу приходить в себя и победил 6:3. Однако я чувствовал, что он так и не приспособился к моей манере. Я по-прежнему контролировал игру и побил его 6:3 в четвертом сете.
Единственным достоинством «Большой субботы», которая на протяжении почти всей моей карьеры состояла из двух мужских полуфиналов, служивших обрамлением женского финала, было то, что она не оставляла времени для раздумий о финале. Иногда он начинался менее чем через сутки после окончания полуфиналов. Тогда мне повезло — матч с Макинроем меня не вымотал. После него я пошел на традиционную встречу с прессой и задержался допоздна. Когда я встал на следующий день, до финального матча оставалось уже совсем немного.
Девятого сентября 1990 г., во второй половине дня, по другую сторону сетки меня поджидал Андре Агасси, такой же юный, как я. Он сразу же бросался в глаза — с пышной шевелюрой, в яркой, переливающейся светло-зеленой форме.
Я, конечно, не мог тогда знать, что наше соперничество с Андре войдет в историю и мы оба удостоимся Международного зала теннисной славы. До этого момента нашей еще очень короткой жизни мы встречались на корте всего четырежды и слабо представляли игру противника, потому что Андре играл преимущественно во Флориде, а я в Калифорнии.
Впервые мы встретились на корте с твердым покрытием в Нортридже (Калифорния) на юниорском турнире, в возрастной группе «двенадцать лет и младше». Мы оба уже забыли, кто тогда выиграл, но у меня сохранились четкие визуальные воспоминания об Андре. Он подкатил со своим отцом, Майком, на огромном зеленом «кадиллаке», подходящем скорее для гангстера. Но машина была под стать хозяину — Агасси жили в Лас-Вегасе, а Майк заведовал несколькими столами казино в одном из отелей сети «Цезарь-Паллас». Даже в те далекие годы в Андре проглядывало нечто от восходящей звезды. Он был худой как палка (впрочем, и я тоже), но уже обладал мощным ударом справа и быстрыми, крепкими ногами.
Потом мы должны были встретиться на других соревнованиях. Участники юниорских турниров часто играют по два матча в день, и каждый из нас свой утренний матч выиграл. Но по неведомой причине Андре и Майк вдруг исчезли — просто взяли и уехали. Мне засчитали победу без игры. В 1989 г. в Риме, на красном грунтовом корте, мы впервые встретились как профессионалы. Андре разгромил меня, отдав всего три гейма. Я вернул ему долг в Филадельфии (о чем уже упомянул выше).
В финале Андре был бесспорным фаворитом. Он взлетел уже на третье место в мировой классификации, а на пути к финалу одолел Бориса Беккера. Андре не имел равных в умении себя подать, но знатоки сомневались, есть ли у него сила воли выигрывать важнейшие встречи, и полагали, что пока он имеет только имидж чемпиона, но внутренне к большим победам еще не готов. Это звучало странно: ведь рейтинг и результаты — самые веские доводы!
По объективным показателям у Андре все было в порядке — даже несмотря на то что в финале Открытого чемпионата Франции он потерпел поражение от Андреаса Гомеса, который впервые пробился в финал турнира «Большого шлема». После этого критики, в те дни всегда готовые придраться к Агасси, набросились на него. Но я понятия не имел о проблемах Андре — у меня и своих хватало.
Две наши прошлые встречи в профессиональном туре не могли служить основой для прогнозов перед этим финалом, потому что летом 1990 г. моя игра стремительно прогрессировала. Андре вряд ли мог ей противостоять, и если бы догадывался об этом, то, вероятно, ощущал бы некоторые опасения. Но меня все это мало заботило. Я вышел в финал Открытого чемпионата США и чувствовал себя так, словно мне море по колено. Изрядная часть событий вовсе ускользала от моего сознания, и мне просто в голову не приходило, что за блаженное неведение потом придется заплатить положенную цену.
Арена была полна, но я чувствовал себя комфортно, безмятежно и после побед над Лендлом и Макинроем нисколько не беспокоился за свою игру. Я жил волшебной сказкой чемпионата — турнира, о котором юноша вроде меня мог только мечтать. Это была сага, достойная волнующего окончания — борьбы с переменным успехом, чередующихся моментов истины, неожиданных перипетий схватки. Но все вышло иначе.
Я вышел на матч с неукротимым, непоколебимым настроем на победу. Если у меня пойдут удары с отскока, все остальное приложится. Я чувствовал, что моя удача со мной. С самого начала я начал гонять Андре по корту, и он часто ошибался. Я отлично подавал. Казалось, способен подать навылет в любой момент. До сих пор какой-то физической памятью я могу воспроизвести все ощущения и ритм игры. Внутреннее чутье непостижимым образом подсказывало мне, что подача пройдет, еще до того как я ее выполнял: «Отлично, сейчас подам. Она идет в точку! Эйс!»
И все получалось.
В третьем сете у меня был матчбол при счете 5:2 в мою пользу, и я буквально вплотную подступил к титулу самого молодого победителя Открытого чемпионата США за всю историю. Я взглянул через всю площадку на Андре. Он казался таким маленьким и далеким, а мячи, которые я посылал, — большими, как грейпфруты, и я чувствовал, что время принадлежит мне. Окружавшее меня пространство словно слегка исказилось и деформировалось.
Андре стучал мячом об корт, готовясь к подаче. Волосы у него слиплись от пота, он словно светился в своем ярком зеленом наряде. Я чуть наклонился вперед и приготовился к приему.
Когда у тебя матчбол на подаче соперника и достаточно выиграть одну эту подачу, ты находишься в идеальной ситуации для победы в матче. Никакого напряжения. Ты даже можешь себе позволить одну-две ошибки. Матч можно завершить и в следующем гейме. В этом случае на быстром корте твои шансы так же хороши, пока у тебя сильная подача и «хватает дыхания». Но запас, как говорится, карман греет. Можно много поставить на карту и выиграть сейчас на приеме, почти ничем ни рискуя. А вот парень, для которого подача означает «жизнь или смерть» в матче, чувствует, что петля затягивается.
Андре всегда играл быстро. Таков уж был его стиль! Но в кульминационные моменты время замедляет ход, а если нет — тебе придется его заставить. Это одна из самых важных истин, какую следует усвоить, если хочешь побеждать. В момент розыгрыша последнего очка нужно быть очень собранным — самоконтроль принципиально важен для победы.
Андре еще раз ударил мячом об корт, глядя на свои кроссовки и — я уверен — еще точно не зная, стоит ли подать агрессивно, чтобы сразу взять очко, или осторожно, чтобы я мог отбить его удар. В такой ситуации легко стать либо сверхосторожным, либо сверхопрометчивым. Здесь одна из вечных проблем, которая то и дело встает передо мной. Я все же стараюсь сам выигрывать последнее очко, хорошо это или плохо.
Андре ударил мячом об корт в последний раз и начал быстрое движение, означавшее сильную подачу. Я этого и ждал. А за тысячи миль отсюда, недалеко от моего дома в Палос-Вердес, худощавый немолодой американец греческого происхождения бродил по супермаркету со своей женой. Это были мои родители. Им не хватило духу смотреть матч, и они решили поехать в магазин.
Андре мощно подал, я принял слева — защитным, блокирующим ударом, и не очень удачным. Андре приготовился нанести сравнительно простой удар справа, но смазал его и послал мяч в сетку.
Я победно вскинул руки и взглянул на сектор, предназначенный для моих гостей. Он был полон ликующих людей, но кроме Джо Брэнди я почему-то никого не мог узнать... На другом краю Америки отец и мать бродили по магазину, еще пребывая в неведении. Наконец они зашли в отдел электроники и увидели, что все телевизоры на полках показывают одно и то же: церемонию награждения победителя Открытого чемпионата США.
Юноша, которому перед камерами вручают первый приз в мужском одиночном разряде, — это я... Мечта сбылась, причем невероятно быстро. Но я попал на незнакомую, чуждую мне территорию и не был к этому готов. Теперь предстояло возвращать долги — ведь вход здесь платный для всех.
Глава 3 Тяжкое бремя 1990–1991
Выиграв в 1990 г. Открытый чемпионат США, я стал самым молодым чемпионом с начала XX века.
Казалось бы, после такого успеха можно полностью расслабиться и наслаждаться плодами своей победы. Но оказывается, на это просто нет времени, поскольку сразу же после того, как выигран последний мяч, вокруг тебя образуется настоящий хаос. Единственное время на передышку — небольшой промежуток между рукопожатием с соперником и получением приза в сопровождении краткой речи. А потом ты много часов, как заведенный, отвечаешь на вопросы журналистов и принимаешь бесчисленные поздравления ото всех, кому статус позволяет приблизиться к тебе.
Я тогда, конечно, был слишком молод, чтобы осознать всю меру своего успеха. После матча я словно грезил наяву. Победа ошеломила и меня, и многих других. Вот она, вершина!
Моя игра тогда не имела очевидных слабостей или признаков незрелости. Нервное напряжение? Я и не ведал, что это такое: просто подбрасывал мяч, бил по нему и наблюдал, как он попадает в цель, раз за разом. А если ты попадаешь в цель, никто тебя не победит. Только и всего!
Наша семья, конечно, тоже была потрясена. Кажется, миновала вечность, пока я добрался до отеля «Паркер Меридиен» и первым делом позвонил домой. Трубку взяла Стелла. Она говорила сквозь слезы, и я перепугался: «В чем дело, почему ты плачешь?»
Плакала она от счастья, и весь дом ликовал. Отец был безмерно доволен. Я знал, что сейчас-то у него нет ни малейшего повода произнести свое ужасное слово «погано». А еще мне было приятно сознавать, что вложенные в меня деньги, поглотившие массу времени поездки со мной на занятия и турниры, прочие неудобства, которые наша семья терпела ради меня, — все это теперь оправдалось и окупилось.
Я хорошо помню слова Джо Брэнди, сказанные мне в тот вечер: «Ну вот, Пит, теперь настала пора взяться за дело по-настоящему». Я тогда не понимал, что он имеет в виду. Я выиграл чемпионат, и это было замечательно. Нью-Йорк стал для меня счастливым городом. Но после победы сразу же возник главный вопрос, относительно которого я тогда пребывал в блаженном неведении: смогу ли я вынести бремя новообретенной славы и порожденных ею ожиданий?
Конечно, было бы очень странно вспоминать о моем первом чемпионском титуле, выигранном в столь юном возрасте, с сожалением. Но если говорить начистоту, я предпочел бы в тот момент быть взрослее, иметь больше опыта — игрового и просто человеческого, лучше понимать, как устроен наш теннисный мир, чего он ждет от меня и как обо мне судит.
Тогда я ничего этого не знал, а моя победа стала воротами с односторонним движением — если вошел в них, то обратной дороги нет!
Оказалось, что сохранение завоеванных позиций — очень ответственная задача, требующая больших усилий, а также внутренней зрелости и твердости, которыми я пока не обладал. Меня ждали трудные времена.
Сразу же после матча мой тогдашний агент Айвэн Блумберг, казалось, начал сходить с ума от выпавшего ему счастья. Чуть ли не каждую минуту он приносил мне новые предложения: «Мы связались с „Утренними новостями" CBS. Тебя приглашает „Доброе утро, Америка. Хочешь на шоу Ларри Кинга?» Я отвечал: «Да, да, здорово... конечно!» — но совершенно не понимал, о чем речь. Ведь я был еще ребенком — застенчивым и замкнутым, меня никто не учил беседовать с журналистами; это сейчас готовность к общению с прессой для перспективных игроков — нечто само собой разумеющееся.
Очень жаль, что нынешние одаренные теннисисты уже не считают учебу в университете чем-то полезным. В свое время, в первые годы Открытой эры, когда США еще доминировали в теннисе и задавали правила хорошего тона в этой игре, перспективные спортсмены, как правило, шли учиться в такие солидные, традиционно «теннисные» учебные заведения, как Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Университет Южной Калифорнии, Стэнфорд, Пеппердайн, Тринити (Сан-Антонио, Техас). Молодые люди тогда взрослели «нормально», то есть постепенно, а в крупных турнирах выступали на летних каникулах. Но все изменилось с тех пор, как большие деньги пришли в теннис и заставили юных спортсменов с самых ранних лет думать только об игре.
Новые возможности и предложения, посыпавшиеся на меня после первой победы на турнире «Большого шлема», будоражили ум. В тот день, когда я победил, среди зрителей был основатель компании Nike — Фил Найт, явившийся, вероятно, полюбоваться на своего «звездного» клиента, Андре Агасси. Моя игра так его поразила, что он тут же пожелал подписать со мной контракт. Потом я понял, что шансов у него не было: Блумберг все обстряпал раньше, чем Найт смог вмешаться в борьбу за мою персону.
Чем дальше я продвигался по сетке турнира, тем активнее производители обуви и одежды осаждали Блумберга, а тот следил за ростом ставок. И наконец, когда итальянская фирма спортивной одежды Sergio Tacchini предложила мне миллион долларов в год в течение пяти лет, Блумберг решил, что такой куш упускать нельзя. Я подписал контракт с итальянцами еще до четвертьфинала. После победы над Андре я, наверное, мог бы диктовать Nike свои условия, но был уже связан по рукам и ногам договором с Tacchini.
После моей первой победы на Открытом чемпионате Блумберга завалили просьбами о показательных матчах с моим участием (обычно результат такого матча с коллегой-профессионалом не влияет на официальный рейтинг). Мне предлагали участие в рекламах различных товаров, какие-то выступления, благотворительные мероприятия...
Когда перед началом чемпионата я появился в Национальном теннисном центре Теннисной ассоциации США, у меня были только расходы, честолюбивые надежды да еще воспоминания о том, как мой отец «выдаивал» из банкомата купюры. А уже через две недели я имел хороший доход и приобрел прочное положение в обществе. В девятнадцать лет я стал миллионером, но как-то не особенно задумывался об этом и из всего случившегося по-настоящему сознавал лишь одно — я выиграл национальный чемпионат.
На следующий день, когда я возвращался в Лос-Анджелес, в аэропорту меня внезапно окружила съемочная группа CNN. Другая команда телевизионщиков отправилась в Палос-Вердес, в школу, чтобы подкараулить мою сестренку Мэрион. Все это поражало меня, словно причудливая фантазия. А когда мне позвонил Джонни Карсон[1], до меня, наконец, дошло — случилось нечто поистине судьбоносное!
Вся моя жизнь изменилась. Вскоре мне предстояло испытать то, чего я прежде не знал. Мое состояние можно назвать стрессом. Я вдруг ощутил бремя многочисленных забот. Я должен выглядеть так, как подобает настоящему мужчине и чемпиону, соответствовать требованиям и обязанностям, которые вытекают из моего нового общественного и финансового положения, быть достойным статуса «профессионала своего дела». А самое главное — я должен побеждать: день за днем, круг за кругом, чтобы удержать новые завоеванные мной позиции и в перспективе их улучшить.
Мне пришлось бы легче, будь я футболистом. Тогда я ощущал бы поддержку товарищей по команде и выходил на поле всего раз в неделю.
Но моя игра — это игра одиночек, которые выступают как минимум на четырех основных типах покрытий (трава, хард, грунт и ковер — в закрытых помещениях) практически круглый год. На большинстве турниров для общей победы нужно выиграть у четырех — семи соперников. У каждого из них свой стиль, свой характер. Даже начальное знакомство с вероятными противниками (а они, как правило, и составляют первую сотню по мировой классификации) — трудная задача сроком года на два. И если можно рассчитывать, что самых сильных соперников, которые тебе более или менее известны, ты встретишь на заключительных этапах соревнований, то с кем столкнешься на ранних стадиях турниров — предугадать невозможно. В этом смысле теннис больше похож на лотерею, чем любой другой вид спорта.
Ясно как день было только одно — теперь я представлял собой крупную заманчивую мишень для конкурентов.
Следующие соревнования проходили в Стокгольме в конце октября. Я выиграл три трехсетовых матча (причем один — на тай-брейке в третьем сете у агрессивного, обладающего сильными ударами чеха Петра Корды), дошел до полуфинала и проиграл Борису Беккеру, который впоследствии стал одним из главных моих соперников за всю спортивную карьеру. Он одолел меня со счетом 6:4, 6:4 с помощью жесткой, атлетичной игры, напоминавшей манеру Ивана Лендла.
На следующих трех турнирах, в течение традиционного европейского сезона в закрытых помещениях, я выиграл только три матча, хотя быстрое ковровое покрытие (на большинстве турниров было именно такое) объективно хорошо подходило для моего стиля игры. В зимнем европейском сезоне — два главных события: Парижский турнир в закрытых помещениях (позже он стал называться «Парижский Мастерс») и завершающий сезон финальный турнир АТП.
АТП (Ассоциация теннисистов-профессионалов) первоначально была создана как союз игроков — нечто вроде ПАГ (Профессиональная ассоциация гольфистов). В конце каждого года восемь лучших игроков мира встречались в финальном турнире АТП (потом он получил название «АТП Мастерс Кап»), Участники делились на две группы, состоящие из четырех игроков. Каждая группа играла круговой турнир, и по два человека из группы с лучшими результатами выходили в следующий круг — полуфинал, где игра велась уже на выбывание, а победители разыгрывали финал.
Финальный турнир АТП в 1990 г. стал для меня настоящим кошмаром. В своей группе я выиграл только шесть геймов у Андре, потом проиграл в двух сетах Стефану Эдбергу и не попал в полуфинал.
Но горечь этой неудачи я компенсировал за счет победы на новом, еще не вполне понятном соревновании — Кубке «Большого Шлема» с призовым фондом в 6 миллионов долларов.
Этот турнир был организован Международной федерацией тенниса, МФТ (International Tennis Federation, ITF), являющейся руководящим органом для многих национальных общественных теннисных организаций (таких как Теннисная ассоциация США). Эти организации ведали своими национальными чемпионатами, четыре из которых со временем превратились в наиболее важные соревнования теннисного календаря — турниры «Большого шлема», «открытые» (то есть доступные для всякого, кто по своему рейтингу достоин в них участвовать) национальные чемпионаты Австралии, Франции, Англии и США.
Желая что-то противопоставить растущему влиянию АТП, МФТ и решила учредить Кубок «Большого шлема» в пику финальному турниру АТП. Кубок «Большого шлема» должен был собирать лучших игроков по результатам четырех основных турниров «Большого шлема» на самый главный, итоговый турнир года. Идея, в общем, вполне приемлемая, но мы-то уже имели финальный турнир АТП, поэтому новый Кубок только запутал людей, но зато... обрушил на игроков лавину денег.
Кубок «Большого шлема» был основан на системе очков, которая определяет шестнадцать лучших игроков четырех турниров «Большого шлема» текущего года. В результате на этих соревнованиях всегда выступали несколько участников, показавших хорошие результаты лишь на одном-двух турнирах, но набравших достаточное количество очков. Призовой фонд при этом был неоправданно велик.
Джон Макинрой публично раскритиковал эти соревнования, назвав призовые суммы «неприличными». Даже проигравшие в первом круге получали щедрое вознаграждение в виде чеков с шестизначными цифрами, а победитель турнира — сногсшибательную сумму: 2 миллиона долларов (проигравшие в полуфиналах увозили домой «всего лишь» 450 тысяч).
В отличие от финального турнира АТП с его начальной круговой системой в Кубке «Большого шлема» шестнадцать участников сразу играли навылет. Вот и выходило, что игрок, блеснувший на одном или двух турнирах и попавший на Кубок «Большого шлема», поневоле думал только о призовых, на которые вряд ли мог рассчитывать когда-либо еще.
Кубок «Большого шлема» игрался на быстром ковровом покрытии, и я порядком вымотался в трех трехсетовых матчах, которые мне посчастливилось выиграть. Сначала я выбил парня, которому просто повезло попасть на турнир (Андрея Черкасова из России), затем своего будущего главного соперника на Уимблдоне Горана Иванишевича и, наконец, Майкла Чанга, соперника еще по детскому теннису, единственного из моего «золотого поколения», кто (не считая меня) тоже выиграл турнир «Большого шлема» в столь раннем возрасте. В финале я встретился с Брэдом Гилбертом.
Гилберт, сейчас больше известный как тренер Андре Агасси и телекомментатор, нежели как теннисист, имел репутацию парня, стремящегося выиграть любой ценой (о чем свидетельствует название его книги). В отличие от Макинроя Брэд не видел в крупных призовых ничего зазорного и отчаянно рвался в финал. Но я никогда не имел особых проблем с ребятами, игравшими в такой манере, и победил, не отдав ему ни единого сета.
Несмотря на то что год завершился для меня удачно, он в какой-то мере предопределил настоящие «американские горки» в моей игре в следующем, 1991 году.
Столь нестабильные результаты объяснялись двумя причинами.
Моя игра еще окончательно не сформировалась. Подача с выходом к сетке была вполне отработана, а вот игре на приеме (особенно на быстрых покрытиях) и ударам с отскока не хватало стабильности. И с этим я пока не мог справиться. Своей сильной стороной я считал настрой — решимость сыграть как можно лучше и выложиться до конца (выиграю я или проиграю) каждый раз, когда выхожу на корт.
Победа на Открытом чемпионате сделала мой образ жизни несравненно более приятным. Я мог посещать лучшие рестораны, играть в гольф где пожелаю, а окружающие, в том числе и совершенно незнакомые мне люди, старались исполнить любую мою прихоть. Короче, в материальном отношении я ощущал себя вполне комфортно, но при этом не был доволен самим собой.
К тому же меня постепенно охватывала внутренняя тревога, возникшая после победы на Открытом чемпионате США, сознание того, что я внезапно стал мишеныо, целью для всех прочих игроков, желающих во что бы то ни стало взять надо мною верх. Порой я выглядел угрюмым и подавленным. Мне не хотелось думать о надеждах, которые на меня возлагали.
Хотя я пропустил Открытый чемпионат Австралии, 1991 г. начался для меня довольно сносно на моем традиционном соревновании — турнире на закрытых кортах в Филадельфии. Я дошел до финала, записав в свой актив еще один выигрыш у Макинроя, но Лендл (возможно, все еще уязвленный моей победой на «Флашинг Медоуз») одолел меня в пяти сетах финальной встречи.
Между Филадельфией и Уимблдоном я прошел второй круг лишь на одном не очень значительном турнире в Орландо, в полуфинале уступив Деррику Ростаньо — одному из непредсказуемых игроков, которые порой могут победить теннисиста самого высокого уровня, но не показывают стабильно хорошей игры с равными.
На крупном разминочном турнире перед Уимблдоном — лондонском «Куинс Клаб» (Queen’s Club) я потянул сухожилие и в первом же круге проиграл в двух сетах практически никому не известному Марку Кейлю.
В Манчестере я дошел до полуфинала и уступил Горану Иванишевичу.
На Уимблдоне я опять проиграл во втором круге и к тому времени хотел только одного — поскорее исчезнуть с травяных кортов, а заодно и из Лондона. Пока еще трава доставляла мне слишком много неудобств, хотя «теоретически» я был подготовлен к той игре, какую показывал четырехкратный чемпион Уимблдона, волшебник травяных кортов Род Лейвер.
Компенсацией за мои провалы на травяных кортах стал американский сезон турниров на харде, который открывается сразу после Уимблдона. Мне всегда нравилась спокойная атмосфера этих соревнований, а твердое покрытие — просто мой конек.
Тем летом я старался изо всех сил, желая взять реванш за весну и показать, что моя игра отнюдь не та, которую Сэм Сампрас именовал «поганой».
Я принял участие в трех крупных летних турнирах, служивших своего рода пристрелкой к Открытому чемпионату США. Три раза я вышел в финал — и дважды победил. Я выиграл у Брэда Гилберта в Лос-Анджелесе и у Бориса Беккера в Индианаполисе. И хотя в Цинциннати, на самом крупном из этих турниров, я проиграл техничному левше Ги Форже, все равно к Открытому чемпионату я набрал неплохую форму.
На главный турнир («Флашинг Медоуз») я отправился в сопровождении Джо Брэнди и начал весьма недурно. В первом круге я отдал только пять геймов Кристо ван Ренсбургу, хорошему игроку на быстрых кортах. Во втором круге я сломил сопротивление Уэйна Феррейры, который снялся с соревнований из-за травмы. В следующем матче я проиграл лишь один сет на тай-брейке. В четвертом круге я уступил только первый сет талантливому, но не особо известному американцу моего поколения, Дэвиду Уитону.
Но напряжение между тем нарастало. Я начал осознавать одну вещь: самая трудная задача в моем виде спорта — защита чемпионского титула, завоеванного на турнире «Большого шлема». Вот так-то! Все за тобой охотятся.
С этим постепенно нараставшим нервным напряжением я вышел на четвертьфинальный матч против Джима Курье. На меня словно давил какой-то тяжкий груз.
К тому времени былая дружба между Джимом и мной уже охладевала. Наше талантливое поколение стало заявлять о себе, и мы становились соперниками.
Планку для всех нас неожиданно установил Майкл Чанг. Он первым выиграл турнир «Большого шлема» (Открытый чемпионат Франции в 1989 г.), когда ему было всего семнадцать лет. Следующим был я (1990). Андре Агасси в третий раз за свою карьеру вышел в финал на турнире «Ролан Гаррос» в 1991 г. — и тут сказал свое слово Джим, нанесший Андре еще одно горькое и неожиданное поражение.
Таким образом, Джим, Майкл и я имели по чемпионскому титулу, а Андре сыграл в трех финалах, и с тех пор каждый был сам за себя. Все мы старались застолбить свой участок и выделиться из группы. Попытки поддерживать дружбу в условиях столь жесткой конкуренции выглядели бы неискренними, и мы это понимали.
Встреча с Джимом меня тревожила — несмотря на то что летом я «снес» его, не отдав ни одного сета, на двух из трех крупных турниров на харде. С самого начала я чувствовал какую-то неуверенность и скованность, был весь «на нервах». Кроме того, я решил играть против Джима с задней линии — тактическая ошибка, вызванная тем, что у меня плохо шла подача. Джим, напротив, был предельно собран и нацелен на победу. В первом сете я выиграл всего два гейма, а следующие два сета проиграл на тай-брейках со счетом 7:4 и 7:5 соответственно.
В интервью после игры я сказал: «Я чувствовал — мне мало что удается, а у него получается все. Конечно, я не смирился с поражением заранее, но сегодня у меня плохо получалась подача, я был вынужден слишком часто оставаться на задней линии, а Джим превосходил меня в такой игре».
Однако дело не в том, что я «сломался» на этих тай-брейках. Я все время пытался наладить подачу и часто ошибался. Кроме того, я сделал более двух дюжин ошибок при ударах слева. А в общем и целом, меня поверг в смятение и скрутил какой-то стресс. О том, насколько я был подавлен, свидетельствуют слова, произнесенные мною на той же недоброй памяти пресс-конференции: «...И вдобавок огромное нервное напряжение. Я даже не знаю, как это объяснить. Конечно, пока я не чувствую полного облегчения, но мне уже не нужно быть тем, о ком все говорят, на кого указывают пальцем и критикуют. Всему этому теперь конец, и я снова могу стать просто самим собой».
Даже меня самого теперь удивляет, как горько и отрешенно это звучало. Хуже того, у меня тогда вырвалась еще одна фраза, долго потом не дававшая мне покоя. В какой-то момент я признался: «Я чувствую себя гак, словно с моих плеч сняли тяжкое бремя». Затем на интервью пригласили Джима, и когда ему передали мои слова, он сказал в свойственной ему вдумчивой, сдержанной манере: «Я знаю немало парней, которые охотно взвалили бы это бремя себе на плечи».
Журналисты только того и ждали. Они ухватились за мои слова, и я первый раз в своей карьере стал предметом оживленной дискуссии. К счастью, я ничего не узнал о реакции прессы на следующий день после того, как сделал свои заявления. Поскольку я не выступал в парном разряде, то, потерпев поражение, поспешил уехать из города. Но в Нью-Йорке репортеры, готовившие материалы о моей персоне, несколько дней охотились за игроками, желая получить комментарии к моим словам.
Одним из тех, кто тогда дал обо мне отзыв, был Джимми Коннорс. Он оставался в Нью-Йорке, поскольку пребывал на пике заключительного этапа своей великой карьеры и в тот момент будил интерес целой нации. Для меня это было и хорошо, и плохо. Героизм Джимми стал главной сенсацией Открытого чемпионата и, значит, отвлек от меня внимание. С другой стороны, реплика «великого» Джимми на мои слова прозвучала осуждающе. В типичной для него манере саморекламы Коннорс заявил: «Вот мне уже под сорок, и я бьюсь из последних сил, а эти юнцы рады проиграть. С такой молодежью мне не по пути...»
Это замечание сильно уязвило меня. Я всегда принимал близко к сердцу то, что говорил Джимми обо мне и моем поколении. Сколько бы мы (я имею в виду «звезд») ни твердили, что чужое мнение нас не заботит, на самом деле мы к этому крайне чувствительны. И, так или иначе, все отклики до нас доходят.
Джимми относился ко мне достаточно лояльно, но я догадывался, что никому из нашего поколения он не намерен отдать должное — мы ведь и так уже переключали внимание на себя. Он не стеснялся изречь что-нибудь этакое, в терминах американского футбола: «Я доставил мяч к пятиярдовой линии, пусть теперь они вводят его в игру...» Я раскусил его еще тогда. Джимми не был близок ни с кем из коллег и в любом человеке подозревал соперника. Ему предстояло вскоре выбыть из игры, и он пытался подольше погреться в последних лучах славы. Я решительно ничего не имел против. Ревностная забота Джимми о своей популярности меня не волновала.
Заявление Коннорса подлило масла в огонь, и история зажила собственной жизнью. Речь шла уже не о том, что случилось на Открытом чемпионате и что я об этом сказал, а о том, что ответил Джимми Коннорс, затем — о моей реакции на слова Коннорса и так далее... Таков эффект масс-медийного «снежного кома».
Конечно, не очень приятно, когда тебя критикует великий игрок, но это хороший повод разложить все по полочкам. Для меня вопрос стоял так. Есть у меня проблема или нет? Мой проигрыш Курье свидетельствует о чем-то серьезном, или это случайная осечка? Проявились тут принципиальные изъяны моей способности настраиваться на борьбу, или я просто был не в своей тарелке и мне не повезло на тай-брейках? Я пока не понимал, в чем проблема.
Однако эта история высветила ряд насущных вопросов, на которые я так или иначе должен был обратить внимание, и от того, как я отвечу на них, зависел весь дальнейший ход моей карьеры. Правда, тогда я, можно сказать, пытался спрятаться от реальности.
Много лет спустя Джимми и я смотрели игру «Лос-Анджелес Лейкерс». Нас разделяло лишь несколько рядов, и я решил к нему подсесть. Мы обменялись любезностями, и я попросил у него номер телефона. Через несколько дней я ему позвонил.
Мы договорились о раунде в гольф, сыграли, и на этом наше общение закончилось. Как ни странно, Иван Лендл, которого многие считали холодным и бесчувственным, был не только более сильным соперником, но и более чутким, теплым человеком, чем Джимми, и куда более достойным подражания.
Примечательная особенность истории с моим высказыванием о «тяжком бремени» состояла в том, что я всего-навсего правдиво передал свои ощущения. Но, наверное, все помнят знаменитые слова Джека Николсона в фильме «Несколько хороших парней» («А Few Good Men»): «Вы хотите правды? Вам ее не вынести!» В 1991 г. в Нью-Йорке, похоже, случилось нечто подобное. Я честно, открыто описал журналистам свое состояние, а меня за это размазали по стенке.
Я понимаю, в чем тут причина. На словах я признал, что потеря титула для меня скорее радость, нежели огорчение. Но подчеркиваю: «на словах»! Ведь тогда в комнате для интервью все до единого прекрасно понимали, что радоваться я не мог, пусть даже чувствовал некое облегчение. В тот день я усвоил урок: есть вещи, о которых лучше помалкивать. Мне следовало озвучить какой-нибудь банально-трафаретный ответ: «Да, я совершенно опустошен, но к следующему турниру соберусь „на 110 процентов».
История с «тяжким бременем» завершила год «Большого шлема», который меня изрядно встряхнул и вымотал. Мне было трудно, и после Открытого чемпионата об этом узнали все. Моя личность стала предметом обсуждения. Но, думаю, никто не понимал, что я в значительной мере был еще «незавершенным изделием». Я никогда не интересовался слухами и сплетнями, не любил судачить о людях, особенно о незнакомых. Я всегда следовал принципу «живи сам и давай жить другим», и мне было неприятно, если меня разбирали по косточкам и цеплялись к тому, что я сказал или сделал. Во мне росло раздражение. Но я был не один такой — Андре Агасси, проигравший три финала «Большого шлема», тоже заработал «личные» проблемы и хороший нагоняй от прессы.
Когда после Открытого чемпионата я взял тайм-аут и уединился дома, то понял, что проблемы у меня назревают сразу на нескольких фронтах. Едва ли не наибольшую тревогу вызывала ситуация с тренером. Когда я выиграл титул чемпиона США, мы с Джо оба ощутили беспокойство — каждый по-своему. Я был слишком молод для того, чтобы между нами сами собой сложились зрелые отношения. Мы оба знали, что моя игра еще не стала настолько отточенной, какой порою казалась, а ведь нам предстояло отстаивать добытые лавры. Как вынести груз ответственности?
К сожалению, Джо никогда не играл в профессиональных турнирах, и мое восприятие данной сферы жизни было ему незнакомо. Для Джо, который хотел все делать правильно, это служило источником немалого напряжения.
Во время Открытого чемпионата 1991 г., когда приближался эпизод с интервью и моим замечанием о «тяжком бремени», Джо частенько наведывался в гостиничный бар и выпивал несколько бокалов вина. Такова участь тренера, у которого не сложились прочные отношения с подопечным. А покинуть турнир тренер не вправе, даже когда ему практически нечего там делать.
Хотя времена я переживал нелегкие, но все же прочно закрепился в первой мировой десятке и многое начал понимать. В какой-то момент стало совершенно очевидно: в своей работе Джо явно не преуспел. Вдобавок я интуитивно чувствовал, какой тренер мне нужен, и поэтому решил сказать Джо, что мы должны расстаться — к обоюдной пользе. Я хотел все обсудить в спокойной обстановке по возвращении в Теннисную академию Ника Боллеттьери. Конечно, ситуация не совсем обычная: девятнадцатилетний молокосос собрался «уволить» наставника в два с лишним раза старше.
Я сказал Джо, что ценю его достижения, но наше сотрудничество себя исчерпало. Примерно так я выразился, и он меня понял, мало того — почувствовал облегчение (как мне теперь кажется). И в течение моей дальнейшей карьеры я всегда брал на себя неприятную процедуру увольнения, не перекладывая ее на агента, отца или кого-то еще. Я считал, что людям, основательно на меня поработавшим, я обязан все объявить лично. К счастью, увольнять мне довелось немногих.
Айвен Блумберг, мой тогдашний агент, предложил встретиться с Тимом Галликсоном. Но первым ко мне домой (я жил неподалеку от Академии Боллеттьери) в конце 1991 г. пришел не Тим, а Том Галликсон, его брат-близнец.
Галликсоны были интересными людьми, заслужившими репутацию «рабочих лошадок» тенниса. Профессиональные тренеры из Висконсина (отнюдь не теннисного оазиса), они однажды решили поискать удачи на турнирах и, самое удивительное, добрались до соревнований довольно высокого уровня.
Эти типичные «славные ребята» в свое время составляли также одну из лучших парных комбинаций и использовали призовые от парных побед для финансирования своих амбиций в одиночном разряде. В последнем Тим добился большего успеха — постепенно записал в свой актив впечатляющие победы над лучшими игроками, в том числе над Джоном Макинроем на Уимблдоне.
Когда осенью 1991 г. Том пришел ко мне, мы побеседовали и обменялись несколькими ударами на корте. В конце визита Том сообщил, что он сам уже договорился недель тридцать в году тренировать Дженнифер Каприати, а вот его брат-близнец Тим вполне готов работать со мной по полному графику. Не знаю, был ли это заранее спланированный рекламный трюк, но я согласился повидаться с Тимом.
Мы встретились во Флориде, перекинулись мячами и поговорили. Тим оказался спокойнее и добродушнее Тома, и это меня устраивало. Кроме того, он был очень общителен — своего рода «естественный коммуникатор», а это весьма ценное качество для тренера столь молчаливого, замкнутого юноши вроде меня.
Не будучи сам великим игроком, Тим со многими из них поддерживал знакомство и любил вращаться в этом кругу. В теннисе Тим тяготел к атакующей манере, отлично играл с лета — явное сходство с моим стилем игры. Вдобавок, когда мы познакомились, он был сравнительно молод — около сорока, поэтому ему хватало энергии, энтузиазма и упорства. Я решил официально нанять его с января 1992 г.
Неопределенная ситуация с тренером — одна из причин моей нестабильной игры осенью 1991 г. Я уступил Брэду Гилберту в Сиднее, но выиграл в Лионе. Затем я последовательно проиграл Борису Беккеру и Ги Форже в Стокгольме и на Парижском турнире в закрытых помещениях. Немного бальзама на мои раны в конце года пролил финальный турнир АТП, где я победил Агасси в круговом турнире, а потом Лендла и Курье и выиграл пятый (самый важный) турнир года.
Последним моим выступлением в том году стал дебют на Кубке Дэвиса против команды Франции (снова в Лионе). Те, кому особенно дорог Кубок Дэвиса (скажем, Джон Макинрой или Энди Роддик), считают его важнейшим из состязаний, а участие в нем — высшей честью. Когда название страны красуется на твоей майке и на табло, игра, конечно, вызывает совершенно неповторимые эмоции. С этим я согласен. Тут действительно возникает особого рода напряжение, которого не чувствуешь, выступая лишь за себя, даже в таких местах, как Уимблдон или «Флашинг Медоуз».
Кубок Дэвиса требует командных усилий, и это тоже придает ему своеобразие и привлекательность. Соперничество национальных команд означает, что ты играешь в такой обстановке, какой просто не бывает на других турнирах: здесь все преувеличено или искажено настолько, что прежние достижения, рейтинг и послужной список ровно ничего не значат. Поэтому Кубок Дэвиса — крепкий орешек для новичка.
Формат Кубка Дэвиса таков.
В турнире участвуют шестнадцать национальных команд, прошедших в элитную Мировую группу, — они играют матчи на выбывание. Каждый матч (в Кубке Дэвиса он называется «тай») состоит из пяти встреч — четырех в одиночном разряде и одной в парном. Эти встречи проводятся в течение трех дней (с пятницы по воскресенье). В остающиеся до матча дни команды обычно заняты тренировками на месте игры, так что Кубок Дэвиса может отнять у игрока или команды до четырех недель в год.
Четыре недели Кубка Дэвиса приходятся на произвольно выбранное время года, а большой финал играется в конце ноября или в начале декабря.
Привилегия домашней игры (каждый «тай» проходит либо дома, либо в гостях) определяется историей предыдущих встреч по простому принципу: команды выступают дома по очереди. Поэтому если последний матч Франция — США проходил, допустим, во Франции, то следующий матч автоматически состоится в США — даже через четыре, восемь или двенадцать лет. Играть дома — большое преимущество. Стадион заполняют ваши соотечественники (а болельщики Кубка Дэвиса — самые крикливые и шумные в теннисе), и, что важнее всего, вы выбираете место игры (в помещении, на открытых площадках, на кортах небольшого клуба или на большой арене) и тип покрытия.
В подростковом возрасте я почти ничего не знал о Кубке Дэвиса; не помню, видел ли его по телевизору (возможно, он и не транслировался в эпоху, когда еще не было кабельного телевидения). Поэтому никакого исторически сложившегося почтения я к нему не испытывал. Это мешало мне правильно настроиться на Кубок Дэвиса, поскольку, подобно большинству ведущих игроков, я планировал пик своей формы в расчете на основные турниры «Большого шлема». А Кубок Дэвиса требовал довольно много времени.
В 1991 г. Франция собрала фантастическую команду. Капитан — Яник Ноа, в прошлом очень популярный игрок, победитель Открытого чемпионата Франции. Ги Форже и Анри Леконт — оба левши, которые своей блестящей игрой вывели французов в их первый финал Открытой эры. У французов было также преимущество домашних кортов перед соперником по финальному раунду — командой США. Они выбрали быстрое ковровое покрытие на крытых площадках стадиона в Лионе.
Когда Франция известила о выборе покрытия, капитана команды США Тома Гормэна внезапно озарила идея — пригласить в команду меня. Хотя в матче за «тяжкое бремя» я утратил титул чемпиона, но оставался лучшим в стране игроком на быстрых кортах и поэтому идеально подходил для команды, как и Андре Агасси. Однако Гормэн, вероятно, упустил из виду, что я еще ни разу не участвовал в Кубке Дэвиса, а потому он не принял в расчет особую нервную нагрузку, свойственную этим соревнованиям.
По тем или иным причинам выступление за национальную команду вызывает у игроков сильнейший всплеск эмоций. Одни чувствуют прилив энтузиазма и настраиваются на героический лад, других гнетет и страшит груз ответственности перед страной. Бросить «зеленого» игрока в бурлящий котел зарубежного финала, прямо в скопище неистовых фанатов — очень рискованный шаг.
Лион встретил нас нервной, напряженной атмосферой. Думаю, отчасти это объяснялось присутствием многочисленных представителей Теннисной ассоциации США, которые всегда съезжаются на матчи Кубка Дэвиса, чтобы присматривать за командой. Следует также учесть, что этот финал Кубка значил для Франции очень и очень много. Казалось, на финал во Дворец спорта Жерлан собрались чуть ли не все французские журналисты, стремившиеся живописать, как Франция наконец выиграет Кубок Дэвиса — впервые с тех давних пор, когда в международном теннисе царили «четыре мушкетера»: Жан Боротра, Жак Брюньон, Анри Коше и Рене Лакост.
За день до начала матча команду пригласили на торжественный ужин в честь Дня Благодарения, устроенный в Лионском отеле. Готовил его прославленный шеф-повар. Однако и за праздничным столом мы ощущали напряжение, поскольку рядом сидели чиновники от тенниса, а нам пришлось нацепить пиджаки и галстуки. Я не противник делового стиля в одежде, но обстановка казалась чересчур церемониальной, натянутой, неестественной... в то время как нам, команде, было необходимо расслабиться. Все это давило на меня особенно тяжело еще и потому, что меня выставили первым номером от команды США в одиночном разряде. Я напоминал новичка-защитника из HXЛ, который дебютирует в Кубке Стэнли.
Без сомнения, Гормэн тоже ощущал груз ответственности. У нас постоянно проводились командные собрания — с моей точки зрения, совершенно бессмысленные. Они лишь нагнетали обстановку и усугубляли общий стресс. Всю жизнь я предпочитал держаться незаметно: пусть меня лучше недооценят, чем переоценят. Мое кредо — сдержанность и замкнутость, а не конфликтность и эксцентричность. Я вообще не склонен придавать вещам больше значения, чем они заслуживают, даже тем, которые кажутся чрезвычайно важными (вроде выигрыша Кубка Дэвиса). В конце концов, гораздо проще и удобнее думать, что это всего-навсего теннисные матчи — выходишь, делаешь свое дело, а там уж как фишка ляжет.
Я был не прочь потолковать о теннисе с капитаном Гормэном — ветераном, прежде блиставшим на Кубке Дэвиса. Меня интересовало мнение Андре Агасси. Но эти собрания мне претили! Там переливали из пустого в порожнее: кто и как завтра тренируется, кто и с кем играет в паре. На одном из таких собраний Кен Флэч, один из наших игроков в парном разряде (его партнером был Робби Сегьюзо), повернулся ко мне и спросил: «Ты будешь выходить к сетке после обеих подач, Пит?» Я молча взглянул на него и подумал: «Я один из лучших игроков в мире, а ты привык выступать только в парном разряде, одиночный тебе не по зубам. Кто ты такой, чтобы спрашивать, как я намерен играть?»
Возможно, это преувеличение, но тогда я весь был каким-то сгустком ожесточенного напряжения. В принципе, я никогда не шел на матч с шаблонным планом наготове. Конечно, я знал свои сильные стороны, знал, какая игра для меня наиболее выгодна, старался понять, в чем достоинства и недостатки соперника и как проникнуть в его замысел. Но я всегда предпочитал «прочувствовать» матч, строя игру с учетом моих собственных умений и того, что позволит мне угадать соперник по другую сторону сетки.
В каждой встрече агрессивность моей игры напрямую зависит от качества подачи. Ощущение того, как я двигаюсь по данному покрытию в данный конкретный день, плюс качество игры соперника на приеме — вот чем определяется, сколько раз после подачи я выхожу к сетке. Я действую интуитивно, постигая происходящее по ходу дела. Вопрос Флэча поставил меня в тупик, поскольку требовал четкого ответа, которого я дать не мог. Вопрос-то был вполне невинный, и моя реакция показала, до какой степени я хотел от всего отгородиться и какое чувствовал напряжение.
Помимо прочего, французские игроки в одиночном разряде являлись ветеранами, способными играть в теннис даже вслепую. В их команде не было слабых звеньев; никто лучше этих парней не мог использовать привилегию домашней игры. Энтузиазм толпы местных болельщиков их вдохновлял. И если быстрое ковровое покрытие устраивало меня, то уж их тем паче.
На матчах Кубка Дэвиса команда состоит из двух игроков в одиночном разряде — номера первого и номера второго — и двух в парном. Трехдневный матч начинается в пятницу двумя встречами в одиночном разряде (первый номер первой команды против второго номера второй). Суббота отведена для встречи в парном разряде. А в воскресенье играются «обратные» встречи: первый номер против первого, второй против второго. Кто играет первую встречу (или «роббер») «тая», решает жребий, а потом все идет согласно установленной процедуре.
Я был номером первым в одиночном разряде, но по жребию состязания открывали первый номер Франции, Форже, с нашим вторым номером, Агасси.
Я смотрел игру со скамейки для игроков, подбадривая Андре, который взял дело в свои руки, и мы повели 1:0.
Обилие зрителей впечатляло и даже слегка пугало меня. Трибуны вмещали не так уж много — чуть больше семи тысяч, но были заполнены до отказа, и нас окружала плотная, оглушительно ревущая толпа. Мой черед быстро приближался. Я играл следующим — первый номер команды США против второго номера Франции (Леконта).
И тут я «оцепенел». Это было скверно и напоминало ступор, который охватывает оленя, выскочившего из леса на дорогу, прямо под свет фар. Заметьте, я не сказал «потерял дыхание» — эти состояния весьма различны. Оцепенение хуже: оно не позволяет даже дойти до той критической точки, когда можно «задохнуться».
Казалось, разрыв в счете рос так же стремительно, как неслись мячи после завершающих ударов Леконта. Подавая, я вставал на линию и стоял, пока трибуны бесновались: просто дожидался момента, когда они успокоятся. Это была роковая ошибка. Я гораздо лучше контролировал бы ситуацию, не мешкая на линии подачи в ожидании тишины. Это показало бы, что я владею собой и сам задаю темп игры. Таков был урок, усвоенный мною в Лионе. Он мне очень пригодился впоследствии, во многих других матчах. А здесь я проиграл Леконту в трех сетах и покинул корт в полной прострации.
В субботу французы одержали верх в парном разряде и повели 2:1. В решающий день финала я играл с Форже в первой встрече одиночного разряда и еще мог оправдать надежды США на победу. Но у меня не было времени проанализировать то, что произошло в пятницу, и сделать нужные выводы из прискорбных событий первого дня. Мое сопротивление оказалось чисто символическим, и Форже в четырех сетах завоевал Кубок для Франции.
Потом я чувствовал себя совершенно подавленным. Сколько бы ни говорили, что Кубок Дэвиса — это командные соревнования, мне было там очень одиноко, так одиноко, как только возможно на теннисном корте. Конечно, наши ребята, сидевшие на скамейке, подбадривали меня. Да и капитан был рядом: я мог обратиться к нему и даже получить какой-нибудь дельный совет. Но по-настоящему мне помочь они были не в силах. Ведь нельзя же протянуть ракетку товарищу по команде со словами: «Слушай, что-то я сегодня не в форме, не поработаешь ли ты за меня?»
Неделя выдалась трудная и горькая. Гас, который меня сопровождал и жил со мной в одном номере, рассказывал, что в вечер поражения мы с ним рано легли спать. Через несколько часов мне явно приснился какой-то кошмар: я пронзительно выкрикнул «Вперед, Америка!» и снова заснул. Думаю, это была реакция на рев толпы во время матча. Я никогда не испытывал ничего подобного и, наверное, во мне просто назрела потребность как-то ответить или показать, что я не боюсь, — пусть даже во сне и с изрядным опозданием.
Объяснить мой провал довольно легко: я не подходил «для такой работы». И вплоть до нынешнего дня, кто бы ни заговорил со мной о том лионском матче, я просто пожимаю плечами, усмехаюсь и говорю: «Ну, не годился я для этого дела». Не хочу обвинять Гормэна или кого-то еще, но к концу финала стало очевидным: Пит Сампрас, неопытный, «зеленый» юнец, абсолютно не соответствует требованиям Кубка Дэвиса. Он просто не годится для этой работы.
Но выяснилось, что нет худа без добра. Тим Галликсон, ожидавший часа стать моим тренером, понял, каких страданий я натерпелся от французских левшей. Он заметил, что, принимая подачу, я слишком смещаюсь вправо, открывая тем самым левую сторону квадрата подачи. Он хотел, чтобы я больше смещался влево, намекая противнику, что собираюсь ответить сильным ударом справа. Это коварный трюк (учитывая, что левша любит подавать правше под левую руку, особенно во второй квадрат подачи). Результаты говорят сами за себя: усвоив эту премудрость, я выиграл тридцать два матча против левшей.
Даже подумать страшно, чем закончился бы мой поединок с Гораном Иванишевичем — еще одним левшой, — не измени я свою позицию на приеме подачи.
Глава 4 Беседа с самим собой 1992
Через несколько недель после моего дебюта в финале Кубка Дэвиса я приступил к серьезным занятиям с Тимом Галликсоном.
Конечно, мой бывший тренер Джо Брэнди умел неплохо организовать тренировки и вдобавок, как говорится, был мастер «щелкать бичом». Он гонял меня и в хвост и в гриву, поднимал чуть свет на пробежку, заставлял играть в одиночку против двоих. Азы теннисной подготовки он знал хорошо, но я не припомню, вошло ли хоть что-нибудь из его уроков в мой арсенал профессионального игрока высокого класса.
С Тимом все было совсем иначе. Наши отношения наладились буквально за несколько дней. Чтобы растопить во мне ледок, обычно требуется немало времени, но Тим управился быстро, так как был человеком открытым и добродушным. В отелях мы селились раздельно, но складывалось впечатление, будто мы соседи по комнате в студенческом общежитии. Тим всегда стремился проводить время вместе со мной — в его номере или в моем. Как-то раз мне захотелось немного побыть одному, и когда Тим последовал за мной в номер, я сделал ему намек: «Тим, мне нужно позвонить, и разговор сугубо личный». «Никаких проблем», — ответил Галликсон.
Я зашел к себе, а Тим остановился поболтать с консьержкой (мы жили тогда в дорогом отеле, где на каждом этаже имеется консьерж). Когда часа через два я выглянул из номера, он все еще разговаривал с ней и, видимо, никуда не отлучался.
В 1992 г., когда мы впервые поехали вместе в Австралию, Тим каждый вечер заходил ко мне. Мы заказывали ужин в номер, беседовали, смотрели телевизор. Галликсон не мог обойтись без общения — потому, наверное, что у него был брат-близнец, и Тим привык, что они всегда неразлучны, даже на состязаниях. Кроме того, Тим был образцовым семьянином. (Его жена Розмари безукоризненно вела себя на турнирах, где зачастую соперничают не только игроки, но даже их жены и подружки.) Словом, в окружении множества людей Тим чувствовал себя как рыба в воде.
В отличие от меня Тим интересовался всем на свете и обо всем имел собственное мнение. То, как свободно Тим выражал свои эмоции, было для меня непривычно и вместе с тем полезно — я увидел, что такое вообще возможно. Хотя Тим и отличался некоторым упрямством, но был великодушен и добр — охотно отдал бы вам последнюю рубашку.
С самого начала Тим просто бомбардировал меня вопросами — о моей игре, о жизни, о семье. Далеко не сразу я понял, что его целью было привить мне открытость и раскованность — ведь неопытный, сомневающийся в себе юнец нуждался в расширении «внутреннего пространства».
Отношения с тренером — тонкая штука, особенно для молодого игрока. Когда нанимаешь тренера, в каком-то смысле обзаводишься лучшим другом — человеком, которого ты решил сделать объектом своего доверия. Но я всегда избегал слишком близких и насыщенных эмоциональных контактов. У меня есть ощущение внутренней границы; я считаю, что следует «играть по определенным правилам» (главное из них — взаимное уважение), не взваливая свои проблемы на кого-то другого. Порой Тиму (а затем Полу Аннакону) приходилось со мной нелегко — ведь тренер считается наперсником и обычно стремится стать таковым.
Случалось у нас с Тимом и нечто вроде «перетягивания каната». Он расспрашивал и выпытывал, а я упорно скрывал свои чувства и мысли; иногда это затрагивало и теннис. Я пытался нащупать свою игру, но не хотел раскрывать карты — даже перед наставником. За всю карьеру я только один раз признался в слабости и доверил свои переживания тренеру, и произошло это гораздо позднее (как вы увидите далее).
Как бы мне ни было трудно, я не хотел показывать свою ранимость или неуверенность в том, что касалось моего тенниса, — никому, в том числе наставнику. Мой внутренний страж неизменно пребывал начеку, хотя Тим стал мне близким другом — пожалуй, чем-то вроде старшего брата. Возможно, я был слишком осторожен и скрытен. Работая со мной, приходилось постоянно «читать между строк», и Тим, подобно большинству великих тренеров, владел этим искусством.
Говорят, художники не любят рассказывать о том, как пишут свои картины, опасаясь, что в противном случае творческий процесс лишится магического ореола. Я способен это понять, хотя сам и не занимался живописью. Но если моя скрытность вынуждала Тима прибегать к чтению между строк, то мой стоицизм, возможно, в каком-то смысле облегчал ему жизнь. Не думайте, будто мы вовсе не говорили о теннисе, — нет, мы часто беседовали, смотрели матчи и сами много играли. Но вот на моем теннисе мы не зацикливались, и я никогда не навязывал Тиму роль психиатра.
По складу характера я не испытываю потребности в эмоциональной подпитке, а потому всегда предпочитал не допускать посторонних в мой внутренний мир. В итоге никто не мог чрезмерно на меня влиять или управлять мною, а я был избавлен от необходимости восставать против чужого давления, как это часто случается в отношениях с тренером. Здесь я вполне полагался на себя. Я хотел по мере надобности получать помощь и поддержку в моей игре, а за этими пределами всегда сохранял разумную эмоциональную дистанцию. Чувства я держал при себе, даже когда мы с Тимом упражнялись или готовились к соревнованиям только вдвоем. А Галликсону я предоставил определенную независимость, не требуя, чтобы он посвятил мне себя всецело. Крайне утомительно иметь дело с подопечным, которому поминутно что-нибудь требуется.
Лучшие из тренеров для пользы дела изобретают всяческие хитрости, имеют целый арсенал своеобразных приемов — своего рода стратегию, которую можно применить к подопечному.
Вот, например, весьма распространенный способ убедить классного игрока, что ему нужно внести в игру кое-какие изменения. Вы подбрасываете идею в непринужденной беседе, а затем поворачиваете разговор так, чтобы игрок счел вашу мысль своей собственной. Конечно, уловка шита белыми нитками, но ведь срабатывает!
Со мной Тим никогда не прибегал к подобным маневрам, но и ему приходилось обдумывать, что именно сказать, в какой момент и в каких выражениях. Эта задача, наверное, принципиально важна для любого тренера: ведь классные игроки — не подмастерья, готовые на все, лишь бы постигнуть премудрость. У нас уже есть собственный стиль игры, достижения, которыми можно гордиться. И зачастую это приводит к повышенной чувствительности.
За следующие год или два мне предстояло узнать все о подвигах Тима Галликсона. О том, как они с братом Томом добились успеха, взяв старт в Оналаске, штат Висконсин, — далеко не «теннисном» районе. Некоторое время они давали уроки тенниса в клубах Среднего Запада, чтобы накопить денег для будущих триумфальных выступлений на турнирах. Могу поклясться, что знаю наперечет все главные матчи Тима на профессиональной арене. Могу шаг за шагом описать его самую блистательную победу — нежданный разгром Джона Макинроя на знаменитом Грейвьярд-корте (корте №2) Уимблдона.
Если нам доводилось ужинать в более широкой компании, я всегда, если хотел, имел возможность подначить Тима и заставить слегка подергаться. Демонстрируя притворное неведение, с ангельски невинным видом я расспрашивал про его матчи, о которых (как он прекрасно помнил) Тим рассказывал мне миллион раз. А потом я откидывался на спинку стула и втихомолку посмеивался.
Но Тим был далек от того, чтобы набивать себе цену, разглагольствуя о теннисе. Он увлеченно изучал его и являл собой редкое сочетание игрока весьма высокого уровня (он выиграл три турнира в одиночном разряде и пятнадцать в парном, поднимался даже до пятнадцатого места по мировой классификации в одиночном разряде) и поклонника тенниса, с неподдельной пылкостью влюбленного в игру.
Когда дело дошло до основополагающих принципов нашей работы, в первую очередь Тим сократил мое тренировочное время. Этот опыт он позаимствовал у Джимми Коннорса — тот тренировался меньше (в пересчете на минуты), чем любой другой игрок высшего класса.
Короткие, но интенсивные тренировки Джимми стали легендой. Иногда он работал лишь сорок пять минут, но всегда с абсолютной концентрацией и отдачей. Он бегал за каждым мячом, наносил свои лучшие удары и постоянно поддерживал очень высокий темп. Он мог меньше чем за час вымотать партнера, привыкшего к двухчасовым тренировкам. С Джимми никак не удавалось разыграть пару мячей, а потом сделать перерыв, попить водички и поболтать.
Тим также внес в мою игру несколько технических поправок. Некоторые его советы были простыми, но принципиально важными. Например, он убедил меня демонстративно смещаться в левую часть корта, чтобы соперники думали, будто я собираюсь нанести мощный удар справа. Многих это побуждало рисковать, посылая мяч в очень маленький левый сектор площадки, чтобы сыграть мне под бэкхенд. С виду дело нехитрое, но ваше перемещение всего лишь на несколько футов может сильно повлиять на то, как соперник будет подходить к мячу и разыгрывать очки.
Эта тактика оправдывала себя в течение всей моей карьеры, особенно в матчах с Андре Агасси. Он, наверное, всегда ощущал определенное неудобство при своей первой подаче, стараясь выполнить ее максимально точно — целясь или под мою левую руку, или в центральную линию, при подаче во второй квадрат. Естественно, это приводило к частым ошибкам и позволяло мне принимать больше его вторых подач (принять их ударом справа было уже легче). Та же стратегия долгое время срабатывала против Майкла Чанга, поскольку подача у него относительно слабая, ее несложно отразить атакующим ударом справа.
В начале нашего знакомства Тим считал, что я играю немного с ленцой, то есть компенсирую рукой недостаточную работу ног и корпуса. Конечно, рука и кисть играют большую роль почти во всех видах ударов, но они не должны выполнять работу, предназначенную для плеч, ног и торса, когда нужно нанести резкий атакующий удар. А игра только рукой — соблазн для игроков, склонных разрешать себе послабления. Они неизменно расплачиваются тем, что их ударам недостает мощности.
Тим отладил мои удары слева: удар слева с лета, а также резаный и крученый удары слева с отскока. По его совету я уменьшил амплитуду замаха при резаном ударе слева, чтобы удар сделался мощнее, даже за счет меньшего вращения, — как у Кена Розуолла, чьи знаменитые резаные удары слева отличались удивительной точностью и силой. Вскоре у меня заметно снизилось количество «ляпов» при ударах слева. Возросла точность, мячи летели с большей скоростью, поэтому и отражать их стало труднее.
Что касается удара слева с лета, то мы отрабатывали более низкое положение всего туловища при отражении мяча. Если опускать головку ракетки слишком низко (а люди, играющие только рукой, именно так и делают), всегда уменьшается сила удара. Но удары с лета должны наноситься жестко, с приложением большего усилия к ракетке. А это требует более точного выбора позиции, то есть дополнительной работы ног, которая вполне себя окупает. Все перечисленные «настройки» принесли мне немалую пользу, а сокращение замаха при ударах сыграло принципиальную роль в моем становлении как хорошего игрока на травяных кортах.
Однако самой серьезной заботой Тима было мое поведение на корте. Иногда, если игра не шла, у меня опускались руки. Можно показывать отличный теннис, когда все получается. Но трудность в том, чтобы сыграть вполне приемлемо и победить, даже если ты не в ударе. У каждого из нас есть некий коварный «внутренний советчик», и успех в значительной мере зависит от того, способны ли мы его игнорировать. Порой нужно преодолеть усталость и безразличие, которые зачастую охватывают нас на крупных соревнованиях. И вот тогда, вместо того чтобы прислушиваться к этому «советчику» (а он твердит: ты играешь паршиво, ты устал, не лучше ли прекратить борьбу...), — необходимо заглушить его назойливый писк, проявить мужество, взять себя в руки и сражаться, не роняя спортивного достоинства.
Тим понимал, что я еще не сформировался как боец. Мне часто недоставало твердости духа. Он постоянно убеждал меня не переживать по поводу того, что случилось в последнем или предпоследнем розыгрыше. Он хотел, чтобы я подавлял соперников не только своей игрой, но и уверенным обликом, и терпеть не мог, когда я неуклюже горбился в перерывах между розыгрышами мяча.
Нужно сказать, что моя сутулость с годами сделалась обманчивой. В печати неоднократно описывали мой якобы «побитый» вид; но между «жалким» юнцом, каким я некогда был, и «жалким» взрослым человеком, каким со временем стал, — огромная разница.
В самом начале карьеры сутулость и мрачная физиономия свидетельствовали о моей подавленности. Впоследствии же мой угрюмый вид стал признаком абсолютной концентрации, а сутулость — предвестницей близкого штурма. Кое-кто даже обвинял меня в притворстве: дескать, Сампрас надевает эту личину, чтобы потом ошеломить соперника своим натиском.
Неутомимый труженик, Тим старался выжать из моих игровых способностей все возможное. Именно так они с Томом работали над собой, чтобы преуспеть на профессиональном поприще. Тим хотел превратить меня в бойца — непредсказуемого для противников, уверенного в себе, готового к любым неожиданностям. Задача была не из легких, и результаты частенько оставляли желать лучшего, поскольку формироваться я начинал не по методам Тима, да и характер не переделаешь.
Прошлогоднее фиаско в Кубке Дэвиса было еще свежо в моей памяти. Тим, будучи давнишним и преданным почитателем Кубка, поставил своей целью вытравить из меня горький привкус прискорбного лионского финала.
Подобная возможность представилась уже в конце января, вскоре после Открытого чемпионата Австралии. (После изнурительного 1991 г. вместо поездки в Мельбурн я предпочел позаниматься с Тимом.)
В первом круге Кубка Дэвиса 1992 г. Соединенным Штатам выпало играть с Аргентиной, и мы были принимающей стороной. Теннисная ассоциация США решила провести встречу на Гавайях, на кортах с твердым покрытием, в расчете на то, что место и условия устроят наших ведущих игроков, которые уже возвращались домой, одержав немало побед в австралийских поединках.
Матч для меня сложился именно так, как мы планировали и надеялись. Том Гормэн был настроен оптимистически и горячо желал мне успеха. Командные совещания проводились по-прежнему, но на этот раз не слишком мне досаждали.
В матче с Мартином Хайте я уступил в первом сете, но потом одержал убедительную победу. Товарищи по команде тоже внесли свою лепту, и мы выиграли 3:0. Это вывело нас в мартовский четвертьфинал против державы, которая в те времена называлась Чехословакией. К счастью, мы снова имели преимущество принимающей стороны: Теннисная ассоциация решила провести соревнования в местечке Сонеста Сэнибел Резорт, в Форт-Майерсе (Флорида).
Я возвращался туда, где в 1989 г. участвовал в Кубке Дэвиса в качестве спарринг-партнера. Тогда в состав команды входили Андре Агасси и Майкл Чанг, а играли мы с Парагваем. Помнится, Дэн Голди и я, как спарринг-партнеры, получили по 2500 долларов — сумма вполне приличная. Теперь я вновь был в Сэнибеле и делил с Андре Агасси честь выступления в одиночном разряде. Теперь (под влиянием Тима) мое отношение к Кубку Дэвиса отличалось от прошлогоднего, и стоявшие передо мной задачи воспринимались гораздо спокойнее. По сути дела, я начал эмоционально адаптироваться к этим соревнованиям.
Андре был основным игроком команды на Кубке Дэвиса, но неформальным лидером оставался непревзойденный ветеран Кубка Дэвиса Джон Макинрой. Он уже завершал карьеру и выступал преимущественно в парном разряде, но по-прежнему играл роль того связующего элемента, который сплачивал команду. Тодд Мартин, впоследствии ставший моим хорошим другом, выполнял в команде функции спарринг-партнера.
Как-то раз на тренировке перед матчем Макинрой, завершив розыгрыш очка, посмотрел на Тодда, сидевшего у боковой линии, и гаркнул: «Полотенце!» (не «Полотенце, пожалуйста» или «Не дашь ли мне полотенце?», а просто: «Полотенце!»). В тот миг я случайно встретился глазами с Тоддом и понял, как сильно задела его эта грубость. Тодд взял полотенце и с нарочитой небрежностью кинул его Макинрою.
Я подавил невольную усмешку, поскольку точно знал, что думает Тодд: «Да кем, черт побери, ты себя возомнил?» Ответить вслух он не решился, так как являлся всего-навсего спарринг-партнером. Вечером мы обсудили этот маленький инцидент, и я вновь почувствовал, как неприятно было Тодду. До сих пор, встречая его в коридоре или в раздевалке, я бросаю на него взгляд, подмигиваю и громко рявкаю: «Полотенце!» И он, разумеется, меня понимает.
В одиночных матчах в Форт-Майерсе я взял верх над Карелом Новачеком, но проиграл Петру Корде. Героем же стал Андре: он выиграл пятую, решающую, встречу у Новачека, и в итоге наша команда победила со счетом 3:2.
В начале 1992 г. мои турнирные результаты не слишком впечатляли. Мы с Тимом еще только «разводили пары». Я проходил довольно далеко по турнирной сетке на одних соревнованиях, с трудом бился на других и до конца апреля не завоевал никакого титула.
Затем я провел, наверное, самый ровный сезон на европейских грунтовых площадках — дошел до полуфинала в Ницце и до четвертьфиналов на Открытых чемпионатах Италии и Франции.
Следующим этапом стал турнир, предшествующий Уимблдону, — лондонский «Куинс Клаб», и там я второй раз за год проиграл Брэду Гилберту. На Уимблдоне я уступил Горану Иванишевичу в полуфинале и по-прежнему на каждом шагу проклинал травяное покрытие. Игра шла стремительная, мячи были тяжелыми и летали как пули. Горан беспощадно гонял меня по корту, и не только потому, что обладал превосходящей «огневой мощью», — просто я пока еще был посредственным бойцом.
В том матче я не смог ничего противопоставить Горану на приеме, что часто случается на траве, когда соперник выстреливает эйсы налево и направо, и ты видишь, что твои шансы выиграть его подачу приближаются к нулю с каждым проносящимся мимо «ядром». Трава требует больше терпения, упорства и более высокого порога психологической устойчивости, чем любое другое покрытие.
Хотя я был рад, что дошел до полуфинала, этот матч до некоторой степени напоминал мой проигрыш Джиму на предыдущем Открытом чемпионате США. Я не настроился как следует на игру против Горана. Никто мне об этом не говорил — вряд ли кто-нибудь вообще это заметил. Но сам-то я знал...
Я покидал Уимблдон в предвкушении игр в моей зоне комфорта (сезон на твердом покрытии в США). Правда, перед этим я сумел выиграть крупный турнир на грунтовых кортах в Китцбюэле (Австрия), где победил нескольких очень сильных противников (в том числе Альберто Манчини — тогда одного из трех-четырех лучших грунтовиков). Наверное, это был мой второй по значимости успех на грунте.
Мне казалось, что я набрал хорошую форму к Олимпиаде в Барселоне, где игры проходили также на грунтовых кортах, и там дела у меня вначале шли удачно. Но в третьем круге я в пятисетовом матче уступил русскому мастеру игры на грунте Андрею Черкасову.
Постепенно моя игра явно приходила в норму, и по возвращении в США я начал побеждать всех подряд. Я выиграл один за другим турниры в Цинциннати и Индианаполисе, одолев Эдберга, Лендла, Беккера и Курье.
Преисполненный уверенности, я отправился в Нью-Йорк. В отличие от прошлого года я не испытывал никакого напряжения и в качестве одного из трех первых игроков мира ощущал себя вполне комфортно. За мной была победная серия из десяти матчей, которую я без труда довел до двенадцати в первых двух кругах на «Флашинг Медоуз».
В третьем круге я провел поистине эпическое сражение с моим приятелем Тоддом Мартином, дожав его в пятом сете, 6:4. А потом победил традиционно неудобного для меня противника — Ги Форже.
В четвертьфинале Александр Волков из России играл со мной так, будто боялся опоздать на самолет. Не припомню, чтобы кто-нибудь еще столь недвусмысленно слагал оружие, а ведь это был четвертьфинал турнира «Большого шлема»! Хотелось бы думать, что он пал духом, поскольку не видел ни единого шанса выстоять именно против меня, но подлинная причина таится глубже. Есть парни, подобные отлаженным гоночным машинам. Они быстры и надежны в знакомой, комфортной для них обстановке, но могут внезапно «слететь с трека», если утратят уверенность или столкнутся с какой-нибудь необычной ситуацией.
В полуфинале я быстро, в четырех сетах, справился с Джимом Курье и оказался во втором за мою карьеру финале Открытого чемпионата США. На сей раз, однако, пришлось иметь дело уже не с ровесником. Против меня играл бывалый, закаленный, на редкость хладнокровный соперник, с боем проложивший себе дорогу в финал, — Стефан Эдберг из Швеции.
Между мной и Эдбергом было много общего — замкнутость, стеснительность, приверженность старой школе тенниса. Хотя Стефан вырос в Швеции, он устремился против течения в этом царстве грунтовых площадок, подобно мне переключившись на одноручный удар слева, поскольку хотел играть в атакующий теннис.
Эдберг тоже рано проявил свое дарование, но несколько иначе, чем я. Он выиграл «Большой шлем» в юниорском разряде «восемнадцать лет и младше». Став профессионалом, он преодолел трудности вроде тех, которые я неосознанно переживал в 1992 г., и одержал победу на Открытом чемпионате США, позволившую ему встать в ряды великих игроков и полностью раскрыть свой талант. В отличие от меня (с моим «тяжким бременем») Стефана неотступно преследовала фраза журналистов об отсутствии «пламени в сердце»: в начале карьеры его часто упрекали в недостатке инстинктивного, жгучего желания побеждать.
Как назло, я встретился с Эдбергом именно в то время, когда он доказывал, что критики ошибаются. В предшествующем году он завоевал мой бывший титул на Открытом чемпионате США, с безупречным мастерством продемонстрировав в трех сетах несостоятельность прямолинейной игры Курье.
Этот прорыв положил конец пересудам об отсутствии «пламени в сердце», поскольку без должного настроя еще никто не выигрывал Открытый чемпионат США — исключительно напряженные, изматывающие состязания. А европейским игрокам здесь трудно вдвойне. Многие из них так и не смогли приспособиться к нашим условиям: удушающая влажность и жара, невыносимо нагретое покрытие кортов, хаотичная, навязчивая нью-йоркская атмосфера.
Даже на отъявленных скептиков произвели впечатление «подвиги» Эдберга, защищавшего свой титул чемпиона США на «Флашинг Медоуз» в 1992 г. В последних трех матчах перед финалом он доходил до тай-брейка в пятом сете и выигрывал у соперников высшего уровня: Ричарда Крайчека, Ивана Лендла и Майкла Чанга. Полуфинальная встреча с Майклом остается одним из величайших матчей всех времен — если не по качеству игры, то по напряжению. Она длилась пять часов двадцать шесть минут и стала новым рекордом продолжительного матча в истории Открытого чемпионата США.
Высокий и стройный, Эдберг превосходно двигался. Он виртуозно выполнял свою крученую подачу с высоким отскоком и бежал после нее к сетке, где великолепными ударами с лета перехватывал почти все ответные обводящие удары. Он мог озадачить соперника, приняв подачу сильным резаным или плоским ударом, проворно устремиться вперед и закончить розыгрыш очка ударом с лета. Быстрая атака с завершающим ударом с лета — вот вам вкратце суть его игры.
Если сопоставить меня с Эдбергом, то вывод очевиден — мы оба предпочитали атаковать. Мне казалось, что я имею преимущество в мощи, особенно на подаче, а при приеме совершаю меньше ошибок, чем он со своим не столь сильным ударом справа.
Готовясь к матчу, я знал, что должен стараться принимать его подачи в верхней точке, ударом сверху вниз так, чтобы мяч как можно быстрее опускался за сеткой. На тренировках я подпрыгивал выше уровня отскока крученой подачи, чтобы отразить ее сверху вниз плоским ударом. С таким игроком, как Стефан, я не мог позволить себе слишком долго раздумывать, куда именно направить ответный удар. Главное — это просто низкие удары при приеме, которые заставят его поднимать мяч над сеткой, после чего легче выполнить обводящий удар. Кроме того, я собирался как можно чаще использовать свой мощный удар справа и подавать достаточно хорошо, чтобы не предоставлять ему возможности атаковать и выходить к сетке после приема. Я решил терпеливо ждать тех благоприятных, пусть и немногочисленных, возможностей, которые (если только их не упускать) способны обернуть ход матча в мою пользу.
Утром перед финалом я проснулся в прекрасном настроении. Ведь я уже сделал немало — оказался в финале Открытого чемпионата США. Я был вполне доволен собой и, вероятно, именно потому нисколько не волновался, радуясь, что дошел до финала.
В тот день дул сильный ветер, непривычно громко посвистывая в чаше арены имени Луи Армстронга. Еще один фактор действовал против меня — небольшие спазмы в животе, результат недавнего пищевого отравления. Но я не обращал на это внимания в соответствии с австралийским правилом: коль скоро вышел на матч, нечего заранее искать оправданий для проигрыша! К тому же моя игра гораздо меньше зависела от физического состояния, чем от настроя мыслей и эмоций.
Начал я мощно и выиграл первый сет. Но потом завязалась упорная борьба. «Обновленный» Стефан Эдберг показал себя во всем великолепии. Он играл неистово, потрясал кулаками, вопил — словом, делал все, дабы продемонстрировать свой «сердечный пламень». Второй сет он выиграл. В критический момент матча — на тай-брейке в третьем сете — я весьма несвоевременно проиграл две собственные подачи, и Эдберг повел 6:4, получив два сетбола. Стефан выиграл сет и довел свое преимущество до двух сетов против одного, а затем я проиграл две свои подачи в начале четвертого сета. В один миг счет стал 3:0 в пользу Эдберга. Остаток матча я вяло пытался сделать хоть что-нибудь, но руки у меня уже опустились.
Потом я сказал на пресс-конференции: «По ходу матча я затрачивал слишком много энергии. Я очень сильно устал — возможно, скорее умственно, нежели физически».
И хотя на этот раз я говорил вроде бы искренне, в моих словах правда причудливо сочеталась с лукавством. Например, у меня имелись объективные физические проблемы — утомление и обезвоживание после отравления, но я предпочел заявить, что устал «скорее умственно». Логика несколько хромала, но этого никто не заметил. Мой ум якобы говорил, что тело ни на что не способно. На самом же деле он должен был твердить ослабевшему телу, что все получится. Короче, я пытался как-то оправдать свою неспособность и нежелание докопаться до сути. А дело было не просто в том, что я играл «погано». Я играл без души — а это грех куда более тяжкий.
Случившееся ошеломило меня и привело в смятение. В течение нескольких недель, пока я восстанавливался после длинного летнего сезона, в моем уме постепенно выкристаллизовалась эта горькая истина.
Вскоре после Открытого чемпионата США мы играли полуфинал Кубка Дэвиса со Швецией на крытых грунтовых площадках Таржет-Сентер в Миннеаполисе. Поскольку грунт не являлся моим излюбленным покрытием, я выступал только в парном разряде — с Макинроем. Мы выдержали настоящее сражение с одной из лучших пар той эпохи — Стефаном Эдбергом и Андерсом Ярридом.
Это был мой первый опыт на Кубке Дэвиса в качестве «специалиста в парном разряде», и меня удивило, насколько понравилось мне новое амплуа.
На большинстве турниров встречи в парном разряде служат своего рода приятной интермедией, но на Кубке Дэвиса, вследствие его формата, они играют ключевую роль. Будучи третьим по счету и единственным в субботу матчем, парная встреча способна сильно повлиять на исход всего соревнования. Для большинства команд, добившихся долговременного успеха в Кубке Дэвиса, краеугольным камнем служила превосходная пара. Когда счет в матче 1:1 (а так часто бывает после первых одиночных встреч в пятницу), изменить его на 2:1 — очень важное достижение.
Ни мой энтузиазм, ни игра нисколько не страдали от того, что моим партнером был Макинрой. Помнится, когда Питера Флеминга, долгое время выступавшего в паре с Макинроем, попросили назвать лучшую пару всех времен, он остроумно ответил: «Джон Макинрой и кто угодно в придачу».
Далее нас ожидал финал 1992 г. с командой Швейцарии на крытых кортах с твердым покрытием в Форт-Уорсе (Техас). Гормэн (видимо, еще не забывший о Лионе) предпочел не рисковать. Он поставил Курье и Агасси, демонстрировавших тогда великолепную игру, в одиночный разряд, а меня — в парный, и вновь с «Джонни Маком».
Меня это вполне устраивало. Андре зарекомендовал себя как великий игрок Кубка Дэвиса в одиночном разряде. Он настоящий сгусток эмоций, и никто не умеет так подогреть энтузиазм болельщиков. Джим тоже был избран по заслугам — настоящий боец Кубка Дэвиса, он выкладывался полностью, стойко и исключительно хладнокровно выдерживая любой прессинг. Пожалуй, у нас подобралась лучшая команда на Кубке Дэвиса за все времена, но эта компания отличалась своенравием. На церемонии открытия ведущий предложил нам надеть широкополые туземные шляпы. Это чем-то задело Андре, и он раздраженно фыркнул: «Я эту дурацкую шляпу не надену!» Вопрос о головных уборах техасских ковбоев был закрыт.
Команда швейцарцев состояла всего из двух игроков, зато очень сильных — Якоба Хласека и Марка Россе. Оба превосходно играли на быстрых кортах, что не совсем обычно, поскольку большинство европейцев предпочитают медленный грунт. Поэтому наше преимущество домашних и быстрых кортов оказалось довольно шатким. В этом игровом году Хласек набрал лучшую форму в одиночном разряде, а Россе показывал игру в равной степени мощную и коварную. Он умел подавать с выходом к сетке, хотя его звездный час пробил как раз на медленном грунте несколькими месяцами раньше, когда он завоевал золотую медаль в одиночном разряде на Олимпийских играх в Барселоне.
Андре выиграл первый матч, но затем Россе удалось взять верх над Джимом. Встреча в парном разряде с Хласеком и Россе, предстоявшая Макинрою и мне, внезапно сделалась критически значимой. И когда мы проиграли первые два сета, причем оба на тай-брейках, возникло впечатление, будто крохотная Швейцария способна одержать одну из самых невероятных побед на Кубке Дэвиса — одолеть США, да еще на их территории!
Джон пребывал в типично «макинроевском» расположении духа. Весь матч он подначивал Хласека, человека очень спокойного, почти невозмутимого, который думал только о деле и мог приспособиться к любому сопернику. Джон раздражался и был опасно близок к тому, чтобы выйти из себя. Но зато, в отличие от прочих, после таких эмоциональных вспышек он часто начинал лучше играть.
В первых двух сетах некоторые решения линейного судьи выглядели сомнительно, и в третьем сете Джон, наконец, взорвался после очередного, явно ошибочного, судейского решения. Сперва он обратил свой гнев против судьи на вышке и уже не мог остановиться — накричал на главного судью и на нашего капитана, Гормэна (за то, что тот проявил невозмутимость и «не вступился за нас»). Затем Джон разошелся вовсю и продолжал бушевать из-за любого пустяка, хотя инцидент давно был исчерпан.
В конце концов даже я не выдержал, повернулся к Джону и бросил на повышенных тонах: «Джон, хватит. Вопрос закрыт. Не будем зацикливаться на том, что случилось три гейма назад. Пора дело делать, слышишь?» По неведомой причине моя небольшая вспышка оказала нам двойную услугу. Джон остыл (если не вербально, то эмоционально), а я, напротив, разгорячился. Мы выиграли третий сет и пошли на десятиминутный перерыв, как положено перед четвертым сетом. После перерыва мы вернулись с горящими глазами и с «пламенем в сердцах». Это был тот редкий случай, когда я дал волю чувствам. Я выбрасывал кулак вверх и орал. Макинрой как минимум сотню раз проревел: «Валяй, дави!» Потрясая кулаками и вопя, мы проложили себе путь к победе в пятом сете — может, и не слишком изящной, но принесшей нам ни с чем не сравнимое облегчение.
Хоть в этом матче я и кипел эмоциями, но обычно мы с Макинроем смотрелись как Джекил и Хайд. Я воплощал собой спокойствие и осмотрительность, а Джон — несдержанность и вспыльчивость: всегда был готов взорваться и сцепиться с кем-нибудь. Он не мог иначе, и я это понимал. Мы хорошо дополняли друг друга. Джон подстегивал меня всплесками своих эмоций (пусть это и не было заметно), а я успокаивал его своим самоконтролем (даже если внешне он по обыкновению казался неистовым).
На следующий день, после того как Джим разгромил Хласека и поставил победную точку в матче, я стал чемпионом Кубка Дэвиса. Меня нисколько не смущало, что я играл финал только в парном разряде. Я внес свой вклад за целый год и чувствовал такую гордость, словно играл за Соединенные Штаты в каждой одиночной встрече на протяжении всего нашего пути к победе.
Однако всю осень я мысленно возвращался к проигранному матчу с Эдбергом на Открытом чемпионате. Этот случай не давал мне покоя. Время от времени я думал о том, что давным-давно сказал мне отец в Шривпорте. Да, я прошел в финал Открытого чемпионата США, но что толку? Ведь внимание журналистов, да и всех прочих, досталось другому парню — Эдбергу.
Я начал осознавать, в чем заключался мой главный «прокол»: я не нервничал перед матчем! В теннисе существует два типа нервозности. Есть вредная нервозность, которая может привести к оцепенению, замедлить игровые реакции, лишить дыхания. А есть полезная нервозность. Она служит признаком того, что предстоящий матч действительно для вас важен, что вам не терпится сразиться с соперником, даже если победа отнюдь не обеспечена. Это та самая нервозность, которая у некоторых выдающихся футбольных игроков вызывает желудочные спазмы перед решающей встречей.
А еще я раздумывал, почему в том финале не получилось хорошей игры. Конечно, отчасти виною мог быть ветер. Мое пищевое отравление, видимо, тоже сыграло роль. Но ведь и утомление Стефана после труднейшей дороги к финалу нельзя сбрасывать со счетов. И вот о чем я неотвязно думал: «Если и он, и я играли неважно, то почему победил он?» Ответ вызревал во мне медленно, несколько недель. Впервые я осознал и сумел сформулировать истинную причину: «Я проиграл, потому что опустил руки. И это — свойство моего характера».
Когда реальность предстала передо мной с полной очевидностью, я вынужден был признать, что в двух наиболее важных встречах 1992 г. — в полуфинале Уимблдона с Гораном и в финале Открытого чемпионата с Эдбергом — я, по сути, смирился с поражением, еще не исчерпав до конца свои резервы. Матч с Эдбергом стал соломинкой, переломившей спину верблюда. Я наконец понял, что если сам не позабочусь о себе, то кто это сделает за меня? Две блестящие возможности упущены, и нет никакой гарантии, что они представятся вновь.
Мне больше не нужно прикладывать усилия, чтобы подняться в рейтинге и занять положение, дающее шанс выиграть крупный турнир. Я уже его занял и достиг многого. Мое развитие — и техническое, и физическое — практически завершилось. Я сформировался как игрок (если не считать травяных кортов). Вопрос теперь стоял так: стремлюсь ли я побеждать на главных турнирах? И матч с Эдбергом заставил меня на него ответить. Постепенно я осознал не слишком лестные для меня вещи. Я никому ничего не рассказывал, даже отцу. А ведь это было совсем не трудно. Стоило только начать: «Слушай, я должен признаться: несколько важных матчей я попросту сдал». Но я все загонял вглубь и не получал прощения от самого сурового из судей — от самого себя.
Мой внутренний диалог продолжался около двух месяцев. «Зачем чрезмерно усложнять свою жизнь? Если видишь, что кому-то несладко, зачем уподобляться ему?» На самом деле я был слегка ошеломлен своим стремительным подъемом на теннисные вершины, к тому же испытывал излишнее довольство собственными достижениями. «Почему, — спросил я напоследок, — ты считаешь себя белым и пушистым?»
Несколько лет мне понадобилось, чтобы найти ответ. Вот он — в самом простом изложении. Каждый имеет свое место под солнцем и тратит значительную часть взрослой жизни, чтобы застолбить собственный участок — пространство, где он чувствует себя комфортно. Некоторые, взлетая до номера первого, думают: «Нет, тут мне не нравится — слишком неуютно. Слишком тревожно. Слишком много ответственности». И слегка отступают, находят зону комфорта в районе третьего, пятого номера или еще дальше. Я мог бы последовать их примеру. Некая «часть меня» действительно стремилась к этому в начале моей карьеры. Суть в том, что если вы где угодно, но только не на первом месте, — вы не на виду. При этом можно регулярно выступать на второй неделе основных турниров, время от времени что-нибудь выигрывать, снискать кое-какой почет и деньги — и спокойно жить в полное свое удовольствие.
Честно говоря, не могу объяснить, почему моя беседа с самим собой приняла подобный оборот. Но случилось именно так. Я решил, что наделен великим талантом — и не пекусь о нем. Я награжден Даром, но пренебрегал им — причем именно в тех случаях, когда только он и мог выручить меня. Тесниться в толпе равных — не по мне: я буду томиться и тосковать. Я понял, что главное — не добиться чего-то, а сохранить достигнутое. Заняв свое место, мы не желаем его уступать. Не хотим, чтобы нас кто-нибудь вытеснил. Вот этот настрой, в конечном счете, и делает человека бойцом — полностью сформировавшимся, способным потягаться с кем угодно.
Научить решимости, конечно, нельзя, но ее можно выработать. Она либо свойственна вам, либо нет — это уж каждый определяет сам для себя. И если вы решили стать номером первым, вам придется понять, что больше нельзя ни за кого прятаться. Отныне у вас на спине мишень — и к такой жизни вы должны привыкнуть.
Теперь я был к этому готов. Матч 1992 г. с Эдбергом сделался моим Рубиконом, моей версией известной истории про Мохаммеда Али, однажды ночью швырнувшего свою олимпийскую золотую медаль в реку Огайо. В конце 1992 г. я исполнился решимости грядущий год провести на вершине.
Глава 5 "Скучный" чемпион 1993-1994
В 1993 год я вступил, исполненный решимости впредь не сдаваться до последнего мяча. Я поклялся, что никогда не проиграю важный матч (особенно финал «Большого шлема» или нечто с ним сопоставимое) только потому, что мне не хватило духу сражаться до конца, отдав все силы для победы. Я дал себе слово, и теперь оставалось только сдержать его на корте.
В начале года я уверенно входил в группу ведущих игроков мира и был доволен своей игрой гораздо больше, чем прежде.
Я уступил Эдбергу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (где он, в отличие от меня, всегда был на высоте), но затем выиграл турниры в Филадельфии, Майами, Токио и Гонконге, и впервые за всю мою карьеру компьютер поставил меня на первое место в мировой классификации. Такой взлет отчасти вызывал недоумение: ведь я стал номером первым за счет побед где угодно, но только не на турнирах «Большого шлема». Разумеется, я не мог отвечать за то, как компьютер АТП начисляет очки, но объективно в начале года я, наверное, показал самые стабильные результаты в АТП.
И все же меня очень угнетало то, что пока я выиграл лишь один главный турнир, а на счету Джима Курье значились уже целых четыре такие победы (две на «Ролан Гарросе» и две на Открытом чемпионате Австралии). Он стал лидером нашего поколения (Майкл, Андре и я имели по одной победе). Меня это совершенно не устраивало, и я решил вернуть себе место на вершине нашей неофициальной иерархии. Это было для меня важнее всех компьютерных рейтингов.
Я хорошо провел сезон на грунтовых кортах: победил Алекса Корретху, Андрея Черкасова, Гильермо Переса-Ролдана и еще нескольких сильных грунтовиков, но на «Ролан Гарросе» все же уступил в четвертьфинале будущему чемпиону, Серхио Бругейре.
Затем начались игры на траве. Я отправился на турнир «Куинс Клаб» и в первом же круге проиграл одному из южноафриканских мастеров игры на травяном покрытии, Гранту Стаффорду. Это меня не слишком расстроило, поскольку я ни разу не блеснул в «Куинс Клаб» в те годы, когда довольно успешно выступал на Открытом чемпионате Франции.
Мое поражение объяснялось не столько необходимостью перестроиться с грунта на траву, сколько общим спадом спортивной формы, который я всегда ощущал, упустив шанс выиграть турнир «Большого шлема». Мне требовалось какое-то время, чтобы восстановиться (прежде всего эмоционально) после тяжелой борьбы на крупном турнире, особенно если она закончилась неудачей.
В 1993 г. я являлся одним из несомненных фаворитов Уимблдона — и не только в глазах экспертов и лондонских букмекеров. На сей раз я решительно настроился на победу.
Когда я пригласил в тренеры Тима, то одна из главных его задач состояла в том, чтобы наладить мою игру на травяных кортах, и с самого начала нашей совместной работы мы занимались ею в различных аспектах. Мы решили, что мое поражение в «Куинс Клаб» пришлось даже кстати: теперь у нас в запасе были почти две драгоценные недели, чтобы сгладить последние (как мы надеялись) шероховатости моей игры, перестроенной под Уимблдон.
Когда мы с братом Гасом впервые приехали на Уимблдон в 1989 г., то отправились прямиком на Центральный корт и просто уселись, глазея по сторонам.
В детстве, когда я смотрел Уимблдонский турнир по телевизору или на кинопленке, этот корт поразил мое воображение, и спустя годы, уже став молодым профессионалом, я испытал нечто похожее на шок, убедившись, что он действительно существует.
На самом деле размеры уимблдонского Центрального корта оказались значительно меньше, нежели представляли мы с Гасом. Минут десять мы сидели, впитывая образ пустого, тихого стадиона и пристально вглядываясь в свежую, манящую, изумрудно-зеленую траву. Именно здесь (это мы видели по телевизору) одержал свою победу Джон Макинрой; здесь сыграл свои знаменитые матчи Лейвер — их мы созерцали на стене нашей гостиной.
И вот настало время, когда нужно самому сыграть на уимблдонской траве, а не просто понаблюдать за другими. Для меня это до некоторых пор оставалось проблемой. И суть ее была довольно проста: я мог легко держать свою подачу, но при этом проигрывать матчи со счетом 7:6, 7:6, 7:6. Что бы там ни говорили, а в теннисе на траве главное не подача, а прием. Моя игра формировалась на харде, где моя подача, даже вторая, всегда давала мне определенное преимущество. Но в начале 1990-х годов на травяных кортах мне не удавалось его добиться — особенно против мастеров травяного покрытия, лучше меня знавших, как выигрывать свои геймы с помощью подачи с выходом к сетке.
Суть тенниса на траве состоит в том, чтобы держать свою подачу и уметь выиграть одну-две подачи соперника. Это может повлиять на исход всего матча. Если сопернику повезет и он на приеме выполнит пару выигрышных ударов, а потом вы допустите ошибку... тогда все, сет потерян. Мне это представлялось лотереей, какой-то несправедливостью. К тому же меня давно беспокоили (и больше, чем следовало) непредсказуемые отскоки мяча, с которыми неизбежно имеешь дело на траве.
Обычно такая проблема возникала и на соревнованиях, предшествующих Уимблдону, и на завершающих его стадиях, когда интенсивная нагрузка на корты в течение турнира приводила к ухудшению качества травяного покрытия.
Еще одна особенность игры на траве — иной способ передвижения. Здесь нужно играть в более низкой стойке, что увеличивает нагрузку на колени и поясницу, поскольку на траве отскок сравнительно невысокий (и неожиданный!). Все это требовало внести в игру целый ряд корректировок, но они не доставили мне особых трудностей — я был достаточно гибок, чтобы быстро осуществить все необходимые изменения. Кроме того, на траве нередко приходится обводить соперников, обладающих не просто сильными, а очень мощными подачами. Это казалось мне непривычным, поскольку при игре на харде мои приемы и удары с отскока были достаточно хороши, чтобы отбить у соперников охоту атаковать меня после подачи. Таков перечень неудобств при игре на травяных кортах.
Должен сказать, в начале работы с Тимом трава вызывала у меня столь негативные эмоции, что Джон Макинрой (которому порой досаждала английская публика, но отнюдь не английская трава) не упустил случая мне попенять. Однажды, в 1992 г., мы с ним тренировались рядом на кортах в Эйренджи-Парке. Тогда я вечно жаловался Тиму, что у меня на этой проклятой траве дело не клеится, и услышал, как Джон процедил сквозь зубы: «Пора бы тебе избавиться от травяного комплекса». Я до сих пор помню: от слов Джона во мне что-то сдвинулось.
За две недели подготовки к Уимблдону-1993 во мне окрепло ощущение, что я наконец освоил технику игры на траве. Одним из важнейших элементов, над которыми мы работали, был прием подачи. Тим добился, чтобы я уменьшил замах, особенно при приеме слева. Он настаивал, что ракетку следует держать впереди себя, поскольку на замах, не говоря уж о сильном ударе наотмашь, почти никогда не хватает времени. Еще он хотел, чтобы я чаще применял блокирующие приемы, используя скорость подачи соперника. Ведь когда соперник атакует на траве, то вполне достаточно просто направить мяч в любую сторону от него или выполнить короткий, мягкий ответный удар, после которого сопернику будет очень трудно сыграть ударом с лета.
На протяжении двухнедельного «затишья перед бурей» Уимблдона у нас не было интенсивных тренировок и больших нагрузок. Мы в основном оттачивали прием подачи. И все это время Тим твердил, что я должен стать крепким орешком для любого соперника. Он делал все возможное, чтобы превратить меня в уверенного, упорного игрока. Теперь мне раскрылись практически все «травяные секреты», и Тим чувствовал, что самое трудное для меня — сохранить уверенность и мужество, чтобы сыграть в полную силу.
Жеребьевка Уимблдона сложилась для меня не вполне удачно. В первых трех кругах мне достались соперники не слишком блистательные, но зато умело игравшие на траве. Пришлось пройти двух австралийцев (Нейла Борвика и Джейми Моргана) и зимбабвийца Байрона Блэка. В результате в одной шестнадцатой финала мне предстоял матч с Эндрю Фостером, английским игроком весьма невысокого уровня, который, однако, как-то сумел «пролезть» в четвертый круг. Встреча предстояла отнюдь не простая, поскольку англичане давно жаждали завоевать титул чемпиона Уимблдона в мужском одиночном разряде — чего не бывало со времен Фреда Перри еще в 1930-х годах.
Даже самый отчаянный английский оптимист не рискнул бы предположить, что Фостер выиграет Уимблдон, но победа над первой ракеткой мира Питом Сампрасом, для которого Уимблдон всегда был слабым местом, — неплохой задел! Поэтому пресса вознесла Фостера на волне лести и надежд, да и сам он уверовал, что у него появился редкий, уникальный шанс (возможно, во всей его спортивной карьере) — и к тому же на единственном турнире, который действительно важен для подавляющего большинства его соотечественников. Чтобы еще больше смутить меня, организаторы турнира предоставили нам самый удаленный корт — № 13.
Официально корт № 13 относился к числу главных, или «зрительских». С одной его стороны стояла многоярусная трибуна со складными алюминиевыми сиденьями (тогда как «игровые» корты, которые обычно отводились второстепенным играм, имели очень мало сидячих мест). На 13-м корте зрители рассаживались по принципу «первым пришел — первым занял», и любой, у кого был билет или пропуск на площадки Уимблдона, мог поискать там местечко. Отсюда следовало, что там соберется публика самая страстная и пылкая, преимущественно английские фанаты — буйные и в большинстве своем не вполне трезвые.
Матчи, назначенные перед нашей встречей, продолжались долго, и наш с Фостером корт освободился только к вечеру. Поэтому у фанатов было достаточно времени, чтобы накачаться пивом или традиционными английскими коктейлями «Pimms». Перед матчем я дал себе зарок не вступать ни в какие перепалки, поскольку ситуация легко может выйти из-под контроля.
Показав почти безупречный теннис, я выиграл первые два сета, уступив противнику всего три гейма. Но Фостер, окрыляемый не угасшей пока надеждой и воплями болельщиков, в третьем сете проявил неожиданное упорство. Мы по очереди выигрывали каждый свою подачу шесть, восемь, десять геймов, и постепенно толпа, почуявшая, что с Фостером еще не покончено, пришла в неистовство. К тому же надвигались сумерки. Так сошлись воедино опасные для меня — фаворита этого матча — факторы: неблагоприятные условия, буйство фанатов и боязнь упустить преимущество.
В худшем случае, думал я, можно просто дотянуть матч до момента, когда он будет прекращен из-за темноты, собраться с силами и дожать соперника на следующий день. Но что-то во мне противилось, требуя выложиться, дойти до конца и покончить с соперником немедленно. Наверное, это была потребность избавиться от того горького привкуса, который преследовал меня со времени последнего финала Открытого чемпионата США. Конечно, Фостер — не Эдберг, а корт № 13 — не арена имени Луи Армстронга, но по сути это был для меня переломный момент.
Я поднажал и довел сет до тай-брейка, где, играя на своей подаче с особенным вниманием и выиграв несколько приемов, все же «додавил» Фостера.
Выиграв матч-пойнт, я вскинул руки, повернулся к толпе и крикнул: «Ну что, съели, козлы!» Фоторепортеры у бровки корта отчетливо расслышали мои слова, и в Англии (где бульварная пресса является реальной силой) это сулило мне неприятности. «Мальчики с Флит-стрит» (да и девочки тоже), сочиняющие статьи для таких газетенок, очень любят выуживать любую информацию и раздувать заурядные происшествия до масштабов великой сенсации.
Излюбленная хитрость пишущей братии на Уимблдоне — затесаться в ряды фоторепортеров, которых пускают гораздо ближе к игрокам, чем журналистов. Благодаря этому они видят и слышат практически все, что игрок делает и говорит во время матча. И они-то наверняка расслышали мой оскорбительный выкрик — в отличие от большинства фанатов, которым, собственно, он и был адресован.
На пресс-конференцию я пришел исполненный спокойствия, удовлетворенный своей победой. Первый ряд заполняли господа, слишком хорошо одетые для репортеров. Один из забавных парадоксов заключается в том, что люди, кропающие пошлые и безответственные статейки для английских бульварных газет, всегда одеты безукоризненно, вплоть до платочка в нагрудном кармане или бутоньерки в петлице. И вдруг один из этих вылощенных денди спрашивает со своим чисто английским прононсом: «А правда ли, что вы назвали английских зрителей козлами?»
Я оцепенел. Мне и в голову не приходило, что могут задать такой вопрос. Никогда не забуду, насколько был неприятен этот момент. Конечно, я категорически отрицал, что произнес нечто подобное. Наверное, я поступил малодушно — во всяком случае, чувствовал себя крайне неловко. Но меньше всего мне хотелось ввязываться в публичное обсуждение возгласа, непроизвольно вырвавшегося в пылу схватки. Впрочем, мои оправдания ничего и не решали. История так или иначе назавтра попала в газеты, и возникло впечатление, будто вся Англия меня ненавидит. Вот что натворили мой опрометчивый выкрик и могущество бульварной прессы!
Разумеется, самая трудная часть Уимблдона-1993 была впереди. В четвертьфинале меня поджидал Андре Агасси: он защищал свой чемпионский титул и, похоже, ему предстояло сделаться моим вечным соперником.
Борьба получилась напряженная, на высоком уровне, с многократными потерями подачи. Матч развивался с переменным успехом вплоть до конца пятого сета. Было ясно, что решит его один удачный удар. Мне помогало то, что Андре, по-видимому, испытывал психологические трудности, отстаивая свой первый титул чемпиона «Большого шлема», да и быстрое покрытие не являлось его преимуществом. Я знал, что могу положиться на свою подачу, и дело заключалось лишь в том, чтобы найти способ выиграть подачу Андре. Игра была очень высокого качества, но темп ее постепенно спадал. В конце пятого сета я все же сделал брейк, затем выиграл свою подачу, а с ней и матч.
В полуфинале я играл с Борисом Беккером. К тому времени он уже был многократным чемпионом Уимблдона и признанным кумиром местной публики. Первый сет напоминал перетягивание каната, но все же я выиграл его на тай-брейке. Видимо, это надломило волю Беккера. В двух следующих сетах я выиграл по одной его подаче и завершил матч вполне убедительной победой в трех сетах.
Так как нашу встречу с Беккером назначили второй, я смог частично посмотреть первый полуфинальный матч: Джим Курье против Стефана Эдберга.
Подобно прочим, я ожидал, что верх возьмет Эдберг — ведь он великолепно играл на траве. Но Джиму был нипочем любой тип покрытия, и он сумел найти путь к победе. С блеском продемонстрировав, на что он способен в сложных обстоятельствах, Курье пробился в финал.
Итак, в первом моем финале Уимблдона мне противостоял парень, с которым мы, можно сказать, вместе росли, — спокойный, уравновешенный, опытный и, в отличие от меня, никогда не проигрывавший из-за упадка духа. Мы уже не были близкими друзьями, но никаких проблем в общении не испытывали; всегда здоровались, встречаясь в коридоре или раздевалке, и охотно болтали, оказавшись рядом в тренировочном зале или ресторане гостиницы.
Многие считали, что я незаслуженно вытеснил Джима с первого места в мировом рейтинге — ведь на турнирах «Большого шлема» он выступал явно лучше меня. Но я не обращал на это внимания и был полон решимости сохранить первый номер за собой. А главное, хотя Джим превосходно сыграл на нескольких крупных турнирах, я все же победил его в четырех финалах и вел 3:0 в наших встречах на турнирах «Большого шлема».
Проснувшись в день финала, я ощутил необычное нервное напряжение — чувствовал себя совсем иначе, чем перед финальным матчем с Эдбергом на Открытом чемпионате США в 1992 г. Ночь прошла ужасно и, хотя меня не мутило, в желудке временами возникали какие-то спазмы, мешавшие есть. Я не мог отделаться от воспоминаний об Открытом чемпионате 1992 г. Сейчас мне предстояло впервые с той поры играть финал турнира «Большого шлема», и я испытывал новое ощущение — боязнь проигрыша. Казалось, случится катастрофа, если я упущу и этот шанс. Мне чудилось, будто я должен идти не на теннисный матч, а на заседание суда, исход которого неведом. На моем счету имелись финалы нескольких дюжин турниров, но теперь речь шла о турнире «Большого шлема», где многое для меня пока еще было внове.
Несмотря на то что с сентября 1990 г. я провел множество матчей, это был только третий мой финал в турнирах «Большого шлема». Первый я выиграл, второй проиграл, и поражение больно уязвило меня. Я не знал, что мне уготовано на сей раз, однако не помышлял об отступлении. Так или иначе, не было речи о «легкой прогулке», где нечего терять. Я знал, что являюсь фаворитом финального матча за счет преимущества, которое дает на траве мой стиль игры, а это само по себе изрядный напряг!
Тим хотел, чтобы я сразу навязал Джиму свою игру — подавил его, продемонстрировав во всей красе подачу с выходом к сетке. Мы знали, что Джим очень уверенно чувствует себя в экстремальных игровых ситуациях, а мячи после его ударов справа летят со скоростью и точностью пули. Но если мне удастся выполнять удары с низким отскоком, это помешает ему играть в привычном стиле — как на грунте, и я смогу расстроить его игру. Но Тим также понимал, что я могу сыграть ниже своих возможностей и даже пасть духом в самый разгар схватки.
Предматчевая разминка с Тимом была короткой. Я никак не мог сконцентрироваться на мяче. Вместо того чтобы спокойно обмениваться ударами, разогреться и нащупать свою игру, я спешил, так как мне не терпелось закончить разминку. Я очень хотел освободиться к двум часам дня, чтобы настроиться на мой судьбоносный матч. Меня неотступно сверлила мысль: если ты дошел до финала, это не значит, что дело в шляпе, — все только начинается. Твои предыдущие турнирные победы — замок на песке, а проигрыш финала — нахлынувшая волна. За секунду она смоет все, что ты успел возвести.
Реальность такова, что побежденного в финале не помнит никто! На ум мне пришла язвительная реплика отца, брошенная в Луизиане: «Посмотри — сейчас этот репортер говорит с Мэлом».
Напряжение терзало меня. Было четвертое июля, жара стояла адская. Но как только мы с Джимом приступили к разминке на Центральном корте, все сразу куда-то исчезло. Я подчеркиваю: все — тревога, нервозность, стресс. Прибегая к достопамятному изречению, я почувствовал себя так, будто с моих плеч сняли тяжкое бремя. Тридцать шесть часов страшного напряжения словно испарились. Я с особенной остротой осознал, что могу наконец свободно дышать, и это было изумительно! Никогда не забуду того ощущения. Мне казалось: я сейчас взлечу, да вот туфли не пускают.
Я столько раз играл с Джимом в юные годы, что почти физически чувствовал, как мяч отрывается от струн его ракетки, и это знакомое ощущение добавляло мне уверенности. Меня подогревало сознание, что это не просто финал турнира «Большого шлема» — это финал Уимблдона, заключительный матч соревнований, которые я так часто смотрел по телевизору, пока рос. Я знал и о королевской ложе — закрытом темно-зеленом отсеке, где зрители располагались куда вольготнее, нежели простые смертные, и сидели в плетеных креслах на коричневато-зеленых подушках. Удары по мячу на Центральном корте звучат отчетливо, поскольку он небольшой, огороженный и частично крытый.
С самого начала я играл хорошо — даже отлично. Но с Джимом всегда приходится нелегко. Мне нужно было держать свою подачу и искать возможности взять подачу соперника. В первых двух сетах такие шансы материализовались только на тай-брейках. На самом деле это отличительная особенность тенниса на траве. Я доминировал на своей подаче (за матч я сделал двадцать два эйса) и подкреплял ее точными ударами с лета. Но справиться с подачей Джима — куда более трудное дело. Когда мы приходили к очередному тай-брейку, я хорошо понимал, что один мой неверный или его удачный удар способен решить исход сета.
Моя подача с выходом к сетке помогла мне на первом тай-брейке. Решающим моментом матча стал, наверное, сетбол, который был у Джима на тай-брейке второго сета, при счете 6:5 в его пользу. При розыгрыше мяча я сделал на первый взгляд неудачный удар с лета. Казалось, этот нелепый мяч улетит далеко и сет останется за Джимом, но мяч удивительным образом замер в воздухе и попал точно в заднюю линию. Счет на тай-брейке сравнялся — 6:6. Джим был обескуражен, а я ухватился за свой шанс и через два розыгрыша очка завершил сет коротким кроссом справа. Потом Джим совершенно справедливо сетовал по поводу упущенной им возможности на сетболе: «Таков теннис на траве — тут уж как фишка ляжет».
Но даже при двух сетах в мою пользу дело было еще далеко от завершения. Случилось так, что огромное облегчение, которое я почувствовал, выиграв второй сет, вызвало у меня резкий спад в игре. На подаче во втором гейме третьего сета я допустил двойную ошибку на брейк-пойнте, и Джим воспрял духом. Я смог отыграть брейк, но все равно чувствовал себя опустошенным из-за огромных затрат нервной энергии. Я по-прежнему играл сильно и хорошо, но уже начал ощущать усталость.
Я понимал, что показывать противнику свое утомление ни в коем случае нельзя. Мне нужно было заставить себя выпрямиться и расправить плечи. Именно это Тим вдалбливал мне все восемнадцать месяцев наших совместных занятий, и я себя принудил. Я запретил себе помышлять об усталости. Но Джим снова сделал брейк в восьмом гейме, а потом завершил сет победной подачей.
В четвертом сете мы в течение пяти геймов брали каждый свою подачу, и я чувствовал, что ситуация для меня усложняется. Но именно в этот момент моя новообретенная решимость заявила о себе. Годом раньше я бы, наверное, не выдержал, отдал четвертый сет, а там — кто знает? Я инстинктивно чувствовал, что такой поворот событий вполне реален, но не раздумывал об этом. Я сумел заглушить свои сомнения и заставил себя бороться еще упорнее — упорнее, чем когда-либо раньше. Я полностью овладел своей игрой и завершил шестой гейм четвертого сета на подаче Джима обводящим ударом справа. Внезапно мне полегчало — всего два гейма отделяли меня от чемпионского титула. Эти геймы прошли в обмене эйсами и завершающими ударами с лета.
Когда я выиграл матчбол, то ощутил необычайный прилив радости, смешанной с облегчением. Я наконец понял, что значит быть достойным титула чемпиона турнира «Большого шлема». Мне было все равно, что думают и говорят другие. В глубине души я понимал: настал тот миг, к которому я стремился! Прежде я знал, что могу блеснуть отличной игрой в матчах, могу стать победителем на турнирах, даже на каком-нибудь турнире «Большого шлема», — если все сложится удачно. Но в этом матче мало было сыграть просто хорошо — здесь было необходимо проявить чемпионский характер.
Я прошел через все испытания и тревоги, показав, чего я стою. Этот финал принципиально отличался от всех прежних — здесь я точно знал, что именно лежит на чаше весов.
В тот день я принял важное решение: впредь я буду всегда добиваться этого особого настроения — острой тревоги и нервного возбуждения, перетекающего в абсолютную концентрацию и чувство полного освобождения, когда матч, наконец, начинается, — перед каждой серьезной встречей, которая мне предстоит.
Победа на Уимблдоне-1993 знаменовала начало моей карьеры чемпиона и лидера мирового рейтинга. Правда, один не слишком приятный эпизод на пресс-конференции наглядно показал, какой я еще незрелый юнец — в эмоциональном плане. Ныне покойная принцесса Диана смотрела мой матч с Джимом и не скрывала, что болеет за меня. Когда английские журналисты спросили, что я об этом думаю, я легкомысленно брякнул: «Может, она в меня влюбилась?» Раздались смешки, в том числе истерические. Короче, о том случае лучше не вспоминать.
Путь к вершине у каждого свой — это я понимал всегда. Взять хотя бы моего теннисного «преемника», Роджера Федерера. Он выступал на шестнадцати турнирах «Большого шлема», где не дошел даже до четвертьфинала, — поразительная статистика, если учесть, чего он с тех пор добился. Но лично я содрогаюсь при одной только мысли о том, как повлиял бы на мое будущее проигрыш в матче с Джимом. Это был последний фрагмент моей чемпионской мозаики. Я наконец освоился со своим Даром и осознал, как управлять новыми возможностями и изменениями в жизни, которые влечет обладание им. В лице Тима Галликсона я обрел тренера, которому удалось понять и мою игру, и мою сущность. Он знал, что именно мне необходимо, и сумел стать моим другом. Затаив дыхание, он наблюдал, как я пытаюсь положить конец своей внутренней борьбе: «Действительно ли я хочу быть чемпионом? Действительно ли у меня есть сердце, ум и воля чемпиона?»
После Уимблдона Тим тоже вздохнул с облегчением.
Завоеванный на Уимблдоне титул по-новому определил мою теннисную миссию. Обретенный статус потребует от меня как можно больше выигрышей, чтобы подтвердить звание чемпиона-лидера. Я также понимал, что в дальнейшем меня ждет и немало поражений. Да и как их избежать, проводя сто с лишним матчей в год против множества ярких соперников, наделенных индивидуальной манерой игры?
Я буду проигрывать из-за травм, нехватки энергии, неудачных действий и в том числе по самой распространенной причине: потому что меня превзошел противник, которому все удавалось лучше в тот день — иногда особенно важный. Такое случается! Но поверьте: из всех наших невзгод эта — самая легкая.
Проигрывать я научился рано, но лишь в 1993 г. до конца понял, как выигрывать, даже если ты устал, утратил волю и готов бросить это дело, чтобы заняться чем-нибудь другим. Осознав, как мобилизовать свое самолюбие и внутренние резервы упорства, я стал чувствовать себя гораздо комфортнее в роли «человека-мишени».
Я преодолел юношеские комплексы, ощутил в себе решимость и готовность претендовать на любой из титулов «Большого шлема». Казалось, теперь на этом пути нет неодолимых препятствий, но обстоятельства редко складываются именно так, как рассчитываешь.
После Уимблдона я проиграл на четырех турнирах подряд, и притом на моих коронных площадках — открытых кортах с твердым покрытием. Правда, на трех из них (в Лос-Анджелесе, Цинциннати и Индианаполисе) я продвинулся довольно далеко. Я сыграл в двух полуфиналах и четвертьфинале, всякий раз уступая чемпиону (или будущему чемпиону) «Большого шлема» — Ричарду Крайчеку, Стефану Эдбергу и Патрику Рафтеру соответственно.
На Открытый чемпионат США я отправился в неплохом настроении. Это был один из тех случаев, когда жеребьевка оказалась такой, что турнир уподобился открытому подвалу банка, где золото так и просится в ваши карманы. Самым трудным противником, который достался мне на чемпионате, был Майкл Чанг в четвертьфинале. Но тогда я уже играл слишком мощно для соперника из моего далекого детства. Я просто физически подавил его, разыграв классический вариант мужского тенниса.
В финале на «Флашинг Медоуз» я встретился с довольно неожиданным противником — французом Седриком Пьолином. Это был хитрый игрок; он хорошо двигался, обладал широким набором ударов, которые эффективно использовал, чтобы привести соперника в замешательство. Вместе с тем ему предстоял первый финал турнира «Большого шлема», а это нешуточное дело для спортсмена, который выступает уже немало лет, но незнаком с особенностями игры на высшем уровне.
Один из сюрпризов, подстерегающих тех, кто получил шанс добыть драгоценный титул чемпиона «Большого шлема», — это обстановка, в которую они попадают в знаменательный день финала.
Никто из новичков не ожидает, что будет играть финал турнира «Большого шлема» в трудных условиях, мешающих продемонстрировать наиболее результативный или красивый теннис. В ваших мечтах финал озарен солнцем, воздух безмятежен, зрители благосклонны и провожают каждый ваш удар справа и слева взволнованными вскриками и вздохами. Но так случается крайне редко!
Финальный день Открытого чемпионата США выдался ветреным. На арене имени Луи Армстронга, как правило, гуляет ветер, и это, по-видимому, мешало Пьолину. Я вышел на корт с мыслью: «Как выиграть матч с наименьшими физическими и эмоциональными затратами?» Для меня условия были вполне комфортными, а он явно нервничал и, похоже, не слишком уютно чувствовал себя на таком большом стадионе. Я выиграл 6:4, 6:4, 6:3, и этот матч положил начало периоду моего господства в мировом теннисе.
В августе 1993 г. (благодаря той самой компьютерной системе начисления очков, которая облагодетельствовала меня в апреле) Джим Курье на короткое время занял в классификации первое место. Но в сентябре я вернул его и на сей раз удерживал более полутора лет. Я вошел в роль хозяина положения и по совету Тима попытался окружить себя ореолом непобедимости. Все меньше я был склонен явить публике хоть одну из своих слабостей.
Весь остаток 1993 г. я не выходил из чемпионской гонки, но проиграл несколько важных матчей. Горан Иванишевич, мой соперник по Уимблдону, подловил меня на быстром ковровом покрытии в четвертьфинале Парижского турнира на крытых кортах. Правда, я взял у него реванш через несколько недель на Чемпионате АТП, но в финале уступил Михаэлю Штиху. К удивлению многих знатоков, именно Штих был тем игроком, чей теннисный арсенал доставлял мне наибольшие неудобства. Он обладал мощной второй подачей, мог делать на корте решительно все, в том числе подавать с выходом к сетке. Двигался он легко и непринужденно. Эти качества вкупе с тем обстоятельством, что Штих играл в Германии, перед своими соотечественниками, оказались для меня слишком серьезным препятствием.
В последнем турнире года, Кубке «Большого шлема», я уступил «драгоценный» финал Петру Корде, чешскому игроку, лишь недавно заявившему о себе. Матч закончился в пятом сете со счетом 13:11 (на этом турнире не был предусмотрен тай-брейк в пятом сете), и Корда получил чек на впечатляющую сумму 2 миллиона долларов.
Начало 1994 г. я встретил на Открытом чемпионате Австралии, где, выиграв первые два матча, встретил на своем пути новичка из России — Евгения Кафельникова. Мне советовали обратить внимание на этого высокого, поджарого парня с соломенными волосами, белозубой улыбкой и отменным двуручным ударом слева. А вот его удар справа с виду был одним из самых нескладных, какие только встречались в теннисе. Он наносил его согнутой рукой, что выглядело просто безобразно, особенно по сравнению с плавным, красивым ударом слева. Но удар справа у Кафельникова на самом деле был куда лучше, чем казалось, да и способности он имел достаточно большие, чтобы причинить мне немало неприятностей. К тому же, как правило, я не слишком удачно играл против тех, с кем не встречался раньше. Преимущество, вытекавшее из моего статуса и опыта, сводилось на нет, поскольку мне обычно требовался матч-другой, чтобы присмотреться к сопернику и найти оптимальный способ приноровиться к его манере игры.
Тем не менее я прошел Кафельникова, затем победил Ивана Лендла и встретил своих старых друзей: Джима Курье и Тодда Мартина — в полуфинале и в финале соответственно. Я одолел Тодда в трех сетах и выиграл мой третий турнир «Большого шлема».
Будучи на подъеме, я одержал победу в двух крупных американских зимних турнирах на харде — в Индиан-Уэллс и Ки-Бискейн. Постепенно я начал замечать, что ко мне относятся с неким благоговейным трепетом, и это мне понравилось.
Из Майами я отправился на Дальний Восток, в мини-турне по кортам с твердым покрытием, которые появились в окрестностях Осаки и Токио. Сейчас в Азии, наверное, настоящий теннисный бум, тогда же в этой части света промоутерам теннисных турниров приходилось нелегко. Чтобы привлечь ведущих игроков, они в дополнение к призовым предлагали им деньги за само выступление. Если игрок соглашался участвовать хотя бы в двух соревнованиях, это могли быть солидные шестизначные суммы, а порой и около миллиона.
Я никогда ничего не делал только из-за денег. Отчасти мне повезло — я в этом не нуждался. С другой стороны, меня останавливало то соображение, что погоня за деньгами на показательных выступлениях или турнирах, куда едут лишь ради гонораров за выступления, чревата неприятными последствиями: физическим истощением, травмами, эмоциональной усталостью. А ведь все это может сказаться на твоей игре позже, в оставшуюся часть года, на действительно важных турнирах. Бывало, я отказывался от участия в показательных соревнованиях, где мне сулили большие деньги за выступление, поскольку не чувствовал себя способным сыграть в полную силу (обычно по причинам физического характера).
Но в данном случае приглашение сыграть в Азии выглядело привлекательным, поскольку мне вполне хватало времени, чтобы потом попасть в Европу и сыграть на грунте. С самого начала грунт стал для меня настоящей лотереей — не было почти никакой зависимости между временем, которое я посвящал соревнованиям на грунте, и моими результатами в этих турнирах, считавшихся весьма престижными.
Весной 1994 г. в Европе я показал лучший за всю мою карьеру результат на грунтовых кортах, выиграв Открытый чемпионат Италии на превосходных площадках Форо Италико в Риме. Тогда у итальянцев были самые быстрые грунтовые корты в мире — вот почему я дошел до финала, где сыграл с кумиром Уимблдона Борисом Беккером. Но и на пути к финалу я вывел из борьбы таких мастеров грунта, как Алекс Корретха и Андрей Чесноков, проиграв за весь турнир лишь один сет.
Эта победа очень порадовала популярного в прошлом профессионального игрока и телекомментатора Витаса Герулайтиса. Мы дружили с тех самых пор, как Витас, наблюдая мои мучения на грунте, захотел познакомиться со мной, чтобы поддержать добрым словом и советом. К нему стоило прислушаться, поскольку он, хотя и использовал подобно мне тактику игры с выходом к сетке после подачи, дважды выиграл Открытый чемпионат Италии. Витас сказал, что если он сумел, то я и подавно. Я с большим уважением относился к тому, чего достиг Витас своей смелой атакующей игрой. К тому же он был таким человеком, которого хорошо иметь рядом, — энергичной, яркой личностью с неподдельным интересом к жизни.
Витас, Тим и я проводили вместе много времени в Тампе, где я жил в течение почти всей моей карьеры (там отличные условия для тренировок). Витас часто к нам приезжал. Покинув теннис, он стал завзятым гольфистом и любил играть с Тимом. Наша дружба удивляла многих — ведь мы были такими разными!
В пору своего расцвета Витас принадлежал к числу самых «гламурных» теннисистов. Завсегдатай «Студии 54», он обладал обаянием, пышной шевелюрой и замашками рок-звезды. Он был любимчиком Энди Уорхола[2] и не сходил со страниц нью-йоркской светской хроники. Но при этом Витас поднимался до третьего места в мировой классификации, выиграл Открытый чемпионат Австралии и выходил в финалы двух других турниров «Большого шлема». Полуфинал Уимблдона-1977, где он победил своего знаменитого приятеля Бьорна Борга, до сих пор считается одним из лучших матчей в истории Открытой эры.
Но, пожалуй, больше всего Витас прославился в теннисных кругах одной исторической фразой. Проиграв Джимми Коннорсу шестнадцать встреч, он, наконец, записал в свой актив победу над Джимбо[3]. Вальяжно войдя после матча в комнату для журналистов, Витас обвел пристальным взглядом собравшихся репортеров и с невозмутимым видом изрек: «Никто не победит Витаса Герулайтиса семнадцать раз подряд!»
В отличной форме я отправился в Париж на «Ролан Гаррос». Хотя грунт не был моим излюбленным покрытием, порой я чувствовал себя на нем очень комфортно и думал, что рано или поздно для меня наступит в Париже благоприятный момент.
Одним из двух соперников, которых я победил на Открытом чемпионате Франции, был новичок Марчело Риос, тогда еще очень юный, но уже «замеченный». Мы с ним пользовались услугами одного и того же агента, Джеффа Шварца.
А затем Джим Курье, стремившийся потеснить меня и продолжить борьбу за первое место в классификации, выбил меня из турнира в четвертьфинальном матче из четырех сетов. В Париже Джим по-прежнему был на высоте — три предшествующих года он выходил в финал и дважды побеждал.
В начале сезона травяных кортов Тодд Мартин, выиграв два тай-брейка, победил меня в финале турнира «Куинс Клаб».
После этого я отправился в Уимблдон защищать свой с таким трудом завоеванный титул. Я проиграл лишь один сет Тодду, прокладывая себе подачами и выходами к сетке путь в финал, где мне противостоял Горан Иванишевич.
В течение всей карьеры Горан причинял мне немало хлопот, если игра шла на траве. Мощь Горана в Уимблдоне в значительной степени объяснялась тем, что он был левшой. Это врожденное преимущество делало его первую подачу даже лучше и эффективнее, чем у меня (по крайней мере, я так считаю). Когда Горан подавал на траве, его удар был почти неотразим. Из всех, с кем я встречался регулярно, он был единственным соперником, внушавшим мне ощущение, будто я в его власти. Я никогда не испытывал ничего подобного, играя с другим героем Уимблдона — Борисом Беккером.
Но моя вторая подача была лучше, чем у Горана, и ключ к победе над ним для меня состоял в том, чтобы хорошо принять его вторую подачу и выиграть на ней очко. Горан оказывал на меня огромное давление даже в тех геймах, когда я подавал, поскольку обычно легко принимал мои подачи. Я чувствовал, что стоит мне проиграть ему один гейм на своей подаче, и я потеряю весь сет. Почти никто не мог привести меня в подобное состояние с тех пор, как я выучился играть на траве. Морально это было очень тяжело. Уверенность в своей подаче давала Горану еще и большое преимущество на приеме — он мог позволить себе рисковать и принимать подачу мощными, острыми ударами. Если это удавалось ему два раза подряд и я проигрывал 0:30, то ситуация в гейме становилась непредсказуемой.
Тем жарким днем мы показали в финале невероятно быстрый теннис. Игра напоминала перестрелку — мячи летали как пули, и за ними было очень трудно уследить. Иногда приходилось отбивать их интуитивно — наудачу, надеясь, что противник ошибется. Такой теннис требует крепких нервов и полной концентрации. Я показал себя немного увереннее в двух непредсказуемых тай-брейках, и после того как я их выиграл, Горан прекратил сопротивление. Я победил 7:6, 7:6, 6:0.
Наш финальный матч стал кульминационным пунктом разгоравшихся дебатов по поводу тенниса на траве. Росло число критиков, сетовавших, что теннис Уимблдона выродился в состязание подач двух «титанов», которые практически не проигрывают своих подач, но вместе с тем не могут выиграть и чужую. Горана и меня считали олицетворением этой тенденции, хотя мы отнюдь не были пресловутыми неодолимыми «титанами». Но наши мощные подачи и желание быстро завершать розыгрыш очков в значительной степени послужили причиной Уимблдонской полемики.
Теннису Уимблдона, утверждали некоторые эксперты, грозит опасность стать неинтересным, поскольку развитие технологий привело к созданию более совершенных ракеток, позволяющих выполнять исключительно сильные подачи. Даже газеты уделили внимание этому вопросу, поместив фотографии известных политиков и прочих важных персон, спящих мертвым сном в Королевской ложе. По всей видимости, снимки должны были документально подтвердить, до какой степени скучно смотрелась игра.
Как ни странно, я никогда не пользовался ракетками, изготовленными по новейшим технологиям. Моей первой ракеткой, когда я стал юниором, была деревянная «Wilson Jack Kramer Pro Staff». Некоторое время я играл ракеткой «Kneissel», потом «Donnay» — практически такой же, как ракетка, с которой я не расставался всю свою карьеру, — «Wilson Pro Staff 85 Graphite» с площадью струнной поверхности в 85 квадратных дюймов (самой маленькой из выпускавшихся в то время). Если эта ракетка и обладала какими-то заманчивыми преимуществами, то она утратила их задолго до того, как я с ее помощью добился своих лучших результатов.
Обода для моих ракеток заказывал Нейт Фергюсон. Он работал на Уоррена Босуорта, которому в значительной мере принадлежит заслуга создания торговли высококачественными ракетками на заказ. Все мои ракетки утяжелялись свинцовыми вставками и проходили специальную балансировку. Большое внимание я уделял ручке. Я играл ракеткой с достаточно толстой ручкой — где-то между 45 и 43 со значительным утолщением в торце. Ручки я всегда обматывал лентой «Tourna Grip».
Не отрицаю, «настройка» каждой ракетки порой стоила мне больших трудов. Это проблема встала уже в самом начале моей карьеры. Машинки по натягиванию струн были разные, мастера тоже разные, и зачастую приходилось перепробовать четыре-пять ракеток, пока я не чувствовал: вот это мне и нужно! Я всегда опасался, что слабое или неравномерное натяжение струн может стоить мне матча. Поэтому, как только у меня началась серия крупных побед, я решил не поскупиться и нанять Нейта.
Обычно Нейт ездил со мной в качестве мастера по ракеткам и выполнял всю работу, связанную с натяжкой струн. У меня была какая-то повышенная чувствительность к силе их натяжения, поэтому я использовал самые тонкие из имевшихся струн — 17-й номер. Для игры на грунте я предпочитал натяжку с усилием 32-33 кг, для травы — 32, а для некоторых твердых покрытий доводил его до 34 кг.
Из-за малой толщины и сильного натяжения струны иногда лопались в самый неожиданный момент — например посреди ночи, — и я просыпался от резкого звука. Был год, когда я истратил более семисот комплектов струн (в розницу такой комплект стоит около 35 долларов). Я требовал, чтобы мои ракетки перетягивали новыми струнами перед каждым матчем. Это означало, что если я выиграл турнир «Большого шлема», то за две недели у меня ушло как минимум пятьдесят шесть комплектов. На Открытом чемпионате Франции, если мои ракетки перетягивали после матча, а потом на весь день заряжал дождь, я просил снять струны с обода и заново натянуть ракетку перед следующей игрой.
На протяжении ряда лет мне предлагали деньги (иногда немалые), чтобы я сменил марку ракетки. Самое большее, на что я соглашался, — испытать несколько экземпляров. Но все они мне не подходили, хотя я готов признать, что главной причиной, возможно, была предубежденность. Да и сколько рассказывают жутких историй о теннисистах и гольфистах, которые поменяли ракетки или клюшки, а потом плохо кончили!
Фирма Wilson была прекрасно осведомлена о моих вкусах и пристрастии к модели «Pro Staff 85», вопреки их желанию. Но в данном вопросе я проявил такую привередливость, что несколько лет играл этой ракеткой, несмотря на то что между мной и фирмой Wilson не было никакого контракта и они мне практически ничего не платили.
Оглядываясь назад, я думаю, что переход на ракетку с головкой большего размера помог бы мне в дальнейшей карьере. Моя ракетка как нельзя лучше годилась для травы — очень жесткая, с небольшой головкой и тонкими, сильно натянутыми струнами. Но на грунте полезнее иметь более широкий предел погрешности при ударе струнной поверхностью ракетки по мячу.
Комфортная «рабочая зона» струнной поверхности моей ракетки имела радиус всего в три-четыре дюйма. С более крупной головкой и другими струнами я мог бы выполнять более сильные удары и придавать им большее вращение при игре с задней линии. То есть я играл бы примерно так, как играют сейчас.
Конечно, трудно сказать, что бы из этого вышло, но в одном я точно уверен: моя ракетка с небольшой головкой была идеальным инструментом на траве.
Не отрицаю — критики имели свои резоны, когда заявляли, что нам грозит опасность превратить теннис в потасовку на школьном дворе. В плане артистичности мой финал с Гораном мало чего стоил, хотя я по-прежнему считаю, что причина заключалась не столько в стиле нашей игры, сколько в самом факте нашего противостояния. Со многими соперниками на траве у меня все выходило иначе.
И нужно учесть еще одно. Я отнюдь не уверен, что длинные розыгрыши мяча автоматически повышают зрелищность игры (тем паче намного). Издавна слышны жалобы на то, какую скуку наводят бесконечные и иногда, по-видимому, бесцельные обмены ударами на грунте. Я думаю, что разнообразие скоростей на кортах с разными покрытиями и различие стилей игры — великое достоинство тенниса, но в нем порой заключена скрытая опасность: время от времени могут происходить такие поединки, где соперники играют на данном конкретном покрытии в одинаковый теннис.
Заметьте, никто не жаловался на слишком «быструю» или «монотонную» игру, когда Андре Агасси встречался, скажем, с Патом Рафтером. И никто не пел дифирамбы во славу красного грунта, когда два игрока, приклеенные к задней линии, перебрасывались мячами по пять часов. Горан и я не были идеальной парой для Уимблдона, хотя сталкивались там довольно часто.
Тем не менее после нашего матча 1994 г. Уимблдон перешел на более мягкие, медленные мячи, и там начали разрабатывать новое травяное покрытие, что в конце концов сделало корты более медленными, а игру на траве — более комфортной при обмене ударами с отскока.
Из темы «Уимблдон наводит скуку» выросла другая сюжетная линия: «Сампрас надоел, и его лидерство представляет опасность для тенниса». Меня уличали в блестящей игре, которая завоевывает умы, но не сердца. После одного из моих матчей в газете появился лаконичный заголовок: «САМПРАЗ-З-З-З-З...». Я вырос в убеждении, что главное — выигрывать матчи, и не нужно поднимать шум или привлекать к себе внимание во время этой работы. А теперь мои победы наскучили и угрожают теннису?!
Читать все это было не слишком приятно, и меньше всего я хотел обсуждать данную тему на пресс-конференциях. Любое мое слово сочли бы защитой, самооправданием или тем и другим вместе. Нашлись люди, истолковавшие мое необычайное самообладание как признак бесчувственности. Это скороспелое заключение меня поразило. Эмоций мне хватало с избытком, уж поверьте! Просто я умел управлять ими — и на корте, и за его пределами. Однако это умение плохо вязалось с репутацией тенниса — спорта, известного большим количеством темпераментных игроков, готовых взорваться по любому поводу.
Теннисисты вроде Джона Макинроя, Джимми Коннорса и Бориса Беккера привлекали массу болельщиков тем, что давали волю эмоциям. Я понимал: эмоции им необходимы, чтобы показать свой наилучший теннис или создать видимость такового. Это, конечно, всегда вызывало любопытство и подогревало интерес к подобного рода личностям. Я никогда не испытывал к ним ревности или зависти, но вместе с тем считал, что пресса могла бы проявить больше проницательности и понять: я представляю собой нечто, уравновешивающее экстравагантность поведения не в меру возбудимых игроков.
В теннисе у вас всегда два противника — соперник и вы сами. С соперником нет особых проблем — надо лишь справляться с его ударами. Важнее всего подавить внутреннего оппонента — ту часть самого себя, которая подвержена сомнениям, страху, колебаниям и призывает сдаться. Если вы слишком заняты внутренней борьбой, как некоторые игроки, трудно рассчитывать, что вы победите соперника.
Если вы хотите достичь вершин — освободитесь от личных переживаний и играйте с просветленным сознанием: тогда это всякий раз будет соревнование в мастерстве. В нашем мире Джон Макинрой и иже с ним — не правило, а исключение. Подобно большинству теннисистов, я всегда старался использовать эмоциональные срывы соперников. Когда противник начинает выходить из себя, это для меня сигнал, что я подобрал ключ к его игре или его психологическому состоянию.
Наконец, мне было не столь уж важно, чтобы меня правильно оценивали и понимали. Я хотел стать чемпионом, даже выдающимся чемпионом. Я стремился реализовать каждую частицу своего Дара и единственное средство добиться этого видел в самоконтроле. Я считал, что если просто буду жить так, как позволяют мне мои возможности, то признание и даже понимание со временем придут. Таков был мой рецепт успеха, и негативная реакция возникла как раз тогда, когда он начал приносить плоды. Меня мало волновало, что парни вроде Макинроя и Коннорса суетятся вокруг, оплакивая недостаток «индивидуальности» в моем теннисе.
Кстати, однажды в раздевалке у меня состоялся довольно забавный разговор с Макинроем на эту тему. Джон, который тогда лишь недавно ушел из тенниса и сделался телекомментатором, писал для небольшой колонки в лондонской «Times». В одном материале по поводу Уимблдона он прошелся на мой счет. Не особо церемонясь, он раскритиковал меня за скучную игру и дал несколько отеческих напутствий насчет того, как добиться «более яркой индивидуальности». По сути дела, он отругал меня за то, что я такой как есть, а не такой, каким, по его мнению, должен быть.
Но кто сказал, что теннисист обязан демонстрировать свою «личность» (если можно так выразиться)? Я пришел в теннис не для того, чтобы получить приз зрительских симпатий, изображать колоритный персонаж или потешать публику. Я пришел играть, играть на максимальном для меня уровне и завоевывать титулы. Теннис был моей первой любовью и моим профессиональным занятием. Я никогда не смешивал его с шоу-бизнесом. Если зрителям не запомнится моя игра, то запомнится достойная манера поведения. А если они и этого не запомнят — тогда пусть меня забудут вовсе.
Статейка Джона показалась мне оскорбительной, и ему об этом сообщили. Он явился в раздевалку в Уимблдоне, положил мне руку на плечо, придвинул ко мне лицо и забубнил: «Пит, послушай, ну какие тут обиды... Я просто хотел посоветовать, чтобы ты немножко больше выглядел так, немножко больше делал этак...» А я тем временем размышлял: «Вот чудно. То он твердил, что мне нужно походить на него, что я навожу тоску и не гожусь для тенниса, а теперь он вроде как мой добрый приятель, да еще и главный советчик. Наверное, думает: „Авось номер пройдет, невелика важность».
Конечно, я мог бы принять извинения Джона. За прошедшие годы он много чего наговорил сгоряча. Кроме того, мы были партнерами по команде на Кубке Дэвиса и вместе одержали несколько блестящих побед. Мне было крайне неловко, но следовало за себя постоять. Мы перекинулись несколькими фразами, а затем я недвусмысленно послал Макинроя куда подальше — правда, совершенно невозмутимым тоном и с безмятежным видом. До сих пор не знаю, что было на уме у Джона, равно как не могу объяснить некоторых его поступков. Пожалуй, никто не сможет!
С годами я стал проявлять на корте больше эмоций, причем в различной форме (в том числе и такой, которую Джон Макинрой наверняка бы одобрил). Но в целом я довольно хорошо владел собой. Чаще всего причиной воздевания кулака или исступленного вопля во время игры был мой фирменный завершающий удар над головой в прыжке при выходе к сетке. Собственно, в этом и выражались те эмоции, которые требовали выхода.
Несмотря на кажущееся спокойствие на корте, внешнее бесстрастие порой обходилось мне недешево, и за него пришлось платить, как показали проблемы со здоровьем, внезапно возникшие через полгода после моей победы над Гораном.
Перед самым Уимблдоном-1994 я разорвал свой контракт с Sergio Tacchini и заключил новое соглашение на рекламу одежды и обуви с фирмой Nike. Уимблдон был первым турниром, где я выступал под этим брендом, и сотрудничество с американским гигантом воодушевляло меня. Конечно, деньги есть деньги — что из Италии, что из Орегона. Но крупные рекламные сделки всегда предпочтительнее заключать с отечественными компаниями — это гораздо естественнее и приносит больше пользы обеим сторонам.
Фирма Nike разработала для меня очень симпатичную классическую модель одежды, а также обувь. Это была составная часть крупного модельного ряда «Air», который потом приобрел огромную популярность. К сожалению, обувь оказалась неудобной, и к тому времени, когда я, «бесстрастно» отыграв турнир, уехал из Уимблдона, правая ступня у меня разболелась и распухла. Я отправился к врачу, мне сделали рентген и поставили диагноз: посттибиальный тендинит.
От предстоящего выступления в Вашингтоне пришлось отказаться. Турниры в Монреале и Цинциннати тоже прошли без меня. Наступила пора летней подготовки к Открытому чемпионату США, и Nike срочно подбирала мне обувь, в которой я мог бы играть на американском турнире «Большого шлема».
Три матча на чемпионате я провел успешно, но в четвертом круге меня поджидал проворный, жилистый перуанец Хайме Изага. Обладая отменной реакцией и хорошей скоростью, Изага гонял меня по корту, создавал выигрышные ситуации и наносил успешные удары в удобные для него моменты. В этот жаркий и влажный день ему удалось выиграть у меня достаточно очков, чтобы дотащить матч до пятого сета.
Я находился в сложной ситуации, сил оставалось уже совсем мало, но тем не менее, помня о договоре с самим собой, я бился отчаянно. Нью-йоркские болельщики энергично меня поддерживали и по достоинству оценили мои старания выстоять в этом длинном поединке. Однако сил не хватило, и, едва держась на ногах, я проиграл 7:5 в пятом сете. Накал борьбы был таков, что приковал внимание множества зрителей, и к тому времени, когда она закончилась, на трибунах воцарился истинный хаос. Мы с Хайме провели самый захватывающий матч турнира, обеспечив зрителям неизгладимые воспоминания.
Как только игра закончилась, представители оргкомитета турнира спешно провели меня в кабинет главного арбитра, расположенный рядом с коротким туннелем, через который игроки попадают на арену имени Луи Армстронга. Там врачи раздели меня и поставили капельницу первой помощи. Если вы никогда не имели дело с такими капельницами, поверьте — это чудодейственное средство! В растворе содержится вода, обогащенная различными минералами, которая быстро ликвидирует обезвоживание. Поскольку раствор вводится внутривенно, получается мгновенный эффект. Буквально через несколько секунд после того, как жидкость поступает в кровь, вы из почти законченного зомби превращаетесь в свеженького бодрячка. Когда капельница сделала свое дело, первое, что я увидел, было знакомое лицо Витаса Герулайтиса.
Заметив, в каком я состоянии, Витас поспешил за мной, выскочив из своей комментаторской будки, как только прозвучал последний удар по мячу. Он даже сбегал в раздевалку за моей одеждой и вещами (тогда раздевалки были далеко от стадиона). Вернувшись, Витас подождал, пока я оденусь, взял мою сумку с ракетками и помог мне выйти. Едва мы ступили за порог, засверкали вспышки, и я увидел длинный ряд репортеров, поджидавших меня в проходах стадиона.
Я не стал давать интервью, сказав лишь, что прежде всего мне требуется отдых. Но Витас успел обменяться парой слов с несколькими журналистами, которых мы оба знали. Потом спортивный обозреватель нью-йоркской «Daily News» Майк Лапика опубликовал отличный материал, точно передавший ту атмосферу. По преимуществу статья была посвящена дружеским узам, связывавшим нас с Витасом. Прочие журналисты описали матч с захватывающими подробностями, и все, похоже, признали, что это была поистине «борьба гигантов».
Мне и в голову не приходило, что я вижу Витаса в последний раз. Через несколько недель он умер в результате несчастного случая — задохнулся угарным газом, когда ночевал в доме для гостей в имении своего друга в фешенебельном районе Хэмптоне (Лонг-Айленд). Узнав об этом, я тут же позвонил матери Витаса. Как и все, я называл ее просто «миссис Джи». Друзья Витаса (а их было множество) ее обожали, она же всегда — в любой день или уикенд — старалась состряпать что-нибудь вкусное для Витаса и его приятелей. Когда я до нее дозвонился, она от горя едва могла говорить. Это было невыносимо тяжело. Вместе с огромным числом людей (как из теннисного мира, так и извне) я оплакивал потерю замечательного друга.
Тогда я, конечно, не подозревал, что будущее готовит мне еще более тяжкие испытания.
Глава 6 На пути к славе 1994-1995
Проблемы с новой обувью фирмы Nike помешали мне успешно закончить 1994 год, хотя я и набрал к тому времени хорошую форму. Пропустив несколько турниров, я потерял не только призовые деньги, но также и бонус в 1,6 миллиона долларов. Я получил бы его от АТП в том случае, если бы не только завершил год на вершине рейтинга, но еще и выполнил бы все свои турнирные обязательства — то есть выступил на всех турнирах, в которых пообещал участвовать. (АТР таким образом старалась заставить спортсменов играть как можно чаще.) Но из-за травмы ноги это стало невозможным.
Как правило, подписание рекламного контракта не влечет за собой каких-либо последующих осложнений и риска (за исключением, пожалуй, только контрактов по ракеткам), но иногда все же случаются конфликты.
Фирма Nike была убеждена, что производит отменную обувь, и видела корень зла скорее в моих ногах, нежели в своих изделиях. Ситуация складывалась непростая: я только что установил с фирмой Nike спонсорские отношения, которые, как я полагал, окажутся длительными (я всегда предпочитал долговременные, прочные связи во всех аспектах жизни), и использовал ее экипировку, вступая в золотую пору своей карьеры. Менее всего я желал размолвки с Nike, которая уже начала активную рекламную компанию своих спортивных товаров (и даже выпустила серию роликов под общим названием «Король свинга»). Поэтому «обувные проблемы» я решил считать досадными издержками начального периода наших взаимоотношений. Действительно, не прошло и шести месяцев, как мне сделали отличные туфли, «Air Oscillate», в которых я выступал до самого конца карьеры.
Осеннее европейское турне 1994 г. я начал в Стокгольме. Однажды вечером, когда я был на тренировке, Тим Галликсон вдруг потерял сознание, рухнул на стеклянный кофейный столик и изрезал себе лицо.
Он тогда сидел на какой-то мудреной диете и много бегал. Тим вообще был слегка помешан на здоровье и не обходил вниманием ни одной, даже самой экстравагантной, диеты.
Когда меня разыскали на кортах и сообщили, что мой тренер в больнице, я был ошеломлен. Но поскольку мне сказали, что ничего страшного нет — он просто упал в обморок и порезался, я вышел на матч, выиграл и только потом поехал к Тиму. Выглядел он так, словно его изрядно отделали в баре. Врачи предполагали, что обморок и потеря сознания свидетельствуют о проблемах с сердцем.
Осень была богата событиями. Я выиграл турнир в Антверпене и завершающий финальный турнир АТП, где в последних двух матчах победил Андре Агасси и Бориса Беккера соответственно. На последнем соревновании года, Кубке «Большого шлема», я уступил в финале Магнусу Ларссону, которому достался самый крупный гонорар за всю его карьеру — 2 миллиона долларов.
Но запомнился мне турнир совсем другим — еще одним обмороком Тима Галликсона, вторым всего за пару недель. Произошло это утром, когда я обсуждал с местными представителями Nike некоторые рекламные сюжеты.
Тим отправился в отель, там потерял сознание и попал в больницу. На этот раз его жена Розмари вылетела к нам в Германию. Врачи вновь сочли причиной обморока проблемы с сердцем. Они полагали, что имеют дело с каким-то врожденным пороком, но не говорили ничего определенного. Вопреки всему, мы с Тимом продолжали делать свое дело с возраставшим усердием.
Обмороки Тима не повлияли на наше настроение в конце года. Я выиграл два турнира «Большого шлема», а вдобавок — финальный турнир АТП. Болезнь ноги, возможно, стоила мне победы на Открытом чемпионате США, но я сохранял за собой первое место в мировой классификации второй год подряд (хоть и пропустил летние турниры).
Я чувствовал, что достаточный запас прочности дает мне право на короткую передышку и я вполне могу отправиться на Открытый чемпионат Австралии 1995 г., не выступая предварительно ни в одном официальном турнире для набора спортивной формы.
Тим, подобно мне, был полон приятных ожиданий. Он любил австралийский турнир, умиротворенную атмосферу Мельбурна. Многие из его старых приятелей (теперь они работали тренерами или занимались околотеннисным бизнесом) тоже туда собирались. Обещал приехать и его брат-близнец Том.
Первые два матча я убедительно выиграл, уступив лишь восемь геймов, и в третьем круге должен был встретиться с Ларсом Йонссоном. Тим пожелал мне успеха, вернулся в раздевалку и внезапно упал.
Тогда он уже проходил курс лечения в связи с предполагаемым врожденным заболеванием сердца. Врачи говорили, что причиной двух прошлых падений послужили микроинсульты, а обмороки объясняются дисфункцией сердечного клапана. Том Галликсон спешно повез брата в госпиталь, а я вышел на корт и одержал победу. Потом я поехал в больницу разузнать о Тиме, и мне сообщили, что он «идет на поправку». Журналисты поджидали меня у больницы, и я повторил им эту информацию.
Следующим моим противником был Магнус Ларссон из Швеции, который всего лишь месяц назад победил меня на Кубке «Большого шлема». Начал я отвратительно, но не могу в свое оправдание сослаться на Тима. Тогда еще не было серьезных причин для тревоги, поскольку диагноз так и не поставили.
Я быстро проиграл два сета, но в третьем разгорелась настоящая битва. За все предыдущие выступления на турнирах «Большого шлема» у меня был только один случай, когда, проиграв два первых сета, я сумел прийти в себя и победить в матче. Это произошло на Открытом чемпионате Франции, во встрече с Томасом Мустером. И здесь я повторил этот подвиг, выиграв три сета подряд, 7:5, 6:4, 6:4. Когда дым сражения рассеялся, выяснилось, что Ларссон сделал девятнадцать эйсов — на один больше, чем я. Позднее он заявил журналистам, что в этот день лучше сыграть просто не мог.
После матча с Ларссоном я снова поехал в больницу. В палате Тима царило уныние. Близнецы пытались сохранять спокойствие, но безуспешно. Едва завязав разговор, они тут же прерывали его со слезами на глазах. Тиму, по их словам, сделали массу анализов в частной клинике и рекомендовали вернуться домой, в Чикаго, чтобы пройти дополнительное обследование.
До сих пор Галликсоны имели очень смутное представление о проблемах Тима и сами не знали, в чем же тут дело. К тому же они не хотели меня расстраивать и преуменьшали опасность. Эту тактику они применили и теперь. Я, со своей стороны, не пытался вырвать у них ответ, дать который они не могли или не считали нужным. Я рассудил: в свое время они сообщат все, что мне следует знать. Моя задача — сохранять выдержку и концентрацию, выступать в турнире и играть хорошо. Тим ни в коем случае не должен волноваться, что его состояние влияет на мою игру, — а именно такой реакции и можно было ожидать.
Братья сообщили мне, что билеты они заказали и улетают в день моего следующего матча — четвертьфинала с Джимом Курье. Этот матч мог бы стать знаменательным событием во многих отношениях, несмотря на то что мы с Джимом уже открыто соперничали, время от времени даже подкалывая друг друга в прессе — разумеется, в шутку. Просто мы оба были очень молоды и задиристы, страдали от избытка тестостерона и желали урвать свою долю добычи. Но при этом нас многое связывало, а тренер Джима, Брэд Стайн, дружил с Тимом и Томом. Нас объединяли Америка, Академия Боллеттьери и многое другое. Но болезнь Тима, словно грозовая туча, нависла надо всем. И вот перед самым матчем он уезжал.
В последний вечер, накануне игры с Джимом, кому-то из нас пришла мысль устроить «прощальный ужин» для Тима. Это была здравая идея, исполненная самых благих намерений. Мы собрались в итальянском ресторане в центре Мельбурна и говорили обо всем понемногу, стараясь поддерживать бодрую, оживленную атмосферу. Единственные запретные темы — болезнь Тима и мой предстоящий матч с Джимом. Но все очень переживали из-за Тима, и беседа получилась несколько натянутой — нам требовались усилия, чтобы сохранять непринужденность. Теннисистам необходима эмоциональная свобода, а здесь мы ощущали себя не в своей тарелке. Мысли о том, что нам с Джимом завтра играть, тоже мало помогали делу.
В глубине души у меня таилось ужасное предчувствие — все рушится, и только одно меня несколько утешало: по удачному стечению обстоятельств я, кажется, обрел на этом турнире очень ценного помощника.
Пол Аннакон, профессиональный игрок, который всегда проявлял ко мне интерес, выступал тогда в Австралии на последнем в своей карьере турнире «Большого шлема» (конечно, только в парном разряде). Я спросил у Пола, не поможет ли он мне в турнирной подготовке, пока не выяснится, что с Тимом, — и он согласился.
В самом начале моей карьеры наш общий агент, Гэвин Форбс, познакомил меня с Полом. Время от времени мы встречались — за общим столом или на турнирах — и много толковали о теннисе. На Уимблдоне, например, мы с Гасом заходили к Полу в отель «Сент-Джеймс» поболтать и съедали все мороженое, обнаруженное у него в холодильнике. Все время, пока я взрослел и приближался к группе ведущих игроков, наши контакты не прерывались.
Игроки на профессиональных турнирах не слишком приветливы — каждый заботится прежде всего о себе. Но Пол всегда проявлял интерес к моим успехам и внимательно наблюдал за мной. Я это чувствовал и ценил.
На мое счастье (как выяснилось позже), несколько недель назад мы с Полом летели в Австралию одним самолетом. Мы поговорили, и он сказал, что после чемпионата Австралии будет искать место тренера в каком-нибудь колледже. Но когда Тиму пришлось ехать домой, Пол изменил свои планы. Это было на редкость удачное совпадение, хотя и в прискорбных обстоятельствах. Не знаю, что бы я делал, если бы Пол выбыл из турнира раньше и отправился домой или же вовсе отказаться от последнего выступления в Австралии.
Пол — обходительный, тактичный человек, еще моложе Тима, и общаться с ним оказалось легко. Каждый день он сопровождал меня на соревнования, хотя Тим продолжал считаться моим официальным тренером. Пол звонил Тиму и действовал как посредник — сообщал мне идеи Тима и следил за соблюдением его указаний. Он был готов делать это столько, сколько понадобится. Мы надеялись, что Тим выздоровеет и вернется ко мне в нужное время, к следующему турниру «Большого шлема» в Париже, если не раньше. Но пока все симптомы были очень тревожными. Да и в раздевалке я слышал разговоры тренеров-ветеранов, толковавших о возможной опухоли головного мозга и прочих онкологических проблемах.
Тим улетел на следующее утро, а я спал дольше обычного, так как игра с Джимом предстояла вечером, в телевизионный прайм-тайм. О будущем я особенно не размышлял: для этого найдется более подходящее время. Передо мной стояла конкретная задача, и я собирался выполнить ее так, чтобы по-настоящему порадовать Тима.
Раздвижную крышу арены имени Рода Лейвера для нашего матча открыли, и условия оказались почти идеальными. С самого начала Джим играл очень сильно. Покрытие корта, да и вся обстановка игры в Австралии подходили ему гораздо больше, чем мне. В тот вечер его удары справа пощелкивали, словно винтовочные выстрелы, в тихом, теплом воздухе. Мы были приблизительно равными противниками, но я сам себе вырыл глубокую яму, проиграв второй тай-брейк подряд и, таким образом, уступив два первых сета. Это крайне опасно в матчах на турнирах «Большого шлема», да еще с игроком калибра Джима Курье.
В голове у меня в это время происходила примерно такая дискуссия: «Мне конец. Я могу поставить крест на этом матче, принять душ и списать все на невезение в тай-брейках. — Или же остаться и, если повезет, продержаться еще часа два с половиной — может, приду в себя?»
Внутренний голос заставил меня продолжить борьбу. Я выиграл подачу соперника в начале третьего сета, сохранил преимущество и выиграл сет. Затем, в четвертом сете, мне, казалось, опять пришел конец, когда Джим переиграл меня в пятом гейме и затем повел 4:2. Всего два гейма отделяли Джима от победы в матче, но тут у него начались судороги (правда, я ничего не заметил). На гейм-пойнте, когда счет мог стать 5:3, Джим сделал двойную ошибку при подаче — одну из двух (!) за весь матч. Затем он дважды ошибся при ударах с задней линии и внезапно вместо 5:3 счет стал 4:4. Я вновь воспрял духом. Удержав свою подачу, я взял у Джима следующий гейм и выиграл четвертый сет.
Выиграв на своей подаче первый гейм пятого сета, я впервые повел в матче. Проигрыш первых двух сетов подряд поверг меня в полное смятение, но теперь, когда я получил возможность перевести дух, ситуация начала выправляться.
Сидя на скамейке во время смены сторон, я неожиданно вспомнил о Тиме. Перед моими глазами вдруг возникла больница... и Тим — такой беззащитный и грустный. И тут у меня случился нервный срыв.
Видимо, виною всему были мои сильные переживания из-за болезни Тима, которые я крепко запер внутри себя. Они искали какого-то выхода, даже требовали его, но не в моих правилах выпускать их наружу — по крайней мере, не во время теннисного матча. Я просто не знал, что делать. Пытаясь как-то сдержать свои эмоции, я старался думать, как обрадуется Тим, если волевым усилием мне удастся «вытащить» матч.
Когда мы только начали работать вместе, я был «бойцом» довольно посредственным, легко терял присутствие духа; если я проигрывал, мне недоставало воли выправить положение. Но сейчас, на австралийском турнире, я оправился после проигрыша первых двух сетов в двух матчах подряд. И этим я во многом обязан Тиму, его уверенности в моей игре, его урокам — бороться до конца, сохранять чувство собственного достоинства. Я вдруг словно наяву увидел Тима: его лицо, блестящие глаза, губы, с лукавой улыбкой говорившие мне (и как часто он это повторял!), что моя мощная плоская подача по центру во второй квадрат очень напоминает ему знаменитую мощную атаку «Грин Бэй Пакерс». Когда Тим впервые использовал данную аналогию, я уставился на него в полном недоумении и, разинув рот, ждал, какой еще «тимизм» теперь последует. О знаменитой мощной атаке «Пакерс» я не имел никакого представления. А Тим родился в Висконсине и страстно болел за «Пакерс». И он с довольной улыбкой растолковал: ты видишь, что они на тебя несутся, и возникает такое ощущение, будто их невозможно остановить.
Тим рассказывал о «Пакерс» перед каждым серьезным матчем, желая взбодрить меня. И вот я сидел, стараясь не думать о том, что проиграл два сета, а теперь повел в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии.
Внезапно что-то во мне лопнуло. Все мысли и эмоции выплеснулись наружу, как прорывается вода под давлением, если естественный выход перекрыт. Я начал всхлипывать, плечи затряслись. И внезапно мои переживания словно испарились; я вновь был способен нормально дышать — после того как некоторое время не мог. Это оказалось просто здорово!
Между прочим, о данном инциденте сложилась легенда. Рассказывают, будто мой срыв начался, когда один болельщик крикнул: «Давай, Пит, поднажми ради твоего тренера!» Это неправда: такого крика я не слышал. Но, так или иначе, в следующих двух геймах мне пришлось нелегко: просто не хватало сил сдерживать эмоции и слезы. Я пытался играть как ни в чем не бывало, но не мог. Пришлось сделать небольшую паузу в игре, чтобы прийти в себя. Я не хотел поломать игру Джиму, но к этому моменту он, наверное, заметил, что со мной творится неладное, хотя и не знал, в чем дело.
При счете 1:1, после розыгрыша первого или второго очка очередного гейма, я опять почувствовал себя плохо и сделал небольшую паузу, чтобы подготовиться к следующему розыгрышу. К тому времени уже все на стадионе заметили, что я нахожусь в необычном, взвинченном состоянии.
Стало очень тихо, я пытался взять себя в руки и тут услышал голос Джима с другой стороны корта: «Пит, ты как, в порядке? Если хочешь, можем продолжить завтра».
Помню, он сказал это вкрадчивым, слегка саркастичным тоном, который был хорошо мне знаком. Я не сразу понял, как реагировать на его слова. Зрители встретили их смехом. Я не знал, что на уме у Джима, но чувствовал — происходящее ему не слишком по душе. Возможно, он думает — у меня что-то болит, и я просто тяну время. Или хуже того: я специально затягиваю матч в расчете на то, что остановки игры обострят его собственные болевые ощущения. Но я только потом, гораздо позже, узнал о его проблемах.
Как ни странно, слова Джима встряхнули меня, разозлили и вывели из прострации. Нужно взять себя в руки, и поживее! И тут все мысли о Тиме, все судорожные попытки сдержать слезы и поток эмоций уступили место ясному сознанию — я должен выиграть матч, выиграть здесь и сейчас. Джим разбил мои оковы, и я почувствовал: он тоже на пределе. Мне же следует прекратить терзаться и подражать Гамлету, сколько бы причин для переживаний у меня ни имелось.
Эти десять минут были, наверное, самыми долгими в моей жизни, и протекли они на арене, где почти двадцать тысяч человек, в том числе телерепортеры из многих стран, видели, как я извивался, точно червяк под микроскопом. Это было мучительно, но слова Джима внезапно вернули меня к реальности, и я отреагировал должным образом: победил соперника в восьмом гейме пятого сета и поставил победную точку. Лишь двух минут не хватило, чтобы продолжительность матча составила четыре часа! Джим позднее заявил: «При счете 4:3 в пятом сете каждый из нас мог упасть, но именно он остался на ногах. Пит чертовски упорен и, конечно, на «Большом шлеме» способен из кожи вылезти, лишь бы победить».
Я никогда не спрашивал самого Джима, что он имел в виду, предлагая мне отложить матч на завтра. Мы обсуждали это через прессу, и Джим знает, что я воспринял его слова как язвительную издевку, хотя сам он утверждал, что таков был его невольный и искренний отклик на необычную ситуацию. Думаю, мы могли бы при случае потолковать об этом, но необходимость уже отпала. Я никогда не таил обиды на Джима Курье. Матч выдался трудным, крайне напряженным для нас обоих. Мы оба были «крутыми парнями», которые терпеть не могут уступать, а ведь такие парни порой нарушают правила.
После матча я ощутил смятение и душевный дискомфорт. Знаете, как бывает, когда подступают слезы и хочется поговорить с близким человеком? Вот и я находился в таком состоянии. Я хотел услышать голос матери, а услышав, совсем расклеился. Я позвонил домой, мама взяла трубку. Когда кто-нибудь из ее детей нуждался в утешении, она обычно говорила ласково и певуче. Я отчетливо помню, как прозвучал ее голос: «Ох, Пити. Я видела все! Как ты себя чувствуешь?»
Это оказалось последней каплей, и я снова зарыдал.
Тим узнал результат матча, еще не доехав до Чикаго, во время пересадки в Лос-Анджелесе. Репортерам, поджидавшим его в международном аэропорту Лос-Анджелеса, он заявил: «Я не видел матч, а из Австралии уехал по необходимости. Я заболел и не смог помочь Питу. Он заслуживает больших похвал за то, что выстоял против такого классного игрока, как Джим. Я очень им горжусь».
На следующий день все перипетии матча подробно обсуждались в газетах. О случившемся судачили в Мельбурне и, вероятно, в Нью-Йорке, Париже и Лондоне. Идя на корт или в раздевалку, я чувствовал: на меня смотрят, меня обсуждают, и подобное внимание было крайне неприятным. Я сказал Полу, что никогда в жизни не чувствовал себя столь неуютно.
Если и существовал турнир, который по всему раскладу сулил мне первое место, то именно Открытый чемпионат Австралии 1995 г. Но ожидания не всегда оправдываются. В полуфинале я победил Майкла Чанга, однако в финале уступил Андре Агасси, хотя и выиграл первый сет. Андре завоевал второй подряд титул «Большого шлема» (и единственный раз за всю историю наших встреч победил меня в финале основного турнира). К финалу я подошел в полном эмоциональном истощении, но это меня не извиняет. И, конечно, я не в обиде на Андре за то, что моя история осталась без хэппи-энда.
После этого турнира некоторые вещи, которые я слышал или читал, начали вызывать у меня досаду и раздражение. Писали, например, нечто вроде: «Смотрите-ка, Питу Сампрасу не чуждо ничто человеческое... он способен на проявление чувств!» или: «Понадобилась болезнь тренера, чтобы исторгнуть эмоции из Пита Сампраса и заставить его показать свою человеческую сущность...». Допускаю, что кое-кто из этих писак действительно намеревался сделать мне комплимент. Во всяком случае, подобные высказывания порой попадалась в похвальных реляциях о моей победе над Джимом. Но у меня возникло неприятное подозрение: многие журналисты искренне считали, что, если я обычно не проявляю эмоций, значит, у меня их вовсе нет, по крайней мере в необходимом количестве. Вывод очевиден — в некоем туманном смысле я являлся не вполне «человеком». В совокупности с прошлогодней уимблдонской присказкой «Сампрас наводит тоску» получилась серия резких выпадов против моей личности и характера.
Думаю, это знамение времени. По сравнению с моими детскими годами теннис и общество радикально изменились. Складывалось впечатление, что люди все сильнее желают произвести сенсацию, все больше готовы выставлять себя напоказ — афишировать свои чувства, преследовать свои цели очертя голову, без оглядки и сомнений, с полным равнодушием к тому, какую тень это на них бросает. Такое поведение стало считаться более «жизненным», нежели сдержанные, достойные манеры. В теннисе эти шлюзы отворили Джимми Коннорс и Джон Макинрой. Их «усилиями» на первое место выбилась «яркая личность». А моим приоритетом всегда являлась внутренняя дисциплина.
Те, кто хотел видеть меня более «эмоциональным», более «человечным», вероятно, не учитывали, что все люди разные, и их поведение — в личной жизни и на публике — мало что говорит о действительной глубине и природе их эмоций или «переживаний».
По правде сказать, я никогда не доверял людям, которые постоянно толкуют о своих переживаниях или эффектно их выражают. Не думаю, что нежелание сдерживать себя, эмоциональная экзальтация, приступы гнева, экстравагантные выходки или словечки на потеху публике — признак глубины чувств, душевного богатства или глубокой «человечности». Скорее это свидетельствует о неспособности контролировать себя, чрезмерных амбициях или склонности заискивать перед толпой, выставляя себя на посмешище.
После матча с Джимом мне часто приходило в голову: если кто и бесчувствен, так это люди, столь категорично утверждающие, что, лишь прилюдно закатив истерику, я могу доказать свою «чувствительность». Но матч с Курье стал неопровержимым свидетельством моей эмоциональной ранимости — просто обнаружиться она могла лишь в экстремальной ситуации.
В 1995 г. я осознал, что моя жизнь «на вершине» обещает быть трудной — неизменно и непрерывно. Кто мог предвидеть смерть Витаса или внезапную болезнь Тима? Я плохо представлял, каких сюрпризов ожидать от жизни, и эти два события выбили меня из колеи. Как мне себя вести? Предстать жертвой обстоятельств? Уйти с переднего края, замкнуться на своих проблемах, дать соперникам обойти меня, а потом поплакаться журналистам, которые провозгласят меня «человечным»? К тому времени, когда Тим заболел, мы с ним действительно набрали приличный разгон, и я чувствовал, что самое главное для меня — по-прежнему идти вперед и завершить начатую нами работу.
Открытый чемпионат Австралии 1995 г. стал для меня трудным испытанием — начиная с обморока Тима. Но я был рад покинуть Австралию в обществе Пола Аннакона, согласившегося мне помогать, пока ситуация с Тимом не прояснится.
Вскоре после возвращения Тима в Чикаго очередная серия анализов подтвердила диагноз, которого мы сильнее всего опасались, — рак мозга. Тиму предстояли интенсивная химиотерапия и, возможно, операция. Положение выглядело угрожающе. Однако Тим был полон решимости победить болезнь и собирался со мной работать, насколько хватит его сил. Я охотно согласился, полагая, что занятие любимым делом поддержит Тима морально.
Перед следующими соревнованиями, в Мемфисе, у нас выдалось несколько недель, чтобы наметить дальнейшие планы: Тим посмотрит по телевизору столько матчей, сколько осилит, а перед матчами (или большинством из них) мы по телефону согласуем стратегию. Пол будет при мне, чтобы оказывать повседневную помощь — выступать в качестве спарринг-партнера, следить за перетяжкой ракеток, заказывать тренировочные корты и объяснять, чего ожидает Тим от нас обоих. Первое время схема работала хорошо, но по мере того как состояние Тима ухудшалось, нам становилось все трудней и трудней.
Между тем я сам довольно долго (и втайне ото всех) страдал от физического недомогания — правда, совершенно пустячного в сравнении с болезнью Тима. Уже больше года у меня то и дело случались приступы тошноты, а иногда и рвоты. В такие моменты я не мог не только поесть, но даже выпить воды. Началось это примерно в 1993 г., а весной 1994-го недуг так обострился, что я не смог вовремя выйти на финальный матч важного турнира в Ки-Бискейне, где должен был встретиться с Андре Агасси.
Проявив любезность, за которую я до сих пор ему признателен, Андре согласился отложить матч (назначенный на 13:00) на один час, чтобы мне сделали внутривенное вливание раствора глюкозы. Меня рвало все утро — в чем я винил макароны, съеденные накануне вечером. Капельница помогла, восстановила водный баланс, и я набрался достаточно сил, чтобы выиграть финал в трех сетах. Тогда мне казалось, что эти случаи как-то связаны с обезвоживанием.
Но на самом деле приступы тошноты начались вскоре после того, как я стал принимать индоцин (чтобы снять боли в правой руке при подаче). А проблема с рукой возникла, вероятно, в результате изменений, которые мы с Тимом внесли в повседневный тренировочный процесс за год до того или ранее. Прежде на тренировках я редко подавал изо всех сил: просто хотел постучать по мячу ударами средней мощности и как следует разогреться. Тим же считал, что мне следует прилагать больше усилий, чтобы поддерживать мое самое грозное оружие в наилучшем состоянии.
С его точки зрения, такими слабыми подачами я напоминал бейсболиста, который на тренировках попусту тратит время на легкие шлепки по мячу, полагая, что и без того наносит достаточно победных ударов. По мнению Тима, это полная чепуха. Тим хотел, чтобы я постоянно улучшал подачу; он считал, что если я буду тренироваться в полную силу, то в конце концов смогу подавать еще мощнее, стабильнее и в течение более продолжительного времени (и оказался прав!). Он убедил меня, а Тодд Снайдер, бывший тренер АТП-тура, которого я нанял персонально для себя, подтвердил, что повышенная нагрузка на подающую руку не чревата никакой опасностью.
Интуиция не подвела Тима. Подача у меня улучшилась и сделалась еще более надежным оружием. Однако, к сожалению, увеличение нагрузки и постоянная подача в полную силу неожиданно вызвали в руке боль, а потом такое состояние, которое иногда называют «мертвой рукой». Пульсирующая боль могла начаться ночью, во время тренировки или матча — тягучая, изнурительная, сверлящая, словно не рука болела, а зуб. А когда рука не в порядке, это влияет на скорость подачи и, конечно, на мое настроение и уверенность в себе.
Я начал принимать адвил в сочетании с индоцином. Это очень сильное противовоспалительное средство. Сначала я регулярно заглатывал этот «коктейль» только после тренировок и матчей, но очень скоро стал принимать и перед матчами — для профилактики. После того как я «подсел» на индоцин, у меня и начались приступы рвоты.
Перед полуфиналом Уимблдона-1994 с Тоддом Мартином я выпил немного воды — и она тут же вылилась обратно. Утром перед финалом Кубка «Большого шлема»-1994 я проснулся совершенно разбитый. Начались рвотные позывы. Я заставил себя что-то съесть, но меня вывернуло наизнанку. Чувствовал я себя отвратительно. Но тогда я уже по-настоящему осваивался со своим положением первой ракетки мира и не хотел брать тайм-аут. Напротив, я решил «поддать газу» и вышел на матч.
Вскоре после матча в Ки-Бискейне я пошел к своему врачу в Тампе, и мне сделали обследование желудочно-кишечного тракта. С полной несомненностью выяснилось, что у меня язва, а ее причина, по мнению врача, — совместное воздействие стресса и индоцина. Он сказал, что при правильном лечении и благоприятном стечении обстоятельств месяца через три я избавлюсь от хвори. Так к трагической смерти Витаса и неожиданной болезни Тима добавился мой собственный лечебный режим: три таблетки в день.
В феврале 1995 г. мне стало совершенно ясно, что год обещает быть отнюдь не заурядным. Передо мной стояло много задач, включая Кубок Дэвиса. Я уведомил Теннисную ассоциацию США, что намерен участвовать во всех матчах на Кубок Дэвиса (при удаче их могло оказаться целых четыре) .
В одни годы Кубок Дэвиса привлекал меня, в другие нет. И вопрос денег никогда не играл роли. Дело в том, что деньги по любым меркам были просто смешные. За выступление мы обычно получали примерно пятнадцать — двадцать тысяч долларов, а если наши домашние матчи приносили доход, нам еще немного доплачивали по системе распределения прибыли (но, поверьте, самую малость). Учитывая, что один матч Кубка Дэвиса отнимает полную неделю (а то и с лишним, если приехал раньше на день или два), деньги поистине ничтожные для парней, которые способны отхватить в четыре-пять раз больше за одно-единственное показательное выступление.
Я понимал всю уникальность Кубка Дэвиса, и мое неоднозначное отношение к нему объяснялось не деньгами, а иными причинами. Чтобы выиграть Кубок, нужно пожертвовать четырьмя неделями — этого хватит на два турнира «Большого шлема». К тому же трудно угадать заранее, с кем будешь играть круг за кругом и где пройдут матчи.
Болельщиков часто вводят в заблуждение громоздкий формат и традиции Кубка Дэвиса. Несколько раз, выступая в составе команды — победительницы очередного матча, я должен был объяснять поздравлявшим нас людям и даже журналистам, что в этот день мы вовсе не выиграли Кубок Дэвиса — мы выиграли всего один матч, и теперь нам предстоит следующий, причем через несколько месяцев. Я понимаю, что в подобном распорядке отчасти и заключается привлекательность Кубка, но меня это не особенно вдохновляло.
Вероятно, я бы все воспринимал по-другому, обладай мы на Кубке Дэвиса иным командным духом — таким, как у нынешней команды США с ее лидерами Энди Роддиком и Джеймсом Блейком. Командный дух и чувство товарищества у них на высоте, но при этом они не соперничают друг с другом за титулы «Большого шлема». А мое поколение насчитывало четырех чемпионов турниров «Большого шлема», которые постоянно конкурировали за место в первой пятерке (Андре Агасси, Джим Курье, Майкл Чанг и я), плюс еще несколько игроков — менее высокого класса, но отнюдь не из последних. Мы были соперниками и конкурентами, и хотя каждый из нас многого добился, мы всегда старались превзойти друг друга, «разнюхать» что-то о противнике, просчитать каждый шаг. Это, конечно, никак не способствовало формированию командного духа, потому что большинство команд держатся на ярком лидере (подобном Роддику), а из нас ни один не хотел оставаться на вторых ролях.
Любопытно сравнить Кубок Дэвиса, которому не хватает достойного освещения и внимания публики, с исключительно популярным Кубком Райдера в гольфе. Кубок Райдера — недельные соревнования, которые проводятся раз в два года в одном определенном месте. Кубок Дэвиса — ежегодные соревнования, которые состоят из нескольких этапов и проводятся в местах заранее не известных. Думаю, организаторам Кубка Дэвиса стоило бы попробовать другой формат — проводить игры в одном пункте, ограничив их конкретным временем (в идеале двумя неделями), — а затем оценить полученный результат.
В общем и целом Кубок Дэвиса привлекал меня (всего я выступил в шестнадцати матчах и дважды помог выиграть Кубок — конечно, знакомство отнюдь не поверхностное), но по мере развития моей карьеры в одиночном разряде он стал постоянным источником напряжения. Я понимал, что нереально сохранять за собой первое место в мировом рейтинге, выигрывать турниры «Большого шлема», а вдобавок выделять в своем расписании целых четыре недели для Кубка Дэвиса. Это уже слишком. Поэтому в одни годы я выступал на Кубке, в другие — нет. Я пропустил 1993-й, а в 1994-м входил в состав команды, которая проиграла полуфинал.
В 1995 г. действовал еще и другой, не столь явный, фактор. Тогда мое соперничество с Андре Агасси вступало в новую пиковую фазу. Всего несколько месяцев назад, на Открытом чемпионате США, Андре завершил свое эпическое странствие из преисподней в мировой классификации и стал первым «несеяным» игроком, завоевавшим чемпионский титул. А 1995 год он начал с победы надо мной в финале Открытого чемпионата Австралии. Во всем мире любители тенниса с нетерпением ждали, когда же Андре станет мне настоящим соперником. Я это только приветствовал, понимая, что любой игрок (особенно в глазах публики) хорош ровно настолько, насколько хороши его конкуренты. А компания Nike, которая спонсировала нас обоих, возглавляла ряды тех, кто делал все возможное, чтобы подогреть наше соперничество.
Андре, Джим и я согласились выступить на Кубке Дэвиса в 1995 г., но как только жеребьевка отправила команду США на матч второго круга в Италию, начались проблемы.
Четвертьфинальный матч был назначен в удаленном от проторенных путей городе Палермо (Сицилия), да еще на конец марта — именно тогда утомленные участники (в том числе и мы) двух крупных турниров США на харде (Индиан-Уэллс и Ки-Бискейн) планируют небольшой отдых перед европейским сезоном на грунтовых кортах.
Мы трое были готовы сделать все, что пошло бы на пользу Кубку Дэвиса, теннису и нам самим. Главное «но» заключалось в том, что никто из нас не хотел ехать на игру с итальянцами сразу после Ки-Бискейна. Однако нас с разных сторон убеждали, что выиграть Кубок просто необходимо! Да и как не выиграть, если в команду могут войти Сампрас, Агасси, Курье и Майкл Чанг? Несомненно, поднялась бы буря возмущения, пренебреги мы Кубком ради личных интересов. Нас сочли бы эгоистами и плохими патриотами.
Было и еще одно соображение. После того как Андре победил меня в финале Открытого чемпионата Австралии-1995, мы оба чувствовали, что в ближайшие месяцы и годы нам предстоит упорная битва за звание первой ракетки мира. И, по правде сказать, ни один из нас не рвался пожертвовать собой ради Кубка Дэвиса, полагая, что это повысит шансы соперника — на крупных турнирах или же в упорной погоне за первым местом.
В Индиан-Уэллс, в конце зимы, когда Кубок Дэвиса уже замаячил на горизонте, все мы осознали, что у нас возникла нешуточная проблема. Поэтому мы сделали необычный шаг — собрались вместе (точнее, в одной комнате) с Томом Галликсоном (который стал капитаном команды Кубка Дэвиса) и еще несколькими консультантами, чтобы обсудить положение. Обменявшись мнениями, мы прямо на месте решили: так как никто не хочет ехать в Италию, но кому-то все же придется, то единственный честный вариант — каждому быть наготове.
Мы приняли решение, собрали большую пресс-конференцию и заявили: Андре и я поедем в Палермо, а Джим будет готов к выезду в случае необходимости. В следующие несколько недель Андре и я поделили титулы в Индиан-Уэллс и Майами. Победив меня в Ки-Бискейне, Андре отобрал у меня первое место в классификации, и мне пришлось «догонять» его все лето, чтобы «восстановить статус-кво».
Сразу после матча в Майами мы сели в самолет до Нью-Йорка (точнее, в чартер, заказанный Андре) и в тот же вечер нанесли неожиданный визит его новой подруге Брук Шилдс на репетиции ее бродвейского спектакля «Бриолин» («Grease»). Проведя вечер в Ныо-Йорке, мы затем полетели на «конкорде» в Лондон, а потом чартерным рейсом до Палермо.
Матч с Италией был встречей неравных соперников. В одиночном разряде у итальянцев выступали Ренцо Фурлан и Андреа Гауденци — хорошие теннисисты, входившие в первую полусотню, но не более того. Правда, они играли дома, на грунте, перед итальянскими зрителями, очень шумными и несдержанными. С этим можно справиться — достаточно просто не ввязываться в конфликты. Так мы и сделали. Выиграли первые три встречи и уже на второй день одержали общую победу.
Теперь можно было не беспокоиться до сентября, когда нам предстоял полуфинал с сильной шведской командой, возглавляемой Матсом Виландером. Но зато мы принимали соперников дома, а Андре просто в буквальном смысле — в Лас-Вегасе.
Получив возможность не вспоминать о Кубке Дэвиса большую часть весны и все лето и постоянно «присматривая» за Андре, я отправился в Европу, исполненный больших надежд. Тим Галликсон понимал, как важно в историческом плане для меня, атакующего игрока, выиграть на «Ролан Гарросе». Поэтому мы тренировались и готовились особенно усердно.
Я выступил на четырех грунтовых турнирах, предваряющих «Ролан Гаррос». В трех из них я выбыл в первых же матчах и только в Гамбурге дошел до полуфинала. А на главном турнире — «Ролан Гарросе» — проиграл в первом круге, со счетом 6:4 в пятом сете, не слишком известному австрийцу Гилберту Шаллеру.
Это было трудное время — я ощущал прессинг со всех сторон. Большую угрозу представлял Андре. Он отнял у меня первое место в классификации, которое я удерживал два года. От язвы я полностью пока не излечился, Соединенные Штаты не вылетели из Кубка Дэвиса, и я чувствовал, что перегружен. А вдобавок — болезнь Тима. Он не мог поехать со мной в Европу, и я остался без него.
Но было ведь и хорошее! Мои отношения с Полом Аннаконом неуклонно улучшались. Тим считался моим официальным тренером, и нынешнее положение должно было сохраняться до тех пор, пока он чудесным образом не выздоровеет (или, напротив, пока не случится непоправимое). Мы с Полом понимали, что готовиться следует ко второму исходу. Я навещал Тима несколько раз. Он неизменно старался принять бодрый вид, но выглядел все хуже и хуже. Мы старались сделать жизнь Тима как можно более осмысленной и насыщенной, пока он в одиночестве боролся с болезнью.
В июне, вскоре после «Ролан Гарроса», Андре и я снялись в серии рекламных роликов об «уличном теннисе», которые пропагандировали предстоящий Открытый чемпионат США. Затем я загладил свое неудачное выступление на грунте победами на двух крупных «травяных» турнирах — «Куинс Клаб» и Уимблдоне. Чемпионский титул Уимблдона я выиграл третий раз подряд, и хотя победа в четырех сетах над Борисом Беккером была, в сущности, ничем не примечательной, я считал ее кульминацией моего участия в самом престижном из турниров.
В первый год, когда я выиграл Уимблдон, я наводил на зрителей скуку, и Джим, которого я одолел, тоже. Тогда дело заключалось в наших личных качествах.
На второй год нагонял тоску сам теннис — то бишь манера нашей с Гораном игры в финале. Тут причина была чисто техническая, игровая.
Но в 1995 г. Уимблдон перешел на более медленные мячи, и хотя в полуфинале я выдержал еще одну жесткую пятисетовую схватку на подачах с Иванишевичем, опять на краткое время возбудив негодование по поводу силового тенниса, финал с Беккером прошел в такой товарищеской и истинно спортивной атмосфере, что доставил удовольствие даже самым суровым критикам.
Англичане любили Беккера, а в этом матче он, казалось, передавал мне эстафету поколений. Публика, должно быть, заключила, что коль скоро Борис относится ко мне с таким уважением, значит, я не так уж и плох. Пошло на пользу и то, что, несмотря на все нападки, объектом которых я стал на Уимблдоне, я неизменно превозносил турнир до небес и тщательно взвешивал каждое слово. Постепенно я завоевывал симпатии британцев. Я был доволен тем, что расположение ко мне растет, поскольку моя собственная привязанность к Уимблдону с каждым годом крепла, независимо от моей репутации и отношения уимблдонской публики. Было просто здорово — влюбиться в Уимблдон и наконец-то снискать взаимность.
Первые несколько лет на Уимблдоне я останавливался в отеле «Сент-Джеймс» — одном из традиционных пунктов размещения игроков, в самом центре Лондона. Но умные люди еще со времен Бьорна Борга поняли, что лучше всего снимать дом в Уимблдон-Виллидж, престижном предместье на холме, сразу за Всеанглийским клубом лаун-тенниса и крокета. Это официальное наименование места, где проводится турнир, а неофициальное он получил по названию городка в предместье Лондона. Подобным же образом Открытый чемпионат США в прежние времена именовался «Форест-Хиллз».
Дом, который я снял и где потом останавливался многие годы, был расположен на Клифтон-роуд, а владели им (меня до сих пор разбирает смех, когда я вспоминаю об этом) люди по фамилии Борг. Честное слово!
Эти Борги были далеко не глупы. Благодаря турниру они зарабатывали немногим меньше их знаменитого теннисного тезки. За две недели на Уимблдоне я платил 10 тысяч фунтов, что в иные годы составляло почти 20 тысяч долларов. Потом я стал платить еще больше и снимать дом на месяц — от окончания Открытого чемпионата Франции и на весь Уимблдонский турнир. Потом дом Боргов надолго перехватил Роджер Федерер, когда я однажды не продлил контракт. Но разве можно упрекать его за это?
Я всегда был слегка зациклен на кондиционировании воздуха, потому что любил спать в темном прохладном помещении. И одна из первых вещей, какую я сделал, поселившись на Клифтон-роуд, — купил переносной кондиционер (англичане довольно равнодушны к этой аппаратуре). Я установил его в спальне, и год за годом он дожидался меня. У меня была отличная ванная. Однажды, в самом начале карьеры, я случайно увидел, как один французский игрок справляет малую нужду в душе раздевалки, и с тех пор никогда в эти кабинки не заходил. Как бы ни сложились обстоятельства, я принимал душ после матча только у себя — в доме или в отеле.
Обзавелся я и личной поварихой, Кирстен, родом из Южной Африки. Раньше она готовила для Тайгера Вудса (во время Открытого чемпионата Англии по гольфу). Кирстен знала мои запросы, а угодить мне было легко: по утрам вафли, омлет, чашка кофе. Порой она делала мне сэндвич, и я брал его с собой, особенно в те дни, когда не имело смысла уезжать с кортов между тренировкой и матчем. Кушанья, которые готовила Кирстен, были питательны и просты: цыплята, свежие овощи, паста с домашним соусом и тому подобное.
Иногда я прогуливался по нашему поселку или спускался по другому холму в сам городок Уимблдон и заходил в ресторан «Сан-Лоренцо» — итальянское заведение, облюбованное игроками с незапамятных пор. Изредка я заглядывал в кино и смотрел какой-нибудь фильм. Вот, собственно, и все. Прогулкам я уделял, наверное, четверть своего времени.
Иногда посещал большой парк под названием «Уимблдон Коммонз», где упражнялся или просто гулял. В парке было приятно и спокойно, да и в самом поселке, очень живописном, почти не попадались журналисты и папарацци.
Пол жил на съемной квартире в Лондоне. Мы оба нуждались в личном пространстве. Ежедневных совместных дел у нас хватало, и было приятно просыпаться утром, имея возможность побыть наедине с собой. Мне это нравилось, но временами я ощущал некоторое одиночество. Иногда было не с кем и словом перемолвиться, кроме Кирстен, и мы с ней немного болтали. Мой образ жизни отчасти походил на монашеский, и этот размеренный режим я порой разнообразил лишь тем, что приглашал на ужин друзей — Пола, Тодда Мартина и его тренера Дина Голдфайиа.
Однажды я «прославился» своим ответом на вопрос, как мне нравится Лондон. Я заявил, что жду не дождусь возвращения в Штаты, где смогу смотреть любимые спортивные программы по кабельному телевидению, есть чизбургеры и жареную картошку в закусочных. Это было шуткой только наполовину. Английское телевидение с течением времени улучшилось, а в прежние, далекие годы здесь существовало всего четыре канала, причем три показывали бесконечные документальные фильмы на такие темы, как, например, производство кружева в Бельгии.
Когда наступила эра спутникового телевидения, Борги тут же уловили тенденцию — завели спутниковую тарелку и один из первых телевизоров с плоским экраном. Увидев приобретения, я подумал: «К чему это?» А потом догадался...
Кирстен заботилась, чтобы с пищей я получал необходимое количество белков. Несмотря на дерзкое заявление насчет чизбургеров, я строго следил за собой в плане еды и позволял себе лишь одно небольшое ритуальное нарушение. Каждый год, утром после финала, Кирстен готовила мне классический английский завтрак, в том числе яичницу с беконом, тосты, колбаски, фасоль, жареный картофель - аппетитные жирные вещи, очень вкусные, после которых, однако, я чувствовал себя не лучшим образом.
И еще одно послабление я допускал. В победные годы, возвращаясь в США, на свою базу в Тампе, я тут же шел в местную закусочную «Checkers» за одним из их знаменитых бургеров и картошкой. Вина я вообще не употреблял, разве что на Бале чемпионов в Уимблдоне. Пил я в основном воду, хотя время от времени баловал себя кокой. И так — не только на Уимблдоне, но и на других турнирах, где я играл. В плане питания я придерживался строгой дисциплины и, должен сказать, порой ощущал свое превосходство, видя, как другие профессиональные игроки в ресторане набивают себе желудок пастой с жирным сливочным соусом, огромными порциями стейка с картофелем, тортом и мороженым.
В Лондоне горничная трижды в неделю отдавала стирать мою одежду и постельное белье. Я любил, чтобы теннисная форма, которую я ношу, хотя бы раз побывала в стирке. Когда Nike выпускала новую фасонную линию (всегда перед турнирами «Большого шлема», итого три-четыре линии одежды в год), они обычно присылали мне пятнадцать — двадцать теннисок и столько же пар шортов. Я носил их, пока не поступала очередная линия, в отличие от Ивана Лендла, который чуть ли не на каждый матч выходил в совершенно новой экипировке.
Порой можно было увидеть забавную картинку: Иван, сидя в раздевалке перед полуфиналом Открытого чемпионата США или еще каким-нибудь серьезным матчем, безуспешно пытается завязать сверхмодный нелепый шнурок или застегнуть пуговицу на новехонькой тенниске.
К обуви у меня особое отношение — с тех самых пор, как я дорого заплатил за переход на новую модель «Air» фирмы Nike. Производители спортивной одежды и обуви обычно хотят, чтобы игрок подбирал обувь в соответствии с тем модельным рядом, который они продвигают. Но это не для меня. Познакомившись с моделью «Air Oscillate» от Nike — обувью очень легкой, но достаточно жесткой и хорошо державшей ногу, я на ней и остановился. И Nike продала много таких туфель.
Все производители теннисной обуви выпускают специальные профессиональные туфли для травяных кортов — с небольшими мягкими шипами на подошве. Мне не нравилось играть в туфлях с изношенными шипами, но и не слишком хотелось на каждый матч надевать новую пару обуви (как поступают некоторые). Вообще говоря, я предпочитал разношенную обувь на большинстве кортов, но не на траве. Поэтому я делал так: брал новую пару, тренировался в ней, играл матч-другой, выкидывал, а затем влезал в следующую. Эксплуатацию пары обуви на Уимблдоне я ограничивал одной тренировкой и двумя матчами.
С Nike следовало постоянно держаться начеку: когда они меняют свои модельные ряды и фабрики, никогда не знаешь, что будет с размерами. Джим Курье и я вечно просили их: «С цветом и фасоном делайте что угодно, но не меняйте длину шортов и колодку обуви!» Бывало, я получал партию туфель не с той фабрики, что раньше, и едва мог вставить в них сделанные на заказ ортопедические вкладыши.
Профессионалы высшей категории, конечно, требовательны к такой вещи, как полное удобство обуви и одежды, и своими придирками мы, наверное, сильно досаждали ребятам из Nike. Но, как ни удивительно, они никогда не делали обувь согласно нашим личным пожеланиям.
В Уимблдон-Виллидж меня почти не беспокоили. Один раз постучались несколько ребятишек и попросили автограф, который я охотно им дал. В любой день мне стоило только позвонить во Всеанглийский клуб насчет машины, и она тут же приезжала. Дорога до клубных мест тренировки или игры занимала не более пяти минут.
Сам клуб очень уютен, даже после реконструкции в конце 1990-х годов. До переделки в нем, по традиции, было две раздевалки: большая, хорошо оборудованная, для «сеяных» игроков (раздевалка «А»), и малая, которая даже не была частью комплекса главного клубного здания — Центрального корта, для второразрядных игроков, юниоров и прочих (раздевалка «В»).
К раздевалке «А» я привык довольно быстро. Ее особенность заключалась в том, что она была не то чтобы недостаточно просторной, а просто населенной гораздо гуще, чем раздевалка «В». В ней собирались все «сеяные» игроки плюс их тренеры, а сверх того бывшие чемпионы, какие-то ветераны и члены клуба — в общем, изрядная толпа народа. Завсегдатаи сидели, играли в триктрак или в карты и рассказывали всякие истории. Я по большей части сидел и слушал. Мне эта раздевалка больше всего нравилась тем, что из нее можно было коротким путем (всего несколько ступенек и комната ожидания) попасть прямо в святая святых — на Центральный корт.
Над дверью комнаты ожидания помещены известные строки Киплинга: «Равно встречай успех и поруганье, не забывая, что их голос лжив»[4] . Все смотрят на надпись, вникая в ее смысл и отмечая, что у игроков, ждущих выхода, от этих слов мороз пробегает по коже. Обстановка в комнате волнующая, поскольку через открытую дверь видна удивительная зеленая поверхность Центрального корта, сияющая под лучами солнца за коротким, сумрачным проходом. Но ярче всего мне запомнился Кубок — приз в одиночном разряде, неизменно стоявший там же, слева от двери.
Хозяин этой небольшой комнаты — Стив Адамс. Официально он именуется Главным распорядителем, а обязанности его заключаются в том, чтобы выпускать игроков из комнаты не раньше, чем подготовка окончательно завершится. Обычно, как только вы с соперником встречаетесь у Стива, он выходит на корт и смотрит, все ли в порядке — заняты ли места в Королевской ложе, готов ли судья на вышке, расселись ли зрители, проверена и закреплена ли сетка. Затем он возвращается и деловито произносит хорошо поставленным голосом: «Мы готовы, джентльмены. Присутствуют члены королевской семьи, вы должны поклониться...» Потом, когда я сделался важной персоной, Адамс иногда обращался к бедолаге, стоящему рядом со мной, и изрекал нечто вроде: «Вы просто повторяйте за Питом. Он знает все».
А я думал: «Каково-то сейчас злополучному парню?»
Мой третий подряд чемпионский титул Уимблдона быстро померк перед лицом поразительного взлета в 1995 г. Андре Агасси, который набирал разгон в сезоне на харде. Я пополнил список его многочисленных жертв, когда он выдал летнюю серию из двадцати матчей, изумившую теннисный мир. Андре победил меня на Открытом чемпионате Канады, вступив в четырехтурнирную гонку, чтобы подойти к Открытому чемпионату США в роли фаворита.
Но звание фаворита накладывало на него нешуточные обязательства. Если Андре проиграет мне, все его двадцать пять летних победных матчей отправятся прямиком на свалку, и о том, что он номер первый, тоже придется забыть. Подобно мне, Андре играл ради ярких побед на самых важных турнирах, а не ради очков и рейтинга.
Итак, напряжение Агасси росло, и у меня сложилось впечатление, что он каким-то образом знает, что ему придется очень трудно со мной на «Флашинг Медоуз». У меня была игра, у меня была мотивация, у меня был опыт - все необходимое, чтобы прервать волшебную полосу его удач. Несмотря на высочайший игровой уровень Андре, я чувствовал себя уверенно. Пресса на все лады смаковала ситуацию. Но для меня главное заключалось в том, что мне удобно играть с Андре. При всех его достоинствах и независимо от счета во встречах между нами на данный конкретный день он не мог по-настоящему вытеснить меня из моей зоны комфорта, если игра у меня шла. Мы двигались к финалу под знаком неизбежности и под шумиху в прессе.
Погода в день финала выдалась неустойчивая, хотя это трудно было заметить по телевизору и даже со зрительских мест на арене имени Луи Армстронга. Было немного ветрено, и мы начали прощупывать друг друга, словно два боксера-тяжеловеса.
Я видел, какое внимание привлек наш матч. На него явились перворазрядные знаменитости — Джон Ф. Кеннеди-младший и Арнольд Шварценеггер, а также многие другие важные персоны.
Мы с Андре обменивались ударами, и гейм за геймом лучше чувствовали мяч. Мы оба знали, что по ходу сета один из нас получит свой шанс победить. При счете 5:4 на моем сетболе вышла серия из девятнадцати ударов, в основном справа. Этот эпизод я помню как вчера — одно из самых важных и значимых очков в моей карьере. Я выиграл его резким косым ударом слева.
Андре пытался навязать мне такую игру, где чувствовал себя как рыба в воде, но я избежал этой ловушки и выиграл не только очко, но и сет. Это напоминало хук справа, который оглушает вашего соперника в боксе. В теннисе такой момент может оказаться дороже гейма. Думаю, он стоил Агасси и следующего сета, поскольку я провел его довольно свободно, не ощущая особого давления Андре или заметной усталости, и выиграл со счетом 6:3.
Запас прочности в два сета укрепил мою уверенность. Я решительно повел в счете, и Андре пришлось бы изрядно потрудиться, чтобы его сравнять. И все же я допускал, что Андре тоже возьмет свое. Он очень старался и сумел выиграть третий сет, но это отняло у него много сил, а до равного счета было еще далеко. От меня, однако, требовалась большая осторожность. Если я проиграю четвертый сет, это станет живительным источником для слабеющего Андре, он будет неуклонно крепнуть, получая дополнительные порции адреналина и уверенности. Мне нужно было как-то усилить мою игру, но вместе с тем продолжать действовать «в собственном ключе».
Усиление игры для меня — это всегда улучшение качества подачи, то есть повышение ее скорости и точности. Самое главное — выигрывать геймы на своей подаче уверенно и быстро, чтобы противник не успел и глазом моргнуть — а гейм уже ваш! Таким образом, зная, что ваша подача вас «не подведет», вы получаете возможность полностью сконцентрироваться на приеме, а это всегда повышает шансы выигрыша подачи соперника.
И наоборот, ваш соперник, чувствуя, что вряд ли возьмет вашу подачу, изо всех сил старается держать свою. Он все время думает о том, что если он ее проиграет, то наверняка проиграет и сет.
В конце сета это может оказаться решающим фактором успеха и всегда ставит в трудное положение игрока, чья собственная подача не является мощным оружием.
Почти весь четвертый сет у нас с Андре была равная игра, несмотря на то что я удачно подавал и сделал много эйсов. Принимая подачу Андре в одиннадцатом гейме, я почувствовал, что мое давление все же сказалось на нем. Я сделал ключевой брейк и повел в счете 6:5, а затем выиграл свою подачу, поставившую точку в матче.
Эта победа стала для меня символичной во многих отношениях: мой седьмой успех на турнирах «Большого шлема» послужил началом следующей победной серии, в которой я выиграл еще шесть турниров за ближайшие четыре года.
Проигрыш в матче надломил Андре. В нашем соперничестве я повел 9:8, но хуже было другое — Андре получил такой удар, что вскоре ушел в тень. Потом, гораздо позже, он признал, что ему понадобилось целых два года, чтобы опомниться после поражения. И это очень печально, поскольку матч стал своего рода яркой демонстрацией нашего соперничества с Андре. Никто лучше Агасси не мог так подействовать на меня, чтобы я продемонстрировал все, на что способен. Но зато теперь никто не посмел бы назвать наше соперничество рекламным трюком, состряпанным фирмой Nike. Это было реальное противостояние, хотя и отсроченное на время.
Не прошло и двух недель после финала Открытого чемпионата США, как наша команда Кубка Дэвиса собралась в Лас-Вегасе на встречу со Швецией. Атмосфера Вегаса расслабляла. Мы немного поиграли в казино, а однажды в широком составе собрались дома у Андре на ужин, приготовленный местным поваром. После ужина Андре прокатил желающих на своем «хаммере» по песчаным дюнам и холмам в окрестностях Вегаса.
Наш капитан Том Галликсон, желая, чтобы нам было удобно, вызвался ехать в багажнике «хаммера», где скрючился самым немыслимым образом. Вскоре Андре уже гонял вверх и вниз по холмам. «Хаммер» скакал, как одержимый, — к восторгу всех за исключением Тома, который мотался, словно тряпичная кукла, стукаясь головой, плечами и коленями. Сзади то и дело доносилось: «Ух... ооох... эээх... ааах!»
Тим Галликсон, чье состояние продолжало ухудшаться, решил присутствовать на матче, вопреки рекомендациям врача. Теннисная ассоциация США и прочие теннисные функционеры поддержали его намерение, и Тим приехал в качестве второго, неофициального капитана при брате. Было приятно вновь увидеть его рядом с теннисным кортом, порадоваться тому, что живая атмосфера соревнований и общение с игроками по-прежнему поднимают ему настроение. Но выглядел он совершенно изможденным. Любой, не задумываясь, сказал бы, что дела его плохи.
Андре и я выиграли первые встречи в одиночном разряде, но шведы взяли свое в парном. Андре пришел посмотреть парную встречу с правой рукой на перевязи под расстегнутой спортивной курткой: в первый же день он повредил грудной мускул и выбыл из дальнейших соревнований. Парную встречу мы проиграли, но на следующий день Тодд, заменивший Андре, сказал свое слово, чисто переиграв Энквиста в трех сетах и поставив победную точку в матче. Тогда представители нашей Теннисной ассоциации спросили шведов, будут ли они возражать, если Тим посидит у корта рядом с братом (нашим капитаном) во время моей уже ничего не решавшей встречи с Виландером. Неизменно учтивые шведы не возражали.
После окончания матча комнату команды США наводнила привычная толпа: друзья, родственники, люди из Теннисной ассоциации США, люди из Международной федерации тенниса, всевозможные завсегдатаи и поклонники.
В какой-то момент я обвел комнату взглядом и встретился глазами с Тимом. Его лицо побледнело, а глаза, обычно темно-синие, ярко вспыхнули. С секунду мы смотрели друг на друга, и каждый знал, о чем думает другой: этот миг — наш. Прочие здесь — посторонние. Мы словно одни во всем мире; у нас нельзя отнять ни наших достижений, ни взаимного доверия. Никогда не забуду эту минуту и этот взгляд. Они со мной по сей день, как немеркнущая память о Тиме.
Теперь нам предстоял ноябрьский финал в Москве. Я знал, как Тим мечтает, чтобы именно я привел команду к триумфу. Задача не из легких, поскольку русские, как и предполагалось, проводили встречу на очень медленном красном грунте, в помещении. Разумный шаг с их стороны, хотя Джим Курье и Андре Агасси могли сыграть на грунте не хуже любого из них.
Нам мешало только одно: Андре до сих пор лечил поврежденную мышцу. До последней минуты мы надеялись, что он сможет выступить: тогда моя задача упростилась бы. Я обеспечиваю победу в парном разряде, а Андре и Джим берут на себя всю тяжелую работу в одиночном. Я не сомневался, что в парном разряде мы выиграем, — я любил выступать на Кубке Дэвиса в паре с Тоддом Мартином, и, при всем моем неоднозначном отношении к грунту, в паре я играл на нем уверенно и успешно.
В Москву мы приехали в субботу, за шесть дней до матча, который должен был начаться в следующую пятницу. Андре сообщил, что хотя играть не сможет, но все равно приедет для демонстрации командного духа и солидарности. Все встало на свои места. Том Галликсон объявил, что мне предстоит играть и в одиночном разряде, если, конечно, я не считаю, будто не гожусь для подобного дела, и не имею ничего против. Что же это за напасть такая? Что мне делать? Сказать: «Нет, Том, это не для меня. Уж лучше Тодд или Ричи»? Перед моим мысленным взором сразу предстали лионские события — истинный кошмар!
Но в Москве наш командный дух оказался на высоте, да и Россия, к нашему удовольствию, менялась тогда в лучшую сторону. Нас хорошо принимали: прекрасная гостиница, отличное питание, комфортабельные номера на двоих. Мы еще больше воспряли духом, когда в Москве появился Андре. Он проделал длинное путешествие в конце нелегкого года, хотя мог лишь болеть за нас на скамейке, не прикасаясь к мячу.
Мы даже сумели осмотреть некоторые достопримечательности Москвы. Однажды пошли на Красную площадь и отстояли очередь в мавзолей Ленина (в это время нас, как обычно, снимали репортеры). Я был очень рад, что со мной поехали отец и сестра Стелла. Отца не слишком волновал Кубок Дэвиса — его интриговала Россия. Я всем своим видом показывал ему: «Ну что я такое в команде, отец? Мелкая сошка». Но когда отец был рядом, я не имел права сыграть «погано».
Я открывал матч встречей с Андреем Чесноковым, одним из самых упорных бойцов того времени. Чесси был из тех ребят, кто хорош на красном грунте. Он умел бороться за каждый мяч и продержаться дольше соперника. Чесноков не силач, но зато жилистый и очень выносливый. Играть против него на грунте — трудная задача, даже если ты на пике формы. Против меня работало и то, что красный грунт оказался не просто медленным — в сущности, он напоминал грязь. Русские вылили на него море воды, чтобы сделать медленным до предела. Единственное, что меня утешало, — это огромные размеры Олимпийского стадиона, где зрители не были особо значимым фактором. Их набиралось, наверное, тысяч двадцать, но казалось, будто гораздо меньше, поскольку трибуны располагались далеко от корта.
Зная, как хорош Чесси на грунте, я стал прессинговать его с самого начала. Я чувствовал себя обязанным разыгрывать очки быстро и поэтому принял несколько неудачных решений. То, что я находился не в лучшей форме, тоже заставило меня форсировать события. Еще перед нашей встречей я думал: «Во что я ввязался — ведь мое выступление в одиночном разряде даже не планировалось!» Однако, вопреки всему, на матч я настроился. Я рассудил, что просто буду играть, — пусть себе мяч летает, а дальше увидим. В конце концов, это всего лишь первая встреча, и то обстоятельство, что я не обязан выиграть ее любой ценой, облегчало мне жизнь.
Если говорить о моих преимуществах, самым крупным из них, вероятно, являлось то, что я — Пит Сампрас. Мы с Чесси оба это знали. Он понимал, что значит победить меня — первого игрока мира (к тому времени я опять отобрал у Андре номер один в классификации). Все надежды и национальный престиж России лежали на его плечах в этом финале Кубка Дэвиса. Вот и подумайте, кому было труднее.
Чесноков выиграл первый сет и, думаю, в результате снизил бдительность и слегка расслабился. Такие вещи случаются постоянно — в психологическом плане это равноценно потере концентрации.
Я начал играть еще более агрессивно. Мои удачные удары и непрерывные атаки вывели Чесси из равновесия, и я взял два следующих сета подряд. Но Чесси собрался (все-таки он был стойкий боец, волевой, с сильным характером) и выиграл четвертый сет на тай-брейке. В пятом сете я заиграл более раскованно, а он пришел в некоторое замешательство, раздумывая, как быть — форсировать события или же уступить мне инициативу в надежде, что я начну ошибаться или устану.
Чесси выбрал второй вариант (он всегда выглядит привлекательнее). Так нередко поступают любители игры на задней линии. По сути дела, он отдал игру в мои руки. Я без колебаний взял инициативу и ускорил темп. На моем матчболе я резко ударил справа и в этот момент почувствовал, что ноги сводит судорога. Я все же побежал к сетке вслед за ударом. И в тот момент, когда Чесноков наносил свой обводящий удар, ноги перестали меня слушаться, я споткнулся и упал.
К счастью, Чесси промахнулся, и дело было сделано. Я выиграл!
Увидев, что мне плохо, вся скамейка сборной США устремилась к корту. Если вам доводилось видеть, как страдают от судорог, вы знаете — зрелище не из приятных. Судороги заставляют корчиться и извиваться, хотя и не выводят из строя надолго. Наш инструктор на Кубке Дэвиса Бобби Рассо и наш врач Джордж Фейрид, давно работавший с командой, выбежали на корт и стали меня поднимать.
Мы привыкли, что доктор Фейрид — человек тихий, спокойный, но тут он завопил: «С дороги, живо! А ну пропустите!»
Выглядело это так, словно я получил пулю в голову, а они спешат доставить меня в пункт неотложной помощи. Несмотря ни на что, ситуация показалась мне чрезвычайно забавной, и я расхохотался, поскольку док явно делал из мухи слона. В конце концов меня дотащили до раздевалки и дали таблетку, снявшую судороги. Но с тех пор всякий раз, вспоминая паническую реакцию дока Фейрида, я не могу удержаться от смеха.
К сожалению, Джим проиграл второй пятничный матч Евгению Кафельникову, и счет сравнялся — 1:1. Когда Том решил, что я буду выступать в одиночном разряде, то для парного он наметил команду в составе Тодда и Ричи Ренеберга. Но при равном счете Том призадумался. Как правило, если матч приходит к счету 1:1, команда, выигравшая в парном разряде, начинает заключительный день одиночных встреч со значительным преимуществом и куда меньшим волнением. Важность встречи в парном разряде — одна из приятных особенностей Кубка Дэвиса, в то время как на обычных турнирах парный разряд служит лишь фоном для одиночного.
Том спросил, в состоянии ли я сыграть пару. «Ну, — ответил я, — знавал я деньки и получше... Да уж ладно, почему бы нет?» И вот назавтра мы с Тоддом вышли, весьма недурно провели встречу и выиграли парный разряд.
Самым важным следствием хитроумного хода Галли было то, что он застиг русских врасплох. Внезапно они оказались в проигрыше (1:2), на грани общего поражения, и перед ними, несмотря на преимущество домашнего корта, встала почти неразрешимая задача: победить двух игроков, входящих в мировую элиту. Грунтовое покрытие тоже не сулило им преимуществ после моей победы в первый день состязаний. Я, бесспорно, являлся первой ракеткой мира и взял матч под свой личный контроль.
В воскресенье мне предстояло играть первым. Я чувствовал некоторую тяжесть в ногах, но сознавал, что от крупного достижения меня отделяет всего одна встреча. А выходил я против Кафельникова — парня, с которым всегда любил играть. Хороший теннисист, он вел себя заносчиво с игроками более низкого ранга, но всегда восхищался моей игрой. Теперь ему нужно было победить меня, чтобы возродить надежды своей страны на победу в Кубке Дэвиса.
Не знаю, как это получилось, но я провел отличный матч в самый ответственный момент. Назовите это судьбой, назовите удачей — чем угодно. Суть в том, что у Евгения не было ни единого шанса. Скажем так: я себя чувствовал как рыба в воде. Победа в матче с Чесноковым раскрепостила меня, создала ощущение, что все мне по силам, а выигрыш в парном разряде укрепил мою решимость. В игре с Кафельниковым я постоянно менял тактику: то подавал с выходом к сетке, то оставался сзади, вводил его в замешательство, делая вид, будто иду вслед за сильным ударом, а потом, отступая назад, смотрел, чем он сможет (если вообще сможет) мне ответить.
Я вел 6:2, 6:4, и последний луч надежды для Кафельникова сверкнул на тай-брейке в третьем сете. Но я все же сумел повести на тай-брейке 6:4, а потом выполнил победную подачу по центру и поставил точку. Том выбежал на корт, эмоции переполняли его; первым делом он шепнул: «Вот если бы Тим здесь был и видел это!»
Момент был трогательный, а через несколько секунд нас окружила вся команда, и мы дали волю чувствам, празднуя победу на корте. Андре, который нес эту ношу вместе со мной весь год, тоже делил с нами общую радость. Я глубоко признателен ему за то, что он проникся важностью события и нашел возможность приехать, хотя имел много причин не делать этого, особенно после проигрыша мне в финале Открытого чемпионата США (из-за чего все его блестящие достижения 1995 г. пошли прахом) и полученной затем мышечной травмы.
Тогда я еще не представлял, что это выступление на Кубке Дэвиса станет одним из самых ярких эпизодов моей карьеры и войдет в анналы Кубка (американская пресса, казалось, его даже не заметила). Я не уверен, был ли в Москве хоть один американский репортер, не считая вездесущего Бада Коллинза. Я до сих пор не могу объяснить, как к нам пришла победа, но подозреваю, что опасная ситуация, в которой мы оказались, раскрепостила команду. Нам нечего было терять и ничто на нас не давило.
После уже ничего не решавшего пятого матча празднество переместилось в раздевалку, а потом предстоял торжественный вечер в традиционном составе — с большими «шишками» из Теннисной ассоциации США, из Международной федерации тенниса и со спонсорами Кубка Дэвиса.
И вот еще в чем состоит притягательность Кубка Дэвиса — там ощущаешь невыразимое чувство товарищества, удивительную связь с командой, тренером, даже с обслуживающим персоналом, вроде дока Фейрида и Бобби Рассо. Ты победил, и наступает лучший момент — в комнате команды или в раздевалке, перед тем как туда допускают функционеров. Хлопает пробка шампанского, мы делаем несколько глотков, смеемся и начинаем готовиться к официальному банкету. Потом — у каждого своя дорога. Мы даже разъезжаемся по отдельности — ведь обычно всем нужно в разные места.
Все это очень напоминает классический вестерн «Великолепная семерка» («The Magnificent Seven»). Словно ты входишь в случайно подобравшуюся компанию превосходных стрелков, которые объединились, чтобы спасти город и прогнать бандитов. А когда дело сделано, каждый отправляется своим путем. Подобно этим стрелкам, мы — одиночки. Игроки в теннис.
Глава 7 Момент истины 1996
1995 год я завершил, заняв первое месте в мировом рейтинге третий раз подряд, несмотря на то что большую часть года лидировал Андре Агасси. Чтобы подняться на первую строчку рейтинга, мне нужно было обязательно победить Бориса Беккера в финале Парижского турнира на крытых кортах.
Закончи я год вторым номером, вплотную за Андре, дальнейшая моя карьера, возможно, развивалась бы совсем по другому сценарию. Во всяком случае, обладание первым местом в течение рекордного количества лет не являлось бы для меня столь всепоглощающей целью, какой в конечном итоге стало. Впрочем, я забегаю вперед.
Вскоре после финала Кубка Дэвиса я отправился в Мюнхен — сыграть на Кубке «Большого шлема». Когда я приехал, Борис Беккер отвел меня в сторону и сделал один из приятнейших комплиментов, какие я когда-либо получал. Если вам известно, насколько внушительно — словно важное официальное лицо — может говорить Беккер, вы оцените этот факт. Он внимательно посмотрел на меня и сказал: «Пит, твое выступление на Кубке Дэвиса в Москве — это что-то невероятное! Вот поэтому-то ты и номер один в мире, без оговорок». Если учесть напряженность нашего соперничества (ведь я выиграл у Бориса в финале Уимблдона всего пару месяцев назад), он проявил истинное великодушие.
Чем больше проходило времени, тем яснее я понимал ценность моей победы на Кубке Дэвиса в Москве, тем большую радость от нее ощущал — и особенно потому, что одержал ее на грунте. Выходит, недаром я дал себе зарок после финала Открытого чемпионата США 1992 г. — теперь я пожинаю плоды.
В 1995 г. сплелись воедино важные нити моей спортивной жизни. С одной стороны, передо мной открылась возможность побить давний рекорд Джимми Коннорса, сохранявшего первое место в мировой классификации по итогам года пять лет подряд, — достижение, которое многие считали неповторимым. С другой стороны, началось мое историческое соперничество с Андре Агасси, которое перешло на более высокий уровень, когда мы поделили победы в двух финалах на харде — в Индиан-Уэллс и Майами. Мы оба находились на подъеме, о нас постоянно говорил весь спортивный мир — от простых болельщиков до теннисных специалистов. Наконец, мы представляли собой достаточно яркий контраст, чтобы разжечь споры о том, чей же теннис предпочтительнее.
Меня печалило, что все это меркнет на фоне болезни Тима Галликсона. Хотя окружающие, в том числе и журналисты, проявляли тактичность в отношении моей личной жизни, но, разумеется, многие спрашивали о Тиме и выражали сочувствие.
1995 год принес мне много огорчений и переживаний, но, думаю, я неплохо справился с ними. Начиная с этого года публика явно стала воспринимать меня не столь негативно и, полагаю, относиться ко мне с большей симпатией.
Однако за перегруженность соревновательного графика 1995 г. мне пришлось дорого заплатить, и первый «платеж» состоялся через несколько недель после московского финала Кубка Дэвиса — на Открытом чемпионате Австралии 1996 г. На эти соревнования я приехал, не имея даже месяца, чтобы прийти в себя после Кубка «Большого шлема» (я не смог доиграть его из-за травмы лодыжки), и, конечно, совершенно не был готов играть (да впрочем, и не хотел).
Тем не менее я решил поехать и в итоге уступил в третьем круге австралийцу Марку Филиппуссису. Обстоятельства сложились неблагоприятно: матч проходил вечером, а за Марка болели многочисленные местные поклонники. На арену имени Рода Лейвера втиснулись, наверное, тысяч восемнадцать фанатов, жаждущих моего поражения. Марк просто физически подавил меня. Он находился в изумительной форме — а когда соперник вдобавок обладает такой мощью и разнообразием приемов, как Филиппуссис, ничего приятного ждать не приходится.
Честно говоря, я не слишком переживал по поводу поражения — ведь я сделал все, что было в моих силах. Имей я шесть —восемь недель на восстановление и подготовку к сезону, все могло обернуться иначе. К тому же не исключено, что на другом турнире (не в Австралии) и результат оказался бы другим.
По большому счету, мне никогда не нравилось играть в Мельбурне — о чем свидетельствуют мои постоянные неудачи (я выиграл там всего-навсего два титула). Многих это удивляло, поскольку на первый взгляд Открытый чемпионат Австралии казался просто идеальным для меня турниром «Большого шлема».
У австралийцев богатые теннисные традиции, но даже их кумиры — великие игроки — в большинстве своем простые, открытые ребята без всяких претензий, то есть в принципе похожи на меня. В этом отношении я сразу почувствовал какое-то внутреннее родство с австралийцами. Кроме того, австралийцы дружелюбны и добродушны, поэтому общая атмосфера у них на турнире очень спокойная. Это тоже пришлось мне по нраву.
Допустим, если вам станет плохо на улице и вы попросите помощи у первого встречного, он наверняка скажет: «Не беспокойся, приятель!», а потом сделает все, чтобы вам помочь.
Вся инфраструктура Мельбурн-парка, включая арену имени Рода Лейвера, новая и первоклассная. Там не возникает хаоса или столпотворения, как на других турнирах «Большого шлема». Даже присутствие прессы ощущается гораздо меньше. Иными словами, обстановка не такая напряженная и подавляющая.
Претензии же мои к Открытому чемпионату Австралии начались с мячей. Мячи там всегда несколько различались. Складывалось впечатление, будто австралийцы каждый год гадают, какие мячи тут нужны — быстрые или медленные, твердые или мягкие, с ворсом, пушистым как шерсть котенка, или с ворсом более плотным и коротким, летящие быстрее... Однажды выдался год, когда мячи оставляли на покрытии кортов небольшие черные отметины, какие можно видеть на площадках для сквоша.
В Мельбурне вам гарантированы несколько денечков, когда температура переваливает за сорок градусов. Несмотря на высокую влажность, зной просто иссушающий! Жара для меня — серьезная проблема. Я ведь болел талассемией (хотя и не афишировал этот факт) — хроническим заболеванием, распространенным у мужчин средиземноморского происхождения. Обычно оно связано с недостатком гемоглобина и вызывает анемию. Страдающие этим заболеванием часто чувствуют приступы слабости в сильную жару. Я знал, что у нас в роду это наследственное заболевание, но предпочитал игнорировать его вплоть до заключительного этапа моей карьеры. Как ни странно, лучше всего в Австралии выступали шведы: выросшие в холодном северном климате, они особенно ценили солнечное тепло зимой. Русские там тоже смотрелись неплохо.
Еще одной особенностью кортов Мельбурн-парка являлось их покрытие «Rebound Асе» (замененное к 2008 г. на «Plexicusion»). Покрытие «Rebound Асе» представляло собой состав с добавлением каучука, наносившийся на стандартное для твердого корта бетонное основание. Покрытие слегка амортизировало и замедляло отскок мяча, но при жаре вело себя совершенно непредсказуемо.
Однажды в Мельбурне стояла такая жарища, что телевизионщики разбили на корте яйцо и засняли, как оно превращается в яичницу. От сильного зноя покрытие становилось очень липким. Как-то раз Габриэла Сабатини во время резкого поворота лишилась теннисной туфли (она приклеилась к корту и порвалась). Нередко случались весьма неприятные падения и травмы ног.
Условия теннисных матчей в Австралии меняются в мгновение ока. Немаловажно, играешь ты днем или вечером. Австралийский и американский чемпионаты отличаются от двух других турниров «Большого шлема» тем, что на них проводятся вечерние матчи, а раздвижная крыша арены имени Рода Лейвера к тому же дает шанс сыграть вечером в крытом помещении.
Состояние корта напрямую зависит от температуры воздуха. Его поверхность становится совершенно иной, когда температура падает до комфортных тридцати с небольшим градусов (так бывает на вечерних матчах в отличие от невыносимо жарких дневных).
Для меня австралийский турнир был настоящей лотереей именно в том плане, где я особенно хотел стабильности: покрытие, мячи и погодные условия.
На чемпионате Австралии 1996 г., в годовщину приключившихся с Тимом несчастий, у меня открылись все связанные с ними старые душевные раны. Поэтому я нисколько не жалел, что покидаю Мельбурн и могу на время забыть о нем. Дома меня ждал Тим, а его дела час от часу ухудшались. Я пытался собраться с мыслями и понять, что именно я теряю.
Когда ты уже первоклассный теннисист, а не новичок, который одержим только тем, как бы поставить и улучшить свою игру, ты нанимаешь тренера не для того, чтобы просто выполнять его требования. Элементарные вопросы можно решить месяцев за шесть —восемь. Дальше все зависит от вашего взаимопонимания и обоюдного влияния, а это в первую очередь вопрос доверия и взаимного уважения.
К тому времени, когда с Тимом случилось несчастье, нас уже давно не волновали вопросы, как принимать подачу на траве или как держать себя в финале турнира «Большого шлема». Но я не задумывался об этом, пока он не заболел. Тим стал моей опорой — человеком, которому я поверял свои мысли (насколько это вообще мне свойственно) и на которого полагался — в доступных для меня пределах.
Зимой 1996 г., несмотря на физическую и эмоциональную усталость после австралийской неудачи, я выиграл два турнира на крытых кортах — в Сан-Хосе и Мемфисе. На первом турнире я разгромил Андре 6:2 и 6:3. Но после Мемфиса я сделался сам не свой. Тим умирал. К тому времени стоял лишь вопрос «когда?».
В состоянии полной прострации я сыграл в нескольких американских турнирах на харде и за специальное вознаграждение принял участие в двух показательных турнирах — в Гонконге и Токио, где даже победил — к немалому моему удивлению.
Когда на горизонте замаячил европейский грунтовый сезон, время, отпущенное Тиму, подходило к концу. Наша отработанная «система», состоявшая из Тима — тренера и Пола — посредника между ним и мной, полностью себя исчерпала, поскольку Тим уже не мог ясно выражать свои мысли. С ним стало очень трудно обсуждать любую тему. Разговор превращался в сущее мучение.
Конечно, мое эмоциональное состояние влияло на игру, но Тим уже ничем не мог мне помочь как тренер. К счастью, к тому времени у нас с Полом Аннаконом установилось полное взаимопонимание. Я постепенно начал чувствовать свою игру и быстро набирал форму.
Несколько раз я приезжал к Тиму домой, в Чикаго. Последняя встреча, за несколько недель до его смерти, была самой тяжелой. Тим едва мог сидеть прямо в инвалидном кресле. Волосы у него выпали, все тело распухло — словом, он находился на пороге смерти. На обратном пути в аэропорт я сидел сзади, а Тима усадили впереди, рядом с водителем. Когда машина поворачивала, его тело сползало в противоположную сторону — у Тима совершенно не осталось сил. Разговаривая со мной, он пытался повернуться ко мне всем корпусом, мучительно подбирал слова и тут же их забывал. Прежний Тим, такой близкий и знакомый, медленно и неотвратимо исчезал. Помню, как я поднялся в самолет, посмотрел в иллюминатор и увидел его — одинокого, погруженного в себя. Я тоже был совсем один. По мои щекам медленно потекли слезы.
Тим умер 3 мая 1996 г. Первый раз в жизни я потерял по-настоящему близкого человека, почти родственника. Я еще ни разу не присутствовал на похоронах. Том Галликсон попросил меня выступить на прощальной церемонии, но я отказался. Я ответил Тому: «Не знаю, в каком состоянии я буду. Не хочу проявить слабость в присутствии множества людей, не хочу испортить церемонию». Но на самих похоронах, в окружении множества наших общих друзей и знакомых, я понял, что должен выступить. Думаю, это было правильное решение.
Я рассказал о том, какой бесшабашностью отличался Тим Галликсон в своих интересах и увлечениях. Он вечно читал разные книги по самосовершенствованию и духовной практике, о голодании, о «дао», «дзен» и тому подобных вещах. Однажды (у меня дома в Тампе) Тим вдруг объявил, что за неделю сбросит десять фунтов — он где-то вычитал, как этого добиться. Он отправился в местный магазин спортивного питания (GNC) и принес темно-зеленую суспензию устрашающего вида. Ее нужно было разбавлять водой и пить, а она напоминала не то болотную тину, не то водоросли. А ведь Тим раньше был фанатом совсем иного напитка — с бутылочкой диетической «коки» он не расставался с семи утра до десяти вечера!
И вот Тим влил в себя эту кошмарную тину, а через несколько секунд встал и вышел в соседнюю комнату. Я думал, ему нужно куда-нибудь позвонить. Но сквозь шум телевизора в гостиной до меня донеслись характерные звуки, и я понял, что Тима рвет. Я бросился туда и увидел: держась за стену, белый как мел, он извергает из себя мерзкую зеленую массу...
Приближался турнир в Риме, но мне требовалось какое-то время, чтобы прийти в себя после смерти Тима, и я отказался участвовать. Вместо этого я выступил в командном Кубке мира, чтобы получить хоть небольшую игровую практику перед Открытым чемпионатом Франции, и проиграл два матча: Богдану Ульраху и Евгению Кафельникову. Таким образом, во Францию я отправился, не имея в текущем году ни одной победы на грунте. Между тем мои соперники в Париже прошли весь европейский грунтовый тур: Барселона — Монте-Карло — Рим — Гамбург.
Когда состоялась жеребьевка «Ролан Гарроса», то, взглянув на нее, я только присвистнул: «Ну и ну!» Хуже некуда. Мне предстояло играть с двумя прошлыми победителями Открытого чемпионата Франции. Начинал я во втором круге матчем с двукратным чемпионом «Ролан Гарроса» — Серхио Бругейрой.
Настал момент показать себя — я знал, что Тим хотел бы именно этого. Пол просил меня безостановочно атаковать, и условия вполне соответствовали такой стратегии. Было сухо и жарко — значит, корт быстрый. Я надеялся, что мне удастся подавить Бругейру своей атакующей игрой, хотя он умел отлично защищаться и мог выдержать почти любой натиск.
Парижане — искушенные любители игры и теннисные эстеты. Им нравятся игроки сильные, отважные, яркие. Они понимали, какой наградой для меня — игрока, который любит выходить к сетке и показывает техничный, элегантный теннис, — стал бы выигрыш высшего титула на грунте и единственного турнира «Большого шлема», до сей поры от меня ускользавшего. Самое же главное, они знали, что я недавно потерял Тима, и их симпатии явно принадлежали мне. Французская пресса во главе с солидной ежедневной спортивной газетой «L’Equipe» уделяла много места моим печальным обстоятельствам. Хотя Тим и умер, но благодаря постоянному вниманию публики и бесконечным вопросам он представал в моем сознании гораздо живее, чем когда-либо до болезни.
Вдохновленный этим потоком участия, уважения и поддержки, я победил Бругейру 6:3 в пятом сете. Знаю, Тим очень порадовался бы тому, как я атаковал, не прекращая натиска. Весь матч я провел на высоте, и у меня было такое ощущение, словно Тим и французские зрители пронесли меня через перипетии этой схватки.
В следующем круге я победил своего друга и партнера в парном разряде по Кубку Дэвиса, Тодда Мартина. А в четвертом круге мне повезло — моим соперником был Скотт Дрэпер, австралиец. Австралийцы на грунте не причиняют таких неудобств своей атакой, как европейцы своей обороной.
Но в четвертьфинале меня ждал Джим Курье, который на редкость хорошо играл на грунте, особенно парижском. Он был двукратным чемпионом «Ролан Гарроса» и главным фаворитом этого турнира на протяжении пяти лет.
Первые два сета я проиграл и, если учесть качество игры соперника, очутился на грани поражения. Но, как ни странно, я ощущал спокойствие и уверенность, словно за моей спиной стоял Тим и убеждал меня: все в порядке, все получится. Действительно, у меня неплохо шли удары, и я вполне мог набирать очки. Мне хорошо удавалось держать диагональ слева налево, а это было ключевым моментом при игре с Джимом, который всегда стремился получить возможность атаковать ударами справа. Я чувствовал, что переигрываю его, не считая одной вещи — я довольно много ошибался при игре с лета и особенно при завершающих ударах.
В третьем и четвертом сетах ситуация изменилась. У меня пошли завершающие удары с лета, все остальное встало на свои места, и вскоре я стал доминировать. За это, правда, пришлось заплатить физической усталостью, но меня выручил эмоциональный подъем. После победы я сказал в интервью, что чувствовал себя так, словно Тим наблюдает за мной и помогает мне.
Победа над Джимом вывела меня в полуфинал на Евгения Кафельникова. Свои шансы я оценивал весьма оптимистично. Но за сорок восемь часов, остававшихся до полуфинала, со мной случилась странная вещь: возникло просто неодолимое желание съесть что-нибудь плотное и сытное. Я готов был отдать все за самый обыкновенный чизбургер, большую пиццу или, на худой конец, приличную яичницу-глазунью. Я так исстрадался, что две ночи почти не спал. Это было совершенно непонятно, и, как я теперь думаю, единственное логичное объяснение заключается в том, что в моем рационе чего-то недоставало — возможно, жиров. Вероятно, я ощущал потребность восполнить то, что израсходовал за полторы недели тяжелых матчей, истекая потом под жарким солнцем. Может быть, мне не хватало соли. Я знал одного бегуна-марафонца — после двадцати миль он останавливался и вдыхал запах бургера или пиццы. Как он объяснял, организм этого требует — вот и нюхаешь поневоле...
Сейчас, задним числом, я понимаю, что мне следовало найти в Париже заведение типа «Pizza Hut» и усладить себя калорийным блюдом. Но, будучи человеком дисциплинированным, я воздержался. Свою здоровую игровую диету я довел до того, что утром позволял себе лишь одну чашку кофе. Потом я отправлялся на стадион тренироваться, а если был игровой день, съедал сэндвич (обычно с индейкой) и иногда еще банан. Дневное питание обычно этим и ограничивалось, а на ужин — тарелка легкой пасты с куском курицы.
Тем временем наступила пятница. Мне выпал ранний матч. Играть первым полуфинал в Париже — унылая штука. Парижская публика собирается с опозданием, особенно на местах, выкупленных организациями. Французы не склонны пропускать предлагаемый устроителями соревнований длинный, обильный ланч только ради того, чтобы застать первые час или два из как минимум шестичасового действа на Центральном корте. Поэтому в Париже полуфинал «Большого шлема» может проходить в атмосфере, напоминающей обстановку какого-нибудь дневного матча второго круга в Индианаполисе или Лионе. В подобных условиях попросту не тот настрой, чтобы биться за выход в финал «Большого шлема».
Иными словами, в силу расписания я лишился той волнующей атмосферы, которая обычно вдохновляла меня. Толковые и страстные болельщики посещают матчи первых кругов, но их становится значительно меньше, когда массовый зритель, наконец, почтит игру своим вниманием (обычно начиная с четвертьфинала).
Итак, общая атмосфера мне не благоприятствовала, да и погодные условия тоже. Было жарко. Солнце сияло на безоблачном небе, не чувствовалось даже легкого ветерка.
Конечно, быстрый, подсушенный солнцем корт пришелся кстати, но жара могла довести до изнурения в долгом противостоянии на грунте.
Как выяснилось, за свою выносливость я мог не беспокоиться. Я хорошо подавал с самого начала, точно посылал мячи и эффективно атаковал справа, чтобы форсировать игру. Кафельников держался, не доставляя мне, впрочем, особых хлопот. В первом сете мы дошли до тай-брейка, и я его проиграл. В сущности, не случилось ничего непоправимого. Но потом все внезапно пошло наперекосяк! В следующем сете я не взял ни одного гейма (!), а в третьем — выиграл лишь два. Это было, вне сомнения, мое самое загадочное и обидное поражение на турнирах «Большого шлема» — правда, от спортсмена, который умел настраиваться на важные матчи, особенно против меня.
До сих пор не могу внятно объяснить, что же меня подкосило. Я словно наткнулся на какую-то физическую и психологическую стену и попросту не мог играть лучше. Возможно, это связано с моим питанием — тогда понятны те странные желания, которые я подавлял. Но какова бы ни была причина, у меня просто ничего не оставалось в резерве, и я чувствовал это, теряя гейм за геймом. Ощущение поистине ужасное — ведь на тебя смотрят двадцать тысяч человек на стадионе да еще миллионы по телевизору. Прибавьте к этому постоянное, невысказанное, но неподдельное желание побеждать ради памяти Тима. Ноги не слушались, в голове было пусто, я не знал, за что уцепиться. А когда меня, наконец, милосердно прикончили, стало еще хуже. Я ощутил небывалую опустошенность и полное изнурение. Я был раздавлен.
В глубине души я рассчитывал, что на сей раз французский чемпионат будет моим, и я добился этого именно теперь, когда потерял Тима. Уверенность постепенно окрепла во мне, особенно после побед над двумя очень сильными экс-чемпионами. Все время на турнире мне казалось, что Тим не умер: мы с ним собираемся выиграть чемпионат Франции — еще одна общая цель после преодоления трудностей и победы в Уимблдоне. Во время матчей я мысленно обсуждал это с Тимом, и наши беседы помогали мне в нелегкие минуты.
Но когда я играл с Кафельниковым, вдруг наступило какое-то гулкое, глубокое молчание. Я не размышлял об этом во время матча, но, скорее всего, тишина воцарилась потому, что угасло мое желание найти поддержку у Тима, прекратились мои попытки сохранить хотя бы иллюзию его жизни. Хотя я присутствовал на похоронах Тима, но, по сути, не смирился с его смертью, не принял ее. И вот после этого матча ужасная действительность наконец предстала передо мной.
Когда в игре с Кафельниковым я наткнулся на глухую стену, то понял, что мои — наши — мечты разбиты вдребезги. И тут я внезапно осознал — Тима больше нет, наши надежды умерли. Навеки...
Кончина Тима дала Полу Аннакону возможность избавиться от приставки «исполняющий обязанности» и занять место моего постоянного тренера. Он принял предложение, когда мы обсуждали этот вопрос незадолго до смерти Тима.
Пол — опытный, умелый профессионал с интересной игрой. Правда, двигался он, пожалуй, не очень хорошо, да и его удары с отскока оставляли желать лучшего. Я вечно подшучивал над ним, предлагая нанять спарринг-партнеров, потому что он просто не успевал делать столько ударов с отскока, сколько требовалось для моей полноценной тренировки. Зато Пол отлично чувствовал игру, прекрасно подавал и великолепно играл с лета. Он побеждал за счет сообразительности и, как атакующий игрок, предпочитал открытый наступательный теннис, полагаясь на то, что всегда сумеет добраться до сетки и нанести больше завершающих ударов с лета, чем его соперник — мощных обводящих ударов. Пол был одним из последних великих приверженцев этого стиля.
Конечно, такая тактика не всегда приносит успех. Порой в неудачный день ты выглядишь просто по-дурацки — вроде кавалериста, нападающего на танк. А вот когда атакующий теннис срабатывает, на него просто любо-дорого смотреть. Он создает мощный прессинг и причиняет сопернику массу неудобств. Но в любом случае достоин уважения игрок, который идет на риск, а не отсиживается сзади, получая 6:3, 6:3 от любого, кто лучше двигается или более надежно отбивает мячи с отскока.
Пол выиграл три чемпионских титула в одиночном разряде, один в парном (Открытый чемпионат Австралии, в паре с Кристо ван Ренсбургом) и поднимался даже до двенадцатого места в мировой классификации.
Как игрок я окончательно сформировался под бдительным надзором Тима и под его же руководством из мальчишки превратился во взрослого. В Поле же я стремился найти нечто иное — компаньона, советчика, равного мне партнера, который понимал бы меня и мою игру, а также других игроков, их сильные и слабые стороны. Если Тим (помимо прочего) придал завершенный вид моей технике, то Пол должен был заниматься стратегией, помогая мне рассчитать, как лучше всего использовать мое оружие и нейтрализовать оружие соперников.
Пол был не так общителен, как Тим. Обычно немногословный и сдержанный, он, правда, любил побеседовать с добрыми знакомыми, и непременно на высоком философском уровне. Пол никогда не говорил, не подумав, и отличался незаурядным терпением. В любом конфликте или споре он вел себя с безупречным тактом. По темпераменту я скорее походил на Пола, нежели на Тима, и в то время данное обстоятельство оказалось весьма ценным.
Пол Аннакон так и не получил заслуженного признания как мой тренер — ведь когда он им сделался, я уже был игроком высшего класса. Многие думали, что основные обязанности Пола — таскать мои ракетки к мастеру, разогревать меня перед матчами, устраивать встречи с прессой, заказывать нам обеды и билеты на самолет. Но я хотел (и получал) от Пола несравненно больше, начиная хотя бы с того, как он выполнял свои функции.
Пол исключительно умело общался с прессой. С журналистами он держался непринужденно, ориентировался в специфике их работы, но старался не говорить лишнего и всегда преуменьшал свое влияние на меня. Он был не такой человек, чтобы выставлять себя на первый план. Журналисты относились к Полу с уважением и симпатией, а это и мне помогало в общении с ними.
Пол сознавал, что с разными людьми нужно вести себя по-разному. Он стал моим тренером, но смог бы тренировать и Андре. Он хорошо разбирался в людях, в их характере и темпераменте, знал, что именно я хочу от него услышать и как подобрать нужные слова. А это одно из главных — повторяю, главных — качеств высококлассного тренера. Пол считал, что наставник должен хорошо понимать подопечного и работать в пределах его зоны комфорта, не поддаваясь искушению перекраивать его по своим меркам, даже считая, что перемена пойдет тому на пользу. Ненавязчивая, тактичная манера Пола была выше всяких похвал.
Пол никогда не говорил много, хотя многое мог бы сказать. Он тщательно подбирал слова и ничего не усложнял. Будучи проницательным психологом, он быстро распознал, что я не настроен обсуждать мой теннис, поскольку тема игры — нечто сугубо личное. Пол понял (отчасти благодаря тому, что разделял это мнение): я не склонен придавать вещам больше значения, чем они того заслуживают.
Пока Тим Галликсон болел, Полу было непросто держаться на заднем плане — по той простой причине, что журналисты постоянно обращались к нему, а Пол не хотел, чтобы его ставили выше Тима. А когда он начал по-настоящему тренировать меня, ему, вероятно, стало еще труднее оставаться в тени (из уважения к Тиму). Пол имел собственное мнение о моей игре, но благоразумно не вступал в конфликт с наследием Тима. Он был исключительно предан — и Тиму и мне; он олицетворял собой верность.
Пол оказался прекрасным тактиком. Правда, я не разделял всецело его пристрастия к атакующему теннису, поскольку вполне полагался на свои способности универсального игрока. Пол настаивал, что я должен отдавать себе отчет, из-за чего теряю очки, — не только после, но даже во время матчей (а в пылу борьбы это очень трудно). Думаю, он считал, что такое понимание заставит меня играть более смело и агрессивно.
Тим совершил великое дело, когда надо было поставить мою игру. Пол оказался на такой же высоте, когда пришло время поединков с теми, кого я должен был побеждать. На проблемы, которые ставили перед нами разные соперники, Пол отвечал стратегическими решениями — настоящими шедеврами проницательности, замечательно точными и гениально простыми. После его предложений нередко оставалось лишь почесать в затылке и спросить себя: «А как же я сам до этого не додумался?»
Например, Пол считал, что в матчах против Андре Агасси я должен стараться как можно чаще играть ему косо под право, освобождая, таким образом, его левую часть корта. На самом деле это всегда было моим ключом к победам над Андре. Играя глубоко и косо под его форхенд, я все время как бы угрожал его бэкхенду коротким косым ударом под его левую руку. Пол также предлагал мне в начале матча всегда стараться подавать во второй квадрат сильно и под левую руку Андре. Это должно было заставить его думать о защите данного направления и открывало возможность выигрыша очка при подаче по линии. Основная задача состояла в том, чтобы помешать Андре использовать его излюбленную стратегию — оставаясь в центре корта, диктовать противнику игру мощными ударами справа.
Пол хотел, чтобы я чаще атаковал не только при счете 4:0, но и при счете 1:0, даже против Андре с его великолепными обводящими ударами. Он понимал, что атаковать игрока, хорошо владеющего обводящими ударами, при небольшом преимуществе — это большой риск, но считал, что надо заронить «зерно сомнения» в сознание Андре и заставить его думать, что я могу атаковать в любой момент. Пол постоянно возвращался к этой теме, с кем бы я ни играл, и обычно говорил: «Покажи ему, что ты Пит Сампрас и можешь атаковать, когда захочешь».
Иногда я находил известное удовольствие в том, чтобы побить соперника в его же манере — скажем, даже не выходя к сетке расправиться с любителем игры на задней линии. Порой это выводило Пола из себя, потому что в подобных случаях я сам себе создавал лишние проблемы — ввязывался в долгие обмены ударами и, случалось, проигрывал матч. Но Пол при этом ограничивался фразой: «Знаешь, ты смотрелся чертовски эффектно, когда проигрывал!»
Конечно, это звучало не так обидно, как «играл погано» — из уст моего отца, но упрек меня задевал. Я здорово выглядел... проигрывая. Суть была не в том, что я «хорошо смотрелся», а совсем в другом. Пол делал смысловой акцент на слове «проигрывал». Когда у нас только завязались отношения, я попросил Пола: «Не золоти мне пилюлю. Говори все как есть». Он так и делал, но в своей особой манере, стараясь не столько пристыдить меня, сколько заставить задуматься.
Хотя Пол и убеждал меня вести открытую, «агрессивную» игру против любого соперника, в одном он был непреклонен: я не должен стать предсказуемым игроком. Поэтому временами передо мной вставал нелегкий выбор между подачами с выходом к сетке «на автопилоте» и другими приемами, разнообразящими игру.
Пол всегда просил, чтобы я чаще использовал жесткий и довольно сложный удар слева по линии (хотя гораздо надежнее и проще играть через центр, так как в центре сетка ниже). Он считал, что в плане техники я для этого вполне подготовлен. Поскольку у меня была хорошая вторая подача, он убеждал меня и после второй подачи чаще выходить к сетке, что я обычно и делал.
Пол считал, что мои победы на травяных кортах зависят от того, как я принимаю вторые подачи. Особенно он настаивал на этом, когда речь шла о таких соперниках, как Горан Иванишевич или Ричард Крайчек. Пол твердил: «Если ты будешь хорошо принимать вторую подачу, ты его побьешь, сколько бы эйсов он ни подал. Ты его вымотаешь. Пусть Горан сделает даже три эйса подряд в гейме — не важно! Забудь об этом, играй. Не позволяй себе раскисать, просто жди эту вторую подачу. Она непременно будет, и тебе представится удобный случай».
Пол внушил мне это настолько основательно, что когда я принимал вторую подачу на Уимблдоне, у меня возникало такое чувство: «Ну вот, наконец, и она!» — словно передо мной выигрышный лотерейный билет. Короче говоря, обычно я принимал вторую подачу, и нередко — с отличными результатами. Я также поборол в себе искушение принимать ее осторожно, а значит, преодолел боязнь упустить представившуюся возможность.
Когда же была моя подача, Пол просил меня подавать изо всех сил и делать это так часто, как только можно. Думаю, он имел в виду нечто вроде мощного удара «Грин Бэй Пакерс», столь ценимого Тимом. Если на своей подаче ты ведешь 40:0, можно и проиграть очко — ничего страшного! Но Пол настоятельно убеждал меня выигрывать такие геймы всухую. Чем лучше ты подаешь, рассуждал он, тем сильнее давишь на соперника. Пол хотел, чтобы я поскорее избавился от небрежностей — двойной ошибки или неряшливого удара с лета, даже в тех случаях, когда я мог позволить себе промах. И он был прав! Когда Горан, Крайчек или Михаэль Штих легко делают на своей подаче 40:0 и затем выигрывают ее, я всегда думаю: «Да, крепкий парень. Гейм на его подаче промелькнул как молния. Постараюсь-ка и я свою не отдать!»
Мы очень редко анализировали игру потенциальных противников систематически, пункт за пунктом. Я помню лишь один случай, когда мы просматривали запись матча. Это было перед игрой с Владимиром Волчковым, совершенно неожиданно пробившимся в полуфинал Уимблдона в 2000 г. Да и сделали мы это только потому, что даже не знали, левша он или правша, не говоря уж об его игре. У нас не было никаких обязательных обсуждений стратегии. Если мне приходила в голову мысль, я озвучивал ее за ужином или после тренировки — просто высказывал и ждал, что ответит Пол. Иногда я спрашивал Пола, как, по его мнению, соперник будет играть против меня, и убеждался, что его предсказания весьма точны.
Тим Галликсон всегда требовал, чтобы я держал голову высоко и не проявлял слабости перед соперниками. Пол пошел еще дальше. Он хотел, чтобы я вел себя слегка вызывающе — ну, скажем, всем своим видом показывал: «Я Пит Сампрас, а ты кто?»
Пол утверждал, что я излишне кроток и мягок, и добавлял: «Эти ребята побаиваются тебя, и ты должен этим воспользоваться». Он был прав. Сам я никогда никого не боялся, но вместе с тем почти никогда не использовал в полной мере преимущество моей репутации или производимого мной впечатления.
Однако моя позиция в этом вопросе была двойственной. Демонстрация агрессии не в моем характере, и мне не хотелось нарочно напускать на себя подобный вид. Я не желал представать в ложном свете и считаться задирой. Более того, думал я, мне даже выгодно выглядеть несколько «поблекшим», чтобы противники нервничали, пытаясь понять, что у меня на уме. То, как шествовал по корту Борис Беккер, с присущим ему гордым и надменным видом, возможно, лишь разжигало у конкурентов желание победить. Я не хотел никого запугивать. С моей точки зрения, достаточно заставить противника нервничать. Кроме того, если я не стану изображать повелителя мира, у меня вряд ли возникнет соблазн возомнить себя таковым. Это решение было для меня принципиально важным.
К тому времени, когда Пол стал моим официальным тренером, одна из самых серьезных задач заключалась в том, чтобы не позволить хвалебным отзывам прессы закрепиться в моем сознании. Я убедил себя: на каждом турнире, неделя за неделей, я должен играть так, словно от этого зависит все. Я выходил на корт с мыслью, что еще ничего не доказано и мне только предстоит это сделать. Мой настрой приносил мне подлинное удовлетворение. Вероятно, поэтому в итоге каждый выигранный матч доставлял мне дополнительные позитивные эмоции, и я не испытывал пресыщения от побед.
Конечно, время от времени обычная профессиональная рутина утомляет или надоедает. И я просил Пола проявлять всю строгость, если он сочтет, что я снижаю требования к себе. Несколько раз за свою карьеру я переживал спады, принимался искать путь полегче. Такое бывает — иногда просто хочется «переключиться на автопилот» и отдохнуть. Пол подмечал такие моменты и приводил меня в чувство. Он действительно меня понимал, хотя порой это было непросто.
Как я уже сказал, Пол не получил заслуженного им признания. Но я-то знаю, скольким ему обязан. С ним я выиграл десять из четырнадцати победных турниров «Большого шлема». Твердой рукой Пол провел меня, пожалуй, через самые горестные и трудные эпизоды моей карьеры.
Каким бы ударом ни был для меня проигрыш в Париже, впереди по-прежнему ждал Уимблдон. Когда мы с Полом приехали в Англию через несколько дней после парижского фиаско, я как-то особенно оценил прохладный местный климат и чудесные травяные корты. Казалось, на моем внутреннем «жестком диске» все последние файлы стираются и пишутся заново. Мне нужно было прийти в себя и перестроиться после сокрушительного провала во Франции. Половина года уже миновала, а весь этот год, как и большинство других, я буду считать успешным или неудачным в зависимости от того, сумею ли выиграть турнир «Большого шлема».
В 1996 г. я сознательно пропустил все «разминочные» соревнования перед Уимблдоном, чтобы восстановить запасы выносливости и энергии.
Я весьма успешно стартовал в турнире. Лишь в первом круге уступил один сет моему собрату по Кубку Дэвиса Ричи Ренебергу, а дальше помчался на всех парах. В одной шестнадцатой финала я побил Марка Филиппуссиса в трех сетах, затем — Седрика Пьолина, уступив ему всего десять геймов.
В четвертьфинале мне достался Ричард Крайчек — поджарый, высокий голландец с сильной подачей, очень опасный на быстрых покрытиях. Он мог «выстрелить» в любой момент и выиграть любой турнир, явив собой некое «новое воплощение» Панчо Гонзалеса. С другой стороны, это был просто один из многих сильных игроков с хорошей подачей и, видимо, не имел достаточной уверенности в себе или потребности неизменно побеждать.
Когда мы только еще разминались под мрачными небесами, я почувствовал, что Ричард нервничает. Но он хорошо держался, и первые семь-восемь геймов каждый из нас брал свою подачу. С моей точки зрения все шло отлично. Я доставлял ему хлопоты на его первых подачах и очень удачно принимал вторые. Я имел брейк-пойнты, и это взбадривало меня, даже если не получалось их выиграть. Мной уже было сыграно немало подобных матчей на траве. Вся соль заключалась в том, чтобы оставаться бдительным, сосредоточенным, уверенным и знать: мой шанс впереди. Я чувствовал, я не сомневался: он близок. Это только вопрос времени.
Но не успели мы закончить сет, как полил дождь. Матч был прерван на несколько часов. Это дало моему противнику время поразмыслить и перестроиться. Когда мы вернулись на корт, передо мной стоял совсем другой игрок. У него вдруг пошли удары, особенно вторая подача. Сознательно или нет, Крайчек затягивал меня туда, где я меньше всего хотел оказаться. Моя манера действий подразумевала, что против тех соперников, которые исключительно опасны в игре у сетки, я выхожу с расчетом выигрывать их вторые подачи. Если это удается, я могу их победить. Такая стратегия успешно работала против Горана Иванишевича, Бориса и Стефана Эдберга. Но тут, когда мне стало труднее поспевать за вторыми подачами, все получалось наоборот. Если я не могу взять его подачу, то испытываю дополнительное давление. Думаю, Ричард об этом догадался, и его великолепные подачи раскрепостили его игру в целом, особенно на приеме. Именно так почти всегда и бывает.
Крайчек выиграл первый сет 7:5, взяв одну мою подачу. Это придало ему смелости, и он неожиданно начал удачно принимать мои подачи ударами слева. Да и его обводящие удары были безукоризненны. Я проиграл второй сет 6:4 и почувствовал облегчение, когда пошел мелкий дождь и стало темнеть. Я понял, что сегодня мы уже не закончим матч, а мне нужно было серьезно перестроиться.
Но вместо оптимистических мыслей: «Завтра — новый день, я приду в себя, а он наверняка утратит свой пыл», у меня внезапно возникло какое-то неприятное предчувствие. Мне не нравилось, как складывается матч, и я сознавал, что попал в очень трудное положение. В тот вечер Пол потратил как никогда много времени, пытаясь встряхнуть меня и возродить мою уверенность, — но тщетно. Хотя матч еще не завершился, ничего хорошего я уже не ждал.
Когда на следующий день мы возобновили игру, все вернулось на круги своя — Ричард продолжал бомбардировку, а я пал духом и подумал: «Да ведь то же самое я делаю на траве с другими».
Короче говоря, он меня дожал. Крайчеку — мои искренние похвалы! Он сделал свое дело. Сыграл отлично и в техническом, и в психологическом плане. Честно говоря, для меня стало некоторым утешением следить за его шествием к победе на турнире — уж если проиграть, так именно тому, кто сорвет куш. Я до сих пор не видел наш матч в записи, но, пожалуй, не прочь посмотреть. Просто любопытно взглянуть, действительно ли игра Ричарда настолько изменилась после перерыва на дождь, как я тогда считал.
Итог года на сегодняшний день был следующим: три турнира «Большого шлема» я упустил и теперь мог выиграть только один. Хотя я и не давал себе твердого обещания побеждать в память о Тиме, меня часто об этом спрашивали. Мой ответ звучал просто: проиграл я или выиграл, память все равно остается!
Открытый чемпионат Франции был «нашим» турниром, турниром Тима. Я не смог почтить память Тима победой — значит, история кончилась не так, как все ожидали. Но это не перечеркнуло волшебных моментов и эмоций, которые я пережил на «Ролан Гарросе», не повлияло ни на мои чувства к Тиму, ни на мое представление о том, как почтить его память. Когда я выиграю следующий турнир «Большого шлема», я, конечно, могу сказать что-нибудь душещипательное насчет «победы в память о Тиме». Именно это все и желают услышать. Но я не собирался идти на поводу у публики: такие слова прозвучали бы фальшиво. И я дал себе зарок их не произносить.
Летний сезон на харде, подводящий к Открытому чемпионату США, был, как всегда, спокойным и неярким. Если Открытый чемпионат кипит страстями, то предваряющие его турниры — однообразные игры в самой глубинке. Два наиболее крупных проходят в Индианаполисе и Цинциннати, но с одних соревнований на другие можно попасть в тот же день, и везде ощущается атмосфера своего рода сельской ярмарки. Когда мы приезжали в Инди или Цинци, у всех на языке была расхожая острота. Мы переглядывались, пожимали плечами и говорили: «То же самое болото, только год уже другой».
Я проиграл четвертьфинал в Цинциннати Томасу Энквисту, но зато выиграл турнир в Индианаполисе, доведя мой личный счет с Гораном до 8:6.
Отправляясь в Нью-Йорк, я довольно оптимистично оценивал свои шансы продлить до четырех лет традицию выигрывать как минимум один турнир «Большого шлема» в год. И жеребьевка оправдала мои надежды. Единственным именитым игроком, который противостоял мне до четверть-финала, был Марк Филиппуссис. Я выиграл у него вчистую. В четвертьфинале я вышел на Алекса Корретху. Он пользовался известностью прежде всего как упорный боец на грунте, но показывал неплохие результаты и на харде. Я настроился на серьезную борьбу.
Матч имел маленькую предысторию. Почти все, по крайней мере в США, заведомо были уверены, что я побью Корретху. Но в четвертьфинале я с повышенной осторожностью относился к любому сопернику и ничего не загадывал заранее. А тут еще случилось так, что я вышел на игру, недостаточно плотно подкрепившись. Помню, я съел ланч в буфете для игроков, но матч, предшествовавший нашему, непредвиденно затянулся. Было уже около четырех часов дня, когда мы наконец оказались на корте. Мне следовало перед этим съесть что-нибудь еще — булку, пару бананов или хотя бы ломоть хлеба.
День выдался очень теплый, но не изнурительно жаркий, как порой бывает на Открытом чемпионате США. Тем не менее я порядком вспотел, потому что Алекс доставлял мне много хлопот. Он втянул меня в игру на задней линии и заставил вкалывать изо всех сил.
Алекс прибег к испытанной стратегии, которую игрок оборонительного плана может успешно использовать в игре на быстром корте. Он просто подавал мне первым мячом под левую руку, чтобы я не мог выполнить прием активным атакующим ударом. После моего приема он забегал под удар справа и бил мне под удар слева, вовлекая меня в обмен ударами по диагонали. При этом он играл справа, а я — слева, что вынуждало меня оставаться на задней линии. Если бы я рискнул сыграть слева по линии в открытую правую часть его корта (напоминаю — он стоял далеко на левой стороне), а удар получился бы недостаточно сильным, то он успел бы подбежать к нему и послать выигрышный кросс справа своим коронным ударом. Моя атака с этой позиции дала бы ему хорошие шансы меня обвести.
Игрок оборонительного плана, подобный Корретхе, хорошо знает, как навязать сопернику свой план игры. Именно об этом настойчиво предупреждал меня Пол: «Вот так эти ребята любят играть — это для них единственный шанс победить игроков вроде тебя, Беккера или Эдберга. Поэтому ты должен сломать их стратегию. Тебе нужно атаковать или наносить мощные удары слева по линии. Ты должен их вытеснить из их зоны комфорта, не то они вытеснят тебя из твоей».
Но в игре с Корретхой я проявил бессмысленное упрямство и не последовал разумному совету Пола. Фактически я подыгрывал Алексу и понимал это, но все же стоял на своем, полный решимости победить соперника в его собственной манере игры.
Долгое время я довольствовался обменом ударами и ждал удобного случая, чтобы нанести мощный удар справа. Я вел 2:1 по сетам, но в начале четвертого сета начал ощущать беспокойство. Мне очень не нравилось, как разыгрываются очки, а Алекс и не думал отступать. Я тратил уйму сил, чтобы добраться до сетки и выиграть очко, но все больше уставал и впал в легкую панику.
Алекс строил игру по своему сценарию, и это меня тревожило — глупо было так долго подлаживаться под него. Меня словно загипнотизировали. Я понимал: нужно что-то менять. Но к тому времени, испытывая постоянное давление со стороны соперника, я просто изнемогал и в состоянии стресса плохо соображал, как выйти из ритма, который сам и поддерживал. А когда в голове пусто, единственное, на что можно опереться, — это воля и характер.
В середине четвертого сета у меня начались проблемы с ногами: они отяжелели и почти целиком утратили обычную крепость. Когда такое происходит, это неизбежно сказывается на игре. Уже нельзя подпрыгнуть высоко на подаче, не получается первый быстрый шаг навстречу мячу. Невозможно эффективно перемещаться из угла в угол или быстро менять направление. А когда соперник замечает ваше состояние, на него это действует как допинг, даже если он тоже устал. Ситуация для меня сложилась такая: надо спасать матч — чего бы это ни стоило.
После трех сетов, закончившихся со счетом 7:5, Корретха выиграл четвертый 6:4. Пока мы выясняли отношения в первых геймах пятого сета, я зачем-то начал в перерывах пить «коку». Мне очень хотелось поддержать себя чем-нибудь тонизирующим, с небольшим количеством сахара и кофеина, и преодолеть соблазн я не сумел.
В глубине души я отчетливо сознавал, что это мой последний шанс выиграть турнир «Большого шлема» в 1996 г., и он от меня ускользает. Подобное самовнушение лишь ухудшало ситуацию. Я был разбит, подавлен, опустошен, но все еще способен передвигать ноги — значит, мог продолжать борьбу.
В конце пятого сета я словно наткнулся на стену и почувствовал: это конец! Только где-то в подсознании у меня затаилась мысль, что шанс выиграть все-таки есть — единственный шанс на спасение. Ведь мы на Открытом чемпионате США, а значит, в пятом сете предусмотрен тай-брейк. Я твердил себе: «Нужно держаться и просто дотянуть до тай-брейка — матч не будет длиться вечно».
Я продержался и дотянул до тай-брейка. Но тут у меня закружилась голова, и силуэты предметов начали слегка расплываться. Тогда я сказал себе: «Что бы ни произошло дальше, я справлюсь — семи очков вполне может хватить. Это всего лишь тай-брейк, я их сыграл миллион, и ни один не продолжался до бесконечности».
При счете 1:1 на тай-брейке все болезненные ощущения, утомление и нервное опустошение навалились на меня, и я обессилел. Спину свело судорогой, ноги были словно деревянные и не повиновались. Помню, я выиграл трудное очко и внезапно до меня дошло: «Господи, да ведь меня же мутит и вот-вот вырвет — на глазах у распроклятых зрителей!»
Позывы нарастали, и я ничего не мог поделать. Шатаясь, я отошел за заднюю линию, и тут из меня хлынула кока вперемешку со всем, что еще оставалось у меня в желудке (к счастью, не слишком много). Но когда это случилось, мне уже было все равно. Я полностью утратил ощущение реальности и совершенно не думал о том, как выгляжу и что люди скажут. Я очутился в крошечном мирке своей боли, но, как сильна она ни была, я не собирался прерывать матч.
Если случается такой приступ рвоты — а со мной это бывало на тренировках, — значит, человек довел себя до полного изнеможения, до точки, когда быстро восстановиться нельзя. Но я-то должен играть дальше, мне нужно еще несколько очков. Я шатался, окружающие предметы расплывались, все тело болело. Помню, я выиграл еще одно трудное очко, а потом мне потребовалось два розыгрыша, чтобы прийти в себя. Остатков моего сознания хватало лишь на то, чтобы держать в уме одну-две тактические идеи: нужно вложить остаток сил в подачу и если будет шанс — ударить справа и уповать на везение.
Мы доковыляли до счета 6:6 на тай-брейке, и я подавал. Настал решающий момент. Первую подачу я сделал сильно, но промахнулся. Вторая подача получилась очень косая, под правую руку, и здесь удача мне не изменила: Алекс ожидал, что я подам по линии, и отбить ее не сумел. Этот эйс привел меня к матчболу.
К этому времени стадион уже взбудоражился сверх меры. Люди висели на перилах, лезли на корт, поддерживали меня криками. Тогда я не знал, что в США и, вероятно, еще в некоторых странах, где матч транслировался по телевидению, все замерло: зрители были заворожены развернувшейся на корте драмой.
И тут Алекс сломался. Он совершил непростительную в тех обстоятельствах вещь — дважды ошибся при подаче на матчболе. Я выиграл матч без каких-либо дополнительных усилий, на которые, скорее всего, был уже не способен.
С корта я ушел полностью вымотанный, обезвоженный, не соображая, что происходит, и смутно подозревая, что выставил себя на посмешище. Я смог дотащиться только до медицинского кабинета в цокольном этаже арены имени Луи Армстронга — и рухнул. Мне тут же поставили капельницу. Пол принес мои вещи из раздевалки, и когда мы, наконец, открыли дверь, чтобы выйти из кабинета, я увидел море людей — журналистов, толпившихся у порога.
Но в тот день мне даже не потребовалось с ними говорить — они все написали сами, и реляция оказалась более или менее правдивой. Матч с Коретхой остался у всех в памяти как торжество бойца, как мой момент истины. И я был счастлив! Другие теннисисты выигрывали похожие матчи, но мало кому это удавалось сделать в столь непредсказуемых, критических обстоятельствах. Если бы тот же матч с Алексом игрался, например, во втором круге в Монте-Карло, а не на Открытом чемпионате США, не думаю, что он привлек бы такое внимание. В лучшем случае американские газеты напечатали бы о нем мелким шрифтом в спортивных сводках.
Но это случилось в четвертьфинале Открытого чемпионата США, на турнире «Большого шлема», в моей родной стране, в прайм-тайм, сразу после Дня Труда, когда все возвращаются из отпусков, под пристальным взглядом международной прессы и телезрителей всех стран. Поэтому матч сделался знаменательным событием, которое наблюдал и комментировал весь теннисный мир.
Нью-йоркские болельщики всегда являлись для меня крепким орешком. Не уверен, что они все до единого восторгались моей игрой или мною лично. Они привыкли к ярким, заносчивым шоуменам, которые эффектно соперничали друг с другом, но отнюдь не всегда демонстрировали строгую, классическую манеру игры. Трудно, конечно, равняться с такой парочкой, как Джимми Коннорс и Джон Макинрой. На моей стороне — простота и естественность. Я к тому времени уже выиграл полдюжины турниров «Большого шлема», но не хотел ни красочных шоу, ни громких фанфар. Ныо-йоркцы понятия не имели о моем самообладании, не сознавали, до какой степени я был бойцом. И, в отличие от Коннорса, я не особо распространялся насчет того, что якобы весь выложился ради публики. Скептичные нью-йоркцы никак не могли решить, что же им больше по вкусу — колоритное зрелище или серьезная игра в теннис. Мой поединок с Корретхой, кажется, окончательно развеял их сомнения.
Затем я выиграл еще две встречи и в итоге победил на Открытом чемпионате США 1996 г. — моем восьмом турнире «Большого шлема».
Однако меня очень беспокоило то, как я уставал на корте, насколько слабым и больным чувствовал себя в последнее время. Я вспомнил о язве: ведь она была у меня в начале карьеры, а я и не подозревал! Возможно, думал я, у меня еще что-нибудь не в порядке. Или это психологическая проблема, связанная со стрессом, в котором я постоянно находился, решив достать луну с теннисных небес?
Я проделал непростой путь к Открытому чемпионату США и выиграл его, даже не задумываясь, сколько у меня было перед этим побед и поражений. В прошлые годы я поднял свою планку очень высоко и вовсе не собирался отступать, напротив — хотел достигнуть большего. Может, я просто слегка одержимый и утратил ощущение реальности? Я гнал себя все выше и выше, не задумываясь о неминуемом падении, которое когда-нибудь произойдет. Но я ничего не мог с собой поделать.
Я твердо решил стать первой ракеткой мира четвертый год подряд, не дотянув лишь один год до пятилетнего рекорда Джимми Коннорса. Мне очень хотелось его превзойти, но я понимал, что (в отличие, скажем, от побед на Уимблдоне или на Кубке Дэвиса) это потребует от меня непрерывной напряженной борьбы в течение двух ближайших лет. Эти два года следовало прежде всего посвятить тому, чтобы сыграть в достаточном количестве турниров и не выбыть из гонки.
Я все обсудил с Полом и дал понять, чего именно желаю добиться. Мы решили, что мне необходимо взять паузу и проанализировать психологический и физический подходы к игре. График моих соревнований надо слегка сократить, но при этом важно не растерять внутренний настрой и присущую мне энергию. Я должен выполнить поставленную задачу, но без чрезмерных нагрузок, поскольку я их попросту не выдержу.
Можно ли примирить столь противоречивые требования? Ответа у нас не было, но мы оба считали, что первым делом следует проверить мое физическое состояние. А где-то на задворках моего сознания мелькало слово, которого я слегка побаивался и без нужды произносить не хотел: «талассемия».
Как я уже упоминал, талассемия — это мягкая форма анемии, распространенная у людей средиземноморского происхождения. Она вызывает утомление, особенно в жару, и мне неоднократно приходилось пересиливать вялость и апатию в слишком знойные дни, в том числе и в ходе ключевого для меня победного матча на Уимблдоне.
Но, право же, никому не хочется отправиться к врачу и узнать, что с вами что-то не в порядке и как раз в этом причина упадка ваших сил. Я знал, что талассемия встречалась в нашем семействе. Она была у моей матери Джорджии и у сестры Стеллы, а вот по мужской линии пока не наблюдалась. Поэтому я предпочитал не думать, что корень зла именно в ней, но после матча с Корретхой эта мысль все же возникла.
Анализы показали, что у меня в крови эритроцитов гораздо меньше нормы — явное свидетельство, что здесь и кроется причина моего недомогания. Серьезной опасности это не представляло, но, безусловно, могло влиять на мою игру. Правда, дело было легко поправить — применять средства, повышающие гемоглобин, есть побольше мяса, яиц и прочих продуктов, богатых протеинами.
Наверное, все это так и осталось бы одной из моих личных проблем, если бы не Том Теббатт — мастер журналистских расследований и знаток тенниса из Торонто. В скромном журнале «Tennis Week», выходящем в Нью-Йорке дважды в месяц, он опубликовал статью, где посредством длинного ряда умозаключений пришел к выводу, что я болен... талассемией. Не могу не отдать должное Тому — он профессионально выполнил свою работу. Я был слегка раздражен, но статья произвела на меня впечатление. Каким-то образом Теббатт проведал о моих проблемах, начал копать, нашел врача и других специалистов, которые подтвердили, что талассемия вполне могла быть причиной моего срыва в матче с Корретхой. Затем он просто сопоставил факты и сумел меня «уличить».
Насколько я помню, Том не давал мне свой материал на согласование перед публикацией, но это, пожалуй, к лучшему. Я бы все равно начал отпираться, что и сделал после выхода журнала. Чувствовал я себя неловко. Откровенная ложь мне всегда претила, но я не был готов признать, что у меня проблемы со здоровьем. Я вовсе не хотел, чтобы соперники сочли информацию достоверной и обратили ее себе на пользу (в плане игрового комфорта или мотивации) в будущих матчах со мной. Первым, кому я в конце концов доверился, стал Питер Бодо — мой соавтор по этой книге. Мы коснулись данной темы в интервью, которое подготовили для журнала «Tennis» в сентябре 2000 г.
Конец сезона «Большого шлема» 1996 г. был богат событиями, но этот год запомнился еще одним ярким, заключительным эпизодом — моим матчем с Борисом Беккером в финале завершающего год Чемпионата АТП.
К тому времени нас с Борисом связывало многолетнее соперничество и глубокое взаимное уважение. Теперь мне предстояло играть с ним на крытых кортах немецкого Ганновера, в серьезном матче, перед местными зрителями, обожавшими Бориса. Перечисленные факторы должны были воодушевить его, и я это понимал. Мы играли в очень похожий теннис, и хотя большинство приемов выходили у меня чуть лучше, я понимал, что если Борис поймает кураж на домашней почве, он может меня «вынести».
Вечером в день нашего матча атмосфера стадиона в Ганновере была наэлектризована. На улице стоял жуткий холод, но внутри, на арене, сияли огни, там в тепле сидели болельщики, сгорающие от нетерпения.
Стадион удивил меня необычной организацией выхода игроков на корт. Вместо того чтобы появиться на площадке из туннеля, как это устроено на большинстве стадионов, мы спустились на корт с уровня на высоте улицы (он являлся верхней частью арены), причем по тому же проходу, что и обладатели билетов на фиксированные хорошие места.
К тому времени арену затемнили, и свет был направлен только на нас. Мы с Борисом прошли весь длинный путь на корт под крики болельщиков с обеих сторон прохода.
Шум стоял оглушительный. Этот момент произвел на меня яркое впечатление своей эмоциональной насыщенностью. Именно так, подумал я, два боксера-тяжеловеса шествуют сквозь толпу, чтобы выйти на ринг для решающей схватки. Сверкали вспышки, люди напирали со всех сторон.
С самого начала Борис хорошо принимал мои подачи — этот фактор очень важен для него. Он сам подавал мощно и остро. Я знал, что вечер окажется долгим и трудным. Но я тоже мощно подавал, и если быстрый ковер корта идеально подходил для Бориса (вдобавок в Германии), то и меня он вполне устраивал.
Борис выиграл первый сет, взяв мою подачу. Чудом избежав всех опасностей, я выиграл следующие два сета, но только на тай-брейках. Бориса это, вероятно, расстроило: хоть я и не взял ни одной его подачи, а он взял мою, тем не менее он проигрывал по сетам 1:2.
С другой стороны, мое преимущество по сетам не имело решающего значения. «Смогу ли я все же взять его подачу? — думал я. — Вдруг мне перестанет везти на тай-брейках?» В четвертом сете я удачно использовал несколько выгодных моментов и уже чувствовал — вот она, победа, у меня в кармане! Я хорошо принимал подачи Бориса и удачно разводил мячи по углам корта. Но Борис не сдавался и продолжал упорно держать свою подачу на всем пути к тай-брейку в четвертом сете. А когда он выиграл его и сделал неизбежным пятый сет, стадион взорвался как вулкан, извергая низкий гортанный рев: «Бо-рис, Бо-рис, Бо-рис!..»
В пятом, решающем, сете ситуация теоретически была мне ясна. Я должен наконец выиграть его подачу — всего одну! При счете 4:4 удача улыбнулась мне — я заработал брейк-пойнт. Затем Борис сильно подал мне под левую руку, но я легко принял его подачу длинным ударом по линии — победный удар и мой первый брейк. Насколько это окрылило меня, настолько подавило Бориса. Когда я получил матчбол в следующем гейме, мы разыгрывали очко так же долго, как с Андре в памятном финале Открытого чемпионата США 1995 г. Но вот Борис ошибся при ударе слева, и все — как тогда — было кончено.
Мы обнялись у сетки и обменялись комплиментами. Легкие у нас горели, мы задыхались. В физическом плане это был для меня один из самых изнурительных, выматывающих матчей. Но таков уж Борис — он всегда буквально колошматит соперника, и мало кто из игроков способен выдержать его агрессивную манеру игры.
Немецкие болельщики произвели на меня очень хорошее впечатление. Думаю, матч им понравился. Они увидели двух великих игроков, задававших тон в 1990-е годы, и силовой теннис в их исполнении — на очень высоком уровне и в прекрасной атмосфере. Они стали свидетелями драматичного финала — пусть встреча и завершилась иначе, нежели им хотелось.
Несколько лет спустя я посмотрел этот матч в записи и убедился, что он действительно так же хорош и ярок, как мне тогда запомнилось. Это было героическое сражение бескомпромиссных и смелых бойцов, осененное духом спортивного мастерства и — мне кажется — подлинного уважения к игре. То был взлет моей карьеры. До сих пор в Германии и в Соединенных Штатах меня расспрашивают об этой встрече, упоминают о ней в беседах со мной. Наверное, тот матч был максимально близок к идеалу — не столько в плане техники, сколько в смысле постижения теннисного «момента истины».
После матча я позволил себе прибегнуть к «спецобслуживанию»: мы с Полом Аннаконом из Ганновера чартерным рейсом долетели до Лондона, а затем на «Конкорде» — до аэропорта имени Кеннеди. Тогда у меня был авиационный таймшер — персональный самолет ждал меня в Нью-Йорке и доставил прямо в Тампу. Хорошо попасть домой быстро и с удобствами — на это и денег не жалко!
Глава 8 Уимблдон - это навсегда! 1997-1998
Сезон 1997 г. я начал с победы на Открытом чемпионате Австралии, что стало для меня весьма приятным событием, учитывая мое неоднозначное отношение к этому турниру. Я очень гордился своей победой по нескольким причинам.
В одной шестнадцатой финала я взял верх над Домиником Хрбаты в пятисетовой битве, выиграв последний сет 6:4. Во время матча температура поверхности корта достигала 60 градусов. (Сейчас, когда ввели понятие «чрезмерной жары», матч обязательно прекратили бы или закрыли крышу арены имени Рода Лейвера.) Поэтому — если вспомнить, что случилось всего несколько месяцев назад на Открытом чемпионате США в моем матче с Алексом Корретхой, — я был рад, что прошел тест на выносливость в адском пекле Австралии.
Обрадовало меня и еще одно обстоятельство. Австралийский чемпионат проводится на харде, но в 1997 г. там задавали тон мастера грунта. После Хрбаты на пути к титулу я победил последовательно Альберто Косту, Томаса Мустера и Карлоса Мойю, каждый из которых уже выиграл (или выиграет впоследствии) «Ролан Гаррос». Это давало мне надежду: быть может, моя участь на «Ролан Гарросе» — единственном турнире «Большого шлема», где успех ускользал от меня, — пока не предрешена.
Вернувшись в Штаты после успешного выступления в Австралии, я выиграл еще два турнира, и, таким образом, у меня сложилась неплохая победная серия. Правда, затем я проиграл в первом же круге в Индиан-Уэллс.
На этом турнире, как и на Открытом чемпионате Австралии, погодные условия были далеки от идеальных. Хотя турнир в Индиан-Уэллс в географическом отношении был для меня как бы «домашним» и я несколько раз выигрывал его, мне не нравилось характерное для южнокалифорнийской пустыни сочетание ветра, сухого горячего воздуха и, вследствие этого, очень жестких мячей. У меня там всегда возникало ощущение, что обстановка давит на меня, мешая контролировать игру. Я предпочитал играть в Майами, где воздух от большой влажности был плотнее; там я чувствовал себя гораздо увереннее.
В Европу я отправился в неплохом настроении, однако не сумел выиграть ни одного матча в трех турнирах, предшествующих Открытому чемпионату Франции.
В значительной степени это связано с неожиданным и крайне неприятным событием. Когда я находился в Риме, мне позвонила сестра Стелла и сообщила новости, которые повергли меня в ужас и изумление. Пит Фишер, человек, контролировавший все мое развитие в детские годы, арестован и обвинен в домогательствах по отношению к несовершеннолетним. С обвинениями выступил один из его бывших пациентов (Пит, напомню, работал эндокринологом в Kaiser Permanente и, кроме того, в качестве педиатра специализировался на каких-то подростковых проблемах).
Эта новость выбила у меня почву из-под ног. За короткое время я потерял Витаса Герулайтиса и Тима Галликсона, а теперь несчастье с моим первым тренером. Обвинение звучало омерзительно; я не знал, что и думать. Неужели это правда? Терзаемый невеселыми мыслями, я не выиграл ни одного матча на грунте до тех пор, пока, наконец, не продержался два круга на «Ролан Гарросе», после чего вновь проиграл — Магнусу Норману.
Дело Пита Фишера не выходило у меня из головы. Пит вел холостяцкую жизнь, но у него всегда были подружки, о чем он сам нередко упоминал. Незадолго до ареста он как раз собрался жениться. Ничто в манерах или привычках Пита не свидетельствовало о каких-то отклонениях от нормы. Он был своим человеком среди спортсменов, отличался умом и трудолюбием, вел размеренную, вполне добропорядочную жизнь. На моей памяти Пит ни словом, ни делом не давал повода заподозрить, что он не тот, кем желает казаться. Конечно, он был самонадеян, но ведь речь не об этом.
В детстве мы с братом Гасом проводили немало времени дома у Пита, и я ни разу не заметил ничего необычного в его поведении. Но теперь, когда я размышлял о случившемся и перебирал детские воспоминания, кое-какие сомнения у меня возникли. Пита вечно окружали мальчики — на работе, в Клубе Крамера, дома. Время от времени он устраивал лыжные походы на Мамонтову гору. Я ходил в один такой поход. В группе были только мальчики — правда, разного возраста, в том числе почти юноши, вполне способные защитить себя от сексуальных домогательств.
Мои родители доверяли Питу, и ничто не омрачало наших отношений, пока мы не расстались из-за его непомерных финансовых претензий. Не подлежит сомнению — ко мне Пит всегда относился по-особенному, выделял среди остальных ребят и поэтому, вероятно, вдвойне старался держать себя в руках. Нельзя сбрасывать со счетов и моего отца. Он, правда, не разбирался в теннисе, но зато обладал решительностью и здравым смыслом, и Фишер изрядно бы рисковал, позволив себе что-либо неподобающее.
Когда Фишера арестовали, он уже давно исчез из моей жизни. Я не чувствовал себя обязанным звонить ему, не знал, захочу ли с ним увидеться по возвращении из Европы. А вот мой отец регулярно говорил с Питом и подбадривал его. Думаю, он это делал исключительно из благодарности за помощь, которую Пит оказал нашей семье в формировании моего теннисного будущего. Тут отец действительно отдавал ему должное. В свою очередь, и Пит обратился за поддержкой именно к нам, когда разразился скандал. Он категорически отрицал свою вину, и отец тоже считал его невиновным, пока не будет доказано обратное.
Когда я вернулся в Штаты, домашние сообщили, что Фишер просит меня о встрече, желая дать объяснения. Я неохотно согласился и предложил ланч в ресторане сети Mimi’s в Торренсе. Беседа оказалась не из приятных. Я не хотел верить обвинениям, но вместе с тем не имел мужества взглянуть Питу в глаза и потребовать правды. Он утверждал, что все обвинения ложны, но выглядел при этом немного странно.
Думаю, останься Пит близким мне человеком, я попытался бы основательнее убедиться в его невиновности. Но теперь воспоминания о прошлом побуждали меня его поддеживать. Я заверил Пита в своей дружбе и даже одолжил ему некоторую сумму (которую он впоследствии вернул). Мне рассказали, что перед судом Пит несколько раз приходил к нам ужинать. Я тогда опять уехал на соревнования, и вся тяжесть общения с ним легла на мое семейство. К счастью, пресса не раздула этот скандал, и, слава богу, я не имел к нему никакого отношения, да и всякое общение с Фишером прекратил много лет назад.
Ясно было одно: жизнь Пита пошла под откос, у него почти не осталось друзей. Мои родители, брат и сестры предпочитали не упоминать об этом деле. Они молчаливо поддерживали Пита в трудное время перед судом, когда он пребывал в состоянии мучительной неизвестности. Начался суд, и отец несколько дней ходил на заседания. Я восхищался им — ведь ничто не мешало ему забыть о Фишере и предоставить его собственной участи.
Судебный процесс завершился тем, что Пит Фишер согласился признать себя виновным. Это снижало срок заключения до шести лет, из которых осужденный отбывал четыре, а потом мог рассчитывать на досрочное освобождение. Моему отцу Пит сказал, что выбрал этот вариант, поскольку не хотел вверять свою судьбу «двенадцати людям из Норуолка» (пригород Лос-Анджелеса, где заседала коллегия присяжных). Наверное, Фишер имел в виду, что не надеется на справедливый приговор в столь консервативном районе.
Это был довольно странный маневр для человека, заявлявшего о своей невиновности и так много терявшего в случае осуждения. Ведь помимо тюремных невзгод его ожидали отзыв лицензии на медицинскую практику и перспектива гражданских исков. Признание вины разрушало его жизнь не менее основательно, чем сам обвинительный приговор. Разница состояла лишь в длительности срока заключения.
Перед тем как отправиться в тюрьму, Фишер ненадолго заглянул к нам. Поначалу он еще упоминал о невесте, но вскоре бросил. О тюремном житье-бытье Пит рассуждал едва ли не с воодушевлением. Он собирался там учить французский и расширять горизонты своих познаний. А мы тем временем думали: «Пит, что бы ты ни говорил, тебя ждет тюрьма. Твоя жизнь загублена. Будущее ничего хорошего не сулит. Как же ты довел себя до такого?»
Потом Фишер начал писать мне из тюрьмы. Я с трудом одолевал его пространные, сумбурные послания. Нередко письма приходили после трансляции матчей с моим участием. Я прочитывал их либо через одно, либо по частям. Пит превозносил меня — утверждал, что скоро я всех заставлю позабыть, кто такой Род Лейвер... то есть писал то же самое, что некогда говорил...
Европейский сезон на грунте закончился полным провалом, скандал с Питом Фишером принес неприятные переживания, а швед Йонас Бьоркман выбил меня из крупного турнира «Куинс Клаб». Но Уимблдон... Уимблдон — совсем другое дело. Он стал моим утешением, в чем я тогда особенно нуждался.
Первых трех противников я победил без особого труда. Я уступал в среднем чуть больше десяти геймов за пятисетовый матч — то есть выигрывал у среднестатистического конкурента но геймам в пропорции три к одному. Хотя трава причиняла мне неудобства в прошлом и еще причинит в будущем, в 1997 г. игра пошла на удивление легко. Настолько легко, что когда в четвертьфинале я победил моего старого соперника, кумира Уимблдона Бориса Беккера, он после традиционного рукопожатия у сетки сказал мне поразительную вещь. Мол, это его последний матч на Уимблдоне, так как он принял решение уйти.
Я был ошеломлен! Я и не подозревал о подобных намерениях Бориса, хотя объективно период его высшего расцвета уже миновал. Потом я понял: это просто эмоциональный срыв. Я настолько подавил Беккера, что у него возникла мысль: «А нужно ли мне все это?» В 1998 г. я с радостью убедился, что он взял свои слова обратно и вновь приехал на Уимблдон.
Уимблдон — волшебное место, освященное множеством вековых традиций и ритуалов. Но больше всего меня привлекала простота тенниса на траве. Это игра непринужденная, естественная. В ней нет ничего лишнего, она ведется на чистой, красивой, ухоженной сцене. Мои ощущения не изменились даже после того, как дебаты о «наводящем тоску травяном теннисе» привели к замедлению игры на Уимблдоне (там сменили мячи и состав травы). Хотя этот процесс пришелся на вторую половину моей карьеры, для меня почти ничего не изменилось. С начала и до конца моих выступлений на Уимблдоне я показывал один и тот же атакующий теннис, основанный на сильной подаче.
Мне нравится, что травяной теннис основан на сильной подаче (по крайней мере, так было раньше). Я подчеркиваю это отнюдь не потому, что таков мой личный вкус. Исторически основу игры всегда составляла подача — самый важный удар в теннисе. Кроме того, это удар, который вы полностью контролируете, поскольку при его выполнении мяч не движется. Вся игра в Уимблдоне, включая тактику набора очков, построена на постулате, что обладание подачей дает немалое преимущество.
Не важно, насколько хорош у вас удар слева или справа. Есть только один способ выиграть сет или матч — взять больше подач соперника, чем он возьмет ваших. Эго по-прежнему верно и в нынешнюю эпоху тай-брейков. Ведь выиграть тай-брейк можно тоже лишь одним способом: сделать по меньшей мере один «минибрейк» — то есть выиграть как минимум на очко больше на подаче соперника, чем он возьмет на вашей.
Конечно, досадно, что в нашу эпоху более медленных кортов отличная подача не столь важна, как в прошлом, а нынешние тренеры и игроки не задумываются о том, в какой мере теннисист с великолепной подачей может построить всю игру на этом ударе.
По-моему, матч с большим количеством взятых геймов на подаче скучен не менее, чем тот, где не взято ни одного. Потому что настоящий классный матч должен иметь лишь считанное количество решающих моментов (как ни заманчиво получать все прочие очки) — точно так же, как в хорошей книге или фильме должно быть лишь несколько ключевых сцен или основных поворотов сюжета.
Теннис на траве не представлял для меня особых сложностей, но требовал изрядного расхода умственной энергии. Я подавал, выходил к сетке, возвращался, выжидал подходящий момент, стараясь сохранять концентрацию и настрой. Я поддерживал в себе готовность к тому моменту, когда передо мной мелькнет хотя бы тень шанса.
В исполнении соперников, предпочитающих силовую манеру игры, теннис на траве часто сравнивают с игрой в кости. В 1991 г. на Уимблдоне в полуфинале между Михаэлем Штихом и Стефаном Эдбергом была взята только одна подача за всю встречу, причем соперник, проигравший свою подачу (а именно Штих), выиграл матч! Счет был 4:6, 7:6, 7:6, 7:6. Но выигрыш здесь не имеет ничего общего с удачным броском костей. Травяной теннис моей эпохи скорее напоминал дуэль на пистолетах — непременный атрибут старых вестернов: либо ты ловишь момент и успеваешь раньше, либо пропускаешь мяч.
На траве ситуация порой меняется мгновенно. Ни на каких турнирах решающие очки не разыгрываются так, как на Уимблдоне. Здесь иногда достаточно двух-трех взмахов ракетки, чтобы выиграть сет. На Уимблдоне исход матча может решить твоя небрежная вторая подача, что позволит противнику сделать брейк уже в начале первого или второго сета. За ошибки на траве платишь слишком дорого. Брейки здесь редки и ценятся на вес золота, и меня просто бросало в жар, когда я терял такую возможность, — до слез обидно упустить шанс заработать решающее очко.
Порой говорят, что «проблема» тенниса на траве в те годы, когда я царил на Уимблдоне, состояла в том, что игрок с убойной подачей мог «вынести с корта» любого соперника. Но на самом деле победу на Уимблдоне никогда не могла обеспечить только мощная подача. Многие игроки, обладавшие ею, не выигрывали Уимблдон, а те, которые выигрывали, побеждали и на других турнирах «Большого шлема». Горан Иванишевич мог забить меня подачами на любых кортах — с ним страшно было играть. Но победу на Уимблдоне он одержал лишь однажды — и уже на закате карьеры. Роско Таннер, обладатель одной из самых смертельных подач Открытой эры, один-единственный раз дошел до финала Уимблдона и проиграл Бьорну Боргу.
В целом Уимблдон, как отдельно взятый турнир, породил меньше чудес, нежели грунт «Ролан Гарроса», нейтрализующий силу подачи и теоретически создающий «равные условия для всех». Суть в том, что высокие титулы почти всегда достаются великим игрокам. Они сильнее технически (у каждого есть набор коронных ударов), сильнее духом и умом, они умеют проложить путь к победе.
На Уимблдоне 1997 г. Тодд Вудбридж совершил в одиночном разряде удивительный рывок и дошел до полуфинала. Один из выдающихся игроков в парном разряде всех времен, Тодд все никак не мог добиться таких же успехов в одиночном. Он был исключительно техничен, искусен, ловок, но не обладал достаточной мощью и скоростью (ведь в парном разряде ему приходилось заботиться лишь о половине корта). Слабые стороны Тодда в точности совпадали с моими сильными сторонами, и у меня не возникло с ним проблем.
В финале мне опять пришлось иметь дело с Седриком Пьолином. Я сочувствовал Седрику. Хотя он и имел опыт выступления против меня в финале турнира «Большого шлема» (на Открытом чемпионате США), сейчас случай был особый. Ни один турнир не сравнится с Уимблдоном. Зато Седрик, вероятно, не ощущал напряжения — я ведь считался безусловным фаворитом. Единственный его шанс заключался в том, чтобы выйти на корт и полностью выложиться, ведь терять нечего. Но легче сказать, чем сделать.
И вновь, как и в нашем финальном матче на Открытом чемпионате США, Седрик выглядел каким-то ошарашенным. Я выиграл первые два сета, уступив всего шесть геймов. Я нащупал свою лучшую игру и ощущал контакт со своим Даром. Казалось, с начала матча прошло всего несколько минут, а я уже подаю при счете 5:4 в третьем сете. Я поймал себя на мысли: «Что-то больно легко все идет». Не подумайте, будто я не испытывал к сопернику должного уважения. Просто судьба матча зависела только от меня, и шел он гораздо быстрее и легче, нежели я ожидал.
Потом у меня одна за другой мелькнули еще две мысли: «Да ведь то, что я делаю, просто здорово. Вот он, Уимблдон. Потрясающе...» И тут же меня охватила тревога, я запаниковал и подумал: «А вправду ли все так легко, как кажется? Может, я чего-то не понимаю? Не обернется ли это для меня какой-нибудь шуткой или розыгрышем?» В действительности на уровне подсознания это напоминало прекрасный сон, где ощущаешь себя всемогущим, но вместе с тем знаешь, что вот-вот проснешься — и чудесная греза развеется.
Но я не проснулся. Я достиг финишной черты за три сета, отдав в сумме десять геймов. Это стало закономерным завершением Уимблдонского турнира 1997 г., который оказался для меня одним из самых спокойных и ничем не примечательных. На этот раз я не вел героических баталий с моими главными конкурентами. Однако именно на Уимблдоне-1997 я продемонстрировал, наверное, самый лучший теннис. Я полностью контролировал свою игру и максимально использовал ее преимущества в течение самого длительного непрерывного периода. Даже статистика говорит о многом: я подавал на протяжении 118-ти геймов и в 116-ти из них удержал подачу.
Прошло несколько месяцев, и у меня, казалось, были основания рассчитывать на победу в Открытом чемпионате США. Я демонстрировал самую лучшую игру за всю свою карьеру, и вдобавок жеребьевка на последнем в году турнире «Большого шлема» оказалась для меня очень удачной. В первых кругах я проложил себе путь сквозь трех не слишком грозных соперников — Тодда Ларкэма, Патрика Баура и Алекса Радулеску, потеряв всего тридцать геймов (почти столько же, сколько на недавнем Уимблдоне), а в четвертом круге вышел на проворного и цепкого чешского игрока Петра Корду.
В день нашей игры то и дело заряжал дождь, и с учетом погодных условий матч предвещал множество сюрпризов. Я начал недурно — выиграл первый сет на тай-брейке, однако затем проиграл два следующих, но вовремя ожил, чтобы выиграть четвертый сет 6:3. Когда в пятом я повел 3:1, все решили (если честно, и я тоже), что перелом в матче наступил. Но тут следует отдать должное Корде. Он держался, атаковал, наносил неожиданные и порой великолепные победные удары именно в те моменты, когда я имел шансы увеличить свое преимущество. Он остановил меня, довел дело до тай-брейка, выиграл его 7:3, а вместе с ним и встречу.
Это был один из характерных для Корды непредсказуемых матчей. И, к сожалению, он происходил в тот день, когда мое нервное состояние оставляло желать лучшего — главным образом из-за хмурой, унылой погоды и раздражающих перерывов на дождь.
В этом году я уже выиграл два турнира «Большого шлема», а титул чемпиона США сделал бы 1997-й моим самым удачным годом. Что всего обиднее, Корда не вышел на следующий матч — как он заявил, из-за болезни. А я, подобно большинству ведущих игроков, считал, что если уж проигрывать, так будущему победителю турнира.
В 1998 г. Корде удалось выиграть Открытый чемпионат Австралии — единственный титул чемпиона «Большого шлема» в его карьере. Но вскоре он был уличен в использовании стимулирующих препаратов, оштрафован и дисквалифицирован (в мое время — редчайший случай с теннисистом достаточно высокого уровня).
Злоупотребление стероидами стало болезненной темой в теннисе лишь много лет спустя, и я не берусь компетентно судить об этом. Тем не менее я убежден, что сейчас 99 процентов игроков не применяют запрещенные препараты, как не применяли их и в мои времена. Большинству игроков просто нет смысла прибегать к допингу. Теннисисты, которые дорастают до уровня крупных турниров, формируются в информационно-насыщенной среде, обычно под руководством опытных и знающих тренеров. Они не столь наивны или несведущи, чтобы не представлять, чем в перспективе им грозит использование стимулирующих препаратов, к которым, возможно, прибегают молодые спортсмены в других популярных видах спорта.
Кроме того, в теннисе важна не сила, а быстрота. Поэтому мощная мускулатура не является решающим преимуществом. Думаю, что и в НБА нет серьезных проблем со стероидами, поскольку баскетбол, как и теннис, держится на быстроте и тренированности рук, а не на могучих мышцах. Но все же, как я узнал, стимулирующие препараты могут принести теннисисту некоторую пользу. Они помогают интенсивнее тренироваться и быстрее восстанавливаться, то есть способны подкрепить общую физическую подготовку и игровую дисциплину выносливостью, которой игрок изначально не обладает. Но вот парадокс: те, кто упорнее всего тренируется или наиболее вынослив, как правило, не входят в число ведущих игроков.
От природы мне не свойственна подозрительность, но в каждом очередном допинговом скандале меня неприятно поражает один момент — обвиняемые всегда имеют оправдание: по ошибке выпил микстуру жены; врач неправильно выписал рецепт; тестирование на допинг проведено некорректно. Иными словами, не та лазейка, так другая. И я не питаю уважения к тем, кто попался на допинге и хочет выкрутиться любой ценой.
В свое время я принимал уйму различных препаратов, в том числе всевозможные витамины. Но я всегда просил врачей официально подтвердить, что ничего запрещенного среди них нет, и поступал так задолго до того, как допинг стал серьезной проблемой в спорте. Выходит, дело-то нехитрое. Мне надоело слушать бесконечные оправдания, и, по-моему, с ними не стоит считаться. Исключительно от вас зависит, чисто ли вы пройдете тест. Попались на стероидах — значит, подлежите наказанию, если только нет убедительных смягчающих обстоятельств. Вот и все.
Мне претило использование допинга еще и потому, что по натуре я просто не способен ловчить и обманывать. Я всегда возражал против любого преимущества, достигнутого нечестным или незаконным путем. Сама мысль о допинге настолько противоречила моим убеждениям, что он стал для меня непреложным табу. Я отказался бы принимать стероиды из чисто этических соображений — даже если бы все вокруг подстрекали меня, уверяя, что остальные-то давно принимают; даже если бы речь шла о сохранении моего места в сообществе. Я понимаю, конечно, что сейчас мне легко говорить красивые слова, однако уверен, что в ситуации реального выбора поступил бы именно так.
И еще кое-что. Ведущие игроки редко терпят урон от любителей допинга. Никакие препараты не помогут вам стать чемпионом Уимблдона или одолеть Роджера Федерера. Поэтому жертвами становятся главным образом игроки более низкого уровня. Для них несколько лишних очков рейтинга или выход в следующий круг серьезных состязаний подчас очень много значат в плане престижа и денег.
Что бы ни принимал тогда Корда, он так и не взлетел на теннисный Олимп. Правда, он всегда входил в плотную группу, располагавшуюся поблизости, и уже успел причинить мне кое-какие неприятности (четырьмя годами ранее победил меня в Кубке «Большого шлема» 13:11 в пятом сете).
Сейчас я вполне допускаю, что допинг сыграл свою роль в нашем сражении на Открытом чемпионате США (ведь Корда засыпался меньше чем через год). Матч был долгий, изнурительный, проходил в неблагоприятных условиях, поэтому даже небольшой дополнительный запас сил мог стать для Корды решающим преимуществом. Конечно, истину мы вряд ли когда-либо узнаем — только Петру Корде известно, как все обстояло на самом деле. Я не питаю к нему неприязни и не придаю чрезмерного значения своему поражению, как и многим другим вещам.
После неудачи на Открытом чемпионате США я сыграл один из лучших своих матчей в Кубке Дэвиса — против сильной, молодой команды Австралии, на харде в Рок Крик Парке в Вашингтоне. Я победил Марка Филиппуссиса и Пата Рафтера в одиночных встречах и вывел Соединенные Штаты в финал против Швеции. Финал мы проиграли, отчасти потому, что из-за травмы ноги я был вынужден прекратить стартовую встречу с Магнусом Ларссоном.
Однако под конец года я выиграл два крупных турнира — Кубок «Большого шлема» и Чемпионат АТП. При этом я то и дело ловил себя на мысли, что каждый раз вижу все больше новых лиц — ребят вроде Патрика Рафтера, Грега Руседски и Карлоса Мойи... Я постепенно начинал чувствовать себя ветераном.
Год я завершил первым в классификации пятый раз подряд, повторив рекорд Джимми Коннорса, и свою задачу на следующий год представлял так: стать единственным, кому это удалось в течение шести лет. Заодно я хотел побить рекорд Роя Эмерсона в одиночном разряде «Большого шлема» — с десятью победами я уступал ему в конце 1997 г. лишь две.
Но, к сожалению, старт у меня получился неважный.
На Открытом чемпионате Австралии жеребьевка сложилась для меня удачно, и я не потерял ни сета вплоть до четвертьфинала, где неожиданно проиграл Каролю Кучере (о чем постарался как можно скорее забыть).
Через несколько недель я смог взять всего шесть геймов у «воскресшего» Андре Агасси на крупном турнире в закрытом помещении в Сан-Хосе.
На двух других турнирах в конце зимы, в Индиан-Уэллс и Майами, я потерпел поражения от Томаса Мустера и Уэйна Феррейры соответственно — и вдобавок в первых же раундах.
Перед весенним сезоном в Европе я выиграл только один турнир, да и то в моем старом убежище, Филадельфии.
Во втором круге крупного турнира в Монте-Карло меня «вынес» Фабрис Санторо.
Я вернулся в США и одержал победу на зеленом грунте Атланты. Зеленый грунт, или HAR-TRU, — это исключительно наше, американское покрытие. Оно более скользкое и зернистое, чем кирпичный порошок европейских грунтовых кортов, поэтому и более быстрое. Там я победил сильного игрока из Парагвая, Рамона Дельгадо, в двух сетах на тай-брейках.
Ободренный успехом, я вернулся в Европу и дошел до третьего круга Открытого чемпионата Италии, где меня остановил мой соотечественник Майкл Чанг. Однако мне казалось, что я вполне готов для «Ролан Гарроса».
Я чувствовал себя довольно уверенно, да и жеребьевка в Париже прошла удачно. На старте мне достался мой приятель Тодд Мартин. Матч с ним по обыкновению не вызвал у меня затруднений. Мне нравилось играть с Тоддом, и на этот раз я тоже поймал свою игру и прошел во второй круг в хорошей форме. Там я попал на Дельгадо — мастера игры на грунте, которого без проблем победил на том же грунте несколькими неделями раньше, в Атланте.
Но во время матча внезапно напомнили о себе все мои грунтовые «болячки». Пол, сидевший у бровки корта, с ужасом наблюдал, как я отдал тай-брейк в первом сете, а затем совершенно растерялся и в следующих двух сетах взял только семь геймов. Дело было не в том, что я проиграл, а в том, как это выглядело. Я напоминал вытащенную из воды рыбу, которая судорожно подпрыгивает в пыли на площадке Центрального корта имени Филиппа Шатрие. А ведь мой соперник еле вошел в первую сотню, а потом и вовсе исчез из компьютерного рейтинга АТП, так и не выиграв ни одного титула в одиночном разряде (его наилучший показатель — 94-103 места). Дело было не в нем — это я играл спустя рукава и без всякого настроя на победу. Я провел одну из самых «поганых» встреч за всю мою карьеру.
Раньше я как-то находил в себе силы выстоять и преодолеть трудности, но на сей раз совершенно отчетливо понял, что мое «парижское время» на исходе. В принципе я мог сам себе привести множество положительных примеров из прошлого и попытаться изменить свое состояние. Но тщетно — я не сумел ни убедить, ни обмануть себя. Матч с Дельгадо стал последней соломинкой, сломавшей спину верблюда (речь о моем участии в «Ролан Гарросе»). И сколько я ни размышлял об этом турнире, вопросов было больше, чем ответов.
Одно я знал точно. Провал случился в тот год, когда я действительно приложил все усилия для победы в Париже. В 1995 г. я специально выстроил расписание своих выступлений и тренировок с прицелом на «Ролан Гаррос». Отчасти я пошел на это, чтобы успокоить и критиков, и доброжелателей, а они были едины во мнении, что я должен специально готовиться к этому турниру, если хочу победить. Но моя стратегия не просто привела к обратному результату — она с треском лопнула, когда я проиграл первый же матч Гилберту Шаллеру. Тим и я тогда всерьез рассчитывали на мое победное шествие в Париже, и поражение сильно подорвало уже окрепшую во мне уверенность, что я могу играть на грунте.
Ситуация сложилась загадочная. Периодически я добивался отличных результатов на кортах с грунтовым покрытием (выиграл Открытый чемпионат Италии и турнир в Китцбюэле, привел Соединенные Штаты к победе в финале Кубка Дэвиса 1995 г. в Москве), но эти успехи казались какими-то случайными. Тим скончался незадолго до Открытого чемпионата Франции 1996 г. Это встряхнуло меня, и я добился своего лучшего результата на парижском турнире. Но, по правде говоря, случай-то был исключительный. А объективная реальность состояла в том, что после 1996 г. я не являлся особо опасным соперником в Париже, даже если мне удавалось пройти круг-другой.
Возможно, проблемы на грунте были связаны с моей универсальной игрой и уверенностью, так помогавшей мне на харде, где я мог выигрывать, даже оставаясь сзади. Ведь победил же я там, играя в основном на задней линии, чемпионов «Ролан Гарроса» Джима Курье и Серхио Бругейру. Поэтому я пренебрегал советами Пола и других, которые считали, что единственный мой шанс на победу в Париже — атака. Иногда я чувствовал необходимость атаковать и с удовольствием следовал такому плану игры. В иных случаях я предпочитал проводить матч на задней линии, питая если не уверенность, то надежду при удаче раскрыть наконец секрет грунтового корта.
В общем, в Париже я так и не сумел найти себя и свою зону комфорта. Я привык полностью контролировать игру — как на Уимблдоне и Открытом чемпионате США. И на траве и на харде у меня был одинаковый настрой: бей посильнее, дави, беги вперед, выигрывай очки... а там увидим, сможет ли соперник все это выдержать. Но на грунте следует слегка снизить напор — даже если играешь в атакующий теннис. Тут требуется больше терпения, надо уметь дождаться благоприятного случая. Такой стиль игры был не по мне. Если иногда я и побеждал на грунте, то лишь потому, что сохранял полнейшее спокойствие и четко контролировал свою игру (примерно так же, как на харде).
Но меня постоянно тяготила (отчасти по моей же вине) мысль о том, что в Париже я должен выигрывать только за счет атакующей игры. Какая-то часть моего сознания требовала все время наступать (как Стефан Эдберг, чей безрассудно-смелый атакующий стиль довел его однажды до финала — дальше, чем удавалось пробиться мне), и я часто чувствовал себя не в своей тарелке. Когда я бросался к сетке после каждой хорошей подачи, у меня возникало не слишком приятное ощущение, что я вечно запаздываю. Вероятно, я отнюдь не идеально двигался на грунте, и это было еще одной — неявной — причиной моих неудач. Покрытие казалось мне скользким и ненадежным, поэтому я принимал чересчур высокую стойку — во всяком случае, по сравнению с таким игроком, как Янник Ноа (француз, выигравший «Ролан Гаррос» в 1983 г. в атакующем стиле с выходами к сетке). Ноа играл на мягких, согнутых ногах, словно большой кот, готовый к прыжку. Я же часто чувствовал себя неуверенно даже у самой сетки.
В Париже Пол всегда убеждал меня идти в атаку, к сетке, но я противился его настояниям. Когда я взял верх над Джимом, играя с задней линии, то счел это еще одним веским аргументом в свою пользу. Но я не мог играть на задней линии настолько стабильно, чтобы побеждать ведущих игроков три или четыре круга подряд, — а только это и позволяет выиграть турнир «Большого шлема». В какой-то год я решил испробовать атакующую стратегию, которая, по мнению Пола, давала мне шансы на успех, но меня остановил Андрей Медведев. Вот, собственно, и все.
Грунт давал моим соперникам дополнительные преимущества. Они могли использовать относительную слабость моего удара слева, посылая мне под бэкхеид мячи с высоким отскоком. Необходимость выполнять удары в высокой точке создает проблемы для игроков с одноручным ударом слева — об этом красноречиво свидетельствуют затруднения, с которыми сталкивался Роджер Федерер, играя на грунте с Рафаэлем Надалем. Для Роджера сложность усугублялась тем, что Надаль — левша.
На позднем этапе моей карьеры еще одним неблагоприятным фактором для меня стали технологические новшества. Я всегда использовал ракетку с наименьшей из всех возможных площадью струнной поверхности. И мало того, что сам я не прочувствовал потенциальных преимуществ ракеток нового типа и продолжал использовать старую модель, — более совершенные ракетки повысили возможности моих соперников (тех, кто сумел быстро приспособиться к новшествам) и облегчили им противоборство со мной.
Поскольку я никогда не имел четкого плана игры на грунте, каждый матч становился для меня кубиком Рубика, и всякий раз я начинал с нуля.
Признаюсь: после поражения от Дельгадо я уже не мог смотреть на «Ролан Гаррос» прежними глазами. Он в каком-то смысле утратил для меня значимость. Не то чтобы я поставил на нем крест — это было не моем духе, да и победа в Париже могла бы принести очень многое, — но после матча с Дельгадо во мне окрепло предчувствие, что здесь мне ничего не светит.
И, вероятно, я наконец взглянул правде в глаза: может, я попросту недостаточно хорошо играю на грунте, чтобы выиграть «Ролан Гаррос»; а может, мне не выпал шанс, не хватило везения, которое вознесло бы меня на чемпионский пьедестал хотя бы один раз — один-единственный, но принципиально важный.
На Уимблдоне, начиная с четвертьфинала, я в двух матчах последовательно победил Марка Филиппуссиса и Тима Хэнмена, моего друга и спарринг-партнера.
В финале меня в очередной раз ждал Горан Иванишевич. Но сейчас я испытывал какое-то странное ощущение. Я выглядел спокойным и уверенным, однако в глубине души предчувствовал, что сегодня удача улыбнется Горану, — ведь он так часто оказывался на пороге победы! Уимблдон для Иванишевича значил больше, чем любой другой турнир, и должен же он когда-нибудь его выиграть.
Хотя скоростные качества покрытия к тому времени изменились, мы оба были настроены выстреливать эйсы, даже если бы пришлось играть мячиками, наполненными водой. В течение всего матча мы сохраняли такой настрой и, вероятно, именно поэтому могли показать свойственную нам игру, несмотря на новые условия. Еще в полуфинале Горан продемонстрировал убийственно мощные подачи и дожал Ричарда Крайчека 15:13 в пятом сете, после того как не смог использовать два матчбола в четвертом.
Горан выиграл на тай-брейке первый сет нашего финала и получил два сетбола во втором. Казалось, мое предчувствие сбывается. Но затем Горан проиграл несколько важных розыгрышей и в конце концов я вытянул сет в напряженном тай-брейке. Выскользнуть из-под пресса и сравнять счет по сетам — это было замечательно. Может, предчувствие оказалось ложным? Ведь Горан имел все шансы добить меня в классической манере игры на траве, но упустил их.
Играя с Гораном, я всегда поджидал, когда он допустит какой-нибудь промах или небрежность. Главное — оставаться предельно внимательным, в полной готовности использовать первую же возможность. Мы продолжали обмениваться бомбами и поделили следующие два сета каждый раз за счет одного брейка. В пятом сете я заметил, что Горан устал. У него прошли только два эйса из тридцати двух за матч, и я без труда довел сет до победы — 6:2.
Иванишевич был безутешен. Он объяснял поражение нехваткой сил из-за того, что не смог в предыдущем матче с Крайчеком уложиться в четыре сета. На пресс-конференции я постарался выразить сочувствие Горану: «К этой стадии турнира мы подошли с игрой практически равного уровня. И победил я просто чудом». Однако Горан, подобно мне, являлся реалистом. Он понимал, что держал меня на крючке — и упустил. Дальше он заявил: «На этот раз у меня имелись шансы, так как соперник показал не лучшую игру. В девяносто четвертом году мы сыграли два сета на равных, а в третьем он меня просто убил. (В том финале счет был 7:6, 7:6, 6:0.) Сегодня я был близок к успеху — во многих отношениях. Матч получился захватывающий, но теперь я переживаю худший момент в моей жизни. Знаете, выпадают человеку плохие времена — к примеру, он заболел или потерял кого-то из близких, — но сейчас я чувствую себя особенно паршиво — никто ведь не умер».
Хотя наша типичная травяная баталия на подачах и вызвала скрытое недовольство, в целом публика, видимо, оценила сдержанное, ледяное величие, которое Горан и я продемонстрировали в наших поединках на Уимблдоне. Они не походили на другие матчи, сыгранные каждым из нас на этом турнире. Статистика наших матчей вызывала во мне особую гордость: во встречах с самым упорным и опасным из моих уимблдонских соперников, Гораном, я вел со счетом 3:1.
Когда я уезжал из Уимблдона, всего один матч отделял меня от рекорда Эмерсона — двенадцать титулов «Большого шлема» в одиночном разряде. И чтобы сравняться с ним, не было места лучше Открытого чемпионата США. Но на «Флашинг Медоуз» я проиграл Пату Рафтеру — хулиганистому австралийцу с самурайским пучком на голове и боевой раскраской лица, для которой он применял цинковые белила.
Победа в Нью-Йорке значительно облегчила бы мою дальнейшую жизнь: мне бы уже не понадобилось особо напрягаться в конце сезона, чтобы сохранить за собой первое место в мире — шестой, рекордный год подряд.
Прикидывая, как распланировать осень 1998 г., я понял, что меня не слишком привлекают европейские соревнования в помещениях, которые проводятся по завершении всех турниров «Большого шлема».
Еще шесть-семь лет назад я мечтал выиграть все на свете. Но в течение многих лет «пробег» на моем счетчике неуклонно возрастал, и хотя «мотор» не утратил мощности, «амортизаторы» постепенно изнашивались, а кое-что уже и ломалось. Для спортсмена это чревато травмами или моментами, когда сознание просто не способно правильно настроиться на выигрыш теннисных матчей.
Годы, проведенные на первой позиции, отняли у меня много сил и заставили серьезно задуматься о том, чтобы набирать пик формы к самым важным событиям года — то есть к турнирам «Большого шлема».
Тем не менее я твердо решил совершить рывок к небывалому рекорду по длительности пребывания на первом месте в мировом рейтинге. Наверное, он не так впечатляет, как рекордное число титулов «Большого шлема» в одиночном разряде, но во многих отношениях достоин большего уважения, и вот почему. Альфа и омега величия — непрерывный каждодневный труд, достижение поставленных целей, умение жить и выживать, будучи мишенью для преследователей. Суть величия — постоянство.
Меня часто спрашивали, кого я считаю Величайшим теннисистом всех времен. С моей точки зрения, этого звания достойны пятеро — из тех, чья карьера (во всяком случае, по большей части) приходится на Открытую эру, начавшуюся в 1968 г. По совести говоря, я не чувствую себя вправе оценивать великих теннисистов любительской эры, когда ведущие игроки становились профессионалами и теряли возможность выступать на турнирах «Большого шлема». Моя пятерка — Род Лейвер, Бьорн Борг, Иван Лендл, Роджер Федерер и (без лишней скромности) я.
Мои доводы просты: Величайший — не просто тот, кто собрал столько-то титулов или продержался на самой вершине столько-то лет. Величайший — это еще и тот, кто в течение своей карьеры добился несомненного превосходства над главными соперниками.
Меня могут спросить: «Почему Лендл?» Отвечу: потому что Иван в свое время значительно возвышался над средним уровнем игры. У него поразительный счет, 22:13, во встречах с Коннорсом и 21:15 во встречах с Макинроем. Каких вам еще доказательств? Когда-то Коннорс ничего не мог поделать с Боргом, а Лендл регулярно обыгрывал Макинроя. Единственное, чего недоставало Лендлу, — это умения себя подать, ему не хватало той особой ауры, которая, по мнению публики, окружает великих чемпионов. Восемь лет подряд Иван выходил в финал Открытого чемпионата США, а этот турнир многие считают самым сложным из всех турниров «Большого шлема». Поэтому моя первая пятерка именно такова — при всем уважении к Коннорсу, Макинрою и Андре Агасси, которых я зачисляю во вторую пятерку первой десятки всех времен.
Любопытно сопоставить рекорд Эмерсона в одиночном разряде (двенадцать титулов «Большого шлема») с сохранением первого места в мире шесть лет подряд. Рекорд Эмерсона можно повторить, выигрывая по два турнира «Большого шлема» в год в течение шести лет. Не столь уж невыполнимая задача: мастеру травяных или грунтовых кортов достаточно лишь выиграть еще один турнир на менее удобном покрытии, чтобы получить две нужные победы. Шесть лет, конечно, предельно сжатый срок, если учесть, что Макинрой — единственный из великих игроков, завоевавший все свои титулы «Большого шлема» меньше чем за семь лет (Коннорсу потребовалось десять). Семь лет — это двадцать восемь турниров «Большого шлема», и победа в двенадцати — достижение бесспорно выдающееся, но отнюдь не фантастическое.
Таким образом, нужно блестяще отыграть всего месяц в году, и вот вам двенадцать побед. Прочее время вы можете держаться в тени — отдыхать, намечать стратегию и оценивать свои ресурсы. Но если вы хотите каждый год оставаться первым игроком мира, подобная жизнь не для вас. Вам не видать первого места, если вы не будете выступать и выигрывать множество турниров и матчей в течение целого года. Большинство теннисистов охотно променяют постоянство на яркие победы — точно так же, как бейсболисты, наверное, предпочтут хоть раз выиграть мировой чемпионат, нежели состоять в команде, которая год за годом побеждает в своей лиге, но не получает самый престижный приз. Однако лучшие игроки отличаются тем, что одерживают яркие победы, и к тому же часто. Они трудятся в поте лица.
Вот эти-то труды едва не подкосили меня в тот период 1998 г., когда я старался сохранить первое место в мировой классификации шестой год подряд.
Осенью, после Открытого чемпионата США, я выступил на семи турнирах в Европе, чтобы сдержать Марчело Риоса, рьяно стремившегося к первому месту. В начале года я и не предполагал участвовать в некоторых соревнованиях (например, в Вене и Стокгольме), но потом все-таки попросил дать мне вайлд-карт. За год Риос приблизился ко мне на опасное расстояние, а я стал уже почти одержим идеей рекорда.
Европейские турниры в конце сезона даже в лучшую мою пору не были легкой прогулкой. Все время холодно, рано темнеет, вечером приходится играть на больших стадионах при искусственном освещении. На исходе долгого тяжелого сезона турниров «Большого шлема» подобная обстановка порождает ощущение, будто вы находитесь в каком-то странном параллельном мире. Но это был мой последний шанс побить рекорд.
Начало оказалось неудачным — я уступил в Базеле Уэйну Феррейре. Правда, затем я отыгрался и победил в Вене. Лион я вынужден был покинуть из-за небольшой травмы, а затем в Штутгарте проиграл драматический полуфинал на тай-брейке в третьем сете Ричарду Крайчеку. Самое обидное, что, выиграв этот турнир, я мог завершить год на первой позиции.
Так дело дошло до Парижа, где я окончательно стал терять почву под ногами. Общая усталость уже сказалась на моих результатах, а теперь проявила себя на более глубоком, психологическом, уровне. Я находился в таком нервном состоянии, что у меня прядями выпадали волосы. Но в Штатах, похоже, до этого никому не было дела — я не заметил ни одного репортера из американской газеты или журнала, который удостоил бы меня вниманием. А вот европейская пресса, напротив, вцепилась в меня. Всю осень моя погоня за рекордом являлась ключевой темой, и это дополнительным бременем легло на мои плечи.
Наконец, понимая, что не смогу долго держать все в себе, я позвонил Полу в его гостиничный номер и попросил зайти. Это был для меня переломный момент, потому что раньше я ни перед кем не обнаруживал своей уязвимости. Пол пришел и спросил, что случилось. Я чистосердечно признался:
«Пол, мне плохо. Мне, наверное, нужен психиатр или вроде того. Гонка страшно напряженная, я столько работал ради этого рекорда, а теперь в голову лезут всякие мысли: что, если я его упущу? Как я с этим справлюсь?»
Пол ошеломленно смотрел на меня, не понимая, как быть. Ситуация явно выходила за рамки привычных, давно сложившихся между нами отношений. Поначалу он не находил слов, но ему-то они как раз и не требовались: выговориться нужно было мне. Просто я должен был сформулировать и выплеснуть из себя все свои тревоги.
Я объяснил Полу, что у меня явно произошел эмоциональный срыв на почве сильнейшего нервного напряжения, но совсем не такого, какое я ощущал, стараясь выиграть турнир «Большого шлема», чтобы вплотную подойти к рекорду Эмерсона. Сейчас меня просто охватывает ужас при мысли, что я не добьюсь своего рекорда — не стану первым номером в мире шестой год подряд. Но чего именно я так боюсь? В этом и заключалась суть дела.
Между тем мое состояние попросту объяснялось одним объективным обстоятельством. К этому рекорду я двигался шесть лет, и если сейчас провалюсь, то уже не смогу начать все сначала на будущий год. Я оказался в наиболее критической из всех знакомых мне ситуаций — «теперь или никогда». Если я сейчас не достигну цели, это станет такой неудачей в моей карьере, которая будет преследовать меня всю жизнь, и именно потому, что я уже приблизился к этой цели вплотную. Мое стремление к рекорду переросло в одержимость, сделалось тяжким грузом, который давил на меня все сильнее и сильнее. И больше я не мог держать это внутри.
Пол выслушал мою исповедь, осмыслил информацию и решил готовить меня к последнему этапу гонки. Конечно, он располагал не слишком большими возможностями, однако понял, что я связал себя по рукам и ногам, а также — что с его стороны в сложившейся ситуации требуется особый подход. В сущности, Пол обеспечил мне пространство, где я мог не скрывать свою уязвимость. Его спокойное ободрение, понимание моих переживаний оказались целительным средством. После беседы с Полом я почувствовал себя гораздо лучше. Сейчас мне надо было ухватиться за некий эмоциональный «якорь спасения» (необычная для меня потребность) — и Пол сыграл выпавшую ему роль.
Все это не имело ни малейшего отношения к моему теннису, к ударам справа и слева, хотя я и показывал усталую, неровную игру — день лучше, день хуже.
Однако АТП хотела использовать создавшуюся ситуацию с пресловутым рекордом — якобы для моего же блага (а равно и для своего). Они настойчиво приглашали меня на разные интервью (в том числе для европейских новостей в прайм-тайм) и всяческие ток-шоу. Люди из АТП вели себя так, будто только этого мне и не хватает для полного счастья — тратить силы и вечернее время (когда можно отдохнуть) на болтовню с очередным французским Ларри Кингом.
Но я чувствовал себя таким усталым, что попросил АТП оставить меня в покое, хотя и скрыл, насколько мне тяжело. Но они продолжали упорствовать и предложили мне выступить в какой-то передаче, которая, по их заверениям, была самой популярной вечерней программой во Франции. Тут мое терпение лопнуло, и я заявил им со всей прямотой: днем я к их услугам, но вечером намерен отдыхать. На этой почве я едва не поскандалил с Дэвидом Хигдоном, представителем АТП по связям с общественностью. Тогда в конфликт вмешался сам Марк Майлс, главный распорядитель АТП-тура. В конце концов я сдался и поплелся на шоу.
Несколько улучшив свое психологическое состояние с помощью Пола, я ощутил заметный прилив энергии и уверенности, хотя, конечно, это не могло мгновенно восстановить эффективность моей игры.
Собрав все силы, я дошел до финала Парижского турнира на крытых кортах, но снова упустил шанс успешно закончить сезон, проиграв в финале британцу канадского происхождения Грегу Руседски, обладавшему очень мощной подачей.
Все осталось в подвешенном состоянии — Риос по-прежнему наступал мне на пятки. Фактически мы подходили к выступлению в финальном турнире АТП, имея на кону его первое место в рейтинге — и мой вожделенный рекорд. Оставалось только надеяться, что у меня «еще остался порох в пороховницах».
Дальше предстоял Стокгольм. Там я хотел хоть немного оторваться от Риоса, но напряжение настолько меня измотало, что в конце концов я не сдержался. Это случилось во время матча с Ясоном Столтенбергом. Я был настолько раздосадован своей игрой, что разбил ракетку. Пожалуй, это выглядело почти забавно. Мой поступок так ошеломил зрителей, что никто не проронил ни слова. Судья на вышке тоже потерял дар речи. Он даже не сделал мне замечания, не говоря уже о наказании за нарушение правил поведения («запрещенное обращение с ракеткой»). Возможно, люди просто не поверили своим глазам: «Нет, это вовсе не Пит Сампрас. Пит Сампрас просто не способен на подобные выходки». Тем не менее матч я проиграл.
А все дело кончилось тем, что мои мучения прекратил сам Риос. Он повредил спину, вышел из Чемпионата АТП после первого же матча, и вопрос был закрыт. Потеряв возможность играть, он уже не мог настигнуть меня. Так, весьма прозаически, окончилась захватывающая гонка — благодаря этому турниру и механизму рейтинга. Подобный исход, конечно, смазал впечатление от моего рекорда. Но меня это мало заботило. Я был рад, что дело не дошло до решающей битвы: в столь изнуренном состоянии я бы за себя не поручился.
После того как Риос объявил, что на этот год закрывает лавочку, мне очень хотелось вскочить в самолет и податься домой. Но такого я не мог себе позволить. Довольный, умиротворенный, свободный от стресса и волнения, я дошел до финала Чемпионата АТП, где проиграл Алексу Корретхе.
Когда я размышляю о том, как мне удавалось выигрывать столько матчей на протяжении многих лет, на ум приходят несколько ключевых моментов. Прежде всего, я верил в себя и свой Дар. Совершив крупную ошибку, я просто «стирал ее с жесткого диска». Не могу точно сказать, как именно я выработал способность двигаться вперед, а не топтаться на месте, но она у меня была. Думаю, это феномен скорее умственного, нежели эмоционального плана — нечто вроде сверхнацеленности на успех. И, конечно, огромную роль играл волевой настрой. Если вы приучите себя подниматься над обстоятельствами, они вас не заденут. Хотя, наверное, нужно иметь определенные задатки, чтобы данный настрой действовал в полную силу.
Я никогда не вступал в конфликт с судьями на вышке. А ведь когда парень, рассевшийся на стуле, незаслуженно отнимает у тебя драгоценное очко, это до боли обидно, точно пощечина. Тут игрок способен выйти из себя, и я хорошо знаю, что он при этом чувствует. Думаю, за всю карьеру я заработал лишь одно официальное предупреждение о нарушении правил поведения — многие игроки получали их куда больше в одном-единственном, не очень важном матче.
Может быть, я и впрямь устроен несколько иначе, но мое умонастроение и в конечном счете успех в значительной мере сформированы решимостью никогда не отступать. Отчасти это объясняется потребностью сохранять преимущество перед конкурентами, во многом же — чувством собственного достоинства и желанием достойно выглядеть в глазах публики.
Побочные увлечения — еще одна вечная угроза вашим победам. Но ничто постороннее не вторгалось в мой ум, когда я находился на корте, и мне это давалось легко. Подружки, нелады с тренерами, семейные проблемы — обычно я без особых усилий мог все вынести за скобки, что очень важно, если хочешь постоянно поддерживать игру на высшем уровне. На корте я помышлял только о деле, хотя и мог, если нужно, вызвать в памяти события, разговоры и даже обещания, данные самому себе. Это шло только на пользу и не отвлекало от главной задачи.
Гнев? Может, я и проявлял бы его, имей я привычку качать права, повышать голос, раздувать щеки и выкатывать глаза. В детстве со мной случались припадки ярости, но по мере того как я становился атакующим игроком и взрослел, эмоциональные взрывы сходили на нет. Наступает время, когда становишься тем, кто ты есть, и осознаешь это. Эксперты и болельщики, бывало, спрашивали, отчего я хоть изредка не выражаю гнева или страсти. Ответ прост: у меня нет подобных эмоций; точнее, я их себе не позволяю. Я загоняю их глубоко внутрь.
Но вот разочарование и боль от уколов критики я воспринимаю так же, как и все. Я вполне способен сохранять самообладание, понимая, кто друг, а кто враг. Думаю, у меня не меньше чувства справедливости, чем у прочих, однако я всегда готов подписаться под старым изречением: месть — это блюдо, которое следует подавать холодным.
За редким исключением гнев мешает хорошо играть и выигрывать. Вспоминаю Горана Иванишевича в нескольких эпизодах наших матчей в Уимблдоне. Я смотрел, как Горан крушит свои ракетки, и отчетливо понимал: я его сделал! Подобное поведение соперника сигналит мне, что тот разбит и подавлен. И теперь он весь мой.
И, естественно, я не хотел, чтобы такое случалось со мной. Моя невозмутимость, наверное, заставляла противников осторожничать и бояться. Это не было сознательной стратегией. Я никогда не пытался никого запугать, ни на кого не давил. Главным оружием являлось мое «я». Я доказывал, что могу справиться с самой напряженной ситуацией спокойно и сосредоточенно — в своем естественном ключе. Бесстрастие и некая отстраненность помогли мне выиграть много матчей.
Когда я только начинал карьеру, меня поражала способность Джона Макинроя кричать, жаловаться, сыпать ругательствами, нисколько не теряя при этом в игре (зачастую он играл даже лучше, когда позволял себе всякие выходки). Вспышки ярости Макинроя не досаждали мне до такой степени, как другим, ибо меня трудно вывести из терпения, и я всегда точно знал, как строить игру с Джоном.
Андре Агасси порой терял выдержку в наших с ним матчах. Помню, однажды в Сан-Хосе он разбил две ракетки, стал бранить судью на вышке и даже нецензурно обозвал его. Увидев, что творится, я уселся на стул и подумал: «О’кей, вот с Андре и покончено!»
Я очень старался не усложнять себе жизнь, а значит, держаться на почтительном расстоянии от многих вещей, в том числе от тех отношений и занятий за рамками тенниса, которые могли отвлечь мое внимание. Я ограничил до минимума количество благотворительных мероприятий, отклонял множество деловых предложений, не волочился за женщинами. Я считал, что просто обязан пойти на определенные жертвы, нежелательные или непосильные для других. Обосновался я в Тампе, которая была моим домом и спортивной базой в течение почти всей карьеры. Там очень удобно тренироваться и избегать соблазнов, связанных с друзьями и родственниками в Южной Калифорнии.
Но родных мне порой очень недоставало. Поэтому я не слишком любил под Рождество готовиться во Флориде к Открытому чемпионату Австралии.
Наверное, мне стоило найти человека, которому я мог бы поверять свои переживания, — например, психотерапевта. Ведь я сознательно от многого отворачивался, держал все внутри, отказывал себе даже в таких простых, безобидных вещах, как кока и чизбургеры. Мне некому было рассказать, каким уязвимым я себя иногда ощущаю; я боялся дать выход чувству неуверенности, чтобы не снизить свой настрой. Все это имело не самые приятные последствия и в физическом, и в психологическом плане.
Побив рекорд Коннорса, я развязал себе руки, дабы превзойти Эмерсона (двенадцать титулов «Большого шлема»). По всеобщему мнению, это стало бы самым значительным из моих достижений. Новый рекорд не меньше, чем любая другая цель, требовал планирования, труда, решимости, умения и удачи, — но отнюдь не каких-то непомерных усилий. Я мог добиться своего, даже не показывая неизменно игру того уровня, на котором держался на протяжении последних шести лет.
Начиная с 1999 г. я уже не слишком беспокоился о рейтинге и результатах турниров менее высокого ранга, нежели «Большой шлем». Большинство малопрестижных турниров попросту смешались в моем сознании независимо от того, выигрывал я или проигрывал. К тому же на кортах появилась целая плеяда сильных молодых соперников, и, естественно, число моих поражений стало возрастать.
Глава 9 В погоне за рекордом Эмерсона 1999-2001
Установив рекорд непрерывного пребывания на вершине мирового рейтинга, я настолько вымотался, что пропустил Открытый чемпионат Австралии и довольствовался весьма средними результатами на весенних соревнованиях. По пути на травяные корты Лондона я лишь однажды пробился в полуфинал.
Зато в Англии я выиграл турнир «Куинс Клаб» и подошел к Уимблдону с хорошими шансами повторить рекорд Роя Эмерсона (двенадцать титулов «Большого шлема») на моем самом любимом турнире.
Как раз тогда свершилось окончательное «воскресение из мертвых» Андре Агасси. В 1999 г. он убедительно подтвердил это, выиграв «Ролан Гаррос» и став, таким образом, пятым в истории тенниса «полным кавалером „Большого шлема“» (тем, кто за свою карьеру выиграл все турниры «Большого шлема» хотя бы по одному разу).
Жеребьевка на Уимблдоне сложилась удачно, и первая неделя турнира оказалась относительно легкой.
Требования, которые предъявляет теннис на траве, конечно, уменьшают количество конкурентов по сравнению, скажем, с Открытым чемпионатом Франции. Но тут есть другая проблема — игроки с мощной подачей, которые представляют на Уимблдоне особую опасность. И как ни удивительно, но мне опять, как и в 1998 г., предстояло играть с Марком Филиппуссисом, а в полуфинале я, вероятно, вышел бы на Тима Хэнмена.
Я знал, что Филиппуссис за последнее время здорово прибавил в своей игре. Прошлой осенью сильный удар справа и мощная подача вывели его в финал Открытого чемпионата США.
В первом сете нашего матча на Уимблдоне он играл очень мощно и победил 6:4. Но во втором сете, при счете 1:2, он крайне неудачно упал и получил тяжелую травму колена, серьезно сказавшуюся на его дальнейшей карьере.
Теперь меня ждал Хэнмен — игрок, которому я, пожалуй, даже сочувствовал. Хэнмен — прекрасный теннисист, мой друг и партнер по гольфу, замечательный спарринг-партнер... Но дело в том, что англичане уже давно не выигрывали мужской турнир Уимблдона — еще со времен Фреда Перри, и Тим был как никогда близок к решению этой задачи. Он упорно стремился к цели, доходил до четвертьфинала и выше, но вечно сталкивался с какими-то препятствиями, зачастую в лице неудобных соперников.
Кое-кто из знатоков порицал Тима за то, что он так и не совершил великий прорыв к победе на Уимблдонском турнире. Я же считаю, что Тим не только весьма достойно справлялся с ситуацией, но даже превзошел самого себя: ведь нельзя забывать, какие надежды возлагали на него англичане и какое он чувствовал давление! Я трижды выбивал его из турнира (два раза на стадии, близкой к финалу). А, как известно, коль скоро не можешь выиграть, лучше уж проиграть будущему чемпиону — хоть какое-то оправдание.
Меня порой спрашивали, легко ли мне было столько раз разбивать мечты друга, и я должен признаться, что не испытывал никаких угрызений совести. Это все равно что обыграть приятеля в дартс или еще в какую-нибудь нехитрую игру. Побеждает сильнейший, только и всего!
Последним препятствием на пути к рекорду Роя Эмерсона являлся мой главный соперник, Андре Агасси. В субботу, в день женского финала, лил дождь, поэтому матч Линдсей Дэвенпорт — Штеффи Граф перенесли на воскресенье, и он стал своеобразной прелюдией к нашей встрече.
Финал Уимблдона изобилует традициями и ритуалами, способными усугубить волнение, неизбежное перед игрой. Чего стоит одно ожидание в маленькой комнате с непременным чтением строки из Киплинга над дверью! Когда тебя, наконец, выводят на корт, ты идешь к своему креслу с пустыми руками — сумку с ракетками несет помощник. Это, конечно, весьма любезно с его стороны, но ты чувствуешь себя еще более растерянным и уязвимым. Когда выходишь на финал Уимблдона, твои руки непривычно свободны, и ты особенно ясно понимаешь: пути назад больше нет. Скрыться негде. Это серьезное испытание в жизни теннисиста, и отчасти именно оно делает победу на Уимблдоне неповторимой.
Центральный корт — средоточие «мистики» Уимблдона. Прошу простить за избитое сравнение, но это место — подлинный храм тенниса. Когда входишь сюда, мгновенно ощущаешь свое ничтожество на его грандиозной сцене. Правда, в отличие от величайших соборов мира Центральный корт на удивление мал (до реконструкции, пока не завершенной, он вмещал около двенадцати тысяч зрителей), а крыша над трибунами делает его еще уютнее (к 2009 г. Центральный корт должны снабдить раздвижной крышей, закрывающей все пространство).
По сравнению с ним арена имени Рода Лейвера, где проходит Открытый чемпионат Австралии, выглядит пресной, безликой и чересчур просторной. Когда смотришь с задней линии через сетку, то кажется, что стена за противоположным концом корта находится в милях от тебя.
Корт имени Филиппа Шатрие на «Ролан Гарросе» — тоже крупное сооружение, с обширным пространством за границами корта. Там у меня всегда возникало ощущение, что я не способен контролировать ситуацию: территория слишком велика. Подобный дискомфорт имеет и объективное объяснение — ведь на грунте действительно играешь на значительно большей площади, по крайней мере в смысле используемого пространства. На грунте часто оказываешься гораздо дальше за задней линией, дальше бежишь за мячом, чем на любом другом покрытии; здесь также шире амплитуда движения из стороны в сторону.
Совсем другое дело — арена имени Артура Эша в Теннисном центре Билли Джин Кинг Теннисной ассоциации США в Нью-Йорке. Хотя это самый внушительный из всех стадионов, где проводятся турниры «Большого шлема», но корт и окружающее пространство удивительно гармонируют друг с другом. Может быть, высокие стены делают корт зрительно чуть-чуть меньше? Многие игроки жалуются, что им трудно сосредоточиться на стадионе Эша из-за неугомонной, шумной нью-йоркской публики, но меня это никогда не беспокоило. Старая арена имени Луи Армстронга (после сооружения арены Эша ставшая вспомогательной) нравилась мне еще сильнее — потому, вероятно, что казалась совсем небольшой (хотя и не настолько, как Центральный корт Уимблдона).
Здесь, видимо, действует определенный механизм восприятия. Чем меньше кажется корт и чем ближе — противоположная сторона арены, тем более быстрым он представляется. Это всегда придавало мне дополнительную уверенность, так как я люблю быстрый теннис. Любопытно, возникала ли подобная иллюзия у моих соперников?
На Уимблдоне Центральный корт является единственным и безусловным объектом внимания. Там не слышно самолетов, там нет ни огромных телеэкранов, ни обширных цифровых табло, которые отвлекают вас биржевыми котировками, итогами матчей НФЛ или рекламой. Пространство вокруг корта невелико, общий фон спокойный, с минимальным количеством рекламы и объявлений. На этом неброском фоне светло-зеленая трава выглядит особенно притягательно. В эстетическом отношении травяные корты несравненно приятнее пыльного грунта или невыразительных кортов с твердым покрытием.
Мне всегда нравилась упругая «мягкость» травяного корта. Очень приятно ощущать, как дерн слегка проминается под подошвой при каждом шаге. Двигаешься с ловкостью кота, и порой чудится, будто ты на мягком спортивном мате, где можешь все делать в свое удовольствие, без опаски и напряжения. Центральный корт всегда пробуждал во мне уверенность в своих силах, а искушенные английские зрители усиливали это чувство. Мне доставляло удовольствие блистать перед избранной публикой, а они поощряли меня играть как можно лучше. Уимблдон — это храм, и выступать здесь — величайшая радость.
В женском финале Линдсей неожиданно выиграла у Штеффи, и публика, казалось, пока не знала, как реагировать. Быть может поэтому, когда мы с Андре вышли на корт, царила какая-то странная тишина. Такое редко случается на Уимблдоне, где зрители умеют отдать должное каждому матчу. Но дождь, вероятно, слегка приглушил их эмоции. На трибунах виднелось множество свободных мест. Видимо, часть зрителей решила устроить себе перерыв между матчами. А оставшиеся все еще пытались осмыслить только что увиденное и не были готовы переключить внимание на нас.
Андре и я начали матч спокойно — как и зрители. Каждый из нас держал свою подачу до счета 3:3. Потом Андре несколько раз удачно сыграл на приеме, и счет в седьмом гейме стал 0:40. Но я сумел сравнять его и, хотя с трудом, все-таки взял свою подачу. В следующем гейме Андре подавал новыми мячами, однако, к немалому моему удивлению, внезапно допустил несколько примитивных ошибок. Я же, наоборот, несколько раз удачно принял его подачу и выиграл гейм. Возможно, он расстроился, что не сумел сохранить преимущество и потерял шанс? Как бы там ни было, я сделал брейк и держал свою подачу до конца сета. Вот вам классический пример непостоянства фортуны на травяном корте.
Моя уверенность резко возросла, а стиль игры Андре только усиливал ее. Он был самым опасным соперником за всю мою карьеру, но при этом — одним из тех немногих игроков задней линии, с которыми я встречался в финалах Уимблдона. Его игра здесь давала мне чуть больший запас времени, чем игра таких монстров быстрых кортов, как Ричард Крайчек или Горан Иванишевич. Мне, конечно, нравилось подавлять противников своей подачей, но порой я получал удовольствие, разыгрывая очки на траве и при обмене ударами. Это было проверкой быстроты моих ног и коронных ударов, особенно удара справа сходу.
Андре сам раскрепостил мою игру, и я чувствовал себя прекрасно. Когда играешь на траве и дело у тебя ладится, а у соперника нет, да к тому же он околачивается на задней линии, — это на редкость комфортная ситуация. О да, Андре блистал в последние месяцы, его возврат к теннису был впечатляющим... и тем не менее я без особого труда держал свою подачу. Более того, я знал, что даже если он возьмет мою подачу, мне непременно представится шанс ответить тем же. Играя с Агасси, я почему-то всегда ощущал уверенность, что смогу в нужный момент сделать брейк.
Начало второго сета оказалось тяжелым для Андре. Я быстро выиграл гейм на его подаче, а затем вошел в то состояние полной гармонии, когда играешь на интуиции — безошибочно, спокойно, чувствуя и контролируя все свои удары. Я мощно подавал как первую, так и вторую подачу, у меня проходили сильные удары слева — это позволяло мне уверенно играть на задней линии, что решительно опровергало расхожие представления о моей тактике игры с Агасси.
Одна любопытная техническая деталь давала мне возможность на траве вступать с Андре в обмен ударами и чувствовать себя с ним на равных. На харде мяч от Андре всегда прилетал очень быстро, и я часто оказывался в некотором цейтноте. Но на траве, несмотря на быстрый отскок от этого покрытия, удары Андре слегка ослабевали и были не столь эффективны. Поэтому я чувствовал, что здесь у меня есть лишняя секунда для того, чтобы оценить ситуацию и хорошо обработать мяч.
Этот эффект особенно проявлялся на второй подаче Андре. Отскок после его крученой подачи на харде был очень высок, и мне сразу же приходилось переходить к обороне, поскольку я не мог принять ее сильным атакующим ударом. Но на траве отскок гораздо ниже, и можно принять подачу в более удобной точке. Если же мне удавался хороший прием и мы принимались обмениваться ударами, то я рассуждал примерно так: «Ладно, начнем — увидим, кто лучше двигается». Я всегда чувствовал, что в плане передвижения по корту и общего атлетизма я слегка превосхожу Андре, даже на задней линии и особенно на траве.
Когда трава стирается, то мяч иногда отскакивает от некоторых участков так же, как от быстрого харда. Но, пожалуй, даже при таких непредсказуемых отскоках я выглядел несколько лучше.
Надо заметить, скоростные качества корта — штука куда более сложная и каверзная, нежели может показаться. Обобщающие характеристики «быстрый» и «медленный» обусловлены дополнительными факторами, в том числе и техникой подкручивания удара.
Во втором сете я почувствовал себя совершенно раскованно и смог использовать весь свой арсенал ударов. Теннис мы показали чрезвычайно зрелищный, но Андре так и не удалось отыграть мой ранний брейк, и я победил 6:4. В третьем сете продолжалась демонстрация великолепных ударов с обеих сторон, причем Андре сражался с большим упорством. На его беду, мне выпал удачный день, и матч получился одним из лучших за всю мою карьеру. Я был буквально неудержим, продемонстрировал очень мощную игру и выиграл третий сет, а заодно и встречу.
В тот момент я даже не вспомнил о том, что повторил рекорд Роя Эмерсона. Нескончаемые толки и прогнозы по этому поводу перед финалом порядком мне наскучили. Для меня на первом месте стоял другой аспект матча: сколько эйсов я подал, как его результат отразился на моем счете в персональном соперничестве с Андре. Но прежде всего я гордился тем, что показал теннис настолько близкий к совершенству, насколько позволяло мое мастерство.
Я был так доволен своим выступлением на Уимблдоне, что даже решил посетить некогда страшивший меня Бал чемпионов. Он всегда проходит вечером в день мужского финала и на нем предполагается присутствие чемпиона и чемпионки в одиночном разряде (хотя обычай открывать бал их совместным танцем уже давно позабыт).
Раньше я считал Бал чемпионов сущим наказанием. После всех волнений и усилий, которых требует победа на Уимблдоне, мне меньше всего хотелось облачаться в смокинг и вести пустые беседы с почтенными леди и джентльменами из Всеанглийского клуба. Вдобавок необходимость держать речь на публике повергала меня в трепет чуть ли не с детства — а ведь от чемпионов обязательно ждут хоть каких-нибудь реплик. Я никогда не представлял себе заранее, что именно скажу, и боялся вместо уместных искренних слов ляпнуть нечто неподобающее.
Но со временем я стал понимать, что участие в Бале чемпионов — это неотъемлемая часть праздника, знак уважения к турниру и его организаторам. У меня сложились дружеские отношения с Джоном Кэрри (бывшим председателем Всеанглийского клуба) и его женой, а также с некоторыми другими членами клуба. Иногда я выпивал в обществе Джона бокал вина, а однажды даже выкурил сигару. В конце концов и сам бал начал доставлять мне удовольствие, а присутствие на нем я расценивал как выражение моей признательности клубу. Наконец, я был дисциплинированным спортсменом без вредных привычек и не испытывал ни малейшего желания сбежать с Центрального корта после финала, чтобы пошататься по лондонским кабачкам.
Правда, одна вещь на Бале чемпионов всегда вызывала у меня недоумение. После многочисленных речей всевозможные должностные лица (например, главы национальных федераций, входящих в Международную федерацию тенниса) непременно желали сфотографироваться с чемпионом или получить автограф. Я просто не мог этого понять! Важные «шишки», некоторые вдвое старше меня, почти все по-своему весьма успешные люди, — а ведут себя как детишки, которые без ума от «звезд». Однажды я имел удовольствие познакомиться с известным актером Чарлтоном Хестоном, тоже членом Всеанглийского клуба. Я был по-настоящему тронут, когда он похвалил мое поведение и стиль игры в простых, сердечных словах. А прочие — лишь курили фимиам и хотели сняться вместе со мной, чтобы повесить фотографию в своем офисе. Что ж, я никому не отказывал — ведь это входит в обязанности чемпиона.
После победы над Андре Агасси в 1999 г. я выступил на Бале чемпионов с импровизированной речью, и на сей раз она далась мне легко. Я говорил о том, что выигрыш в матче — не столько мое достижение, сколько заслуга Уимблдона, который вдохновляет меня на чемпионскую игру.
Матч с Андре подвел итог полному изменению моего имиджа в глазах публики. «Скучный» отщепенец превратился в отличного парня, который в двадцать лет стал лучшим игроком на травяных кортах.
Я понимал, что очень многим обязан Андре за то, что он настроился на борьбу и полностью выложился в финале. Благодаря ему после стольких лет силовой игры я смог доказать, что способен не только «забивать» соперника. Я сумел победить оборонительного игрока высочайшего класса, играя в комбинационный теннис, а не только за счет мощной подачи.
Не хочу, чтобы мое нижеследующее признание прозвучало горько, ибо никакой горечи я в него не вкладываю. Что я собой представляю на самом деле, вряд ли кому-либо известно. Что же касается метаморфозы моего «образа» на Уимблдоне, то за многие годы и я сам, и мой теннис по сути остались прежними: изменились соперники и их игра, а также восприятие моей игры и моей личности. Вывод отсюда не слишком приятный. Не знаю, сумеете ли вы разъяснить его вашим детям, а я — своим. Вот он: если вы одержали достаточно побед, люди начинают вас ценить несмотря ни на что.
Единственное, перед чем все в конце концов склоняются, — это успех!
Окрыленный победой на Уимблдоне, я собрался побить рекорд Эмерсона дома, на Открытом чемпионате США. Я пребывал, вероятно, в самом расцвете теннисных сил, и во мне созрела уверенность, что в середине 1990-х годов моя игра постепенно достигла высшего уровня. В частности, наладилась вторая подача, и я почувствовал, что могу уверенно играть с задней линии против любого противника, дожидаясь удобного момента для мощного завершающего удара справа или атаки.
После Уимблдона я удачно провел начальный этап сезона на харде и выиграл два турнира. Потом, в Индианаполисе, в четвертьфинальном матче с Винсентом Спадеа я слегка повредил ногу. Чтобы не ставить под угрозу свои шансы на Открытом чемпионате США, я прекратил игру при равном счете по сетам.
В общем, все обстояло благополучно. С игрой на харде проблем не возникало, и поэтому я не планировал выступать в каких-либо еще пристрелочных соревнованиях перед чемпионатом.
В пятницу, перед началом турнира, я тренировался на арене имени Луи Армстронга с Густаво Куэртеном. Я выполнил подачу, после чего рванулся влево, чтобы ответить на прием, и почувствовал боль в спине. Я пытался ее игнорировать и продолжать игру. Но постепенно боль стала более резкой, а очень скоро и совершенно невыносимой. Я ушел с корта и отправился прямо к врачу. Следующие два дня я принимал обычные в таких случаях противовоспалительные препараты, но они не помогали. Тогда врач послал меня на рентген, и выяснилось, что у меня грыжа межпозвоночного диска.
Это сразило меня наповал. Я не сомневался, что выиграю Открытый чемпионат США. Мне оставался всего шаг, чтобы побить рекорд Эмерсона. Кроме того, я вполне мог бы продлить свое непрерывное пребывание на первом месте до семи лет, причем на сей раз даже не участвуя в очередном осеннем «марше смерти» по Европе. И вот все пошло прахом! Мне грозил перерыв в выступлениях на месяцы — в самом лучшем случае; а по сути, на меня свалилась напасть, которая навсегда вывела из строя многих прекрасных теннисистов — например, австралийского кумира Лью Хоада и очень интересного словацкого игрока, финалиста Открытого чемпионата США Милослава Мечира по прозвищу «Большой кот».
Я чувствовал себя так, словно мне нанесли предательский удар, — я ведь очень редко пропускал турниры «Большого шлема». Невероятное невезение. Как оказалось, у Пола Аннакона тоже давние проблемы со спиной, и он объяснил, чего мне следует ожидать.
Болезнь — одна из самых больших неприятностей для спортсмена-профессионала, привыкшего выкладываться на арене и кипеть адреналином. Это крайне угнетающее состояние, тут нужны вся сила воли и вера в себя, чтобы не сломаться окончательно — психологически и даже физически. Я уехал из Нью-Йорка и вернулся в Лос-Анджелес, где мне предстояли месяцы лечения, а главное, постельный режим и одиночество.
Чувствовал я себя так плохо, что первое время едва мог ходить. Я был в буквальном смысле прикован к дому. А когда поневоле все дни напролет валяешься, уставившись в телевизор или читая книжку, в голову так и лезут дурацкие мысли: «Хорошо-то как! Ходить никуда не надо. Холодильник, набитый мороженым и колой, под рукой. Тут же и телефон — устройство, изобретенное специально для того, чтобы можно было заказывать пиццу с десятью различными наполнителями».
Но я дал себе слово не раскисать и при первой же возможности приступил к процедурам, доставлявшим массу неудобств, — прикладывал лед и делал электростимуляцию дважды в день. Затем последовал комплекс упражнений для укрепления мышц спины. Это были утомительные, болезненные, трудные занятия. Но благодаря им я впервые по-настоящему осознал, что мне необходимо больше заботиться о своем теле. Я работал изо всех сил и боролся с депрессией в тишине моего пустого дома.
К счастью, то кошмарное лето имело и светлую сторону. Болезнь косвенным образом помогла мне познакомиться с будущей женой. Как-то между процедурами я вместе с приятелем, Джоном Блэком, смотрел фильм «К черту любовь» («Down witn Love»). Там играла актриса Бриджит Уилсон, и она мне очень понравилась, точнее — просто заворожила, как только я ее увидел. Я подумал: она неотразима!
Джон вечно разглагольствовал о своих многочисленных «великосветских» знакомствах. И тут, отчасти из желания поддеть его, я заявил: если хочешь доказать, что у тебя большие связи в Голливуде, познакомь меня с этой восхитительной девушкой.
Через несколько дней Джон доложил, что дело сделано — он добыл номер телефона Бриджит у ее агента, с которым давно знаком. «Отлично», — ответил я, подозревая, что здесь кроется какой-нибудь подвох. И все же еще через пару дней я ей позвонил. Бриджит говорила со мной очень сдержанно и застенчиво. Я предложил встретиться, и она сказала, что может заехать ко мне. Наверное, хотела посмотреть, как я живу, и пока не сообщать слишком много о себе.
Поначалу наша встреча была какой-то натянутой и неловкой. Мы с трудом выдавливали из себя слова и едва осмеливались взглянуть друг на друга. Это выглядело комично — или, во всяком случае, показалось бы комичным стороннему наблюдателю. Потом Бриджит попросила разрешения заглянуть в ванную, и как только она вышла из комнаты, я подумал: «Да, она и вправду хороша. А если к тому же способна хоть два слова связать, то я не прочь на ней жениться».
Когда Бриджит вернулась, я решил, что ситуация немного разрядится, если мы куда-нибудь сходим, и предложил пообедать в итальянском ресторане. Смена сцены — а именно перемещение на нейтральную общественную территорию — помогла; постепенно скованность исчезла, и мы прекрасно провели время. Вернувшись домой, я уже не сомневался — это моя судьба! Мы начали встречаться. Безрадостные мысли о болезни отступили, и многое, в том числе мое теннисное будущее, предстало в радужном свете.
После затянувшегося выздоровления я с удивлением узнал, что по-прежнему имею возможность выступить на Чемпионате АТП в конце года. Еще в августе я зацепился за одно из восьми вожделенных мест. Чтобы попасть на чемпионат, мне хватило единственного матча — на Парижском турнире на крытых кортах я с трудом победил Франциско Клавета, выиграв третий сет 7:6. Этот результат (как и моя игра!) ничего хорошего мне не сулил. К тому же я вынужден был отказаться от следующего матча в Париже (с Томми Хаасом) из-за спазм в спинных мышцах — дополнительной проблемы, связанной с долгим перерывом в игре.
На Чемпионате АТП я очутился в нескольких шагах от вылета из борьбы за титул. Первым моим соперником в круговом турнире был Андре, который разбил меня наголову — 6:2, 6:2. В следующем матче Николас Лапенти дважды довел дело до тай-брейков, но я вытянул оба и еще мог надеяться на победу в круговом турнире. В последнем моем матче я записал в актив победу над Густаво Куэртеном и вышел в полуфинал, где игра шла уже на выбывание. Победив Николаса Кифера в первом матче, я вновь встретился с Андре. Не прошло еще и недели после того, как он разнес меня в пух и прах. Я разгромил его, не уступив ни одного сета.
Несмотря на мою победу в Ганновере, Андре закончил 1999 год на первом месте и, таким образом, прервал мою рекордную серию. Это был заслуженный успех. В тот год Агасси буквально воскрес из мертвых и выиграл Открытый чемпионат Франции. В его активе был и Открытый чемпионат США. А я в это время валялся в постели в Лос-Анджелесе со своей больной спиной. Мы вступали, сами того не зная, в последнюю и величайшую стадию нашего соперничества.
Андре подтвердил это в начале 2000 г., когда выбил меня из полуфинала Открытого чемпионата Австралии. Хотя каждый турнир «Большого шлема» много значил для меня, я не особенно огорчился. Дело в том, что я начал больше заботиться о себе и составлял подходящий мне график соревнований гораздо тщательнее, чем раньше.
Между тем уже заявлял о себе ряд талантливых молодых игроков: Пат Рафтер, Лейтон Хьюитт, Роджер Федерер, Карлос Мойя и Марат Сафин. Это были чрезвычайно опасные молодцы, способные больно покусать «старичков» вроде меня, Андре, Бориса, Горана, Джима и Майкла Чанга. Меня, конечно, еще ждут турниры «Большого шлема» — в этом я не сомневался. И рекорд Эмерсона пока не побит. Но моя карьера уже клонилась к закату, и я сознавал это.
В 2000 г. я вновь выиграл турнир в Майами, но это была моя единственная победа перед весенним сезоном на грунте. В Париже Марк Филиппуссис выбил меня в первом же круге, выиграв 8:6 в пятом сете. Во второй круг «Ролан Гарроса» я не выходил с 1997 г. Миновали добрые старые времена, когда я выигрывал у таких парней, как Серхио Бругейра и Джим Курье, не уступив ни одного сета, в трудных, напряженных матчах.
Мое выступление на Уимблдоне в 2000 г. тоже началось неудачно. На тренировке перед началом турнира я потянул голеностопный сустав. Нога опухла, а тут еще Пол снабдил меня новыми кроссовками, которые, вероятно, ускорили процесс. Сперва нога беспокоила меня довольно умеренно, но, увы, лишь до победного матча с Каролем Кучерой во втором круге. Уже в этой встрече я ощущал боль всякий раз, когда переносил вес на правую ногу. В тот же вечер я сделал рентген и получил неприятное известие: в зоне повреждения скапливается жидкость.
После матча с Кучерой я объявил о своей травме, и пресса на все лады обсуждала эту новость. Боль в ноге и связанный с ней общий дискомфорт были таковы, что я уже подумывал, не сняться ли мне с турнира. Глупо рисковать здоровьем ради отчаянной попытки побить рекорд Эмерсона. С другой же стороны, воспоминания о вынужденном осеннем простое, о разочаровании, испытанном в Австралии и Франции, подстегивали меня, побуждая не выходить из игры.
Я поговорил с бывшим чемпионом Уимблдона Патом Кэшем, и он порекомендовал мне специалиста по иглоукалыванию, услугами которого пользовался. Кроме того, я решил в случае необходимости делать инъекции кортизона. Этот препарат снимает воспаление и боль, но его нежелательно применять слишком часто или в больших дозах.
После матча второго круга я больше не тренировался по свободным от игр дням всю оставшуюся часть турнира. Я регулярно посещал иглотерапевта, не замечая, правда, особых изменений к лучшему, и делал инъекции перед матчами. Порой мною вновь овладевало искушение сойти с дистанции, но когда я узнавал об очередном сопернике, сомнения отступали — мои шансы покамест были недурны.
В итоге мой путь к финалу пролег через Джастина Джимелстоба (третий круг), Йонаса Бьоркмана, Жана-Мишеля Гамбилля и Владимира Волчкова (одного из самых неожиданных полуфиналистов Уимблдона за все времена). Со стороны это выглядело легкой прогулкой, но для меня она каждый раз сопровождалась болью и немалым нервным напряжением. На все матчи я выходил без тренировки, ни разу не прикоснувшись к мячу (если не считать легкой предматчевой разминки). Это меня беспокоило, а постоянная боль просто изводила. Боль ослабляет концентрацию и подрывает уверенность. Она способна выбить из колеи, и в результате игра начинает «сыпаться».
В финале против меня играл Пат Рафтер. Он поздно вошел в число соискателей титулов «Большого шлема», но в тот момент находился на пике карьеры, а его агрессивный атакующий стиль игры на Уимблдоне представлял особую опасность. К тому времени Пат выиграл два Открытых чемпионата США и даже короткое время был первой ракеткой мира. Наивысших достижений он добился летом 1999 г., почти за год до того дня, когда мы с ним встретились в финале Уимблдона-2000.
Рафтер был известным игроком высокого класса, но при этом одним из немногих соперников, с которыми у меня какое-то время не складывались отношения. Началось все в 1998 г., когда он победил меня 6:4 в третьем сете финального матча в Цинциннати. На пресс-конференции меня спросили, что отличает Пита Сампраса от Пата Рафтера, и я ответил: «Десять титулов победителя „Большого шлема“». Конечно, не стоило так говорить, но тогда я испытывал несвойственное мне раздражение от проигрыша в трудном матче. Пат обиделся и, пожалуй, имел на то основание.
Потом, всего через несколько недель после Цинциннати, Рафтер победил меня в полуфинале Открытого чемпионата США. Наверное, моя ехидная реплика пробудила в нем жгучее желание расправиться со мной. А когда Пат занял первое место в мировом рейтинге, он несколько раз высказался в том смысле, что теннису только на пользу, что я уже не номер один. Пресса, конечно, ухватилась за его слова и хотела увидеть мою реакцию. Я решил вести себя максимально сдержанно и сказал лишь, что если Пат недоволен мной, он может сообщить это мне лично. На следующий день Пат позвонил и извинился. Он не отрицал, что поддался мстительному чувству, я же признал свои слова, произнесенные в Цинциннати, заносчивыми и необдуманными.
После этого наши отношения наладились, а вот игра Пата продолжала доставлять мне неудобства. Пат был на редкость вынослив и техничен. Он непрерывно давил на меня своими отчаянными, почти самоубийственными выходами к сетке. Подачи Пата тоже создавали для меня много трудностей. Проблема заключалась не в скорости полета мяча, поскольку он почти всегда выполнял крученую (сравнительно медленную) подачу. Дело в том, что он все время менял направления подачи, и я был вынужден постоянно их угадывать. Одну подачу он мог послать очень косо, а следующую — прямо в меня. Хорошо еще, что Пат не был левшой: тогда он мог бы посылать мне во второй квадрат крученую косую подачу с высоким отскоком мяча под левую руку, и мне пришлось бы совсем худо.
Мои родители приехали в Лондон за день до финала. Всего второй раз в жизни они посетили мой матч на турнирах «Большого шлема». Впервые они присутствовали на Открытом чемпионате США в 1992 г., на проигранной мною встрече со Стефаном Эдбергом. Так что я не мог считать их приезд благим предзнаменованием.
На протяжении всей моей карьеры родители предпочитали оставаться в тени, и не в последнюю очередь потому, что им претил ажиотаж крупных турниров. Я знал, насколько родители стремятся избегать телевизионщиков. Невзирая на мои успехи, они продолжали оставаться скромными людьми и отнюдь не собирались купаться в лучах моей славы.
Но этот турнир был особенным. Они приехали поддержать меня и, возможно, разделить со мной радость великой победы. На мой вопрос о том, чем я могу быть для них полезен в Лондоне, родители ответили, что хотят только пожелать мне удачи перед игрой и не угодить под телекамеры. Я объяснил, что первое от меня зависит, а вот второе — нет. Мы подыскали им незаметные места на трибунах, но операторы NBC, разумеется, их быстро вычислили. Так что в этой игре счет был 1:1.
Пат блестяще победил Андре в полуфинале и к финальному матчу подошел на большом эмоциональном подъеме. С самого начала мы оба играли хорошо — обменивались атаками и отражали их почти сорок пять минут до счета 4:4, а потом и 5:5, пока не полил дождь.
Вынужденный перерыв создал для меня проблему — действие кортизона могло прекратиться раньше, нежели я планировал. В этот момент, когда победа была уже близка, я решил отбросить осторожность и сделать еще одну инъекцию, чтобы с гарантией продержаться до конца. Но врач был непреклонен и заявил, что доза и так достаточно велика. В результате после перерыва я чувствовал себя психологически менее комфортно, чем раньше.
Короче, я немного понервничал, и Пат выиграл тай-брейк первого сета 12:10. В следующем сете дело тоже дошло до тай-брейка. Пат повел со счетом 4:1, и тут я подумал, что проигрываю матч. Мне стало стыдно — ведь родители проделали такой путь до Лондона, а я и на этот раз, кажется, подведу. Но в этот момент Пат, понимавший, что матч может стать жемчужиной его карьеры (вы же знаете, как австралийцы ценят Уимблдон), дрогнул. У него было два сетбола при счете 6:4 на тай-брейке, но он не использовал ни одного. Если бы он взял хоть одно очко, то, бесспорно, завоевал бы титул.
Когда я ускользнул из-под пресса и выиграл тай-брейк, весь характер матча переменился. В глубине души я уже предвкушал победу — хотя пока еще шла упорная, изматывающая борьба. Но предчувствие ободрило меня, я стал играть чуть получше, а Пат, напротив (я это видел), — чуть похуже. Однако даже мелкие нюансы имеют значение, особенно в теннисе на траве.
Я контролировал игру, хотя боль в ноге буквально убивала меня. Преувеличением будет сказать, что я играл «на одной ноге», но дело явно к этому шло. Тем не менее уже ощущалась близость победы, и это окрыляло меня. Я наслаждался эмоциями, которые настолько захватили меня в последние несколько геймов, что даже боль казалась приятной. Мной овладело страстное желание освободить сознание от всего постороннего — образов, запахов, звуков. Я говорил себе: «Вот оно. Надо поднажать, надо все закончить здесь и сейчас. Мне это необходимо... Никто и не обещал, что будет легко».
В конце концов я выиграл — 6:7, 7:6, 6:4, 6:2. К тому времени наступили сумерки, и вспышки фотокамер сверкали, словно тысяча молний. Я взглянул на Пола, находившегося в ложе для игроков. Он кивнул в сторону трибун, туда, где сидели мои родители. Я еще не пришел в себя, но вдруг ясно понял, что должен сделать в первую очередь. Я взобрался на трибуну, отыскал родителей и обнял их. А вспышки все сверкали... Картина почти сказочная!
Как я потом узнал, отец так разволновался, что пошел прогуляться по Уимблдон-Виллидж. Возвращаясь, он, по его словам, увидел толпу на входе и решил, что матч закончился победой Пата. На самом же деле эти люди торопились на стадион после перерыва, вызванного дождем. Непредвиденная задержка переместила окончание финала в английский прайм-тайм и, таким образом, гораздо больше телезрителей смогли увидеть заключительную часть матча.
По собственной инициативе я бы ни за что не полез на трибуны. Будь это предложено мне заранее, я наверняка отказался бы: «Наша семья не любит светиться, родителям все это ни к чему. Так что, пожалуй, не стоит». Но когда Пол сделал мне знак, меня осенило: он прав! Похожее чувство я испытывал, когда меня пригласили выступить на погребении Тима Галликсона. Первая реакция — избежать нездорового внимания. Но и тогда, и теперь в решающий момент я знал, как должен поступить. Позднее я спросил Пола, зачем он подал мне сигнал, и в ответ услышал: «Часто тебе доводилось бить рекорды „Большого шлема“ в месте, которое так много для тебя значит, и перед людьми, которые тебе так дороги?»
Репортеры, разумеется, запечатлели, как я обнял отца. Снимки эти широко разошлись и попали во все газеты. На следующее утро отец позвонил из своего отеля в центре Лондона несколько ошарашенный и сообщил, что теперь его — Сэма Сампраса — узнают на улице и поздравляют!
Поскольку я добился выдающегося успеха, то после матча был просто нарасхват. Чиновники из АТП-тура сновали вокруг, отбирая наиболее выгодные для них и для меня шоу и передачи: Чарли Роуз, Дэвид Леттермен, Ларри Кинг, «Today»... Все хотели получить индивидуальное интервью. Меня буквально разрывали на части, и я едва подоспел к окончанию Бала чемпионов, причем даже не переодевшись. Там я произнес краткую речь и поспешил в мой уимблдонский дом — принять душ и выпить бокал шампанского с Бриджит, Полом и родителями.
Наконец-то я мог расслабиться. То был один из счастливейших моментов в моей жизни! Вольготно раскинувшись в кресле, несмотря на боль в ноге, я расплылся в широкой улыбке, выражавшей полное удовлетворение, и подумал:
«Да, жизнь несовершенна, но порой до совершенства рукой подать».
На следующий день нам предстоял отъезд. Тем временем звонки и факсы хлынули в Лондон и Лос-Анджелес. Я пока не обзавелся сотовым телефоном, и поймать меня можно было только по двум домашним номерам. С поздравлениями позвонили Тодд Мартин, Джим Курье и Андре Агасси. Михаэль Штих и Моника Селеш прислали факсы.
Моника нередко отправляла мне факсы, пока я играл. Но в принципе у нас сложились не вполне обычные отношения. Все началось в Лос-Анджелесе, вскоре после того как у Тима обнаружили рак. Кто-то (скорее всего сотрудник IMG — промоутерской фирмы, представлявшей ее и мои интересы) сообщил мне, что Моника хотела бы со мной поговорить.
Через несколько дней мы встретились на игре «Лос-Анджелес Лейкерс», поздоровались, завязали беседу, и я, между прочим, сказал, что на следующий день лечу частным чартерным рейсом в Тампу. Моника спросила, нельзя ли полететь со мной: в то время она тоже жила недалеко от Тампы. Я сказал: «Конечно. Мы вылетаем завтра в полдень из аэропорта „Ван Найс“».
Ее просьба немного удивила меня — ведь мы были едва знакомы. Но вскоре я узнал причину. В то время как я терял Тима, Моника теряла отца, Карольи, — он тоже умирал от рака. Вот почему ее привлекало мое общество.
Наша встреча случилась после того, как Монику ударил ножом в спину безумный немецкий болельщик, и я сознавал, что этот инцидент также является для нее источником тяжелых переживаний. Я был тронут тем, что она решила обратиться ко мне в столь трудное время. И хотя я не привык к подобным разговорам, мы побеседовали о наших близких и даже немного о нападении на Монику. Я понял, как сильно потряс ее тот ужасный случай, и мне стало ясно, почему она так долго не возвращалась в теннис. После совместного полета между нами возникла прочная взаимная симпатия. Моника оказалась очень заботливым, внимательным другом, хотя виделись мы не слишком часто.
Наверное, было бы знаменательно, если бы я сумел установить очередной рекорд (в немалой степени основанный на моем теннисном долголетии) в матче с игроком, еще не входившим в число профессионалов, когда я выиграл свой первый турнир «Большого шлема». Чтобы добиться славы, прежде всего необходим талант, чтобы сохранить ее — постоянство .
Я играл со многими одаренными теннисистами моей эпохи, пусть и не всегда полностью раскрывшими свой талант (они перечислены — с моими комментариями — в приложении к этой книге), и в 2000 г. мне выпал шанс отметить десятую годовщину моего первого выступления на турнире «Большого шлема» там же, где я тогда одержал победу, - на Открытом чемпионате США. Но на моем пути оказался один из новых соперников — Марат Сафин.
На матч я выходил с хорошим настроем, хотя раньше, летом, уже проиграл талантливому новичку из России. Не думаю, что в этом финале Открытого чемпионата я сыграл плохо. Просто Марат шутя брал мои вторые подачи, мощно подавал, а все мои приемы были для него легкой добычей. Я только бормотал: «Вот это да!» и пожимал плечами в надежде, что он не сумеет так же хорошо провести целый матч. Но он сумел — как и юный Сампрас в 1990 г. Еще одно подтверждение верности библейского изречения: «Все возвращается на круги своя...»
Я всегда считал, что если человеку выпадает удача, то остальное зависит от того, насколько он готов ею воспользоваться и как долго способен ее сохранять. Для Сафина такая возможность открылась в 2000 г. на «Флашинг Медоуз», и он воспользовался ею в полной мере, как и я десятилетием раньше. Он разбил меня столь ярко и убедительно, что все, кто видел это, были потрясены.
Должен заметить, что когда я проиграл Сафину, меня занимали другие, не менее важные вещи. Мы с Бриджит собирались пожениться вскоре после турнира. Она согласилась прервать свою актерскую карьеру и сопровождать меня до конца моих выступлений. Я еще не решил, когда это произойдет, но знал, что не уйду, пока, по моим представлениям, буду в состоянии бороться за победу в турнирах «Большого шлема».
2001 год я начал довольно вяло, проиграв Тодду Мартину в одной шестнадцатой финала Открытого чемпионата Австралии. До финала я дошел только в Индиан-Уэллс, где Андре разгромил меня, не уступив ни одного сета. Меньше чем через две недели Энди Роддик побил меня в Майами. Я взял его на заметку — еще один молодой соперник.
Сезон на грунте явился для меня сплошной полосой неудач, а на турнире «Куинс Клаб» я проиграл в полуфинале Лейтону Хьюитту. Зато на Уимблдоне мне достались очень удобные соперники. Одного за другим я победил Франциско Клаве (известного грунтовика), Барри Коуэна (английского середнячка, получившего вайлд-карт) и Саркиса Саргсяна.
Эти победы вывели меня на молодого швейцарца, о котором я уже слышал лестные отзывы, — Роджера Федерера. По моим сведениям, он был очень талантлив, но выступал пока неровно. Я рассчитывал выиграть, однако в первые же минуты встречи понял, что задача отнюдь не проста. Мой со-перник не имел за плечами такого опыта, но обладал вполне сложившейся игрой и ярким талантом.
С самого начала матча Федерер мощно подавал, и его удары были очень сильны. Вдобавок он непрерывно атаковал — все время шел к сетке, чего в последующие годы на Уимблдонском турнире за ним не наблюдалось. Это был достойный противник и трудный матч. Я имел шанс сравнять счет в пятом сете, но упустил его. А Федерер сыграл превосходно! Взял мою подачу, а с ней и пятый сет 7:5. Тем самым он не позволил мне повторить рекорд Бьорна Борга — пять титулов Уимблдона подряд. Но этот рекорд не так уж много для меня значил. Каждый турнир «Большого шлема» я рассматривал как самостоятельное событие. Иметь пять титулов Уимблдона, конечно, приятнее, чем четыре, но идут они подряд или нет, мне было, в сущности, безразлично.
Поражение, естественно, огорчило меня, однако я не мог отрицать, что стиль соперника мне нравится. Он держался с достоинством, играл на редкость талантливо и произвел на меня сильное впечатление. Эта победа стала важным шагом на пути Роджера к теннисным вершинам. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что тогда передал ему эстафету Уимблдона. Роджеру тоже нужно было понять, чего он на самом деле стоит, как и мне после неудачного матча с Эдбергом в 1992 г. Победа надо мной помогла ему в этом.
В последующие несколько лет я узнал Роджера очень хорошо. Это исключительно скромный, непритязательный человек. Ничто в нем, за исключением таланта, не выдает истинного масштаба его личности. Я выиграл турнир «Большого шлема» с восьмой попытки, на второй год участия в соревнованиях. Роджеру потребовалось для этого семнадцать попыток, и произошло это в середине 2003 г., на пятом году его регулярного участия в турнирах «Большого шлема». Но зато с тех пор он добился большего, нежели я на пике карьеры. Он совершил гигантский рывок вскоре после того — единственного — нашего матча. Теперь, когда я пишу эту книгу, Роджер готовится побить мой рекорд «Большого шлема» в одиночном разряде.
Итак, наметилась довольно четкая тенденция. Я понемногу начал проигрывать представителям нового поколения — тем ребятам, которым предстояло в ближайшем будущем задавать тон и побеждать на главных турнирах: Роддику, Сафину, Хьюитту, Федереру... Мне было трудно — и чем дальше, тем труднее. Но все же я чувствовал, что еще могу себя показать на крупных соревнованиях.
Мое поражение от Федерера на Уимблдоне расчистило путь Горану Иванишевичу. Он победил Пата Рафтера и наконец завоевал долгожданный титул. Я радовался за Горана, поскольку питал к нему большую симпатию. Горан — истинный рыцарь травяных кортов, харизматическая личность, и к тому же с ним приятно общаться. Я знал, что он мог (даже должен был!) победить меня в финале 1998 г. и имел хорошие шансы выиграть у Андре в финале 1995-го. Но неудачи не сломили Иванишевича — в 2001 г. развеялись все сомнения.
Горан был совершенно непредсказуем. Когда он выступал на пресс-конференции, все игроки в раздевалке бросали свои дела, собирались у телевизора и включали звук на полную мощность. Горан выглядел как пациент на приеме у психиатра, но неизменно блистал остроумием и излучал обаяние. Нельзя было угадать, какое словцо сорвется с его языка, так же как невозможно предвидеть, какой мяч слетит с его ракетки в следующее мгновение — за исключением тех эйсов, которые (и ты это знаешь!) он наверняка подаст.
Через несколько недель после Уимблдона я встретил Горана в раздевалке на турнире в Цинциннати и сказал ему, как я рад, что он наконец добился своего — получил вожделенный титул, о котором мечтал всю жизнь. Видимо, Горан немало удивился, услышав от меня подобные слова. Ведь мы же были соперниками, никогда не давали пощады друг другу и не просили о ней! А мне просто хотелось, чтобы он знал: я действительно рад за него. Мы многое пережили вместе на этом турнире.
Отец Горана, Средьян, тоже был на редкость приятным человеком. Он присутствовал на всех наших матчах — напряженных, непредсказуемых, нервных и в большинстве своем неудачных для его сына, — не теряя присутствия духа и не проявляя досады, которую, вероятно, чувствовал. Я никогда не слышал от него сетований, резких или обидных замечаний. Он держался с исключительным достоинством.
Ситуация с моей дальнейшей карьерой должна была полностью проясниться на Открытом чемпионате США 2001 г. Это был один из самых интересных и сложных турниров, в каких я когда-либо участвовал. Между мной и победой стояли три чемпиона США — двое опасных молодых игроков, более или менее равнодушных к превосходству, вытекавшему (чисто теоретически) из моего послужного списка (Пат Рафтер и Марат Сафин), и мой неизменный соперник, который легко никогда не сдавался, — Андре Агасси.
Думаю, справедливо, что Андре замыкал этот ряд. Он был наиболее трудным для меня противником в то великое лето 1995 г. и вновь показал себя таковым под самый конец его и моей карьеры — в кульминационном вечернем четвертьфинале Открытого чемпионата 2001 г. Этот матч стал венцом нашего соперничества, а для меня — нашей величайшей, самой упорной битвой.
Мое соперничество с Андре описано чрезвычайно подробно и всесторонне. В глубине души я знал, что именно он побуждал меня демонстрировать мои лучшие качества. Андре пережил взлеты и падения — это объясняет, почему мы не встречались чаще, особенно в финалах крупных турниров. Но из всех моих соперников он был эталоном самой высокой пробы. Никто кроме него не мог играть в таком темпе на протяжении всего матча, заставляя меня выкладываться целиком.
За многие годы нашей спортивной карьеры, наверное, трудно было найти людей более непохожих друг на друга, чем Андре и я, — в личном плане, в стиле игры, даже в одежде. И вели себя мы прямо противоположным образом. Андре всегда стремился подчеркнуть свою индивидуальность и независимость, а я, наоборот, свою индивидуальность пытался скрыть, а свободу сознательно ограничивал. Если Андре напоминал Джо Фрейзера, то я — Мохаммеда Али. Но в принципе подобные типы личности довольно распространены: Андре — шоумен, а я — работяга. Где бы вы ни обитали, у вас всегда найдутся такие соседи: за одной дверью я, вежливый тихоня, за другой — Андре, неугомонный сорванец.
И все же, несмотря на то что мы напоминали хрестоматийных Джекила и Хайда, а окружающие охотно преувеличивали нашу действительную несхожесть, некоторые важные вещи нас объединяли. Присущий обоим Дар направлял наши дела и жизнь, ставя перед нами задачи и предлагая возможности их решения. Мы оба — американцы в первом поколении (Майк, отец Андре, родом из Ирана), мы были чемпионами, но при этом словно людьми со стороны, которые вторглись в вид спорта, где на протяжении почти всей его истории задавали тон протестанты англосаксонского происхождения. Это, впрочем, никогда меня не заботило, поскольку «американская мечта» с избытком оправдала ожидания моей семьи.
Мы оба были юными дарованиями, и потому росли под пристальным наблюдением. О нас легко было составить стереотипное представление: Андре — дерзкий, неукротимый сорвиголова, а я — тихий, замкнутый, скучноватый юноша. Кто больше пострадал от этого шаблона? Почем знать? Но в одном я уверен: мы оба были упрямы, хотя каждый на свой лад и применительно к различным целям. Взлетев на вершину, мы бросали быстрые, тревожные взгляды через разделявший нас барьер: один непременно хотел знать, что поделывает другой.
На позднем этапе карьеры я уже не так скупо демонстрировал свои эмоции и чаще привлекал внимание к собственной персоне. А вот Андре, напротив, побрил голову. Это был не просто спонтанный протест лысеющего мужчины (кстати, я тоже начал терять волосы), а нечто вроде послания миру - сознательного или подсознательного. Андре теперь стремился походить на аскета, приобрести несколько суровый облик, более соответствовавший его жизни в поздние годы.
Одно не подлежало сомнению — Андре в свое время внес много экспрессии в наш вид спорта, который в этом нуждался. Он стал ярчайшей звездой, но вместе с тем испытывал массу неудобств.
Возможно, приверженцам «бескорыстного тенниса» это не понравится, но, как вы понимаете, фирма Nike играла важную роль как в моей жизни, так и в жизни Андре. Мы жили в эпоху всеобщей коммерциализации и на протяжении почти всей карьеры были «ребятами Nike». Компания поняла, что вдвоем мы перекрываем оба конца теннисного спектра — от традиционных эстетических ценностей до новых модернистских особенностей Открытой эры. Если я был наследником Розуолла и Лейвера, то Андре — преемником Коннорса и Макинроя.
Я подписал контракт с Nike и впервые надел их форму на Уимблдоне в 1994 г. Можно сказать, что именно я ввел в моду удлиненные свободные шорты. Мне нравился такой фасон, и Nike решила, что он мне пойдет. Компанию нисколько не волновало, что моя экипировка резко отличалась от теннисной формы, созданной ею для Андре. Разве можно забыть его черные шорты и мерцающее розовое трико в обтяжку?
С годами у меня копились претензии к Nike, так как нередко возникало ощущение, что компания недостаточно активно рекламирует меня, особенно по сравнению с Андре. Зато Nike не имела себе равных в умении извлекать дивиденды из нашего соперничества и даже спровоцировала один из немногочисленных конфликтов между нами вне корта.
В 1993 г. фирма устроила выставку перед Открытым чемпионатом Франции, и Фил Найт (основатель и тогдашний руководитель Nike) провел встречу с несколькими клиентами, включая Джима Курье, Джона Макинроя и Андре. Фил сообщил им, что хотел бы слегка раскрутить какой-нибудь случай соперничества между теннисистами. Андре, в то время как никогда склонный дерзить, поддержал Фила и тут же заявил по поводу моего восхождения к вершине мирового рейтинга: «Нельзя пускать на первое место парня, который смахивает на дикаря, едва спрыгнувшего с дерева».
Эти слова тут же стали достоянием широкой публики. Когда они дошли до меня, я решил не попадаться на удочку и сохранять полное спокойствие. Андре волен говорить что угодно — мне все равно. В результате выходка Андре обернулась против него. Он почувствовал себя неловко и через несколько дней прислал мне любезный факс с извинениями, причем заверил, что восхищается моей игрой.
Поскольку Андре вел себя вызывающе, он получал от Nike повышенную дозу внимания. Как-то раз с досады я сказал одному управляющему фирмы: «Слушайте, я не из тех, кто любит ныть и жаловаться. Я человек сдержанный. Были у меня моменты — в Австралии с Джимом Курье, на „Флашинг Медоуз" с Алексом Корретхой, когда я чувствовал себя прескверно и терял самообладание... Но я не создавал и не провоцировал эти ситуации с целью привлечь к себе внимание. Я никогда не делаю подобных вещей специально и не пытаюсь казаться иным, чем я есть. Так чего же вы хотите от меня как спортсмена? Вы говорите, для Nike главное — результат. Ладно, каких еще результатов, по-вашему, я должен добиться?»
Однако тот факт, что Андре привлекал к себе львиную долю внимания, имел и положительную сторону — с меня было снято давление. Сам я предпочитал оставаться в тени как можно дольше. Здесь мы вели себя совершенно по-разному и благодаря этому избежали чрезмерного обострения соперничества. А опасность была вполне реальной, поскольку, в отличие, скажем, от Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, мы выступали за одну страну. В общем и целом, на мой взгляд, пока мы играли, то делали все возможное, чтобы не выпустить ситуацию из-под контроля. У нас не случалось стычек на публике. Мы соперничали достойно, стараясь не оскорблять и не унижать противника. И даже если порой у кого-нибудь из нас сдавали нервы, по сути мы относились друг к другу совсем неплохо.
Короче говоря, мы с Андре были вполне совместимы, наилучшим примером чего стало самое успешное коммерческое использование нашего соперничества — невероятно популярная серия рекламных роликов 1995 г. об «уличном теннисе». В этих небольших сценках мы с Андре выскакивали из машины (порой не в самом подходящем месте), натягивали сетку и играли на глазах у изумленных прохожих. Мы показывали «теннис с колес» еще до того, как выражение «сделать что-либо с колес» обогатило наш лексикон.
Получилась блестящая, исключительно успешная рекламная кампания. А все потому, что вместо противостояния «Пит или Андре?» или «Пит против Андре!», явно ощутимого в рекламе Nike, здесь действовал принцип «Пит и Андре». Эти ролики заключали в себе позитивный заряд, неожиданный и притягательный. Они подняли интерес к теннису и к нашему соперничеству, сумели точно передать суть наших отношений. Мы были очень разными, но все же — друзьями.
Позднее, в том же году, после Открытого чемпионата США и матча со шведами в Лас-Вегасе на Кубок Дэвиса, Андре пригласил меня слетать на его личном самолете в Лос-Анджелес. Он стоял на пороге затяжного спуска к самым низинам рейтинга, после того как проиграл мне в финале Открытого чемпионата США-1995. (Осенью 1997 г. он скатился на 141-е место, ставшее отправной точкой столь же поразительного восхождения.)
Во время полета я почувствовал, что Андре переживает какую-то внутреннюю борьбу. Он подробно расспрашивал меня о моей жизни и донельзя изумился, узнав, что я переехал в Тампу исключительно ради занятий теннисом. Я рассказал ему, что оторван от семьи и Южной Калифорнии, но считаю эту жертву необходимой. А он заявил, что никогда не расстался бы с Вегасом и привычным образом жизни ради того, чтобы стать лучшим игроком в мире. Контраст был резкий и очевидный, хоть Андре и сделал это признание в момент, когда до некоторой степени разочаровался в своей игре.
На протяжении всего моего знакомства с Андре я твердо верил в то, в чем многие сомневались (особенно те, кто плохо его знал). Я был убежден, что Андре — человек искренний. Когда мы беседовали один на один, он всегда говорил открыто и прямо, и я не мог его не уважать.
На Кубке Дэвиса я всегда чувствовал себя уверенно, когда Андре был рядом. Там на тренировках он совершенно раскрепощался и издавал радостные вопли по любому поводу — просто ради веселья. Ему, видимо, доставляло удовольствие будоражить всех, создавать драматические эффекты, раздувать сущий вздор до грандиозных размеров. Он представлял собой сгусток эмоций и любил пробуждать эмоции в других.
А бывало, мы садились в раздевалке, беседовали о всякой всячине, чаще всего о спорте, — и это тоже доставляло нам удовольствие. Андре отличался наблюдательностью. Он любил сопоставлять разных игроков, всегда интересовался тем, как другие смотрят на проблемы, о которых он размышлял. Андре превосходно разбирался в стратегии — большое достоинство, принимая во внимание его манеру игры.
Была у меня и еще одна основательная причина уважать Андре — я знал, какие чудеса он способен творить на теннисном корте.
Как и в финале Открытого чемпионата США 1995 г., в четвертьфинале чемпионата 2001 г. мы находились на пике спортивной формы. Но большая разница между нами заключалась в том, как мы воспринимали и вели игру.
Андре приходилось больше думать о нюансах, нежели мне. Чтобы максимально эффективно бороться с игроками высшего класса, он должен был сделать игру удобной для себя. Если у Андре все ладилось, он виртуозно манипулировал соперником, гоняя его по всему корту. Но, к счастью для меня, успех Андре в значительной мере зависел от ответных действий соперника.
Моя игра, напротив, в гораздо большей степени строилась на том, что намерен делать я сам, и меня меньше заботило, способен соперник остановить меня или нет. На любом покрытии, кроме грунта, главный вопрос для меня стоял так: «О’кей, как мне следует поступить, чтобы разделаться с этим парнем?» Я всегда был уверен, что смогу удержать свою подачу. Андре не обладал подобным преимуществом — во всяком случае, в этом он мне уступал.
Но Андре был для меня источником стольких проблем, что я поневоле внес в свою игру несколько дополнительных элементов, в чем не слишком нуждался, встречаясь с большинством прочих соперников. Когда я играл с Андре, мне приходилось гораздо чаще выходить к сетке после второй подачи и чаще прибегать к рискованному удару слева вдоль линии вместо более надежного кросса. С другой стороны, Андре умел обнаружить в моей игре изъяны, ускользавшие от других игроков. Я знал, что если сыграю с Андре недостаточно хорошо, то потерплю поражение — здесь на блефе не выехать!
Анализируя наши матчи, можно сделать такое заключение: Андре был мастером ударов с отскока, я же показал себя мастером подачи. Если мой удар был недостаточно глубок, то он почти всегда выигрывал очко ответным мощным ударом.
Принять подачу Андре тоже было нелегко. Хотя она и не была особенно мощной, но всегда — хитрой и неожиданной. Часто он вдруг подавал первую подачу как вторую, посылая не сильный, но очень закрученный мяч глубоко под мою левую руку. Застигнутый врасплох, я не мог принять ее сильным ударом, и Андре тут же использовал мой слабый прием и моментально выигрывал очко.
Больше всего Андре любил располагаться в центре корта, где нет необходимости много бегать, и гонял соперника из угла в угол — обычно ударами справа.
Иногда у него проходили эйсы, но в основном ему удавались такие неудобные для приема подачи, что он часто выигрывал очко уже следующим ударом. Если мне не удавался острый прием под его левую руку, то он моментально смещался влево и наносил хлесткий удар справа так, что мне оставалось только присесть и зашнуровать туфли.
Если же мне удавалось сразу атаковать Андре, то ситуация для меня складывалась благоприятнее. Но это легче сказать, чем сделать, потому что он почти всегда играл, войдя в корт, а мячи после его плоских ударов летели так быстро, что у меня часто не хватало времени, чтобы подготовиться и нанести хороший ответный удар.
Даже когда игра у меня шла хорошо, я все равно старался менять вид и направление подачи и часто, вопреки здравому смыслу, нарочно направлял мяч под убойный правый удар Андре.
Многие игроки старались избегать коронного удара Агасси. Я же, напротив, часто использовал его, чтобы заставить Андре двигаться. Если мне удавалось сыграть слева мощно и глубоко по линии под его правую руку, то я ставил его в нелегкое положение, потому что по логике игры ему приходилось отвечать справа кроссом. А в этом случае он давал мне возможность использовать один из моих лучших ударов — справа сходу. Это уже создавало проблемы для Андре, поскольку я мог гонять его из угла в угол ударами справа, а он был не особенно подвижен.
Мне нравилось обмениваться с Андре сильными ударами справа — своего рода состязание в атлетизме, где я, на мой взгляд, обладал некоторым превосходством.
В геймах на своей подаче мне нравилось менять направление полета мяча, особенно при подаче во второй квадрат. Я любил неожиданно подать ему сильно по линии — под его коронный удар справа. Но Андре настолько хорошо владел приемом, что я мог сразу утратить все свое преимущество в случае, если бы он заранее угадал направление моей подачи. Вообще из-за его уверенного приема мне приходилось постоянно варьировать подачу — то посылать очень косую вторую подачу в первый квадрат под его правую руку, то придавать мячу дополнительные вращения.
На позднем этапе нашего соперничества я стал чаще выходить к сетке после второй подачи. Играя против Андре, атаковать со второй подачи было нелегко, но мне приходилось это делать. Притом я допускал непривычно много двойных ошибок, потому что он вынуждал меня рисковать и играть на пределе моей зоны комфорта.
Однако, играя против Андре с лета, я чувствовал, что мне нужно только дотянуться до мяча ракеткой — и все будет в порядке. Обычно я выигрывал очки у сетки, посылая мяч длинно в угол или используя укороченные удары. Защита Андре никогда не казалась мне непробиваемой. Если я загонял его в один угол, а потом играл в другой, то сразу чувствовал — я его сделал! Самым опасным было нарваться на низкий сильный удар Андре после приема второй подачи, вынуждающий к защитному удару с лета. И вообще не стоило шутить с обводящими ударами Андре.
В принципе, если мне удавалось перевести игру в некое соревнование по атлетизму и движению, то она шла по моему сценарию — в быстроте мускульной реакции я имел преимущество. Зато Андре обладал потрясающей зрительно-моторной координацией и не знал себе равных в выполнении ударов с отскока.
В матчах с Андре у меня была одна задача — не стать марионеткой у него на веревочке, изо всех сил стараться избежать обмена ударами, когда я безуспешно пытаюсь послать мяч под левую руку Андре, но он успевает переместиться и гоняет меня по корту.
Наш четвертьфинальный матч на «Флашинг Медоуз» привлек несметное число зрителей. Молва о том, что игра обещает стать шедевром тенниса, облетела, наверное, всю Уолл-стрит, Верхний Ист-Сайд и авеню Сентрал-Парк-Уэст, ибо присутствовали всевозможные промоутеры, менеджеры, а также знаменитости. Самое приятное состояло в том, что атмосферу стадиона пронизывали уважение и благодарное внимание к теннису. Зрители нисколько не напоминали традиционную нью-йоркскую аудиторию — шумную и слегка рассеянную. Все, казалось, были предельно сосредоточены, и порой воцарялась такая тишина, что на ее фоне слышался малейший шорох.
Андре и я показали зрелище, стоившее потраченных денег. Это было сражение, в котором сошлись первый виртуоз атаки и лучший мастер обороны. Игра отличалась от нашего финала 1995 г. тем, что я атаковал гораздо чаще — точнее, я атаковал непрерывно! Думаю, что я бегал к сетке после каждой подачи более трех часов подряд.
Такое не проходит даром. Постоянное чередование остановок и ускорений, прыжков и рывков, внезапные смены направления и наклоны страшно изматывают.
На этот раз мы с Андре показали одинаково хорошую игру в течение самого длительного по времени матча из всех, которые мы между собой сыграли. Мы оба допустили, конечно, несколько проколов, но ни один не проиграл свою подачу на протяжении трех с лишним часов. У меня был шанс взять подачу Андре в первом сете, но я его упустил. Я проиграл первый тай-брейк, но сумел выиграть три следующих. Это была бескомпромиссная и временами жесткая борьба, исход которой определили не стратегия или соотношение ударов, а мастерство исполнения и внутренняя концентрация.
В каком-то смысле эта кульминационная битва явилась воплощением всего нашего десятилетнего соперничества. Я вел с общим преимуществом в шесть побед (20:14), и если бы не затяжные спады и перерывы в игре Агасси, мы смогли бы встретиться, наверное, раз пятьдесят.
В турнирах «Большого шлема» я выглядел лучше — 6:3. Андре выиграл все наши матчи на Открытых чемпионатах Австралии и Франции, а я — все матчи на Уимблдоне и Открытом чемпионате США. Мы встречались в пяти финалах «Большого шлема», и я выиграл все, кроме Открытого чемпионата Австралии 1995 г.
Мы провели не одну героическую баталию, но, как выяснилось, я оказывался чуточку лучше в те судьбоносные моменты — так же как и в этот душный нью-йоркский вечер, когда мы сыграли наш потрясающий матч.
Глава 10 Еще один титул - под занавес 2001-2002
В отличие от моего первого финала, когда я был очень молод (ведь только в юные годы отсутствие времени для размышлений может являться позитивным фактором!), теперь мне требовался какой-то срок, чтобы прочувствовать победу, осознать ее и настроить себя на следующий матч. Это особенно важно на завершающих этапах крупных турниров, а тем более на поздней стадии карьеры, когда восстановление идет гораздо медленнее. В финале Открытого чемпионата США 2001 г. мне предстояла встреча с Лейтоном Хьюиттом — непредсказуемым, подвижным, великолепно подготовленным австралийцем.
Для меня пошла вторая изнурительная неделя турнира. После победы над Рафтером и эпической четырехсетовой битвы с Андре я довольно легко расправился с Маратом Сафиным. Он не показал присущей ему свободной и непринужденной игры, выглядел каким-то заторможенным, и я обыграл его в трех сетах. Наверное, он испытывал те же психологические проблемы, что и я, когда завоевал первый турнир «Большого шлема».
После полуфинального матча у меня было меньше суток до финала с Хьюиттом. К этому времени я уже изрядно устал, и физически и психологически, а отдых длиною в сутки на Открытом чемпионате — чересчур мало для ветерана.
Хьюитту исполнилось всего лишь двадцать. Со своими длинными светлыми волосами и ярко-голубыми глазами он напоминал юного чемпиона по серфингу или скейтбордингу. Играл он с демонстративным пренебрежением к теннисному этикету, неизменно сопровождая собственные удачные удары (а порой и ошибки соперника) душераздирающим воплем «Камо-о-о-о-он!». Годом раньше я с трудом прошел Хьюитта в полуфинале Открытого чемпионата США, выиграв два из трех победных сетов на тай-брейках. Теперь Хьюитт сделался на год старше, на год умнее, на год сильнее, да и жажда победы у него возросла.
Покрытие корта на арене имени Артура Эша в этом году было более быстрым, и знатоки тенниса даже не подозревали, до какой степени это обстоятельство, в принципе благоприятное для меня, подходило для игры Лейтона. Хотя Лейтон всегда предпочитал действовать с задней линии, он представлял наименьшую опасность на медленных покрытиях, вроде грунта. Хьюитт был хрупкого телосложения и не отличался физической силой, поэтому там его можно было измотать и подавить в простом соревновании на выносливость при выполнении ударов с отскока. На медленных кортах соперники легко принимали его подачу, даже атаковали после нее и так набирали очки. Быстрый корт давал Лейтону больше возможностей для активной игры с задней линии в классическом контратакующем стиле.
Лейтон достаточно хорошо принимал подачу и имел все основания рассчитывать на брейки. В то же время он умело держал свою подачу и иногда даже подавал эйсы. У меня же никак не получались атакующие удары с приема, что позволяло ему довольно легко удерживать свою подачу. Лейтону нравилось находить уязвимые места при моих выходах к сетке и наносить туда мощные обводящие удары. В общем, мой стиль игры был ему как нельзя более на руку.
Хьюитт в полной мере использовал все выгодные для него обстоятельства и выиграл первый сет на тай-брейке со счетом 7:4. Я был разбит и обессилен — и физически и эмоционально. А вскоре последовал полный разгром — за оставшуюся часть матча я выиграл всего два гейма.
Это было, несомненно, мое самое сокрушительное поражение в финале турнира «Большого шлема». Многих оно заставило усомниться в общем уровне моей игры. Некоторые специалисты решили, что я начинаю сдавать. Тот Пит Сампрас, которого они увидели в финале Открытого чемпионата США против Хьюитта, выглядел усталым, уязвимым игроком, не знавшим, что противопоставить в плане стратегии своему ясноглазому, пышноволосому сопернику, не достигшему еще двадцати одного года. Что ж, картина довольно точная, хотя ее следовало объяснить скорее моей усталостью на турнире, нежели общим физическим состоянием.
Я выглядел усталым не потому, что был уже не так молод, потерял настрой или сдал физически. Мое состояние объяснялось очень трудной неделей, наполненной матчами с сильными соперниками, и чересчур коротким перерывом между полуфиналом и финалом. Я не чувствовал себя вялым во время игры с Хьюиттом. Просто ощущал, что каждое выигранное очко дается мне с огромным трудом. Я судорожно пытался собрать все силы, но их осталось ничтожно мало.
А в лице Лейтона передо мной предстал меткий молодой стрелок, который прицелился в меня с твердым намерением попасть в яблочко. Я увидел дерзкого и талантливого австралийского бойца, сознававшего, какой шанс ему выпал, и полного решимости его реализовать. Хьюитт поймал свою удачу, и я меньше всего склонен завидовать ему или отрицать тот очевидный факт, что он просто положил меня на обе лопатки.
Мои дни были сочтены. Однако — смотря по какому счету!
Проигрыш Хьюитту на Открытом чемпионате США 2001 г. означал, что впервые с 1992 г. я не выиграл ни одного турнира «Большого шлема». Соперники дышали мне в затылок. Слабело и мое желание постоянно участвовать в турнирах. Но я отнюдь не помышлял покинуть теннис. Два четвертых круга и один финал в четырех турнирах «Большого шлема» — вполне достойный результат. Однако уже пошли толки о моем уходе, и вовсе их игнорировать я не мог. При этом я инстинктивно ощущал, что еще способен по крайней мере на один рывок, и мне не хотелось обмануться.
После поражения от Хьюитта я подумал, что, быть может, смена тренера послужит источником вдохновения для моего последнего триумфа. Но проблема заключалась в том, что в этом случае мне предстояло расстаться с Полом Аннаконом — тренером, который был со мною рядом в годы наивысшего успеха.
Главное, за что я всегда останусь признателен Полу, — это его преданность. Думаю, отчасти я заслужил ее своим поведением. Я никогда не относился к нему как к наемному работнику, не заставлял его делать для меня то, что я мог сделать и сам. Я никогда не скупился: Пол был, вероятно, самым высокооплачиваемым теннисным тренером в те времена и, по моему убеждению, оправдал все расходы до последнего цента. Но ведь я — игрок. Когда дело касалось моей карьеры, я вел себя как отъявленный эгоист, считаясь лишь с собственными интересами. И вот в конце 2001 г., после семи лет совместной работы, мой инстинкт игрока властно потребовал расстаться с Полом.
Положение Пола казалось прочным и вполне надежным. С его стороны было бы верхом глупости уйти по собственному желанию, поскольку мы выполнили все намеченные посильные задачи. Как бы ни хотел я выиграть Открытый чемпионат Франции, оба мы понимали, что круг моих возможностей сужается. Тут уповать оставалось лишь на чудо. В любом случае через год-другой мне предстояло завершить карьеру. Так зачем же ему уходить сейчас, когда он может просто дотянуть до финишной черты вместе со мной? Да и где перед ним раскроются лучшие перспективы? А самое главное — у нас сложились замечательные отношения.
Но в отношениях наступает застой, и ты интуитивно чувствуешь, когда это происходит. Все осталось бы по-прежнему, стремись я просто дотянуть до финиша. Но меня это не устраивало: я пока не желал сдаваться. Я чувствовал, что все еще могу чего-то добиться. И у меня возникло ощущение, что, возможно, именно теплота наших отношений являлась для меня помехой в те моменты, когда мне, скорее всего, требовался хороший пинок под зад. Но я понимал — Пол на такое не способен. Он, вероятно, чрезвычайно бы удивился, узнав, что за мысли бродят у меня в голове, и это только осложнило бы проблему.
Я всегда сам нанимал и увольнял тренеров и агентов. Теперь мне предстоял самый тяжелый разговор за всю мою карьеру. Пол и я были друзьями, наши семьи тоже дружили. Вместе мы достигли очень многого. Но теперь я хотел использовать последний запас удачи, отпущенный на мою долю, и ради этого был готов принять трудное решение.
Итак, в конце 2001 г. я позвонил Полу и с полным чистосердечием объяснил ему ситуацию: мне нужен новый тренер, я долго размышлял об этом, и наконец час пробил. И дело не в том, что Пол с чем-то не справился: просто мне необходим человек со свежим взглядом. Мое заявление застало его врасплох. Пол был в шоке, да и я чувствовал себя отвратительно.
Благодаря своим заслугам Пол мог без труда найти хорошее место тренера в Теннисной ассоциации США. Так что в этом отношении я не особенно волновался. Сам я тем временем принялся искать нового тренера и начал с Боба Бретта, который тренировал Бориса Беккера и Горана Иванишевича. Но Бретт всецело погрузился в свои европейские спортивные проекты, да к тому же был в таких летах, когда новых дел уже не затевают ни с кем — невзирая на лица. Я пробовал договориться с Тони Рочем — та же история. Наконец я пригласил Тома Галликсона, и он поехал со мной в Австралию в начале 2002 г. В одной шестнадцатой финала Открытого чемпионата Австралии я уступил трудный матч Марату Сафину. Он выиграл у меня в четырех сетах, причем два последних взял на тай-брейках, 7:5 и 10:8.
После этой поездки я почувствовал, что с Томом дело не пойдет, хотя его вины тут не было. Я ведь совсем недавно расстался с тренером именно из-за слишком дружеских отношений и не хотел еще раз испытать неловкость, поскольку Том принадлежал к той же категории. Мы слишком долго были вместе. Поэтому я решил распрощаться с Томом и пригласил Хосе Хигейраса. Он охотно согласился — при условии, что ему не придется подолгу находиться в разъездах.
В калифорнийском уединении Хосе готовил меня к крупным весенним соревнованиям на американских твердых кортах и к сезону на грунте в Европе. Он убеждал меня, что я сильно прибавлю, если перейду на ракетку большего размера, чем моя обычная модель «Wilson», с площадью струнной поверхности в 85 квадратных дюймов. Но я не хотел усложнять себе жизнь под конец карьеры и счел такой переход чересчур рискованным.
Весна выдалась исключительно неудачной. В Индиан-Уэллс я проиграл Лейтону Хьюитту, не взяв ни одного сета, а в Майами — Фернандо Гонсалесу, причем с таким же результатом. Через неделю после Майами я сыграл в матче Кубка Дэвиса на открытом травяном корте в Палм-Спрингс и уступил в пяти сетах мастеру грунта Алексу Корретхе. А ведь счет его побед и поражений на Уимблдоне за те годы, когда он действительно мог доставить там кому-нибудь неприятности, был 2:3.
Год внезапно начал оборачиваться сущим кошмаром. Я запаниковал. Но затем картина немного изменилась. В Хьюстоне я победил на грунте Андре Агасси и Тодда Мартина, хотя отдал финал Энди Роддику.
Однако моя хьюстонская «карма» на Европу не распространялась. В четырех турнирах я выиграл всего один матч и даже не попал в основную сетку Открытого чемпионата Франции.
В дополнение к спортивным неудачам я столкнулся с переменой ситуации в компании Nike. Мой агент Джефф Шварц предполагал, что компания заинтересована в заключении со мной долгосрочного контракта. Казалось бы, как абсолютный рекордсмен по числу титулов «Большого шлема» в одиночном разряде, игрок, воплощающий в себе традиционные ценности, близкие старшей, более консервативной части публики, я еще долго буду «пользоваться спросом». Я и сам так считал.
Однако тенденции начали меняться. Теннис — любимый вид спорта основателя и руководителя Nike Фила Найта — терял привлекательность для компании. Каким бы великим чемпионом я ни был раньше, теперь продукт предстояло продвигать другим ведущим спортсменам, в первую очередь — молодым и честолюбивым.
За прошедшие годы Nike выплатила мне немало денег, мои тамошние заработки достигали максимума, но если сейчас я не способен бороться за победу на турнирах «Большого шлема», моя ценность резко падает, будь я хоть чемпион из чемпионов. Nike предложила мне новые условия, сводившиеся, по сути дела, к значительному сокращению гонораров.
Я был так раздосадован, что позвонил Филу Найту и заявил, что считаю себя идеалом спортсмена для Nike. Кроме того, я был неизменно предан компании и никогда не рыскал по сторонам в поисках более выгодных контрактов. Я верил в наше сотрудничество, невзирая на проблемы — например, возникшие в первый год с моей новой обувью. Моя репутация ничем не запятнана. Я не подвергался аресту, ни разу за всю карьеру меня не обвиняли в недостойном поведении — на корте или вне его.
Когда мы с Андре выполняли нашу работу, помогая рекламировать изделия Nike, теннисное подразделение компании, по слухам, ежегодно приносило выручку от 500 до 600 миллионов долларов. Эти цифры, даже если они не совсем точны, свидетельствуют, что мы были выгодным активом. А самое главное, я установил рекорд по числу выигранных титулов «Большого шлема» в одиночном разряде не только в своих интересах, но также к выгоде спонсора: ведь он постоянно подчеркивал — прежде всего результат. И если уж я не представляю ценности для компании, столь высоко возносящей спортивное превосходство, какого же дьявола им нужно?
Фил заверил, что вполне понимает мое недовольство, и обещал исправить ситуацию. Однако она была уже непоправима. Стало ясно, что теннисное подразделение отступает на второй план. Насколько я могу судить, Фил, при всем расположении ко мне и при всей его искренней любви к теннису, не вынес давления со стороны любителей легкой наживы в руководстве Nike. За минувшие годы компания потратила много денег на меня и Андре. И когда зашла речь о сокращении расходов, я оказался первым кандидатом. Ведь суровая реальность состоит в том, что и в рекламном бизнесе, и в игре ты хорош ровно настолько, насколько хороши твои самые свежие результаты; и людей больше интересует, на что ты способен в будущем, нежели то, чего ты добился в прошлом.
Мой старый контракт истек в конце 2000 г., а новый мы еще не заключили. Я решил, что пока ситуация не прояснится, я не буду выступать в форме с фирменным «бумерангом» Nike. На Открытом чемпионате Австралии 2001 г. я играл в простой белой тенниске с небольшой нашивкой в виде американского флага.
Однако постепенно я начал думать, что мной попросту овладела гордыня и я принимаю ситуацию чересчур близко к сердцу. Появление Федереров, Сафиных, Хьюиттов — вещь неизбежная (ведь и сам я когда-то вышел на арену впервые), и они бесспорные фавориты для Nike. Конечно, я мог проявить инициативу и заключить контракт с кем-нибудь другим. Но на данном этапе карьеры это лишь ненамного увеличило бы мой доход (да и то не наверняка), — а я ничего не делаю исключительно ради денег. Я еще несколько раз побеседовал с Филом, и в конце концов мы пришли к соглашению. Вопрос был закрыт.
В 2002 г. я отправился в Лондон, настроив себя на привычный лад — показать на Уимблдоне такие результаты, которые развеяли бы все сомнения в уязвимости или ненадежности моей игры. Но в глубине души я затаил неуверенность. Мне было тревожно. Моя игра смущала меня, и я боялся, что становлюсь тем, чего с такими усилиями всегда стремился избежать, то есть хорошим, но нестабильным игроком. Конечно, на хорошего игрока тоже делают ставки, но ведь я привык быть самым лучшим!
В Уимблдоне мои агенты не смогли договориться с Боргами, которые постоянно взвинчивали арендную плату, и мы с Бриджит подыскали новое жилище. Оно было светлым и просторным, но вот кровать в спальне оказалась нам не по размеру. Мы оба довольно высоки ростом (Бриджит — пять футов девять дюймов, я — шесть футов один дюйм). Мы нашли подходящую кровать, но не смогли протащить ее через холл, поэтому мне пришлось принести очередную жертву на алтарь тенниса — проводить ночи в одиночестве. Моя супруга — самая прекрасная женщина в мире, но каждый вечер, посмотрев с ней какой-нибудь фильм или засидевшись за столом, я неохотно вставал и говорил нечто вроде: «Ладно, на сегодня все. Завтра матч. Встретимся за завтраком».
Моя «ночная жизнь» получила широкое освещение в прессе благодаря спортивной журналистке Салли Дженкинс. Она всегда была мне симпатична, но, подобно многим сочинителям, обладала излишне богатым воображением. Как-то раз я обмолвился, что для нормального сна мне необходимы темнота и прохлада. Из этих скудных сведений она создала настоящую поэму, вложив в нее всю свою фантазию и вдохновение. По словам Салли выходило, что я ложусь спать чуть ли не в мавзолее и не терплю, если ко мне прикасаются. Когда я прочитал этот опус, мне оставалось лишь рассмеяться — теперь публика будет считать меня вампиром. Я действительно предпочитал темные прохладные помещения. Но ведь ясно, что яркий свет и жара не благоприятствуют ночному отдыху. Что касается «прикосновений», то подобную нелепость я даже не желаю обсуждать. Но всем почему-то запомнилось, что Пит, подобно летучей мыши, имеет обыкновение спать в пещере, оградив себя от любых контактов с внешним миром...
Бриджит переносила это не слишком радостное европейское турне довольно хорошо, если учесть, в каком нервном напряжении я находился. Наверное, безрадостно было проводить со мной большую часть времени. Тогда Бриджит уже ждала нашего первенца, Кристиана, но мы пока никому об этом не говорили. Из-за беременности ее иногда тошнило, поэтому надолго покидать отель или наш дом она не могла. Это создавало сложности для нас обоих. Она себя неважно чувствовала, и мне приходилось совмещать игры и тренировки с повседневными обязанностями будущего отца и заботливого мужа. Я постоянно тревожился, когда покидал ее, уходя на корты или куда-нибудь еще. Слава богу, Бриджит не была одержима шопингом, а потому не имела потребности часто бывать в центре Лондона. Это заметно облегчало ситуацию. К тому же она подружилась с моей верной поварихой Кирстен: иногда они вместе выезжали в город. Но в основном Бриджит находилась поблизости от дома или на Уимблдоне.
Поскольку турнирные матчи начинались после полудня (за исключением случаев, когда нужно было провести или завершить встречи, отсроченные из-за дождя), мы ложились спать не раньше одиннадцати, а то и около полуночи. Немало лондонских вечеров мы посвятили беседам о моих проблемах. Я играл «погано», и меня это очень тревожило.
К тому времени Бриджит хорошо меня изучила и искусно исполняла роль внимательного слушателя. Она имела свою точку зрения, но не хотела вторгаться в мою внутреннюю или спортивную жизнь, а тем более контролировать ее. Бриджит давала мне полную свободу разбираться во всем самому, попросту безотказно поддерживая меня, и мне порой казалось, что она говорит себе: «Стоит ли мне углубляться в эти сложности?»
На Уимблдоне я удачно сыграл в первом круге с молодым англичанином Мартином Ли и имел все основания чувствовать себя уверенно перед встречей второго круга с не слишком именитым соперником из Швейцарии, Жоржем Бастлем. Но ознакомившись с расписанием вечером накануне матча, я был неприятно удивлен. Меня отправили играть на второй корт — так называемый Грейвьярд-корт, имевший неважную репутацию. Не хочу показаться капризной примадонной, но я получил обидный щелчок по самолюбию.
На второй корт нашу встречу назначил Алан Миллс — легендарный (теперь уже вышедший в отставку) уимблдонский судья. Он всегда отдавал мне должное, и у нас сложились неплохие отношения. Поэтому, узнав, что именно Алан отправил меня играть матч с Бастлем на второй корт, я был удивлен и раздосадован. Начиная с моей первой победы на Уимблдонском турнире, я (как и большинство его многократных чемпионов) играл исключительно на одном из двух главных зрительских кортов — на Центральном или первом. На то были веские причины практического характера.
Второй корт был незнакомой мне территорией. Его назвали Грейвьярд-кортом[5] из-за несметного количества внезапных поражений, которые на нем произошли и смаковались прессой. Случаи эти отчасти объяснялись общей атмосферой и внешними объективными причинами. На втором корте мало сидячих мест, но они располагаются очень близко к корту, так что вскоре начинаешь чувствовать себя как в сауне. Покрытие корта обычно изношено сильнее, чем на главных кортах, и к этому еще добавляются многочисленные отвлекающие факторы, начиная с шума на соседнем третьем корте. Кроме того, терраса зоны отдыха игроков нависает над вторым кортом, и когда назревает очередная сенсация, игроки и лица из их ближайшего окружения собираются на ней, чтобы поглядеть вниз, на корт, — словно стервятники на скале.
Я считал, что многократный чемпион Уимблдона в течение последних лет заслуживает большего. Если проиграю здесь, думал я, то на следующий день газеты преподнесут очередную сенсацию: «Грейвьярд принимает еще одного чемпиона! Теперь тут похоронен Сампрас!» По иронии судьбы, именно Тим Галликсон внес свой вклад в легенду второго корта, разгромив на нем Джона Макинроя. Быть может, злой рок подстерегает здесь и меня?
Ответ, наверное, был куда проще. По всей видимости, распорядители Уимблдона увидели великолепную возможность сделать дополнительную рекламу легенде Грейвьярд-корта и, соответственно, турниру в целом. К тому времени я уже понял, что Всеанглийский клуб неизменно ставит собственные интересы и успех превыше всего. Просто раньше я никогда не попадал в число жертв данного обстоятельства.
И вот меня направили по ухабистой дорожке именно в тот момент, когда я особенно нуждался в гладком шоссе.
Из этой передряги я извлек важные жизненные уроки. Они лишь подтвердили многое из того, что я всегда понимал умом, но не имел возможности проверить на деле в силу моего высокого статуса.
Людям, по большому счету, нет до тебя дела. В их глазах ты стоишь ровно столько, сколько твоя последняя победа. Людям зачастую нравится то, что ты делаешь (пока ты в силах это делать!), но отнюдь не ты сам как личность. Многие проявляют к тебе интерес только из-за твоего сегодняшнего мастерства, но не потому, что ты — это ты, и даже не потому, что когда-то ты многого добился. Ты можешь совершить поистине уникальные вещи, но сам при этом никакой уникальностью не обладаешь. Никому в теннисе не положен «бесплатный проезд» за прошлые заслуги. Некоторые из этих банальностей абсолютно верны и отражают реалии жизни. Но теннисисты эгоцентричны и не склонны оценивать вещи объективно.
Хоть я и лелеял надежду преодолеть свои страхи на Уимблдоне, она испарилась, едва я ступил на корт. Меня охватило ужасное ощущение полной беспомощности, невзирая на все былые победы. Хуже того, с моим соперником я никогда прежде не встречался. Так уж сложилось, что наибольшие шансы одолеть меня всегда имел тот, кто играл со мной впервые. Если же мне предоставлялась возможность присмотреться к стилю игры соперника, почувствовать, что он способен сделать с мячом, я становился для него гораздо опаснее.
Мои неприятности начались со старта. Я довольно быстро уступил Бастлю первые два сета (6:3, 6:2). Всего удивительнее, что играл-то я, в общем, вполне нормально. Я выполнял хорошие удары, мои мячи ложились там, где надо. Просто я неведомо отчего внезапно растерялся перед публикой, окружавшей корт. Моя уверенность в себе и так уже долгое время постепенно снижалась, а теперь просто таяла на глазах.
Когда я отправлялся на матч, Бриджит сунула мне в сумку с ракетками письмо. Я прочитал его в раздевалке, но перед игрой пребывал в некоторой рассеянности и толком не вник в содержание. И вот, уже в ходе матча, я вдруг почувствовал желание перечитать его. Я интуитивно искал хоть что-нибудь, что помогло бы мне вырваться из этого кошмара. Во время смены сторон я достал письмо и принялся читать. Начиналось оно так: «Моему мужу, семикратному чемпиону Уимблдона...» Это было письмо поддержки и ободрения. Бриджит напоминала мне о том, кто я такой, о том, что игра в теннис — мое призвание, самая важная вещь для меня.
Я убеждал себя поверить ее словам, пытался собраться с духом. Вот было бы здорово: прочитать письмо, сделать глубокий вдох, выйти на корт... и начать выполнять сокрушительные подачи и неберущиеся обводящие удары! Но с таким надломом в душе я не мог этого сделать. Теплые, полные любви слова Бриджит произвели обратный эффект. Когда я, наконец, прочитал их, меня внезапно охватила тревога. Мне показалось, что мой мир рушится, и я подумал: «Как же со мной случилось такое?!» Даже нежная забота любимой женщины не помогла мне призвать всю мою гордость и обрести душевные силы. Вот до чего я себя довел!
Но когда до меня постепенно дошло содержание письма, я ощутил проблеск надежды. Я выправил игру и выиграл следующие два сета. Но все же окончательно переломить ситуацию мне не удалось. Тревога вновь постепенно овладевала мной. Обычно, когда игрок проигрывает два сета подряд сопернику более высокого класса, он начинает «сыпаться», и соперник дожимает его. Но Бастль держался, а я не мог выжать из себя ничего, кроме пота, который вполне мог оказаться кровавым — такие муки я испытывал.
В подобный решающий момент все зависит от настроя и душевных сил. Однако на сей раз моя обычная уверенность в себе и инстинкт победителя мне изменили. Я проиграл пятый сет 6:4 и покинул второй корт как очередная жертва злой магии Грейвьярда. Утешением мог послужить тот факт, что, по крайней мере, я оказался в достойной компании, но, как вы понимаете, мне это и в голову не пришло.
Тогда я еще не знал, что фоторепортер лондонской «Times», занимавший место поблизости от моего стула на корте, сделал фотоснимок — как я читаю письмо Бриджит. Он использовал столь мощный объектив, что была видна каждая строчка, с начала до конца. Нейл Хармен, теннисный обозреватель «Times», был одним из тех журналистов, с которыми я всегда находил общий язык. Он сообщил мне об этой фотографии, и я попросил не публиковать ее. Нейл и редакторы долго и горячо спорили, следует ли печатать снимок так, чтобы письмо можно было прочесть. Наконец, Нейл убедил их не делать этого из уважения ко мне и моей частной жизни. Они все же поместили снимок, на котором я читаю письмо, но затушевали текст. За эту любезность я был им крайне признателен.
Передо мной предстала суровая реальность. Уимблдон, мое последнее прибежище, стал провозвестником моего грядущего ухода. Проигрыш на Грейвьярд-корте, хоть и произвел сенсацию, но для многих явился не сюрпризом, а лишь подтверждением того, о чем они уже поговаривали: мол, пора мне расстаться с теннисом. Если учесть, как часто раньше именно Уимблдон помогал мне исправить положение, то теперь возникла совершенно неразрешимая ситуация. Меня сверлила удручающая мысль: «Что же еще, черт возьми, я должен сделать, чтобы выкарабкаться из этой ямы?»
По случайному совпадению, Андре в том же круге и в тот же день проиграл Парадону Шричапану, талантливому игроку из Таиланда. Но это меня слабо утешило, а точнее, не утешило вовсе.
Я чувствовал полное опустошение и не мог его ничем объяснить. Возможно, дело было в женитьбе и особенно в беременности Бриджит. Вероятно, эти серьезные перемены в жизни нарушили мою концентрацию или породили во мне какой-то конфликт интересов. Ведь я точно знал, чего хочу: иметь жену, детей, жить хорошо и достойно — и вместе с тем реализовать отпущенный мне теннисный потенциал до последней капли. Больше десяти лет я побеждал других, чтобы заработать на жизнь, вкладывая в эту задачу всю свою умственную, физическую и нервную энергию. Я побеждал других! Вот что я делал, вот кем я был. И теперь я должен спросить себя: «Остаюсь ли я прежним?»
Когда я вернулся в наш дом после матча с Бастлем, то едва мог сдержать слезы. Это тоже выбило меня из колеи — раньше я всегда справлялся с подобной слабостью. Я говорил себе: «Боже мой — да ведь это всего-навсего теннисный матч!» И вдруг теперь все иначе...
Когда мы вернулись в Лос-Анджелес, вопросов больше не было — я выпадал из гонки, и чем очевиднее это становилось, тем чаще представали передо мной роковые слова: «Пора уходить!»
Однако, несмотря на все проблемы, свалившиеся на меня в первой половине 2002 г., уходить я пока не собирался, хотя передо мной во всей красе стоял один из самых неприятных для любого игрока оппонентов — растущий, неотступный хор критиков, убежденных в необходимости отправить меня на покой. В политике существует понятие «большая ложь». Суть его в следующем: вы можете лгать сколь угодно беспардонно и нагло, но если вы это делаете долго и громогласно, захватывая достаточно широкую аудиторию, — люди начинают вам верить.
Мой уход был проблемой того же порядка. Если множество людей регулярно спрашивают, не собираетесь ли вы уйти, строят подобные предположения или высчитывают, когда именно это произойдет, то вы поневоле начинаете думать, что, возможно, час действительно пробил. И если только вам не свойственно полное равнодушие к общественному мнению, у вас начинается внутренний разлад: «Может, ты сам себя морочишь? Может, нужно и впрямь подумать о том, чтобы наконец поставить точку?» Голоса звучали все громче, все назойливее и нетерпеливее. Мне было все труднее не прислушиваться к ним, хотя умом я понимал, что они никак не должны влиять на мое решение.
Открытый чемпионат Австралии стал разочарованием, Кубок Дэвиса — ударом, Открытый чемпионат Франции — провалом, а Уимблдон — настоящей катастрофой. И утешиться абсолютно нечем. В довершение всего, по возвращении в Лос-Анджелес мы как-то включили телевизор, и перед нами предстал ведущий CNN Джим Хабер. Шла передача про Уимблдон, и тут Хабер, недолго думая, назвал Бриджит «Йоко Оно тенниса». То есть сравнил мою жену с японской художницей, которая вышла замуж за Джона Леннона и удостоилась весьма нелестной репутации за развал группы «Битлз» и уход Леннона.
Я взглянул на Бриджит. Она побледнела и выглядела совершенно ошарашенной. Я был в ужасе и внезапно подумал: «А что если она чувствует себя виноватой в моих проблемах — хоть это и полная чушь? Бедная девочка! Многие месяцы она только и делала, что поддерживала меня, переживала все вместе со мной, и вот теперь должна выслушивать подобные вещи. Этот хмырь из CNN позволяет себе издевательские сравнения, которые, если подумать, не выдерживают никакой критики».
Нельзя сказать, что Бриджит была создана для семьи и домашнего хозяйства. Ведь мы поженились сразу же после того, как она снялась в фильме «Свадебный переполох» («The Wedding Planner»), и в то время ее карьера резко шла в гору. Но вскоре Бриджит уже не помышляла о карьере: она сидела в лондонском доме, страдая от утренней тошноты, а я пропадал целыми днями, не зная, что делать с моей игрой, а вернувшись домой, погружался в переживания.
А этому кретину Хаберу, наверное, просто пришлась по вкусу аналогия с Йоко Оно. Он, видно, считал, что это в высшей степени умно или, по крайней мере, забавно. Уж лучше бы этот тип заявил, что после такого выступления на Уимблдоне мне стоит швырнуть ракетки в пропасть и самому ринуться туда же. И я не обратил бы на дурацкую болтовню ни малейшего внимания. Но его слова так задели меня, что я пришел в ярость и подумал: «Погоди, козел, мы с тобой еще встретимся!»
Если во всей этой череде неудач и было что-то хорошее, оно состояло в том, что невзгоды только сблизили нас с Бриджит. Это стало своего рода испытанием нашей супружеской преданности. Выдержав его, мы будем больше ценить друг друга. Несколько дней мы говорили, и много говорили, хоть я и не охотник до длинных бесед. Мы действовали как крепкая семья. Мы сплотились во имя общих интересов.
К этому времени я понял, что вопреки высокой квалификации Хосе Хигейрас — это не тот тренер, который мне нужен. Хосе тоже не скрывал от меня, что не сможет работать со мной так же интенсивно и вкладывать в меня столько эмоциональных сил, как некогда в Джима Курье. Однако что же мне делать? Вновь обратиться к Полу — неудобно (тем более после того, как круто я с ним обошелся). Пол занимался своим делом, у него была другая работа.
Мы с Бриджит подробно обсуждали эти проблемы, и мой возможный уход из тенниса стал постоянной темой наших бесед. Во мне нарастал внутренний разлад, и однажды вечером, когда мы уже легли, меня охватили невеселые раздумья. Быть может, я попросту тяну время и лишь осложняю жизнь нам обоим... А ведь на свете помимо тенниса есть и другие радости, которые могли бы сделать нас счастливыми!
Размышляя вслух, я спросил себя: «А стоит ли мне упорствовать? Чего еще я могу достигнуть в теннисе? Зачем нам все эти мучения?» Бриджит взглянула на меня и произнесла: «Ты мой муж, я тебя люблю. Поступай как знаешь, но обещай мне одно — когда решишь уйти и действительно уйдешь, пусть это случится исключительно по твоей воле».
И тут все встало на свои места. Мне показалось, будто с меня сняли тяжкий груз и свет забрезжил в тумане. Внутреннее напряжение спало. Я сказал: «Ты права! Мне нужно не зацикливаться на этом, а просто приняться за дело. И прежде всего давай подумаем, где раздобыть тренера».
На следующее утро я позвонил человеку, с которым расстался. Подавив в себе гордость и страх, я набрал номер Пола Аннакона.
Пол ни словом не обмолвился о прошлом. Он просто ответил, что согласен и, вероятно, сможет договориться с Теннисной ассоциацией США, на которую теперь работает. Если бы разговор сложился иначе или кому-нибудь из нас ситуация показалась неловкой, на моих планах пришлось бы поставить крест. Больше мне не к кому было обратиться.
За несколько дней мы составили план летнего наступления. Чтобы показать, как высоко я оценил согласие Пола, я принял на себя непростое обязательство — нанять его на два года, хотя трудно было представить, что я буду играть так долго, особенно если мои надежды не оправдаются.
На первых тренировках, которые начались вскоре после Уимблдона, мы вернулись к базовым элементам. Пол сразу же поднял мне настроение. Это было замечательно — опять слышать его голос, вдумываться в его слова. Как ни странно, меня очень трогало, когда покойный Тим Галликсон, лукаво улыбаясь и подмигивая, утверждал, будто моя подача в центр сродни могучему натиску «Грин Бэй Пакерс». Теперь я вновь слышал, как Пол убеждает меня давить на соперников и не забывать, что я Пит Сампрас, а они нет, — это многого стоит! На меня его слова подействовали сильнее, нежели я ожидал.
Может показаться, что я просто нуждался в одобрении и поддержке, но тут есть еще один аспект. Я всегда старался скрывать своп эмоции и сохранять хладнокровие. Поэтому для меня было исключительно важно видеть, что человек, которому я доверял, который все понимал и неизменно был честен со мной, по-прежнему хвалит мой теннис. Пол безоговорочно верил в мою игру, и это вдохновляло меня.
На Открытом чемпионате Канады я проиграл на тай-брейке третьего сета Томми Хаасу, сильному игроку, входившему тогда в первую пятерку. В Цинциннати во втором круге уступил не слишком именитому австралийцу-левше Уэйну Артурсу — и опять на тай-брейке третьего сета. Если доходишь до тай-брейка третьего сета, значит, играешь в принципе нормально. Единственное, чего мне не хватало, — так это былой способности предпринимать решительный финальный натиск, чтобы прикончить соперника. Но раз за разом моя уверенность в себе росла.
Однако к тому времени слово «уход» упорно всплывало всякий раз, когда заходила речь о моей карьере, — на каждой пресс-конференции. По-моему, журналистам не следует приставать к спортсмену с такими бестактными вопросами — во всяком случае, пока сам он еще ничего не решил. Это почти оскорбительно. С другой стороны, подобным образом можно вызвать человека на откровенность. Наверное, кое-кто из пишущей братии рассуждает так: «Попытка не пытка. Вот будет здорово, если Пит Сампрас мне скажет — „Ну, ежели вы такого мнения, считайте, что я уже ушел...
Как же я сам-то не догадался?!"». Эти пробные шары не стоят репортеру ничего, а у спортсмена оставляют крайне неприятный осадок.
Но возможность моего ухода муссировала не только пресса. С тех пор как я проиграл Лейтону Хьюитту в финале Открытого чемпионата США 2001 г., эту тему все чаще затрагивали сами теннисисты. И я нисколько не удивился, когда Евгений Кафельников заявил, что мне, дескать, пора на покой. Вообще Евгений — любитель пускать пыль в глаза. Он одним из первых купил себе самолет — непозволительно дорогую игрушку для спортсмена, который не может похвастаться регулярными победами на турнирах «Большого шлема». Как-то он рассказал мне, что однажды пошел на посадку в австралийском аэропорту, даже не удосужившись получить разрешение. Когда самолет приземлился, его уже поджидали полиция и спецназ. Евгений, видимо, ловил от всего этого большой «кайф».
Еще он хвалился, как умно поступает, когда берет призовые наличными. Ему, несомненно, нравилось сорить деньгами. Однажды он похвастался, что спустил 50 тысяч долларов на лотерейные билеты — за один присест. Уйдя из тенниса, Евгений стал вполне профессионально играть в покер. Но когда мы оба еще выступали, наша регулярная и вполне добродушная болтовня в раздевалках сводилась к одному: он спрашивал, когда же я наконец уберусь и дам ему возможность выиграть еще пару турниров «Большого шлема», а я отвечал, что уйду сразу же после него — чтобы ему ничего не обломилось.
Участвуя в небольшом турнире на Лонг-Айленде — последнем пристрелочном соревновании перед Открытым чемпионатом США, я в первом же круге проиграл напряженный трехсетовый матч французу Полю-Анри Матье. Когда на послематчевой пресс-конференции я сказал, что вполне готов к чемпионату и даже надеюсь выиграть его, один журналист громко расхохотался. Я приподнялся со стула с намерением дать нахалу хорошую оплеуху, но вовремя опомнился, проглотил обиду, сел на место и терпеливо ответил на все оставшиеся вопросы.
Первый матч на Открытом чемпионате я выиграл довольно легко, победив Альберта Портаса. После матча Йен О’Коннор, репортер «Journal News» из Уэстчестера (штат Нью-Йорк), зашел в раздевалку и сообщил мне довольно странную новость. Оказывается, во время матча он позвонил Питу Фишеру, и Фишер якобы ругал меня, называя мою игру «отвратительной». Йену это не понравилось, он решил предупредить меня и узнать мое мнение на сей счет.
Я практически ничего не знал о Фишере с тех пор, как его осудили. Иногда он писал мне из тюрьмы. Письма были длинные, бессвязные и почти нечитабельные из-за неразборчивого почерка Фишера. Я пытался продраться сквозь его писанину, но безуспешно, и вскорости бросил. Ни на одно письмо я так и не ответил.
После того как Фишера выпустили из тюрьмы, я видел его только раз — на турнире в Лос-Анджелесе. Я шел, глядя под ноги, чтобы ни с кем не встречаться глазами (а то никуда не дойдешь — все хотят поговорить, взять автограф, сделать фото на память...). И внезапно прямо передо мной материализовался Пит.
Его появление застигло меня врасплох. Я лишь взглянул на него, пробормотал нечто вроде: «Ба, да ведь это Пит Фишер!» — и зашагал дальше. Но в следующий миг я ощутил какое-то беспокойство — словно передо мной предстал навязчивый призрак. Играя тем вечером матч, я ничуть не тревожился о том, что Фишер сейчас, вероятно, сидит на трибуне и видит меня. Это было удивительно. В детстве я всегда очень волновался, когда Фишер наблюдал за моей игрой. Но теперь я не испытывал никаких эмоций. Пит Фишер на трибуне — это всего лишь один из множества зрителей, которые смотрят матч Пита Сампраса.
Вскоре я получил еще несколько писем, проглядел их и отметил весьма критические отзывы о моей игре. Я опять оставил их без внимания и подумал, что Фишер, должно быть, писал в раздражении: ведь я не отвечал на его прошлые письма, не проявлял желания поддерживать с ним отношения.
Узнав от О’Коннора, с какой неприязнью Фишер отзывается обо мне, я разозлился. Это был удар ниже пояса и, главное, в тот момент, когда мне и так хватало забот. Я подумал: «Да пошел ты... Я столько для тебя сделал, выручал, давал деньги, а теперь ты постоянно норовишь меня обругать. Ну, все. Ты меня достал. Знать тебя не желаю».
Размышляя о влиянии Пита на мою карьеру, я испытываю двойственное чувство по поводу его заслуг. Не хочу умалять их, равно как и заслуги всех, кто формировал мою игру. Но Питу нравилось представать этаким слегка помешанным гением — творцом некоего теннисного Франкенштейна. А уж это, извините, чересчур. Фишер сыграл важную роль в моей жизни — это правда. Он много сделал для моего развития. Но с какой стати я должен считать его гениальным? Не знаю.
После меня Пит работал с другими и ничего не добился. Он занимался с Александрой Стивенсон, которую провозгласил «второй Мартиной Навратиловой». Это была очередная похвальба человека, называвшего меня «вторым Родом Лейвером». Но Александра ничем себя не проявила. Я никогда не отрицал, что многим обязан Питу. Другие тренеры в подобных обстоятельствах, возможно, не сумели бы добиться таких результатов. Но, в конечном счете, главное-то зависит от игрока! Именно он преодолевает временные или постоянные трудности, встающие на его пути к победам.
Фишер гением не был. Он был рыболовом, которому посчастливилось подцепить крупную рыбину. Но ведь и другим рыбакам порою везет. Вот и Фишеру один раз улыбнулась удача.
Вскоре после интервью Фишера произошел еще один примечательный случай, который оживленно обсуждался на начальной стадии Открытого чемпионата США.
Когда Грег Руседски выиграл матч второго круга и вышел на меня, то на пресс-конференции вел себя крайне заносчиво и заявил, будто я уже не таков, как прежде, у меня все позади, а у него, напротив, отличные шансы.
Журналисты, конечно, тут же мне обо всем доложили, и я ответил довольно резко: Грег — вообще парень со странностями, а его заявления только подтверждают, что с ним не все в порядке. Пресса тотчас же это подхватила — она обожает перебранки. Ну и пусть! Я знал, что Руседски — нагловатый субъект, ведет себя бесцеремонно и досадил очень многим.
Руседски родился и вырос в Канаде, а когда начал карьеру профи, то решил, используя гражданство матери, заделаться британцем и осесть в Лондоне. Англия же очень нуждалась в хороших теннисистах, и ее не слишком заботило, откуда они взялись, коль скоро у них имеется паспорт Соединенного Королевства. Вот так этот крупный нескладный канадец с сильной подачей перебрался в Англию. Он тут же напялил на лоб повязку с британским флагом и вечно пытался изъясняться на классическом английском языке. Он произносил «телик» вместо «ти-ви» и «горючее» вместо «бензин».
Обычно, когда Грег принимался за свое, я только пожимал плечами и говорил: «Да на здоровье!» Он был развязным парнем и часто перегибал палку. Вот и пришлось наконец его отбрить.
Но должен признать: на корте Грег измотал меня до крайности. Если первые два матча на Открытом чемпионате я выиграл с подавляющим преимуществом, то тут мне понадобилась полная концентрация сил, чтобы дожать его 6:4 в пятом сете. И мне еще повезло, что я взял два сета на тай-брейках у обладателя одной из самых сильных подач за всю историю тенниса.
Выдержав такую битву подач на быстрых кортах Нью-Йорка, я ощутил прилив уверенности. Эта победа напомнила мне уимблдонские матчи с Гораном Иванишевичем и сражения на крытых площадках с Борисом Беккером. После них я тоже испытывал немалое удовлетворение.
Несмотря на все трудности и переживания перед Открытым чемпионатом, я не чувствовал никакого раздражения и не считал себя обязанным что-либо доказывать. Конечно, тлел в душе уголек... но я полностью сосредоточился на конкретной задаче и был готов ее выполнить. На мне уже поставили крест, но от этого игроки моего склада становятся лишь опаснее. У меня и в мыслях не было поднимать шум на пресс-конференциях, а небольшие перепалки вроде той, которая произошла между мной и Руседски, я воспринимал скорее с юмором, нежели трагически.
На этом чемпионате передо мной стояла одна-единственная цель: выиграть еще один турнир «Большого шлема». И я знал, что смогу найти для этого силы. Вот что меня поддерживало, вот почему все прочее так мало значило для меня.
Не знаю, откуда во мне появилось столько уверенности и спокойствия и почему я так стремился завоевать свой последний титул «Большого шлема». В принципе он был мне не слишком нужен: я и так поставил рекорд. И дело было не в том, чтобы пройти через горнило Открытого чемпионата США. В моем багаже уже имелось несколько побед на этом турнире. И я не обещал себе выиграть еще один — ради Бриджит. Ведь я уже совершил подвиг, который трудно превзойти, — побил рекорд Эмерсона, когда она смотрела на меня из гостевого сектора на Уимблдоне. Просто какой-то загадочный голос мне твердил, что я возьму еще один титул «Большого шлема». В каждом игроке таится актер, любящий эффекты, и я хотел сыграть еще одну сцену — под занавес.
Матч с Руседски окрылил меня. Потом я встретился с Томми Хаасом, который отлично играл тем летом, но я победил его в упорнейшем четырехсетовом поединке.
Дальше меня ждал молодой Энди Роддик — вполне удобный соперник, который однажды, правда, сумел меня одолеть. Но играл он без особых хитростей, и вряд ли такой стиль причинил бы мне много хлопот, когда я пребывал на пике формы. Я отдал Энди всего девять геймов. Самое же главное, что матч завершился быстро и не отнял слишком много сил. С легкостью пройти четвертьфинал — большая удача.
Затем в столь же коротком полуфинальном матче я обыграл Сьенга Шалькена, нежданно для многих пробившегося на этот этап турнира, и вновь вышел в финал Открытого чемпионата США. Причем мое состояние было значительно лучше, нежели год назад.
Тихим и ясным сентябрьским днем, в четыре часа пополудни я взглянул через сетку — и увидел того же человека, который стоял там двенадцать лет назад, практически день в день, когда я провел свой первый финал «Большого шлема». Это был Андре Агасси.
Андре образца 2002 г. сильно отличался от юноши, которого я увидел в 1990 г. И основное различие состояло, конечно, не в том, что крашеную шевелюру сменил глянец бритого черепа, а переливающееся зеленое одеяние уступило место строгой, простой теннисной форме. Передо мной стоял закаленный и уверенный в себе многократный чемпион «Большого шлема», виртуозный игрок, способный доставить мне множество неприятностей. Отнюдь не незнакомец — это был мой давний соперник. Мой антагонист. Моя противоположность.
Правда, со временем, в ходе соперничества, наша яркая несхожесть слегка померкла; между нами порой проскакивали искры, словно между двумя проводами, — и в итоге наши индивидуальности взаимно обогатили друг друга. Теперь между нами было немало общего. Острые углы сгладились, контрасты потускнели. Мы оба ныне — важные птицы, знаменитые чемпионы, почетные участники очередного торжества. А по сути дела мы просто пара игроков, которые почти завершили свой теннисный век и стремились поймать последние отблески славы.
Мы стали самой «великовозрастной» парой финалистов американского «Большого шлема» за последние три с лишним десятка лет: мне — тридцать один, Андре — тридцать два. Мы давно вышли из того возраста, когда — каждый по-своему — уклонялись от ответственности за дарованный нам талант и сдавались, как только сталкивались с серьезными препятствиями. У обоих имелось больше причин для гордости, чем для сожалений, но это не умаляло горечи поражения, неизбежно ожидавшего одного из нас в финале Открытого чемпионата США 2002 г.
На финальный матч с Андре я выходил без всяких душещипательных мыслей. Я совершенно не думал о том, что это, быть может, моя последняя официальная встреча. Меня всегда влекли интригующие ситуации, и ничего интереснее я не мог даже вообразить.
Я взял первые два сета. Моя игра была одной из самых лучших за многие годы, а у Андре дело поначалу не ладилось. Он потерял контроль над ситуацией и ничего не мог противопоставить моей мощной игре на его подаче. Я почти вышел на тот уровень, который продемонстрировал в матче с Андре на Уимблдоне-1999. Как выразилась Селена Робертс из «New York Times», я «выстреливал эйсы, словно торговый автомат».
В третьем сете Андре опомнился, и началось «перетягивание каната». Когда я подавал при счете 2:3, Андре предпринял яростный штурм и заработал три брейк-пойнта, но я сумел отыграть их. Борьба продолжалась, я уже начинал чувствовать тяжесть в ногах, а Андре от удара к удару улучшал свою игру. При счете 5:6 Андре, наконец, взял мою подачу. Перед этим я, правда, отыграл один сетбол, но он тут же заработал другой. Играя справа с лета, я попал в сетку, и шансы Андре сразу возросли. Он уступал мне теперь только один сет, а моя очевидная усталость была ему на руку.
На стадионе уже включили свет, и капельки пота засверкали на наших лицах.
Потом Андре сказал, что игра со мной — довольно загадочная штука. Мой соперник может сыграть отлично и уступить 6:4, 7:5, а может сыграть паршиво и уступить с точно таким же счетом. Андре намекал на тактику, которую я часто использовал. Я не заботился ни о счете, ни о том, как действует соперник на собственной подаче, поскольку чувствовал, что свою удержу обязательно и по ходу сета непременно получу возможность сделать брейк и нанести победный удар.
Нечто подобное произошло и в нашем последнем матче. Я знал, что не должен идти на обмен ударами — иначе матч затянется на пять сетов. Мне удалось наладить игру, и я дожидался своего часа.
В четвертом сете мы держали свою подачу до счета 3:4, но затем мой сценарий дал сбой. Вместо того чтобы выиграть свою подачу и следующую подачу Андре, я дал ему возможность получить два брейк-пойнта. Если он выиграет хоть один и поведет 5:3, то пятого сета не избежать! К тому же по ходу матча игра Андре становилась все более уверенной. Но мне все же удалось отыграть брейк-пойнты и сравнять счет — 4:4.
Андре в тот момент, вероятно, пришел в замешательство. Ситуация очень напоминала наш последний финал на Уимблдоне, и я инстинктивно понимал, что именно сейчас мне надо ловить шанс. В течение всей карьеры я старался распознавать и использовать подобные моменты — когда соперник хоть на миг ослабит внимание и концентрацию. Я был наготове и тут внезапно почувствовал прикосновение давно не посещавшего меня друга — моего Дара. Прекрасное ощущение! И я взял подачу Андре.
Всего несколько минут назад я находился в почти отчаянном положении, меня уже одолевали дурные предчувствия, поскольку в сгущавшихся сумерках замаячил пятый сет. И вдруг теперь (я не сомневался!) мне предстоит решающая подача в этом матче. Дальше все казалось ясным. Быстро выиграв три мяча подряд, я завершил гейм победным эйсом.
Я выронил ракетку и медленно поднял руки. Дело было сделано — целиком и полностью. Тогда я еще не знал, что завоевал свой последний титул на Открытом чемпионате США и провел последний матч своей профессиональной карьеры; что это мой последний матч с Андре и мое последнее выступление на турнире «Большого шлема».
Это был последний луч моего личного солнца. Оно заходило так же быстро, как огненный шар, исчезавший в вечерней дымке Нью-Йорка. Судьба подарила мне редкую возможность — уйти на своих собственных условиях. И я ее не упустил.
Эпилог
Подняв руки после моей последней победы на моем последнем турнире «Большого шлема», я издал такой первобытный вопль, какого, вероятно, никто доселе от меня не слыхивал. Я закричал: «Я-а-а-а сде-е-е-елал это!..»
Этот матч стал завершающим и самым трудным испытанием за всю мою карьеру. Два года я терпел неудачу за неудачей и чувствовал дыхание соперников за спиной. Но мне все же достался последний счастливый билет, и я его использовал на сто процентов. Я смог полностью сосредоточиться, вновь ощутить уверенность в себе и добиться цели.
Когда все было кончено, я испытал огромный душевный подъем. Прежде всего я взглянул на Бриджит, сидевшую в гостевой ложе. Мне было необходимо подняться туда. Она так много сделала для моего последнего взлета. Я стремился разделить с ней торжество победы, хотел, чтобы все видели нас вместе в миг нашего общего триумфа.
Я пребывал на седьмом небе. Мне удалось показать, чего я стою, — ясно и убедительно. Несколько недель спустя ныне покойный издатель «Tennis Week» Джин Скотт написал: «Только сейчас мы узнали, кто такой Пит Сампрас» (позднее Джин пояснил мне, что имел в виду силу моего бойцовского характера). Прочитав эти слова, я испытал прилив гордости. Счастье переполняло меня. Я победил самого опасного соперника на одной из величайших теннисных сцен и завоевал самый дорогой для меня титул.
Как выяснилось, запас сил у Андре оказался больше, чем у меня. Видимо, он «сэкономил» несколько лишних лет для карьеры за счет произошедшего спада и последующего перерыва в выступлениях в самые лучшие его годы. Андре успешно отыграл до 2006 г., а моя свеча догорела быстрее.
После этого последнего финала Андре и я договорились поддерживать контакты в повседневной жизни. Мы решили, что просто позор, если после всего совместно пережитого мы перестанем встречаться. Ведь между нами было так много общего! Например, у нас обоих по двое детей. Мы оба играли в теннис с семи лет. Нас прочно связывало прошлое, нас объединял значительный отрезок жизни — и какой жизни!
Моя сестра Стелла с мужем присутствовали на Открытом чемпионате 2002 г. Они, а также мой второй тренер Бретт Стивенс присоединились к нашей небольшой компании, и, вернувшись в отель, мы скромно отметили победу. Заказали в номер ужин на всех, пили шампанское. Я чувствовал себя замечательно. В тот же вечер мы с Бриджит вылетели в Лос-Анджелес.
Следующие два месяца я каждое утро просыпался с улыбкой. За короткий срок от беспросветного отчаяния, которое не могли умерить даже мои прошлые достижения, я перешел в состояние полной удовлетворенности. По сути дела, завершился важнейший этап моей жизни, хотя в то время я воспринимал это иначе.
Несколько недель я неторопливо размышлял, что ждет меня дальше. Я вовсе не считал, что исчерпал себя как игрок. Я все еще находился в отличной форме и не сомневался, что способен бороться. Я отнюдь не «перегорел». Однако неделя шла за неделей, а я не чувствовал особого желания играть и в итоге отказался от всех осенних турниров, значившихся в моем расписании.
Когда подоспело Рождество, я уже привыкал к радостным крикам нашего первенца Кристиана. Пол Аннакон, по-прежнему остававшийся моим тренером, следил, чтобы я понемногу упражнялся на корте — хоть несколько раз в неделю. Но когда настало время серьезно подумать о подготовке к Открытому чемпионату Австралии, я понял, что не имею ни малейшего желания участвовать в нем, и отказался.
Я не принимал окончательного решения по поводу моего будущего и не делал никаких заявлений: просто хотел дождаться момента, когда мне самому станет ясно, что я прекращаю играть — окончательно и бесповоротно!
За две недели до Уимблдона-2003 мы с Полом приступили к тренировкам. Я еще рассчитывал выступить там. Но через несколько дней понял, что ничего не получится: я выдохся. Я больше не испытывал потребности ни сражаться на Уимблдоне, ни даже просто приехать туда, чтобы вновь увидеть знакомое и столь дорогое мне место. Порох в пороховнице иссяк, и уже никакая «овчинка» не казалась мне стоящей «выделки». Я наконец осознал: моя карьера завершена.
Из тенниса уходят по разным причинам. Иногда подводят физические показатели. Порой пропадает прежняя игра. Либо спортсмен просто психологически устает от постоянного внутреннего напряжения. Случается, играют роль семейные проблемы. Но ко мне ничто из перечисленного не относилось. Я по-прежнему мог показать хорошую игру. Жена поддерживала меня во всем, и если бы через неделю после моей последней победы на турнире я улетел на другие состязания, Бриджит была бы на сто процентов «за». Ведь она говорила мне: «Надеюсь, ты не чувствуешь себя обязанным уйти потому, что обзавелся женой и сыном».
Вам, вероятно, странно слышать такое признание от человека, который всегда гордился умением контролировать свои эмоции, — но мое решение было чисто эмоциональным. Жажда борьбы покинула мое сердце.
Теннисная ассоциация США поддерживала тесный контакт с Полом Аннаконом. После того как я отказался от Уимблдона, они попросили разузнать, собираюсь ли я выступить на Открытом чемпионате США. Если нет, то они готовы организовать там торжественную церемонию моего прощания с теннисом. И место, и момент показались мне подходящими. Я смогу взять с собой семью, проститься с теннисом на родной земле, в присутствии своих лучших друзей и болельщиков, в достойной и подобающей обстановке.
Итак, в августе мы с Бриджит и нашими родными приехали в Нью-Йорк и остановились в отеле «Плаза». Я не ощущал истинных масштабов происходящего до тех пор, пока в день церемонии (и открытия чемпионата США) мы не отправились в Национальный теннисный центр. Когда мы прибыли, у меня перехватило дыхание. Я вновь увидел арену имени Артура Эша, тренирующихся игроков, снующих вокруг людей. Я подумал: «Боже, ведь это действительно важно; огромная честь просто находиться здесь и получить шанс расстаться с теннисом именно так... Пусть в этом месте все и завершится!»
На церемонии эмоции переполняли меня, но я старался держать себя в руках, и поэтому на вопросы отвечал скупо и сдержанно. Я был тронут и польщен тем, сколько моих соперников там присутствовало. Казалось, передо мной разворачивается вся моя карьера в лицах. Борис Беккер специально прилетел из Германии. Джим Курье, Борис, Андре и прочие говорили такие теплые слова. Андре нашел время, несмотря на то что перед ним стояла важнейшая цель — выиграть еще один Открытый чемпионат США. Я оценил это — разве я мог не оценить? Присутствие Андре было мне поистине дорого!
Все переживания последнего года захлестнули меня. Я был рад, что приготовил очень краткую речь, потому что хотел впитать в себя краски и звуки торжественного действа — словно сторонний наблюдатель. Чем глубже проникала в меня эта атмосфера, тем больше я убеждался, что поступил совершенно правильно. Правда, время от времени меня охватывали приступы грусти — вечные спутники разлуки.
На следующий день мне позвонил бывший президент США Билл Клинтон. А после того как я провел последний тур пресс-конференций, ток-шоу и так далее, наша семья вернулась в Лос-Анджелес. В Нью-Йорк я вновь приехал лишь в июле 2007 г., после моей инаугурации в Международном зале теннисной славы.
Я до сих пор играю в теннис и смотрю матчи. Я почитатель Роджера Федерера, но не могу не отдать должного стойкости и мужеству Рафаэля Надаля. Мне не хватает Уимблдона, но я знал, что так и случится. В 2007 г. руководство клуба связалось со мной и спросило, не желаю ли я получить вайлд-карт на турнир. Я со всей учтивостью отказался. Возможно, я еще мог бы победить там в нескольких матчах, но мне претит сама мысль играть с теннисистами, которых я никогда не видел на корте.
В конце 2007 г. я провел показательный тур в трех городах с Роджером Федерером, который находился тогда всего в двух шагах от моего рекорда — четырнадцати титулов «Большого шлема». К всеобщему удивлению, я выиграл третий матч этой серии. Поездка доставила мне удовольствие. Мы оба получили отличную возможность показать себя и дать любителям тенниса хоть отдаленное представление о том, каким могло быть наше соперничество. Я провел незабываемые часы с Роджером: мы делились воспоминаниями и беседовали о теннисе.
Если я и оставил после себя какое-то наследие, то, думаю, это память о парне, который всего себя отдавал игре, был бойцом с чемпионским характером, веровал в вечные ценности, демонстрировал величайшее уважение к истории и традициям игры. Приятно сознавать, что все это не исчезло вместе со мной, а перешло к Роджеру, который, несомненно, принял у меня эстафету.
Мне, конечно, не хватает турниров «Большого шлема». Наверное, даже если пройдет еще лет десять, я все равно не перестану по ним скучать. У меня множество чудесных воспоминаний. Я все еще прекрасно помню, что значит играть на Уимблдоне. Я легко могу пробудить в себе подлинное, живое чувство, охватывавшее меня, когда я выходил на Центральный корт, чтобы сыграть финальный матч. Находясь совершенно в другом месте, я могу подумать об этом, воскресить в памяти все ощущения, образы, звуки и вновь испытать неподдельное волнение...
Но поверьте, я справлюсь с волнением. Я всегда умел держать себя в руках.
Примечания
1
Джонни Карсон (1925-2005) — знаменитый американский телеведущий.
(обратно)2
Энди Уорхол (1928-1987) — американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, коллекционер, издатель журиалов и кинорежиссер; культовая персона в истории поп-арт-движения и современного искусства в целом. — Примеч. редактора.
(обратно)3
Джимбо — прозвище Джимми Коннорса. — Примеч. редактора.
(обратно)4
Стихотворение «Заповедь» (пер. М. Лозинского). — Примеч. переводчика.
(обратно)5
Graveyard Court (англ.) — букв. «Кладбищенский корт».
(обратно)





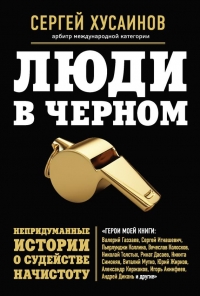




Комментарии к книге «Размышления чемпиона. Уроки теннисной жизни», Пит Сампрас
Всего 0 комментариев