Ася Казанцева Мозг материален О пользе томографа, транскраниального стимулятора и клеток улитки для понимания человеческого поведения
© А. Казанцева, 2019
© О. Навальный, иллюстрации, 2019
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2019
© ООО “Издательство АСТ”, 2019
* * *
Предисловие
“– Там была Эмбер. Она ехала со мной в автобусе. Это она умирает”. Сериал “Доктор Хаус”, четвертый сезон, эпизоды 15 и 16. Главный герой попадает в автомобильную аварию вместе с кем‐то, у кого прямо перед катастрофой проявился важный симптом. Но травма головы вызвала у Хауса ретроградную амнезию, и он не может восстановить ход событий, предшествовавших столкновению. В течение двух серий он применяет множество экзотических и рискованных методов воздействия на собственный мозг, чтобы добраться до ускользающих воспоминаний. Оказывается, с ним вместе ехала Эмбер, возлюбленная его коллеги и друга. Но Хаус по‐прежнему не способен вспомнить, что за симптом он у нее видел. Ему приходится применить глубокую стимуляцию мозга, и тогда события, предшествовавшие аварии, наконец встают перед ним с кинематографической точностью.
Конечно, это сериал. В кино бывает множество натяжек и неточностей. В частности, когда коллеги Хауса готовятся ввести электрод ему в мозг, чтобы пробудить воспоминания, звучит название зоны, на которую они собираются воздействовать: вентральный гипоталамус. Это очень странно. Если вы поймаете какого-нибудь нейробиолога и спросите его, какие отделы мозга связаны с памятью, то, вероятнее всего, первым ответом будет “гиппокамп”. Если потребуете продолжения – вам расскажут отдельно про зубчатую извилину, про парагиппокампальную извилину, про энторинальную кору. Поговорят о рабочей памяти и роли дорсолатеральной префронтальной коры в контроле за ней. Подумав, добавят эмоциональную память и расскажут вам, как ами́гдала[1] запоминает, чего надо бояться, а чего не надо. Потом вспомнят моторную память и вдохновенно прочитают вам мини-лекцию о мозжечке. Но вот гипоталамус в этом перечне, вероятнее всего, упомянут не будет. Во всяком случае, точно не в первой десятке.
Не могли же сценаристы просто перепутать гипоталамус с гиппокампом? Этот вопрос интенсивно обсуждается на англоязычных форумах фанатов сериала. Им удалось найти научную статью[2], в которой описан случай одного-единственного пациента, получавшего стимуляцию гипоталамуса с целью лечения тяжелого ожирения (что как раз логично: этот отдел мозга связан с регуляцией голода и насыщения) и при этом отметившего, что электрические импульсы пробуждают у него автобиографические воспоминания, причем увеличение интенсивности стимуляции делало эти воспоминания более яркими – точно как в сериале. Но и сами авторы исследования подчеркивают, что этот результат был для них неожиданным и обусловлен, по всей видимости, распространением возбуждения от гипоталамуса на соседние области мозга, действительно связанные с памятью.
Есть и более серьезная проблема. Пациент, получавший стимуляцию для лечения ожирения, вспомнил, как 30 лет назад гулял в парке с друзьями и девушкой. Совершенно случайный эпизод, вполне правдоподобный, хотя и необязательно имевший место в реальной биографии пациента. Если бы электрод попал на долю миллиметра левее или правее, человек мог бы вспомнить что‐то другое: как писал контрольную по математике, или ездил в отпуск, или обедал с коллегами. Что же касается Хауса, то он сразу же, с первого введения электрода, вспомнил из всей своей длинной жизни именно те пять минут, которые были нужны сценаристам. Фантастическая удача, что и говорить!
И все же главное в сериале правильно: если взять электроды, подвести их в удачное место в головном мозге и подать небольшой электрический импульс, то действительно можно вызвать у человека яркие воспоминания. Впервые этот феномен описал Уайлдер Пенфилд, знаменитый канадский нейрохирург, разработавший методику операций на головном мозге с применением местной анестезии. Его пациенты во время операций находились в сознании и были способны описывать ощущения, возникающие при стимуляции того или иного участка коры. На первый взгляд, это пугает (вы сидите со вскрытым черепом, а кто‐то орудует инструментами в вашем мозге!), но преимущества были огромными. Во-первых, Пенфилд мог точно локализовать границы опухоли или эпилептического очага и вырезать только ненужное, минимально повредив остальной мозг. Во-вторых, сопоставив результаты стимуляции коры многих пациентов (электрод в одном месте – человек непроизвольно двигает рукой, в другом месте – чувствует несуществующее прикосновение к подошве), Пенфилд смог составить подробные карты коры головного мозга, определив, какая зона за что отвечает. В 1937 году Пенфилд и его соавтор Болдри впервые нарисовали “гомункулуса” – смешного человечка с искаженными пропорциями, отражающими площадь представления тех или иных органов в сенсорной или моторной коре. Теперь без этой картинки не обходится ни один учебник по нейробиологии. А в 1950‐м Пенфилд и Расмуссен выпустили монографию “Кора головного мозга человека”[3], обобщившую результаты 400 операций, сгруппированных по главам в соответствии с теми областями мозга, в которых производилось хирургическое вмешательство, – и теми реакциями, которые вызывала электрическая стимуляция этих областей. Пациенты, которым удаляли опухоли, кисты или эпилептические очаги в височной коре, во время операций рассказывали о ярких галлюцинациях – или о ярких воспоминаниях (иногда, впрочем, они затруднялись отличить одно от другого). Например, четырнадцатилетняя пациентка под инициалами J. V. ярко видела такую сцену: как будто бы ей семь лет, она идет через поле вместе со своими братьями, к ней сзади подходит мужчина и спрашивает: “Не хочешь залезть в этот мешок со змеями?” Девочка кричит, убегает, рассказывает об этом маме. Такую картину она видела во время самих эпилептических припадков и снова переживала ее в процессе операции, когда исследователи стимулировали ей правую височную кору в районе эпилептического очага. После того как операция была проведена, часть коры уничтожена, а эпилептические припадки остановлены, это воспоминание перестало быть навязчивым, хотя сам факт детского испуга девушка помнила. Важно, что подобное событие действительно имело место – во всяком случае, мать и братья подтверждали, что помнят какого‐то придурка, приставшего к маленькой J. V. примерно так, как ей и виделось при стимуляции.
Нейробиология вообще многим обязана людям с эпилепсией и попыткам разработать методы ее лечения. Основные достижения последних десятилетий связаны с разработкой более эффективных лекарств, но они по‐прежнему помогают не всем пациентам, так что иногда хирургическое вмешательство применяется и сегодня. Главная задача врачей в таких случаях – максимально точно идентифицировать нейроны, ответственные за зарождение судорожной активности, чтобы удалить именно их и по возможности оставить неповрежденными соседние клетки. Электроэнцефалограмма и томографические исследования позволяют только приблизительно определить расположение эпилептического очага, но затем на основе этой информации врачи могут выбрать участки для вживления микроэлектродов, способных записывать сигналы от отдельных клеток. Такие электроды могут оставаться в мозге пациента несколько дней, после чего, проанализировав активность нейронов, врач принимает итоговое решение о том, какой именно участок следует удалить. Эта процедура одновременно позволяет получить много ценной информации о функциях отдельных нервных клеток. Например, именно так в 2005 году были описаны[4] знаменитые “нейроны Дженнифер Энистон”, то есть конкретные клетки в гиппокампе, которые реагируют именно на предъявление фотографии этой актрисы – в том случае, конечно, если вы знаете, как она выглядит (ее самая известная роль – Рэйчел в сериале “Друзья”).
Открытие нейронов Дженнифер Энистон было чистой случайностью – в том смысле, что ученые понятия не имели, “чьи” именно нейроны им удастся обнаружить, но надеялись найти хоть какие-нибудь. Они работали с группой из восьми человек, которые готовились к операции для лечения эпилепсии. У каждого из них эпилептический очаг располагался в медиальной височной доле. Эта область мозга включает в себя гиппокамп, который, в свою очередь, играет ключевую роль в работе декларативной памяти, то есть необходим для заучивания и последующего воспроизведения конкретных фактов (“Волга впадает в Каспийское море”; “Человек на фотографии мне известен, это актриса Дженнифер Энистон”). Каждому пациенту вживили микроэлектроды – для идентификации эпилептического очага, но заодно люди согласились и поучаствовать в исследовании[5]. Им показывали множество фотографий животных, предметов, знаменитых людей и известных достопримечательностей. Набор был немного разным для разных пациентов. (Например, мне было бы бесполезно показывать актеров: я очень плохо запоминаю человеческие лица, и поэтому большая часть отношений героев в сериалах остается для меня непонятной без дополнительных пояснений: “Ой, а разве она ему изменила? Так ведь тот чувак тоже темноволосый, это точно другой?”)
В нескольких случаях ученым серьезно повезло: электроды, вживленные по медицинским показаниям, совершенно случайно попали именно в нейроны, связанные с распознаванием как раз тех объектов, которые предъявляли испытуемым. Тогда на следующей сессии людям предъявляли разные изображения того же самого объекта и снова регистрировали ответ от того же самого нейрона. В частности, у одного из пациентов в задней части левого гиппокампа[6] обнаружился нейрон, который реагировал вспышками активности при виде разнообразных фотографий Дженнифер Энистон и оставался безучастным во время предъявления любых других изображений; интересно, что он не откликался и на фотографии Энистон в том случае, если она была изображена не в одиночестве, а вместе с Брэдом Питтом. У другого пациента в правом переднем гиппокампе был найден “нейрон Хэлли Берри” – актрисы, сыгравшей роль Женщины-кошки в одноименном фильме. Он активировался при предъявлении разных фотографий Хэлли Берри, в том числе в костюме Женщины-кошки, при виде ее нарисованного карандашом портрета и даже при прочтении надписи Halle Berry – при этом не реагировал на других актрис, даже если они были одеты в такие же костюмы кошек.
Разумеется, не следует думать, что за распознавание образа Дженнифер Энистон отвечает один-единственный нейрон; у нас также недостаточно данных, чтобы предположить, что этот нейрон связан только с образом Энистон и ни с чем больше. Но это исследование иллюстрирует очень важную мысль, которая настолько банальна и очевидна, что мы никогда о ней не задумываемся: мозг материален. Раз мы помним лицо Энистон, это означает, что какие‐то нейроны в нашем мозге взяли на себя функцию распознавания уникального набора ее характерных черт. Что эти нейроны, в принципе, возможно найти. Что на них можно воздействовать. И что это относится не только к образу Энистон, но и вообще к любой информации, которая записана в нашем мозге; к любой эмоции, которую он испытывает; к любой мысли, которую он обдумывает. Для всего того, что составляет нашу личность, существует конкретный вещественный субстрат, и он принципиально поддается изучению.
Это не означает, что нейробиологи уже способны расшифровывать наши мысли (хотя они активно работают над этим). Тем более это не означает, что они могут искусственно заливать нам в мозг какие-нибудь новые знания, не используя книжки и лекции. В этом отношении довольно серьезные успехи достигнуты с улиточками[7], а вот с более крупными и сложными существами есть серьезная проблема: мозг пластичен. Функции его крупных структур более или менее прописаны в генах, а вот на уровне микроархитектуры очень многое определяется индивидуальным опытом, теми стимулами, с которыми мозг сталкивался в ходе своего развития. Нейроны Дженнифер Энистон, вероятно, есть где-нибудь в гиппокампе у всех людей, которые помнят ее лицо, но вот где они там находятся конкретно – да черт их знает. У всех по‐разному.
Самый известный пример нейропластичности – структурных изменений мозга человека под действием индивидуального опыта – это история про лондонских таксистов. Для того чтобы стать лицензированным таксистом в Лондоне и водить тот самый черный кэб, в котором катается Шерлок-Камбербэтч, вы должны помнить 25 000 городских улиц и переулочков в радиусе 10 километров от вокзала Чаринг-Кросс – со всеми их особенностями дорожного движения, основными достопримечательностями, магазинами и гостиницами – и выстраивать маршруты между ними без навигатора. Это сложно. Таксисты учатся годами. Лондонские нейробиологи, в свою очередь, с энтузиазмом изучают, что в это время происходит с мозгом водителей[8]. Выясняется, что если набрать две группы испытуемых – тех, кто планирует стать таксистом, и тех, у кого другие планы на жизнь, – и положить их в томограф, то поначалу никаких нейроанатомических отличий между ними нет. После этого вы ждете три года и снова приглашаете этих людей в лабораторию. Выясняется, что теперь у вас уже три группы испытуемых. Те, кто хотел стать таксистом, тренировался в среднем по 34 часа в неделю и в итоге благополучно сдал экзамен. Те, кто в принципе тоже хотел стать таксистом, но тренировался в среднем по 17 часов в неделю, экзамен завалил, разочаровался и нашел другую работу. И те, кто не хотел стать таксистом и вообще не тренировался. У всех этих людей вы анализируете гиппокамп – зону мозга, связанную не только с памятью, но и с пространственным мышлением (эти две способности вообще, видимо, эволюционно развивались в тесном сотрудничестве: если задуматься, то память дикому животному или древнему человеку в первую очередь для того и нужна, чтобы найти еду и вернуться домой).
Выясняется, что у тех, кто не стал таксистом, гиппокамп остался примерно таким же, каким и был. А вот в той группе испытуемых, которая благополучно сдала экзамен, есть видимое увеличение объема серого вещества в задней трети гиппокампа. Не то чтобы гиппокамп как целое увеличился в размерах, но анализ конкретных вокселей (трехмерных кирпичиков, из которых складывается томограмма) показывает, что серого вещества во многих из них стало больше примерно на треть. То есть, вероятнее всего, нейроны вырастили множество новых связей друг с другом, потому что мозгу понадобилось работать над новыми задачами. Это характерно для любого обучения. Мы постоянно выстраиваем в голове новые нейронные связи. Память и обучение – это и есть рост новых синапсов.
По большому счету именно индивидуальная микроархитектура мозга, приобретенная вами в ходе жизни, на самом деле интересует вашего экзаменатора, когда он смотрит, можете ли вы взять интеграл, ваше начальство на собеседовании, когда вас спрашивают про опыт работы и профессиональные компетенции, и даже девушку на первом свидании, когда она оценивает вашу эрудицию и чувство юмора и решает, продолжать ли общение.
Здесь возникают интересные этические проблемы. Отличия в архитектуре нейронных связей делают людей разными – и неравными. Предполагается, что в таком неравенстве люди сами виноваты, и именно поэтому оно совершенно никого не беспокоит, в отличие от дискриминации по признакам, которые от воли человека очевидным образом не зависят. Если честно, это не совсем так: на способность осваивать новые знания все‐таки серьезно влияют врожденные факторы (и на силу воли, кстати, тоже)[9], и еще сильнее – неравные условия в детстве, в которых человек тоже не виноват. Примечательный парадокс здесь в том, что если мы с вами когда-нибудь построим совершенное эгалитарное общество с абсолютно равными образовательными возможностями, то именно генетические отличия в способностях выйдут на первый план и неравенство кандидатов в глазах работодателей и потенциальных половых партнеров будет в значительно большей степени, чем сейчас, объясняться как раз наследственностью. Впрочем, есть и хорошие новости: массово редактировать гены эмбрионов мы наверняка научимся раньше, чем построим эгалитарное общество. А еще, конечно, в огромной степени мы можем влиять на нашу архитектуру нейронных связей вполне осознанно, и значительная часть книжки посвящена тому, как делать это более эффективно.
Третье важное свойство, которое меня занимает и о котором я буду рассказывать, можно сформулировать так: мозг неоднороден. Наше целостное, холистическое восприятие собственной личности – это иллюзия. Если присмотреться к тому, как мозг обрабатывает информацию и принимает решения, то почти всегда обнаруживается, что это результат конкуренции между разными его отделами, просто победитель определяется так быстро, что обычно у нас нет возможности осознать, что противоречие вообще существовало.
Это проявляется на всех уровнях, начиная от самых базовых вещей. Возьмем, например, зрительное восприятие. Вот посмотрите на картинку.
Это пластиковая маска. И она вогнутая. Честное слово, мои друзья Кася и Джозеф ее сами фотографировали под моим чутким руководством. Присмотритесь: у нее нос и лоб темнее, чем все остальное, именно потому, что они уходят в глубину. Но, скорее всего, вы этого в упор не видите, а видите обычное выпуклое лицо. А если видите вогнутую маску, то вам имеет смысл поговорить об этом с психиатром. Вот прямо прийти к нему и сказать: “Доктор, я невосприимчив к иллюзии вогнутой маски. Дайте мне дополнительные тесты, чтобы убедиться, что я психически здоров”.
А вот если бы вместо маски была кастрюля или любой другой вогнутый объект, пусть даже сложной формы, то никаких проблем с восприятием у вас бы не возникло. Стоит вам закрыть ладонью нижнюю часть маски, и вы сразу увидите, что ее лоб – вогнутый. В нормальной ситуации мозг оценивает форму объекта именно по распределению света и тени: то, что выступает вперед, должно быть более светлым (ярко освещенным), а то, что вдавлено, должно находиться в тени. Эти принципы восприятия можно использовать для маскировки (красить выступающую башню танка в более темный цвет, чтобы с самолетов противника было сложнее понять, что это танк). Их можно использовать в макияже (нарисовать светлые линии внутри морщин, чтобы они не казались глубокими). Но в случае вогнутой маски эти принципы работать перестают. Потому что вступают в противоречие с жизненным опытом. С твердым знанием о том, что нос, лоб и подбородок должны выступать вперед. Всегда.
В 2009 году Данай Дима и ее коллеги предъявляли вогнутые и обычные изображения лиц 16 здоровым людям и 13 пациентам с диагностированной шизофренией[10]. Все здоровые люди были подвержены иллюзии и видели вогнутое лицо как выпуклое. Все пациенты (в этой небольшой выборке) не были восприимчивы к иллюзии и видели вещи такими, какие они на самом деле. Но исследователей интересовало не само восприятие лиц, а то, что происходит в это время в мозге, – картинки показывали людям, лежащим в томографе.
А в мозге происходит примерно то же самое, что и при зрительном восприятии любых других стимулов в любых других экспериментах. Сначала активируется первичная зрительная кора. У нее нет вообще никакого мнения о том, что именно она увидела. Она просто собирает информацию о физических характеристиках стимула и бесстрастно констатирует: “Вижу такой‐то набор линий, контуров, светлых и темных пятен”. Об этом она сообщает вышерасположенному отделу зрительной коры, нужному именно для распознавания объектов, – латеральному затылочному комплексу. А тот уже консультируется с высшими ассоциативными зонами мозга – несколькими участками лобной и теменной коры – о том, что бы мог значить вот такой набор контуров и теней с точки зрения той информации о мире, которую мы накопили в течение жизни. Так вот, если сравнить паттерны активации всех этих зон у здоровых людей и у людей с шизофренией во время восприятия вогнутой маски по сравнению с восприятием обычного лица (и построить хитрую математическую модель, чтобы эти паттерны интерпретировать), то выясняется, что разница между двумя группами испытуемых состоит в том, в какой степени латеральный затылочный комплекс восприимчив к тем сигналам, которые приходят к нему снизу, от первичной зрительной коры, и в какой – к тем, что приходят к нему сверху, от внутритеменной борозды и нескольких других умных и развитых отделов мозга.
То есть первичная зрительная кора говорит: “Слушай, вот у меня такое распределение света и тени”, – оно вообще‐то означает, что объект вогнутый. А внутритеменная борозда говорит: “Я тут посоветовалась с коллегами, и этот объект – это точно лицо, а лицо всегда должно быть выпуклое”. А латеральный затылочный комплекс взвешивает все эти аргументы и принимает решение. И человек как целое все‐таки считает, что он видит выпуклое лицо, – в том случае, если сигналы от высших отделов мозга сильны и побеждают. А если контролирующие сигналы от высших отделов мозга не очень‐то сильны, то может победить зрительная кора, и человек с шизофренией в этой ситуации видит реальность такой, какая она есть на самом деле.
В принципе, почти любую зрительную иллюзию можно объяснить как результат воздействия нисходящих потоков информации в мозге. То, как мы представляем себе реальность, напрямую влияет на то, как мы ее (совершенно по‐честному) видим. Помните бело-золотое платье, взорвавшее интернет в 2015 году? Теперь в англоязычной научной литературе оно так и называется: the dress. На самом деле оно черно-синее. Более того, целых 57 % людей действительно воспринимают его так[11]. Мне кажется, что они сговорились и издеваются, потому что ну очевидно же, что оно бело-золотое. Но, по‐видимому, все зависит от того, как человек воспринял освещение на фотографии. Если он (как я) посчитал, что это дневной свет, а само платье при этом находится в тени, то его мозг автоматически делает на это поправку и воспринимает цвета как более светлые. Если же человеку при первом взгляде на фото показалось, что оно сделано со вспышкой и ткань освещена ярким электрическим светом, то он видит платье черно-синим. (По крайней мере, они так говорят!)
Но зрительные иллюзии – это просто пример необычного срабатывания тех механизмов, которыми мозг в повседневной жизни пользуется постоянно, которые он выработал в ходе эволюции для того, чтобы более эффективно – быстро и точно – воспринимать реальность. Да, мозг сопоставляет новую зрительную информацию с накопленной библиотекой образов, и это позволяет ему гораздо быстрее распознавать важные для выживания объекты (к которым, безусловно, относятся лица) даже в условиях ограниченной видимости. Да, мозг делает поправку на освещенность, и это тоже позволяет ему гораздо точнее узнавать объекты, несмотря на то что в тени и на ярком свете они выглядят по‐разному. И в принципе, вот этот процесс анализа информации, поступающей от разных отделов мозга, – это ключевой компонент не только распознавания образов, но и вообще принятия любых решений.
Мозг – это система для сопоставления противоречивых сигналов. У него много отделов, и все хотят разного. Амигдала отслеживает, не происходит ли чего-нибудь опасного. Прилежащее ядро смотрит, нет ли чего-нибудь хорошего. Гипоталамус контролирует химический состав крови. Лобная кора занимается своими делами, например пишет книжку, игнорируя при этом сигналы от подкорковых центров – пока они слабые. Но если вдруг на мой стол неожиданно выбежит паук, амигдала немедленно начнет посылать нервные импульсы с высокой частотой и заставит меня отвлечься от книжки, чтобы оценить, насколько этот паук опасен и что с ним делать. Прилежащее ядро почти не мешает мне работать, пока нет сверхсильных соблазнов, но если вдруг мне позвонит один прекрасный мальчик (ну ладно, даже не один, я могу перечислить трех, с которыми это сработает) и позовет гулять, то прилежащее ядро быстро и популярно объяснит лобной коре, что это значительно важнее, чем книжка. Гипоталамус победит кору в тот момент, когда у меня в крови упадет уровень глюкозы, – тогда я перестану работать и пойду искать себе еду. Это, конечно, гипотетические примеры, но на более простых моделях все это можно изучать (и изучают) в томографе. Есть целая наука, которая называется “нейробиология принятия решений”, и она в очень большой степени посвящена именно тому, как разные отделы мозга физически, за счет частоты импульсов, соревнуются друг с другом и победитель получает всё.
Эта книга посвящена описанию разных экспериментов, старинных и современных, которые в совокупности формируют представление о том, что мозг познаваем. Что в нем есть конкретные нейронные сети, отвечающие за конкретные функции, и их возможно находить, изучать, воздействовать на них. Что эти нейронные сети могут изменяться в течение жизни под влиянием опыта и этот процесс мы способны до некоторой степени контролировать. Что, с другой стороны, этих сетей очень много и бóльшую часть их работы мы заведомо не осознаем, а вот на наши стремления и выборы они при этом вполне себе влияют.
Здесь приличествует сделать необходимые оговорки о том, что мозг невероятно сложен, что в реализацию любой психической функции вовлечено множество структур, что любая структура, в свою очередь, связана со многими функциями, что нейробиология все еще далека от полного понимания всех процессов, происходящих в мозге. Но все же за последние десятилетия она невероятно продвинулась на этом пути. Количество данных растет лавинообразно, граница между психологией и нейробиологией становится все более размытой (в последнее время их так и называют совместно, “когнитивные науки”, причисляя туда же проблемы искусственного интеллекта и некоторые направления лингвистики, антропологии и философии), и за этим процессом ужасно интересно наблюдать. Дело не только в чистой любви к абстрактному знанию, и даже не только в медицинских и технологических прорывах, связанных с развитием когнитивных наук. В повседневной жизни важнее другое: мозг – это наш главный рабочий инструмент. Любые наши успехи и неудачи, в общем‐то, сводятся к тому, насколько эффективно мы умеем им пользоваться. Для того чтобы делать это более осознанно, как мне представляется, полезно понимать общие принципы его работы и основные факторы, которые на эту работу влияют.
Пять лет тому назад я написала книжку “Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости”, посвященную нашим конструктивным биологическим ограничениям, способствующим принятию иррациональных решений. После ее шумного успеха меня стали часто приглашать в разные города выступать с научно-популярными лекциями, и благодаря этой деятельности я много вижу настоящих живых читателей. Иногда они говорят: “Спасибо за книжку! Я был очень рад снять с себя ответственность за те глупости, которые я совершаю”. И теперь я пишу новую книжку ради того, чтобы эту ответственность вернуть. Мне удалось убедить довольно много людей в том, что наша психика – продукт биологической эволюции и происходящие в мозге физиологические процессы влияют на принимаемые нами решения. А теперь я собираюсь сделать следующий логический шаг и поговорить о том, что и принимаемые нами решения влияют на физиологические процессы в нашем мозге. И вообще, в принципе не существует никаких “нас” отдельно от нашего мозга. Но бессмысленно рассматривать и мозг отдельно от “нас”.
Часть I Структуры и функции Где хранятся страх, счастье и сила воли
Глава 1 Можно ли жить без мозга?
Современная нейробиология началась со взрыва при прокладке железнодорожных путей.
Это был тест на вашу осведомленность. Если вы сразу подумали: “Господи, опять Финеас Гейдж, какая банальность, сколько можно!” – то я прошу у вас прощения. Все знакомые биологи и психологи уверяли меня, что ни в коем случае не следует включать этот эпизод в книжку и тем более с него начинать, но что же я могу сделать, если современная нейробиология действительно началась со взрыва при прокладке железнодорожных путей?
Дело было 170 лет назад, 13 сентября 1848 года, в нескольких километрах к югу от города Кавендиш, штат Вермонт. В этом городе сегодня живет 1300 человек, а двое самых известных жителей за всю его историю – это Александр Солженицын и вот еще Финеас Гейдж. Ему было 25 лет, он был бригадиром, и в его обязанности входила организация взрывных работ, необходимых, чтобы разрушать скалы и прокладывать рельсы на расчищенных участках. Чтобы взорвать скалу, в XIX веке нужно было просверлить в ней глубокое отверстие, насыпать туда пороха, протянуть фитиль, поместить поверх пороха инертный материал (например, песок), а потом аккуратно поджечь фитиль и отбежать на безопасное расстояние. Но в тот злополучный день все пошло не по плану. Финеас Гейдж контролировал качество закладки пороха, утрамбовывая его с помощью длинного железного стержня. Коллега отвлек его разговором, Гейдж обернулся через правое плечо и в тот же момент случайно высек искру. Порох взорвался, и стержень, подобно пушечному ядру, взлетел в воздух, вошел в голову Гейджа под левым глазом и вышел через макушку, отломив кусок черепного свода и оставив выходное отверстие размером 2 на 3,5 дюйма (примерно 5 на 9 см).
Как ни странно, Финеас Гейдж выжил. Он даже разговаривал через несколько минут после травмы. Коллега отнес его к повозке, запряженной волом, и там Гейдж сидел прямо всю дорогу до ближайшей гостиницы, а затем самостоятельно, с небольшой поддержкой коллеги, выбрался из повозки и дошел по лестнице до кровати. Доктор Джон Харлоу, описавший этот случай[12],[13], застал пациента в сознании, мужественным и стойким, способным внятно объяснить, что произошло. Гейдж даже надеялся вернуться к работе через пару дней. Этого, конечно, не случилось, следующие несколько недель Гейдж в основном метался в лихорадке, его рвало, ткани гноились, он бредил, к травме добавилась грибковая инфекция, охватившая и ткани мозга, и левый глаз. В конце октября физическое состояние пациента улучшилось, но врач осторожно отмечает: very childish – “очень инфантильный”. Гейдж капризничал и требовал немедленно доставить его в родной город Лебанон (в соседнем штате Нью-Гэмпшир, в 30 милях от Кавендиша). 15 ноября выяснилось, что в отсутствие врача Гейдж несколько раз вставал и выходил гулять, причем отказывался надевать куртку, хотя было холодно, и друзья не могли ничего с ним поделать. 25 ноября коллеги организовали перевозку Финеаса Гейджа в Лебанон; доктор Харлоу навещал его там и наблюдал за выздоровлением. Уже в апреле Финеас Гейдж вернулся в Кавендиш, и доктор Харлоу заключил, что физически он здоров. Конечно, у Гейджа был шрам на щеке, вмятина на черепе, он больше ничего не видел левым глазом, и у него была частично нарушена подвижность мышц левой половины лица, но, учитывая тяжесть травмы, он фантастически дешево отделался. Однако жизнь его изменилась. Было непонятно, чем он теперь будет заниматься. Вот как описывает ситуацию доктор Харлоу:
Коллеги Гейджа, считавшие его самым работящим и толковым мастером, пока он не получил увечье, полагают, что изменения в его разуме слишком заметны, чтобы он мог вновь занять свое место. Утрачено равновесие между его умственными способностями и животными порывами. Он вспыльчив, непочтителен, временами предается грязнейшему сквернословию (к чему прежде склонности не имел). ‹…› До травмы Гейдж, хотя и не получил образования, обладал уравновешенным умом, и те, кто его знал, считали его проницательным, разумным деловым человеком, энергичным и настойчивым в осуществлении своих планов. В этом отношении разум его разительно изменился, а потому его друзья и знакомые решительно говорят: “Это больше не Гейдж”.
Действительно, к работе бригадиром Финеас Гейдж так и не вернулся. Он много путешествовал, сменил несколько рабочих мест, дольше всего работал в Чили кучером почтового дилижанса, запряженного шестеркой лошадей. В какой‐то степени интеллектуальное состояние Гейджа с годами улучшилось, у него не было проблем с поиском работы, однако, по отзывам родственников, он по‐прежнему был импульсивен и ни одно занятие не устраивало его полностью. Через 12 лет после травмы Гейдж начал страдать от эпилептических припадков и 21 мая 1861 года умер. По другим данным, это случилось в мае 1860‐го. В любом случае врачи, лечившие его после травмы, узнали о смерти несколько лет спустя, так что у них совершенно не было возможности ни проанализировать ее причины, ни попросить о возможности вскрытия и исследования мозга. Все, чем родственники смогли помочь доктору Харлоу, когда он все‐таки их нашел, – разрешили эксгумировать тело и забрать череп. Теперь самый известный в мире череп хранится в анатомическом музее Гарвардской медицинской школы – вместе с пробившим его железным стержнем[14].
Исследователи часто обращаются к случаю Финеаса Гейджа, вновь и вновь анализируя как свидетельства современников, так и череп пострадавшего – с привлечением новых исследовательских методов и актуальных данных об анатомии мозга и функциональной роли его отдельных частей. В 1994 году работу, посвященную Гейджу, опубликовал[15] Антонио Дамасио, один из самых известных нейробиологов, изучающих взаимосвязи между структурами и функциями мозга. Дамасио и его коллеги проанализировали рентгеновские снимки черепа Гейджа, предложили семь возможных траекторий, по которым стержень мог пройти сквозь мозг (диаметр самого стержня составлял 3 сантиметра, а выходное отверстие в черепе из‐за отломившегося куска кости получилось значительно крупнее, так что возможны варианты), и посчитали самой вероятной траекторией такую, которая предполагала, что движение стержня разрушило крупные участки лобной коры не только в левом, но и в правом полушарии. С этим решительно не согласен Петер Рациу, выпустивший[16] в 2004 году работу, основанную на трехмерной компьютерной томографии черепа Гейджа. Он отмечает, что если бы стержень действительно прошел с таким смещением вправо, как утверждал Дамасио, то он не мог бы не пробить верхний сагиттальный синус – полость между листками твердой мозговой оболочки, заполненную венозной кровью, – а это привело бы к кровопотере, абсолютно точно несовместимой с жизнью. Соответственно, Рациу полагает, что была повреждена только префронтальная кора, самая передняя часть лобной доли, и только в левом полушарии (а не множество разных зон, на которые указывал Дамасио). Наконец, в 2012 году Джон Даррел ван Хорн сопоставил[17] томографические снимки, полученные Рациу, с современными усредненными данными о границах разных отделов мозга и распределении проводящих путей в нем и пришел к оценке, промежуточной между двумя крайностями: пострадало только левое полушарие, но более серьезно, чем полагал Рациу.
Почему современные ученые тратят столько времени и сил на обсуждение травмы мозга человека, умершего полтора с лишним века назад? Потому что в 1848 году он выжил, что само по себе было невероятно. А еще потому, что его личность изменилась после травмы и это был не только первый задокументированный случай, указывающий на то, что лобная кора важна для самоконтроля и принятия решений, – но и вообще первый хорошо задокументированный случай, демонстрирующий, что мозг и личность непосредственно связаны друг с другом. А еще потому, что Финеас Гейдж прожил после травмы 12 лет и негативные изменения в его личности, описанные Харлоу через полгода после травмы, по‐видимому, постепенно ослабевали в течение этого времени. Уже в августе 1849 года родственники Гейджа отмечали, что он перестал вести себя столь инфантильно, как в первые месяцы после несчастного случая. В 1858 году доктор Генри Тревитт встречал Гейджа, работавшего в то время в Чили, и отмечал, что он производит впечатление человека здорового и душевно, и физически[18]. В 1860 году Гейдж вернулся на родину и, по свидетельствам родственников, был полон желания работать. Возможно, если бы его здоровье не ухудшилось так резко (мы даже не можем быть уверены, что это было вызвано именно старой травмой), он еще смог бы построить блестящую карьеру взамен той, которая была прервана из‐за нелепого неудачного стечения обстоятельств двенадцатью годами раньше.
Мозг материален – и мозг изменчив. И все это мы можем видеть уже на примере Финеаса Гейджа. А за 170 лет, прошедших с момента злополучного взрыва при прокладке железнодорожных путей, у исследователей накопилось, к счастью, еще множество свидетельств в пользу этих двух ключевых утверждений. И к сожалению, некоторые из них также связаны с поломанными судьбами отдельных людей.
Говорящий мозг
Обсуждая траекторию движения железного стержня сквозь левое полушарие мозга Финеаса Гейджа, исследователи единодушны в одном: травма не затронула зону Брокá, участок коры в левом полушарии на границе лобной и височной долей мозга. Если бы это произошло, Гейдж, вероятнее всего, лишился бы способности говорить[19]. Именно это произошло со вторым самым знаменитым пациентом XIX века, Луи Виктором Леборном. К тому моменту, когда он поступил на лечение к хирургу Полю Брока, он уже 20 лет не мог говорить ничего, кроме единственного слога “тан”, но при этом его интеллект и память, по‐видимому, не были нарушены[20]. Он понимал обращенную к нему речь и мог отвечать на вопросы жестами. После смерти пациента в 1861 году Поль Брока провел вскрытие и обнаружил повреждение в задней трети нижней лобной извилины в левом полушарии – в зоне, впоследствии названной его именем. В течение жизни Брока описал еще ряд случаев, когда люди лишались способности к членораздельной речи и после их смерти оказывалось, что у них был поврежден один и тот же участок мозга. В зависимости от обстоятельств травмы речь может нарушаться в большей или меньшей степени, но главные характерные симптомы – это утрата грамматической структуры предложений и телеграфный стиль, отрывочные слова вместо плавного потока речи. Если бы мне сейчас повредили эту зону (или подавили бы ее работу с помощью транскраниальной магнитной стимуляции), то я смогла бы пересказать этот абзац примерно так: “Травма… Брока… речь… нет”.
В 1874 году молодой немецкий врач Карл Вернике описал еще одну зону мозга, необходимую для полноценной коммуникации между людьми[21]. Его первая пациентка, семидесятипятилетняя Сюзанна Розер, говорила бегло и свободно, но часто путала слова – и при этом не понимала обращенную к ней речь. Впрочем, в силу ее возраста близкие считали, что женщина просто оглохла. После ее смерти Вернике провел вскрытие и отметил, что из‐за закупорки артерии у нее произошло размягчение участка мозговой ткани в левом полушарии, в верхней височной извилине. Впоследствии в практике Вернике появились другие пациенты с нарушенным пониманием речи – и повреждение заднего отдела верхней височной извилины, известного теперь как зона Вернике, оказалось характерным для всех. Проблемы с пониманием влияют не только на успех диалога – они отражаются и в структуре собственной речи пациента: она может быть грамматически правильной, но при этом смысл ее трудно поддается расшифровке, так как человек перескакивает с одного на другое, странно комбинирует слова, путает похожие и часто старается компенсировать вашу непонятливость повышенной эмоциональностью изложения. Если бы я хотела донести до вас мысль, отраженную в этом абзаце, но у меня была бы повреждена зона Вернике, я бы изложила ее примерно так: “Грач молодой, и у него там эта женщина плохо слышала-видела, и там это сзади размягчение, черт его знает что! Ну и вот он и открыл!”
Таким образом, в XIX веке картина казалась четкой и ясной. Есть мозг, и в мозге есть две зоны, отвечающие за речь. При их повреждениях возникает нарушение функции. Существует моторная афазия, она же афазия Брока, – неспособность говорить. И существует сенсорная афазия, она же афазия Вернике, – неспособность понимать речь. И та и другая были описаны на базе единичных примеров, потому что нейробиологов тогда было мало и далеко не все люди с нарушениями речи попадали к ним на прием. Да и нарушений речи было мало: в мирное время основные причины повреждений мозга – это инсульт или опухоль. Но когда антибиотики еще не изобретены, а вакцинация только-только начинает развиваться, дожить до своего первого инсульта или опухоли удается далеко не каждому.
В XX веке нейробиологов стало много, и, к сожалению, пациентов тоже. Типичное описание клинического случая в монографии Александра Лурии “Травматическая афазия”[22] начинается так: “Больной Пол. (история болезни № 3312) получил 29/XI 1942 г. проникающее осколочное ранение нижне-задних отделов левой височной доли на границах с затылочной, сопровождавшееся длительной потерей сознания”. В книге подробно описаны десятки случаев. Четырехзначные номера историй болезни. 1941–1945 годы. И это только те пациенты, которых удалось доставить живыми в клинику нервных болезней Всесоюзного института экспериментальной медицины в Москве.
Во многих случаях врачи встречались с классической моторной или сенсорной афазией. Лурия цитирует рассказы о ранениях, характерные для пациентов с афазией того или иного типа (думаю, вам не составит труда разобраться, где какая):
“Вот… фронт… немец… идти… рота… ата-ку… потом… голова… вот… ра-не-ный… нога, рука… вот… эх… о-пе-ра-ци-я… эх… говорить… нету!”
“Я же не знаю ничего… Вот сначала их много было… и вот… раз!!! – и потом ничего… а потом вдруг вот вижу… и вижу! И вот так (показывает на голову) – и вот так! А потом опять ничего… А потом чуть‐чуть, совсем немножко… а теперь уже вот, хорошо!”
Но по мере накопления информации стало понятно, что картина значительно сложнее.
Во-первых, афазии (приобретенные нарушения речи) могут возникать не только при травмах классических речевых центров или даже соседних с ними областей, но иногда и при ранениях отдаленных участков головы. Для поддержания полноценной речи важны не только зоны Брока и Вернике, но и практически все отделы коры, и афазию бессмысленно рассматривать в отрыве от всех остальных нарушений работы мозга. Повреждения префронтальной коры, например, мешают планировать любую свою деятельность, и это отражается на речи: человек физически способен говорить, но ему сложно придумать, что именно он хочет сообщить и как нужно выстроить композицию будущего высказывания. Повреждения височной коры могут вызвать амнестическую афазию, при которой человеку трудно вспомнить нужные слова для формирования собственных высказываний или удерживать в памяти сразу все содержание обращенного к нему предложения.
Во-вторых, даже разрушение классических речевых центров – нижней лобной извилины или верхней височной извилины в левом полушарии – необязательно вызовет нарушения речи. Около 3,5 % пациентов не демонстрируют такой проблемы с самого начала, и примерно у 15 % афазия проходит со временем. Благодарить за это нужно то обстоятельство, что речевые центры не всегда расположены в левом полушарии, они могут быть и в правом, и в обоих. Лурия предположил, что даже если первоначально функции обеспечения речи принадлежали левому полушарию, то после травмы контроль за ними может перейти к правому, по крайней мере у некоторых счастливчиков. Вопрос о возможности такого перехода (даже в случае травмы у маленького ребенка) и сегодня остается дискуссионным[23], но, во всяком случае, Лурия показал, что прогноз оказывается более благоприятным для тех пациентов-правшей, которые демонстрируют скрытые признаки левшества. “Скрытые признаки” означают, что человек вообще‐то правша, но есть нюансы. Например, у него были в роду родственники-левши. Или при выполнении действий, требующих участия обеих рук, он задействует левую руку в большей степени, чем обыкновенные правши. И все это может означать, что у него не так сильно, как у обычных людей, выражено превосходство левого полушария над правым[24]. На этом месте я предлагаю поаплодировать – не мне, а Александру Лурии. Хлопать надо так, чтобы одна ладонь была над другой. Какая у вас оказалась сверху? Если левая (как вы это делаете?! это же жутко неудобно!), это повышает шансы на то, что ранение левого полушария будет для вас менее опасным.
В-третьих, мы аплодируем Лурии потому, что он изучал восстановление после травм – и способы лечения пациентов с афазией. Основная идея здесь такая: мозг большой и сложный, и многие задачи можно решать разными способами. Это как с транспортной системой: раньше вы летали из Челябинска в Волгоград с пересадкой в Москве, но если Москва вдруг оказалась разрушена, то надо попробовать проложить прямой маршрут или хотя бы сделать пересадку в Петербурге – все лучше, чем вообще не долететь. Лурия формулирует эту мысль немного сложнее, чем я: “Нарушенная функция может в известных пределах восстановиться путем включения в новую функциональную систему с помощью придачи ей новой афферентации, компенсирующей утерянное звено прежней функциональной системы”[25]. Это потрясающе, потому что книга написана в 1947 году и при этом в ней вовсю обсуждается нейропластичность, способность мозга к самоперестройке, которую мы до сих пор воспринимаем как какое‐то свежее и удивительное открытие. Во второй части книги я буду вам взахлеб рассказывать, что вот психотерапия‐то, оказывается, может анатомически изменять мозг: только-только показали с помощью томографии, суперсовременные данные – обалдеть! Ну да, а Лурия рассматривал изменение структуры связей между нейронными ансамблями как свою повседневную рабочую задачу семьдесят лет тому назад.
В каждом конкретном случае эта задача решается по‐разному. Если, например, человек утратил способность произносить звуки не задумываясь – ему приходится задумываться, то есть изучить с помощью рисунков, как именно должны двигаться губы и язык, чтобы произнести тот или иной звук, и практиковать это, контролируя свое отражение в зеркале, до тех пор, пока эти навыки не будут снова автоматизированы, уже за счет каких‐то новых обходных путей в мозге. Если человек утратил способность понимать обращенную к нему устную речь, но сохранил восприятие письменной, то ему задают одни и те же вопросы одновременно письменно и устно (и он на них благополучно отвечает), но при этом текст вопроса, написанный от руки, с каждым сеансом становится все менее, и менее, и менее разборчивым и наконец полностью нечитаемым, и человек, сам того не замечая, заново учится опираться на звуковую подсказку. Если человек утратил непосредственную способность понимать, чем отличаются словосочетания “круг под крестом” и “крест под кругом”, то он обучается осознанно выделять, кто из них стоит в именительном падеже, и заменять относительное “под” на абсолютное “снизу”, и уже таким образом восстанавливать значение: что в именительном падеже, то и снизу. Если человеку сложно пересказать прослушанную историю, ему может помочь шпаргалка, список универсальных смысловых связок, которые можно ставить перед каждой мыслью: “Однажды…”, “Когда…”, “В то время как…”, “После этого…”, – опираясь на которые рассказчик может выстроить логику повествования[26].
Сегодня зоны Брока и Вернике по‐прежнему занимают большое место в учебных курсах и научно-популярных книгах (потому что они – классный пример локализации функций в мозге), но несколько изменился взгляд на их задачи. Накопленные данные показали, что при повреждении зоны Брока страдает не только речь, но и понимание – особенно в том, что касается различения грамматических конструкций (“мальчик бежит за девочкой”, “девочка бежит за мальчиком” – кто за кем бежит?). А при повреждении зоны Вернике страдает не только понимание, но и речь, особенно в том, что касается подбора правильных слов. Поэтому сегодня скорее принято считать, что зона Брока важна для работы с грамматикой, а зона Вернике – для работы с семантикой, то есть со смыслом, содержанием слов[27],[28]. При этом (разумеется! конечно!) зоны Брока и Вернике не хранят в себе все нужные слова и грамматические конструкции, а только помогают быстро извлекать эту информацию, распределенную по огромному количеству отделов, и работают в тесном взаимодействии и друг с другом, и со всей остальной корой, и с подкорковыми структурами мозга.
Функциональная магнитно-резонансная томография, например, позволяет составить семантическую карту мозга. То есть не просто посмотреть, какие участки коры задействованы во время восприятия речи, но даже сопоставить картину активности мозга с конкретным смыслом слов: выделить зоны, реагирующие на эмоционально окрашенные слова; на слова, связанные с межличностными отношениями; на слова, связанные с жестокостью; на названия цветов и другие описания визуальных образов; на упоминания чисел и так далее[29]. Обнаруживаются две удивительные вещи. Во-первых, структура семантической карты, то есть соответствие между активностью мозга и значением слов, очень похожа у разных испытуемых, по крайней мере говорящих на одном языке и воспитанных в одной и той же культуре. Во-вторых, в восприятие речи вовлечена буквально вся кора, огромное количество участков и в правом, и в левом полушарии. Так что когда я или какой-нибудь другой популяризатор рассказывает вам, что для понимания речи нужна зона Вернике, – в принципе это правда. Но с одной оговоркой: помимо зоны Вернике, нужно еще примерно все остальное.
Все отрезать и посмотреть, что будет
На протяжении большей части XX века ученые были вынуждены обходиться без магнитно-резонансной томографии (за неимением таковой), так что исследовать мозг часто приходилось с помощью скальпеля. Если у вас есть пациент, которому вы не можете помочь, то можно, по крайней мере, разрушить ему большой кусок мозга и посмотреть, что получится.
Сегодня это кажется чудовищным, но нужно понимать контекст. В 1937 году в США было более 450 тысяч пациентов, заключенных в сумасшедших домах; половина из них проживала там более пяти лет[30]. Многие проявляли неконтролируемую агрессию и были опасны для окружающих, а медицина того времени не могла предложить ничего, кроме смирительных рубашек и запертых камер. Никаких антипсихотических лекарств не было: аминазин изобрели в 1953 году, галоперидол – в 1967‐м. Зато уже к середине тридцатых накопились результаты экспериментов на собаках и обезьянах, показывающие, что повреждение лобной доли делает их менее агрессивными, более спокойными и склонными к сотрудничеству с человеком. Ознакомившись с этими данными, португальский невролог (а еще бывший министр иностранных дел и вообще довольно разносторонний человек) Эгаш Мониш и его коллега Алмейда Лима не откладывая в долгий ящик начали проводить опыты над неизлечимыми пациентами психиатрических клиник. Сначала они повреждали лобную долю с помощью инъекций спирта, потом придумали инструмент для разрушения проводящих путей между лобной долей и остальным мозгом. Результаты очень вдохновили Мониша: его пациенты становились спокойными, конформными и послушными. В одной из ранних публикаций в качестве свидетельства выздоровления приводится история о том, как пациент после операции согласился сказать жене, куда он спрятал свои деньги, и их благополучно удалось найти и положить на депозит[31]. “Факты говорят сами за себя, – триумфально заключает Мониш. – Префронтальная лейкотомия – простая операция и всегда безопасная”.
Опыт Мониша с энтузиазмом переняли его американские коллеги – Уолтер Фримен и Джеймс Уоттс. В 1942 году они публикуют отчет о 136 проведенных операциях[32] (пациенты страдали от шизофрении, депрессии и разнообразных форм напряжения, невроза и психоза, которые затруднительно соотнести со строгой терминологией современных классификаций). Из этих людей 27 смогли вернуться к обычной работе, 16 начали подрабатывать или учиться, 39 смогли заниматься домашним хозяйством, 30 не были пристроены ни к какому делу, но, по крайней мере, тоже вернулись жить домой, 13 остались в клинике и 11 умерли в ходе операции или через некоторое время после нее. По тем временам это рассматривалось как хорошее достижение – потому что в противном случае в клинике остались бы они все.
Фримен и Уоттс признают, что личность человека меняется по сравнению с тем, какой она была до заболевания. Люди обычно становятся более ленивыми; говорят все, что взбредет в голову, без учета социального контекста; их эмоциональные реакции бурные, но неглубокие и недолговечные; нет задумчивой меланхолии, болезненных чувств, мрачного молчания. “С этими пациентами можно обращаться как с детьми, демонстрируя им эмоциональные реакции в ответ на их нежелательное поведение”, – советуют авторы. Они переименовывают операцию из лейкотомии в лоботомию (от греческого Λοβός – “доля”; созвучие со лбом тут случайное), разрабатывают технологию проведения операции через глазницу, без необходимости вскрытия черепа, и оборудуют “лоботомобиль” – фургон для операций, на котором Фримен объезжает 23 штата и выполняет 3449 лоботомий по цене 25 долларов за штуку. 19 из них были проведены несовершеннолетним, самому младшему пациенту было четыре года[33].
Спектр показаний к операции стремительно расширяется и становится все менее строгим, предварительное и постоперационное наблюдение за пациентами постепенно сходит на нет. Эгаш Мониш получает Нобелевскую премию. Розмари Кеннеди, сестра будущего президента, превращается в инвалида после неудачно проведенной лоботомии (родители остаются довольны, так как у Розмари был низкий IQ и трудности в обучении и она постоянно компрометировала свою приличную семью). Говард Далли переживает операцию в двенадцатилетнем возрасте из‐за подозрения на шизофрению, мелкого хулиганства, а также по желанию мачехи, затем восстанавливается достаточно для того, чтобы написать книгу “Моя лоботомия”. Кен Кизи пишет книгу “Пролетая над гнездом кукушки”, в которой один из главных героев подвергается лоботомии, после того как нападает на медсестру; сила искусства слишком велика, чтобы мы могли в этой ситуации посочувствовать персоналу клиники.
Постепенно накапливаются данные о том, что лоботомия не просто делает человека “спокойнее”, а по сути уничтожает его личность – способность к проявлению инициативы, планированию своих действий, поддержанию устойчивого интереса хоть к чему-нибудь[34]. Она может приводить к недержанию мочи. Часто вызывает эпилептические припадки[35]. По-видимому, снижает IQ, хотя здесь на удивление мало исследований, выборки крохотные[36], а выводы противоречивые[37]: с одной стороны, потому что в принципе далеко не все пациенты были достаточно коммуникабельны, чтобы проходить формализованный тест, а с другой – потому что и исследователи в сороковых годах были настолько очарованы новой операцией, что зачастую не считали необходимым сопровождать ее какой‐то серьезной оценкой состояния пациентов до и после. К концу пятидесятых это очарование все же развеялось (к тому же появились лекарства, позволяющие контролировать агрессию), и использование префронтальной лоботомии постепенно сошло на нет.
Это не означает, что ученые и врачи полностью отказались от идеи проведения операций на мозге с целью воздействия на поведение. Их продолжали активно изучать во второй половине XX века, и некоторые исследовательские центры продолжают эту работу и сегодня[38]. Печальный опыт массового применения лоботомии научил человечество тому, что нужно думать, что именно вы отрезаете, кому и для чего и согласен ли с этим сам человек (или, по крайней мере, его опекуны) даже после перечисления всех возможных побочных эффектов, – а вовсе не тому, что психохирургия в принципе бесполезна.
Например, в наше время она может применяться для лечения обсессивно-компульсивного расстройства – в том случае, если пациенту не помогла ни психотерапия, ни медикаментозное лечение. Люди с этим заболеванием страдают от навязчивых мыслей и почти неконтролируемого стремления к выполнению повторяющихся и бессмысленных действий. Скажем, они могут испытывать патологическую потребность в чистоте. Ничего смешного или полезного здесь нет. Они перемывают свой дом по десять раз в день, до кровавых мозолей, даже несмотря на то, что сами понимают всю абсурдность этого стремления, и тратят множество душевных сил на борьбу с навязчивым желанием перемывать дом не десять раз в день, а пятьдесят. Томографические исследования демонстрируют, что обсессивно-компульсивное расстройство сопровождается повышенной активностью орбитофронтальной коры, передней поясной коры и ряда подкорковых структур, а если человеку помогло лечение и симптомы обсессивно-компульсивного расстройства стали слабее, то соответственно снижается и активность в этих зонах. Если же обычное лечение не помогает, то можно предложить пациенту удалить часть передней поясной коры или перерезать проводящие пути, связывающие ее с соседями. Люди часто соглашаются, потому что сами страдают от своей болезни. Обобщение результатов 10 таких исследований, в которых приняли участие 193 пациента[39], показало, что при операции на поясной коре выраженность симптомов снижается в среднем на 37 %, а при перерезании проводящих путей – в среднем на 57 %. Вообще это оценивается с помощью формальных опросников, но для наглядности можно представить, что человек теперь перемывает дом не десять раз в день, а только четыре. А это уже хоть как‐то совместимо с жизнью.
Человек, которому ничего не надоедало
К 1950 году нейрохирурги уже осознавали, что стратегия “давайте разрушим как можно больше связей между таламусом и корой и посмотрим, что получится” нелепа и ущербна, потому что такая операция вызывает у пациентов серьезные изменения личности и при этом не позволяет исследователям понять, как именно соотносятся конкретные функции мозга с конкретными участками коры, потому что вы разрушаете слишком многое. С другой стороны, делать‐то с пациентами что‐то надо было. Поэтому начинается интенсивная разработка более селективных методов, подразумевающих разрушение какого‐то менее крупного участка коры (или его связей с другими отделами). Результаты таких операций оценивались более внимательно, чем в случае Фримена с его гастрольным туром на лоботомобиле по всей стране.
Одним из видных апологетов нового щадящего подхода становится нейрохирург из Коннектикута Уильям Сковилл. Он делит своих пациентов на три группы и каждой разрушает только какую‐то часть лобной доли – верхнюю, или среднюю, или нижнюю, прилегающую к глазам[40]. Площадь поврежденного участка коры в каждом случае он оценивает в 60 квадратных сантиметров, что лучше стандартной лоботомии, при которой эта площадь составляет, тоже по оценке Сковилла, около 160 квадратных сантиметров. Он аккуратно сравнивает эффекты от разных вмешательств и приходит к выводу, что лучше всего разрушать нижнюю часть лобной доли, орбитофронтальную кору. Это приводит к улучшению у 14 пациентов с шизофренией из 28, и в процентном отношении этот результат лучше, чем при полной префронтальной лоботомии. В случае аффективного психоза улучшение наблюдается у 5 пациентов из 6 (шестой умер), и это такой же хороший результат, как и после полной лоботомии. А если нет разницы, зачем резать больше? Тем более что при повреждении одной только орбитофронтальной коры, по оценке Сковилла, практически нет изменений личности.
В дальнейшем Сковилл сосредотачивается на том факте, что орбитофронтальная кора тесно взаимодействует с медиальной височной корой и, может быть, надо вообще повреждать височную долю, а не лобную. Он начинает проводить такие операции, в разных случаях вырезая разное количество нервной ткани. В основном он работает с пациентами, страдающими от психоза. Первые результаты вроде бы многообещающие – психоз становится менее выраженным, личность не меняется.
Как раз в это время к Сковиллу обращается за консультацией Генри Молисон[41], молодой человек, с десятилетнего возраста страдающий от эпилептических припадков[42]. Приступы постепенно усиливались и к 27 годам полностью лишили его способности работать и жить полноценной жизнью. В любой момент он мог неожиданно начать биться в судорогах, прикусывал себе язык, не контролировал мочеиспускание и япосле каждого припадка долгое время находился в полубессознательном состоянии. Молисон перепробовал абсолютно все существовавшие тогда способы лечения, но ничего не помогало. К тому же в его случае не удавалось установить с помощью электроэнцефалограммы, в какой именно части мозга зарождается эпилептический припадок: судорожная активность возникала как будто бы везде одновременно.
Уильям Сковилл честно рассказал Молисону, что современная наука не очень понимает, что с ним делать. “Но вот, – говорит, – я лично сейчас работаю с медиальной височной долей. Могу вам сказать, что в принципе эпилептическая активность часто зарождается именно там, в гиппокампе и прилегающих к нему структурах. И наоборот, хотя известно, что в принципе лоботомия повышает вероятность эпилептических припадков, но вот именно в случае иссечения медиальной височной доли они как раз возникают реже всего. Хотите, попробуем вам провести такое экспериментальное лечение?” – “Хотим”, – сказали Молисон и его родственники, потому что терять им было уже нечего. Во время операции, проведенной 1 сентября 1953 года, Сковилл пробовал вживлять Молисону электроды и стимулировать разные участки мозга в надежде все‐таки обнаружить локализованный эпилептический очаг, но безуспешно, так что завершил операцию в соответствии с первоначальным планом и удалил пациенту значительную часть медиальной височной доли: гиппокамп, парагиппокампальную извилину, амигдалу и некоторые другие прилегающие к ним структуры.
Генри Молисон хорошо перенес операцию, эпилептические припадки действительно стали заметно слабее и отныне поддавались лекарственному контролю. Его личность, по оценке семьи, никак не изменилась. Интеллект тоже не был нарушен. Но вскоре обнаружилось, что он – так же как и еще один пациент Сковилла, которому тоже удалили гиппокамп, – испытывает серьезные проблемы с запоминанием новой информации (старые воспоминания по большей части сохранились, хотя он не мог вспомнить сотрудников госпиталя, а также забыл, что его любимый дядя умер). Сам Сковилл не очень этим заинтересовался, Генри Молисон вернулся жить домой, а Сковилл продолжил исследовать способы лечения психоза.
В 1955 году Уайлдер Пенфилд (нейробиолог из предисловия книжки, который нарисовал гомункулуса и вызывал у людей воспоминания с помощью электростимуляции) выступает с докладом, в котором описывает два похожих случая: нарушения памяти у пациентов после удаления эпилептических очагов в медиальной височной доле. Тогда Сковилл звонит Пенфилду и рассказывает, что у него тоже есть такой пациент[43]. Пенфилд отправляет к нему в Коннектикут свою коллегу Бренду Милнер, и на всю оставшуюся жизнь она становится бессменным и главным исследователем случая Генри Молисона и других подобных ему пациентов (и вообще одним из ключевых игроков в развитии нейропсихологии; на момент написания этих строк она не только жива, но и продолжает работать, хотя в июле 2018 года ей исполнилось 100 лет).
Бренда Милнер встретилась с Генри Молисоном за обедом, а через полчаса он не мог не только припомнить, чтó они ели, но и сказать, обедал ли он вообще. Его семья рассказала, что он читает одни и те же журналы и собирает одни и те же пазлы изо дня в день, не обнаруживая никаких признаков скуки. Что он никогда не знает, где лежит газонокосилка, даже если пользовался ей только вчера. Что серьезные бытовые проблемы начались, когда семья была вынуждена переехать: он прекрасно помнил свой старый адрес, но за 10 месяцев так и не выучил новый.
При дальнейшем общении стало понятно, что кратковременная память у Генри Молисона была ничуть не хуже, чем у любого из нас. Он мог без проблем, например, удерживать в памяти трехзначное число (пусть будет 318), время от времени мысленно к нему возвращаясь, в течение 15 минут. Но стоило ему только отвлечься, как он забывал не только сами цифры, но и то, что ему вообще давали такое задание. Молисон помнил бóльшую часть событий, происходивших с ним в детстве; не всегда хорошо ориентировался в том, что происходило между 16 и 27 годами (например, не мог припомнить свой школьный выпускной вечер), и практически не запоминал все то, что случилось после операции[44]. В 1973 году, например, Молисон не знал, что такое “Уотергейт”[45], хотя смотрел новости по телевизору каждый день, а тогда в новостях только об этом и говорили. При этом некоторые важные события он все же запоминал. Например, осознавал, что его отец умер, хотя это произошло через много лет после операции[46]. Он также знал, что президент Кеннеди был убит, хотя и не мог сообщить никаких деталей о том, как это произошло.
Знание своего домашнего адреса или значения слова “Уотергейт” – это декларативная память. Она работает с фактами о мире, которые можно выразить в словах. У Генри Молисона была нарушена запись в долговременную память именно таких фактов. При этом у него нормально работала имплицитная память – способность к освоению навыков, которые обычно никто не пытается описать словами. Например, хотя он и не помнил адреса своего дома, но он постоянно по нему ходил – и был способен правильно нарисовать план комнат, несмотря на то что ни разу не бывал в этом доме до операции. Еще более яркой иллюстрацией этого факта стали эксперименты Бренды Милнер, в которых она предлагала Молисону рисовать геометрические фигуры, соединяя точки, но так, чтобы он не видел свою руку с карандашом непосредственно, а видел только ее отражение в зеркале[47]. Это нетривиальная задача, и сначала у Молисона, как и у всех остальных людей, ничего не получалось. Но, так же как и все остальные люди, он постепенно приноравливался и после десятка испытаний рисовал фигуры уже практически без ошибок. На второй день сразу начинал рисовать их успешно. И на третий. Но только с одной маленькой особенностью: в отличие от обычных людей, он был совершенно уверен, что выполняет это задание впервые в жизни, и искренне удивлялся тому, каким нетрудным оно оказывалось. Это показывает, что для использования разных функций памяти нужны разные отделы мозга и, повреждая один их них, вы нарушаете некоторые из функций, но оставляете сохранными остальные.
В рассказах о Генри Молисоне (даже в университетских аудиториях) нередко используется живая и запоминающаяся иллюстрация: говорят, что он пугался, когда подходил к зеркалу, так как ожидал увидеть молодого мужчину, а в зеркале отражался старик. Я и сама приложила руку к распространению этого мифа, пересказав его несколько раз в своих научно-популярных лекциях про память. Была неправа. Такие наблюдения проводились[48], но нет, он не пугался. Во-первых, для того чтобы испытывать негативные эмоции, важна амигдала, а она у Молисона тоже была удалена в ходе операции. Во-вторых, в распознавании лиц ключевую роль играет не гиппокамп, а веретенообразная извилина, которая у Молисона не была повреждена, так что, вероятно, он вполне мог отслеживать те изменения, которые постепенно происходили с его лицом.
Генри Молисон умер 2 декабря 2008 года. Я даже помню, где я была и что делала в тот момент, когда об этом написали новостные сайты, – так же как большинство людей старше тридцати помнит, где они были 11 сентября 2001 года. Его мозг извлекли, детально рассмотрели в томографе, затем нарезали на слои толщиной в 1,26 миллиметра, сфотографировали каждый и создали цифровую трехмерную модель[49]. Это помогло окончательно подтвердить результаты прижизненных томографических исследований: выяснилось, что Уильям Сковилл все‐таки не удалил гиппокамп полностью, как предполагал сделать, его задняя часть осталась неповрежденной. Вероятно, это помогло Генри Молисону не оказаться полностью выключенным из реальности и запоминать хотя бы некоторые ключевые сведения о мире, такие как факт смерти его отца.
Мы говорили о том, что Генри Молисон, как правило, забывал новую информацию, как только переставал быть на ней сосредоточен. В связи с этим вопрос к вам: можете ли вы сейчас воспроизвести то трехзначное число, которое должен был запомнить Генри Молисон четырьмя абзацами выше? Вообще‐то это совершенно нормально, что подавляющее большинство воспринятой нами информации сразу же теряется, как только мы перестаем обращать на нее внимание. В случае с числом было очевидно, что запоминать его вам незачем. Но вот общее представление о том, кто такой Генри Молисон и чем он знаменит, у вас наверняка сформировалось (а если вы и так слышали о нем раньше, то, возможно, обогатилось новыми подробностями), и, скорее всего, вы и завтра будете помнить и его имя, и особенности его биографии. Чтобы это было возможным, необходим гиппокамп; здорово, что он у вас есть.
Как перестать бояться
Я уже пять раз написала в этой книжке слово “амигдала” и ни разу толком не объяснила, что это такое. Мне не стыдно, потому что люди обладают развитой способностью к тому, чтобы интуитивно понимать значение слов, опираясь на окружающий контекст (иначе мы не могли бы осваивать языки, начиная с родного), и даже если вы не были знакомы с амигдалой раньше, то к этому моменту вы все равно уже поняли, что это какой‐то участок мозга, связанный со страхом. На самом деле не только со страхом, вообще с эмоциями, и даже необязательно отрицательными, а еще с формированием памяти о них.
В русскоязычном информационном пространстве идет горячая священная война из-за того, как надо называть эту область мозга. На латыни она – corpus amygdaloideum. Это означает “миндалевидное тело” (потому что амигдала правда похожа по форме на миндальный орех), и именно так она и называется в большинстве русскоязычных источников (в общем поиске Гугла – 275 000 результатов, в поиске по русскоязычным научным статьям – 2320). Но биологи и журналисты обычно работают с английскими научными текстами, и оттуда в их речь постепенно просачивается короткое и звонкое amygdala (на русском языке – 78 000 и 408 результатов выдачи соответственно). В первой книжке я еще писала “миндалевидное тело”, но теперь сознательно и цинично переключилась на амигдалу. Главным образом потому, что миндалевидное тело часто называют просто миндалиной, а это порождает путаницу, так как миндалины есть еще и в горле. Лучше, чтобы для каждого явления было свое слово, и удобно, когда оно одинаковое на русском и английском, – меньше трудностей перевода. Но в принципе если бы этот вопрос обсуждался на “Грамоте.ру” (я проверила, не обсуждается), то она, скорее всего, сказала бы, что я неправа и надо говорить “миндалевидное тело”, так что вы тоже можете меня за это осудить, я не против.
Так вот. Вообще‐то про амигдалу (sic!) собирается писать целую отдельную книжку мой коллега Влад Муравьев. Но пока все равно непонятно, когда она выйдет, так что одну классную историю (из тех, которые он наверняка будет описывать более подробно) я просто не могу не упомянуть, раз уж эта глава посвящена людям с повреждениями мозга и важным вещам, которые мы смогли понять благодаря тому, что эти люди мужественно и великодушно соглашались взаимодействовать с учеными.
Вот случай из жизни женщины, известной под инициалами S. M. Однажды вечером – было уже совсем темно – она шла через небольшой сквер. Из церкви неподалеку доносилось пение хора. На скамье в сквере сидел человек, который, как показалось S. M., находился в состоянии наркотического опьянения. Он поманил женщину к себе, а когда она подошла, схватил ее за одежду и заорал, размахивая ножом: “Я тебя зарежу, сука!”[50] S. M. осталась спокойна, а поскольку церковное пение настроило ее на возвышенный лад, она ответила мужчине: “Если ты собираешься убить меня, тебе придется сначала разобраться с ангелами моего Бога”. Мужчина отпустил S. M., и она неторопливо пошла своей дорогой. На следующий день она проходила через тот же сквер без каких-либо опасений.
Двадцатилетний сын S. M. не смог припомнить ни одного случая, когда она была бы испугана. Зато он рассказал, как однажды в детстве он играл с братьями во дворе и увидел гигантскую змею. Она переползала через однополосную дорогу, и тело ее протянулось от одной обочины до другой. Он крикнул: “Офигеть какая огромная змея!” Тогда S. M. подбежала к детям, взяла змею и отнесла в траву за дорогой.
У S. M. редкое генетическое нарушение – болезнь Урбаха – Вите. Это результат мутации в гене ECM1, необходимом для нормального функционирования соединительной ткани, так что самые заметные проблемы связаны с состоянием кожи и слизистых оболочек. Клиническая картина описывается в научной литературе весьма туманно, в формулировках вроде “накопление желтоватого инфильтрата и гиалиноподобных веществ”, ведь пациентов в мире очень мало и во всех деталях это заболевание еще не изучено. Интерес ученых оно привлекло вообще не из‐за проблем с кожей, а потому, что оно может сопровождаться отвердеванием кровеносных сосудов в мозге и накоплением кальция в нервной ткани, что приводит к ее гибели. При этом поражается, к счастью, не весь мозг, а только небольшие его участки, причем более чем у половины пациентов – именно амигдала. Это верно и в случае S. M. – практически весь мозг у нее в порядке, и только обе амигдалы, в правом и левом полушарии, полностью разрушены.
С тех пор как случай S. M. стал известен науке, ученые предприняли множество целенаправленных усилий, для того чтобы ее напугать[51]. Они показывали ей фильмы ужасов. Приводили в зоомагазин, полный змей и пауков. Устраивали экскурсию в лучший в Америке лабиринт ужасов на главное в году шоу страха, приуроченное к Хэллоуину. Все тщетно. Змей она брала на руки и трогала за язык, причем сотрудникам зоомагазина приходилось пресекать попытки S. M. потискать самых ядовитых питомцев, чтобы эксперимент прошел без человеческих жертв. В лабиринте ужасов она напугала одного из монстров-актеров, неожиданно ткнув его пальцем в голову. Самые жуткие сцены из фильмов ужасов бесстрашная женщина оценивала в лучшем случае на один балл по десятибалльной шкале – там, где здоровые добровольцы оценивают их на девять.
В 2013 году исследователи проверяли очередной способ вызвать страх, ожидая в очередной раз подтвердить, что для пациентов с болезнью Урбаха – Вите это не работает, потому что для любого страха нужна амигдала, а амигдалы нет[52]. Но на этот раз S. M. наконец испугалась. Более того, у нее случилась паническая атака. Когда воздействие было уже прекращено, она закричала: “Помогите мне!” – и экспериментатор немедленно помог ей освободиться. “Ее лицо раскраснелось, ноздри трепетали, глаза были широко распахнуты”, – поэтично описывают ученые. После неожиданного успеха с S. M. они тут же провели такой опыт с еще двумя пациентами с болезнью Урбаха – Вите и с двенадцатью здоровыми людьми для контроля. Паника наблюдалась у всех трех больных и только у четверти людей из контрольной группы (то есть тоже у трех человек). Наблюдалось и сильное повышение физиологических показателей страха, таких как частота сердцебиения. Обычно для измерения страха регистрируют кожно-гальваническую реакцию, изменение электрической проводимости кожи в результате повышения потоотделения при испуге (тот же принцип применяется в детекторе лжи). В данном случае эти показания удалось снять только с одного пациента из трех, потому что, как вы помните, болезнь Урбаха – Вите сопровождается изменениями структуры кожи. Но да, у этого пациента кожно-гальваническая реакция была выражена очень сильно. Интересно, что у здоровых людей из контрольной группы кожно-гальваническая реакция и частота сердечного ритма росли в ожидании воздействия, а у людей с поврежденной амигдалой – только когда все уже случилось.
Как же напугать даже тех, кто не боится? Надеть им на лицо маску, чтобы они вдохнули газовую смесь с повышенным содержанием углекислого газа (35 %, а в нормальном воздухе – 0,03 %). Опыт считается вполне безопасным: во‐первых, концентрация кислорода в этой смеси такая же, как в воздухе, а во‐вторых, за раз предлагается сделать всего один глубокий вдох, после чего снова дышать нормально. Но одного вдоха вполне достаточно для того, чтобы углекислый газ поступил в кровь, подействовал на рецепторы, присутствующие и в стволе мозга, и в промежуточном мозге, и в островковой коре – в общем, много где, помимо отсутствующей амигдалы.
Это очень важный результат. Он показывает, что амигдала нужна не для того, чтобы испытывать страх, – а для того, чтобы его запускать, предварительно оценив угрозу. Без амигдалы вы неспособны испугаться маньяка, змеи, фильма ужасов… Но вот если у вас в крови слишком много углекислого газа, то есть вы задыхаетесь, то в мозге найдется масса других способов активировать панику.
Статус: все сложно
Допустим, вы сейчас отложите книжку и пойдете на свидание (отличная идея), и собеседник спросит вас, что вы сейчас читаете, а вы в ответ перескажете ему какую-нибудь историю из этого текста. Вопрос: какую? Я почему‐то думаю, что либо про амигдалу, либо про гиппокамп. И не только потому, что они были недавно. А еще и потому, что я рассказываю про них значительно более четко и уверенно, чем про травмы коры. “Если вам повредить амигдалу, то вы не будете пугаться наркоманов в парке” – годится. “Если вам повредить такой‐то участок коры, то вы…” Да черт его знает, что. Скорее всего, то‐то и то‐то, но у всех в разной степени и на разное время.
С одной стороны, даже небольшие повреждения коры могут вызывать довольно сильные перемены в поведении и восприятии реальности. Я уже рассказывала вам про речевые центры Брока и Вернике, при повреждении которых нарушается способность к членораздельной речи или к пониманию слов собеседника. Еще один яркий пример – это повреждения области распознавания лиц в веретенообразной извилине, которые приводят – как вы догадались? – к нарушению распознавания лиц, или прозопагнозии[53].
Мы точно не знаем, была ли повреждена именно веретенообразная извилина у человека, который принял жену за шляпу, в одноименной книге Оливера Сакса (потому что этому пациенту не делали никакого сканирования мозга), но, скорее всего, да. Пациенты с таким диагнозом (подтвержденным результатами МРТ) действительно не узнают в лицо своих знакомых и даже близких родственников – хотя помнят об их существовании и могут привыкнуть узнавать их по каким‐то другим чертам, например по голосу, прическе или одежде. Если показать им три фотографии одного и того же лица, из которых две одинаковые и обычные, а третья такая же, но сильно искажена в графическом редакторе – например, глаза сдвинуты к самой переносице или рот прижат близко к носу, – и попросить указать на фотографию, которая отличается, то процент правильных ответов будет на уровне случайного угадывания: люди с прозопагнозией невосприимчивы к пространственному расположению черт лица (хотя у некоторых из них результаты улучшаются, если им сказать, на что конкретно обратить внимание)[54].
Но даже с этими хрестоматийными примерами все не так однозначно. Зоны Брока и Вернике у некоторых людей могут быть расположены не в левом полушарии, а в правом. Прозопагнозия бывает врожденной, и в этом случае с веретенообразной извилиной у людей все в порядке, и она даже активируется, когда им показывают лица[55], но узнавать знакомых им это не помогает – там присутствуют более тонкие нарушения, предположительно связанные со взаимодействием между разными отделами мозга[56].
С другой стороны, бывает наоборот: очень сильные повреждения мозга могут обходиться у некоторых счастливчиков практически без видимых последствий. Больше всего таких примеров связано с гидроцефалией – чрезмерным накоплением спинномозговой жидкости в желудочках головного мозга. Если гидроцефалия возникла у младенца, то ее трудно не заметить, потому что она сопровождается увеличением объема черепа. Ее заподозрит педиатр при плановом осмотре, порекомендует проконсультироваться с неврологом, и если диагноз подтвердится, то ребенку назначат лечение – чаще всего хирургическую операцию, например шунтирование для обеспечения оттока жидкости. Но если гидроцефалия возникла позже, когда череп уже неспособен к быстрому росту, то увеличенные желудочки начинают сдавливать мозг. Опять же, в этом случае человек обычно испытывает тошноту, головную боль, сонливость, нарушения координации движений и другие неприятные симптомы, доходит до невролога, получает диагноз и лечение.
Однако изредка случается, что очень сильную гидроцефалию обнаруживают у взрослого человека совершенно случайно[57]. Скажем, в восьмидесятые годы был описан случай студента-математика с IQ=130, который попал в сферу внимания врачей только в 20 лет в связи с жалобами на замедленное половое созревание. Врач обратил внимание на то, что у юноши довольно крупная голова, и направил его на сканирование мозга. Выяснилось, что желудочки занимают бóльшую часть черепа, а объем собственно мозга, по самым оптимистичным расчетам, составляет 56 % от нормального.
Другой документально подтвержденный пример: женщина, обратившаяся к врачам в 44 года с жалобами на головную боль и в результате выяснившая, что больше половины объема ее черепа заполняет спинномозговая жидкость. За исключением головной боли, ее ничего не беспокоило, ее IQ был 98, она работала администратором, а на досуге учила иностранные языки и знала их семь штук. Правда, окружность головы у нее была 62 сантиметра (я, конечно, тут же оторвалась от компьютера, чтобы измерить свою: получилось 54), но, в конце концов, большая голова – это красиво.
Предполагается, что в случае гидроцефалии на руку пациентам играет тот факт, что болезнь развивается постепенно. Мозг успевает перестроиться, оптимизировать свои функции, перераспределить их от более пострадавших отделов к менее пострадавшим. Если бы повреждение такого масштаба случилось одномоментно, то человек бы, вероятно, погиб. Но это не точно.
В 2016 году нейробиологи и врачи из четырех стран собрались вместе, чтобы описать случай пациентки C. G., менеджера в международном банке из Аргентины[58]. Когда ей было 43 года, она испытала острый приступ головной боли, ее затошнило, она потеряла сознание. Когда ее доставили в больницу, компьютерная томография показала массивное кровоизлияние в мозг. После этого C. G. долго и тяжело поправлялась, подвижность левой половины тела нарушилась, через полгода к тому же начались эпилептические припадки, от которых плохо помогали лекарства. Через полтора года после первого инсульта она пережила второй, на этот раз ишемический (связанный с нарушением кровоснабжения). Парадоксальным образом после него она поправлялась быстрее, чем после первого, жалобы были только на снижение чувствительности в правой руке и появление синестезии[59], причем последняя вскоре исчезла. В общей сложности в результате двух инсультов у нее серьезно пострадало правое полушарие (все его зоны: и лобная, и височная, и теменная, и затылочная кора), сильвиева борозда и полосатое тело в левом полушарии, островковая кора и амигдала с обеих сторон и мозолистое тело в придачу.
При этом у C. G. все в порядке. Это подтверждают и ее мама, и друзья. И исследования – тоже. Она без проблем справлялась со стандартными неврологическими тестами на способность к контролю за своими действиями и словами. Например, когда экспериментатор хлопает по столу один раз, вам нужно хлопнуть дважды, и наоборот. Или вам нужно закончить предложение, используя грамматически подходящее, но непригодное по смыслу слово: “Москва – столица нашей…” (“родины” – неправильный ответ, подойдет что-нибудь вроде “ежевики”). У испытуемой не было проблем с рабочей памятью – например, с тем, чтобы воспроизвести в обратном порядке последовательность, в которой экспериментатор указывал на четыре кубика. C. G. различала вкусы растворенных в воде сахара, соли, лимонной кислоты и хинина не хуже, чем контрольная группа здоровых испытуемых. Она реагировала на эмоционально окрашенные видеоролики так же, как все. Понимала, какие эмоции выражают люди, говорящие с разными интонациями или сфотографированные с разными выражениями лиц. Единственная проблема, которую все‐таки удалось выявить экспериментаторам в ходе серии тестов, заключалась в том, что у C. G. была снижена чувствительность к запахам. В попытках придраться к чему-нибудь еще экспериментаторы отмечают, что C. G. очень открыта и охотно обсуждает свои медицинские проблемы и свои чувства по этому поводу даже с теми людьми, которых встречает впервые (ну мало ли, я вот тоже все легко обсуждаю, а у меня даже инсульта пока не было). Ну и еще у нее по‐прежнему снижена чувствительность правой руки, но это не мешает ей ни печатать на компьютере, ни завязывать шнурки. Честное слово, если бы кто‐то придумал, как применить опыт выздоровления C. G. при реабилитации других пациентов с инсультом, то этому гению следовало бы немедленно присудить Нобелевскую премию, а еще дать “Оскара”, медаль “Мисс Вселенная” и избрать в президенты.
К сожалению, пока что ученые честно признаются, что они понятия не имеют, почему C. G. смогла настолько легко отделаться. Может быть, она феномен – в том смысле, что все ключевые нейронные контуры у нее в принципе с самого начала располагались в мозге не так, как у обычных людей, и поэтому не были затронуты инсультом, хотя должны были бы. Может быть, она феномен с точки зрения способностей к восстановлению функций – большинство тестов проводилось через год после инсульта. Может быть, она феномен с точки зрения резервов мозга – здесь авторы отмечают, что она никогда не пила и не курила, хорошо училась, занималась спортом, рисовала и играла в интеллектуальные игры. Может быть, второй инсульт каким‐то образом сыграл роль противовеса первому. (Также может быть, что это все циничная фальсификация, но все‐таки вряд ли: журнал приличный, руководитель исследования – серьезный высокоцитируемый ученый, было бы невыгодно так рисковать. Но цитирований у этой его статьи пока мало, потому что она относительно свежая, проверки тех же результатов другими авторами пока нет, так что вы перепроверьте после выхода книжки, может быть, к тому времени что‐то прояснится.)
Как бы то ни было, травмы мозга не могут и не должны быть главным источником информации о его функциях. Во-первых, они, к счастью, относительно редко встречаются. Во-вторых, они разные у разных людей. В-третьих, состояние пациентов изменяется, по мере того как проходит время. Все это неизбежно приводит к тому, что исследователи работают с очень маленькими выборками, а то и вовсе с единичными случаями. Поэтому, если бы в распоряжении нейробиологии были только люди с поврежденным мозгом и не было бы никаких экспериментальных методов для перепроверки полученных гипотез, это была бы довольно маленькая, туманная и скучная наука. К счастью, это не так.
Глава 2 Нажми на кнопку – получишь результат
Кордова, Испания, шестидесятые годы, коррида. Само представление еще не началось: на арене пока нет никакого матадора в расшитых золотом шелковых одеждах. Вместо него по полю топчется мужичок средних лет, больше всего похожий на советского инженера: свитер с V-образным вырезом, белая рубашка, мешковатые брюки. У него в руках предметы, которые, вероятно, в ближайшем будущем понадобятся для представления: алое полотнище и еще какая‐то штука. Старые черно-белые фотографии и видеозаписи не позволяют сразу разобрать, что это: то ли боевая шпага с причудливой рукоятью, то ли просто небольшая коробка, из которой торчит длинная антенна.
Но, похоже, произошла трагическая ошибка: именно в эту минуту на сцену внезапно выпускают быка. Он напряжен и готов к бою. Человек как будто бы не осознает опасности – как раз в этот момент он разворачивает красную тряпку (вы знали, что она называется мулетой?), и бык бросается на него. Понятно, что никаких шансов спастись у нетренированного человека нет. Бык мчится, ему осталось преодолеть всего несколько метров, чтобы поднять на рога незадачливую жертву. Кто же этот человек? Как он оказался на сцене? Это реквизитор? Почему он не пытается хотя бы убежать, а спокойно стоит и ждет приближения опасного животного? Он что‐то знает? У него заготовлена какая‐то хитрость?
По-видимому, да. Подпустив быка почти вплотную, человек совершает какое‐то неуловимое движение пальцами – и разъяренный бык мгновенно останавливается с растерянным и оторопевшим видом.
Несостоявшаяся жертва – это нейробиолог Хосе Мануэль Родригес Дельгадо. Коробочка у него в руках – радиопередатчик. Что касается быка, то он был заранее прооперирован: ему в мозг вживили электроды, позволяющие мгновенно подавить агрессию.
“Как они работали? Куда именно их вживили?” – спрашивают на этом месте поколения студентов-нейробиологов. Долгие годы преподаватели ничего не могли им ответить. Дельгадо до такой степени несерьезно отнесся к этому опыту, проходному, сугубо демонстрационному, что, казалось, вообще не удосужился нигде толком описать свою методику, упоминал об этом случае в своих статьях и книгах разве что вскользь, уделяя основное внимание своим разнообразным экспериментам с кошками, обезьянами и людьми.
Контраст между ошеломительной известностью опытов Дельгадо с быками и полным отсутствием обстоятельного их описания удивлял многих нейробиологов, но повезло только чилийцу Тимоти Марцулло. В 2016 году ему удалось познакомиться на конференции в Испании с бывшими коллегами Дельгадо. После обстоятельных расспросов они припомнили, что Дельгадо упоминал свое участие в создании девятитомной энциклопедии, посвященной бою быков. Эта книга вышла в Испании в 1981 году небольшим тиражом, который полностью разошелся среди любителей корриды, и за многие годы никому из них и в голову не пришло, что вот эти подробности опытов с вживленными электродами, скромно притаившиеся в седьмом томе, совершенно уникальны и любой нейробиолог или научный журналист продал бы последнюю рубашку, чтобы о них прочитать.
Теперь возможность снять рубашку с любого нейробиолога, который вам интересен (на этом месте автор задумчиво вздыхает), уже безвозвратно упущена: утерянный текст Дельгадо благополучно найден, опубликован в открытом доступе, подробно пересказан на английском[60]. Дельгадо концентрируется на описании экспериментов с двумя быками – Каетано и Люсеро. Это были породистые боевые животные, так просто к ним было не приблизиться, усыпляющие препараты приходилось вкалывать с помощью пневматического ружья. Для операций была специально изготовлена подходящая для быков стереотаксическая установка – проволочный каркас, окружающий голову и позволяющий направить электроды в правильное место. Конкретно их вживляли в моторную кору, таламус и хвостатое ядро – скорее всего, именно последнее играло ключевую роль во влиянии на поведение. Внешнюю часть устройства закрепляли на костях черепа с помощью стоматологического цемента, а рога очень пригодились для того, чтобы примотать к ним приемники радиосигнала.
Никакого атласа бычьего мозга тогда не существовало, электроды вживляли до некоторой степени наугад, так что и результаты у Каетано и Люсеро оказались разными. Каетано получился чем‐то вроде радиоуправляемой машинки: когда ему стимулировали левое хвостатое ядро, он поворачивался налево, а когда правое – то направо. Хвостатое ядро в первую очередь участвует в контроле за целенаправленными движениями, но оно также связано с эмоциями и взаимодействует с прилежащим ядром, “центром удовольствия”, так что Дельгадо полагал, что животное вполне могло испытывать радость во время стимуляции – по крайней мере, встревоженным оно не выглядело, крутилось на арене с виду вполне добровольно. А вот в случае более знаменитого быка, Люсеро, стимуляция хвостатого ядра[61] приводила к полной остановке деятельности, причем, как было показано с привлечением других животных, не только атаки, но и чего угодно, чем бы ни занимался бык: жевания, ходьбы и так далее. Пока хвостатое ядро получало импульсы от вживленных электродов, Люсеро стоял спокойно, опустив хвост, выпрямив шею. Тем временем Хосе Дельгадо отступал в безопасное место, за ограждение, а потом прекращал стимуляцию, и бык снова пытался его атаковать и таранил барьер. Система работала почти без сбоев, хотя Дельгадо и упоминает, что один раз бык все‐таки до него добежал – но, к счастью, все же обошлось без серьезных травм. Иначе мир потерял бы многое.
Несбывшаяся антиутопия
Хосе Дельгадо вообще‐то разрабатывал свою систему электродов с радиопередатчиками не для того, чтобы эффектно выступить на корриде. У него были иные прикладные задачи.
Если вы работаете с крысами, то вы можете создавать животных, у которых из головы постоянно торчит провод, подключенный к стимулятору. Они могут в таком виде жить месяцами, выполнять любые задания, осваивать лабиринты, нажимать на рычаги и так далее. Другое дело обезьяны. Как только прооперированное животное придет в себя, первым делом оно попытается выдернуть, сломать или перегрызть эту непонятную проволоку, торчащую у него из головы. Единственный выход – держать обезьяну в экспериментальной установке, которая ограничивает движения, но о наблюдении за естественным поведением тут речи не идет, и продолжать такой эксперимент долго тоже невозможно. Радиопередатчик сигнала, в общем, решает все эти проблемы. Он все равно расположен снаружи черепа, но его можно жестко закрепить, обезьяна не сможет повредить его и через некоторое время перестанет обращать на него внимание.
Это позволяет изучать социальное взаимодействие между обезьянами. Например, самец макаки-резуса начинает проявлять агрессию по отношению к сородичам[62],[63]? после стимуляции левого вентрального заднего бокового ядра таламуса (я не призываю вас сейчас вникать в это название, просто подчеркиваю, с какой высокой точностью исследователи размещали электроды). Но животное не превращается в зомби или робота: нападать оно станет на самцов-конкурентов, способных поставить под сомнение его авторитет, а любимую женщину трогать не станет. Можно, наоборот, вживить электрод в хвостатое ядро, и тогда его стимуляция (как и в случае с быками) будет приводить к остановке текущей деятельности и в том числе к прекращению агрессивных нападок на соседей. В одном из экспериментов Дельгадо предоставил обезьянам возможность самостоятельно управлять своим вожаком: нажимать рычаг, чтобы остановить его агрессию[64]. Подчиненные особи активно пользовались этим инструментом.
С людьми Дельгадо не проводил экспериментов, направленных на изменение поведения, – большинство его вмешательств в мозг были связаны с попытками вылечить тяжелую эпилепсию. Но иногда поведение меняется незапланированно. Дельгадо упоминает[65], например, трех пациентов, у которых стимуляция височной доли привела к внезапному всплеску романтического интереса к экспериментаторам. Одна женщина пришла в состояние эмоционального возбуждения, заметного со стороны, взяла экспериментатора за руки и стала всячески проявлять к нему нежность и горячо благодарить за его усилия. После следующей стимуляции того же участка она завела с экспериментатором кокетливую беседу о том, что, когда этот прекрасный человек вылечит ее эпилепсию, она была бы не против выйти замуж. Второй пациентке посылали импульсы в мозг в течение часа через каждые 5–10 минут, и все это время ее чувства к экспериментатору неуклонно нарастали. Сначала это был просто дружеский диалог: “Из какой вы страны? Из Испании? Какая чудесная страна”. Потом градус вырос: “Испанцы очень привлекательны”. И наконец: “Я хотела бы выйти замуж за испанца”. Третий пациент, на этот раз юноша, сначала начал абстрактно говорить о своем желании жениться, но по мере продолжения стимуляции выразил сомнения в своей сексуальной ориентации и намекнул на желание пожениться с экспериментатором-мужчиной. Обратите внимание, какими трогательно высоконравственными были люди в начале шестидесятых: ни один из испытуемых не заговорил о сексе, зато все трое заговорили о свадьбе. Видимо, в те времена считалось хорошим тоном начинать логическую последовательность именно с нее.
В исследованиях Дельгадо стимуляция человеческого мозга приводила и к другим интересным эффектам: люди становились более дружелюбными и разговорчивыми, или испытывали галлюцинации, или просто наслаждались приятными ощущениями. “Теоретически возможно регулировать агрессию, или продуктивность, или сон за счет электродов, вживленных в мозг, – говорит Дельгадо. – Но эта технология требует специализированных знаний, отточенных навыков, детального и комплексного обследования каждого человека из‐за анатомической и физиологической вариабельности. Осуществимость массового контроля за поведением с помощью стимуляции мозга крайне маловероятна”.
Ну и на том спасибо. Но вот попытки контроля за поведением отдельных людей некоторые современники Дельгадо предпринимали. Конечно, в большинстве случаев это было связано с поиском способов лечения тяжелых психических заболеваний[66]. Стимуляция мозга рассматривалась как более гуманная и более современная (речь идет о шестидесятых-семидесятых годах прошлого века) альтернатива лоботомии, но, как и лоботомия, была далека от идеала. Вскоре от нее отказались при лечении большинства заболеваний – это стало возможным благодаря постепенному появлению новых, более эффективных способов фармакологического воздействия на психически больных людей.
Но, конечно, я не могу не рассказать вам и впечатляющую историю про дикие старинные нравы. Вот представьте: начало 1970‐х, к вам поступает пациент, страдающий от эпилепсии, тяжелой депрессии с попытками суицида, ипохондрии, абсолютной апатии, приступов паранойи. Он не окончил школу, нигде подолгу не работал. Часто употреблял наркотики. Не умеет строить отношения с людьми: одновременно старается их избегать и плохо переносит недостаток внимания. Да, а еще он гей. На решении какой его проблемы вы сконцентрируетесь? Чарлз Моун и Роберт Хит, к которым попал этот пациент, решили, что надо бы для начала поменять ему сексуальную ориентацию[67],[68] С этой целью они вживили ему электроды в септальную область (это еще одна зона мозга, тесно связанная с удовольствием, в дополнение к прилежащему ядру, которое я тут все время упоминаю). Через два месяца, когда все зажило, убедились, что электростимуляция септальной области действительно вызывает у человека приятные ощущения. Еще через месяц приступили к терапии.
Для начала пациенту, обозначенному в записях кодом B-19, показали гетеросексуальный порнофильм, не стимулируя мозг. Он был не заинтересован, а раздражен. Изменений в его электроэнцефалограмме по ходу фильма не было; доля альфа-волн, характерных для людей спокойных и расслабленных, выросла после того, как фильм, наконец, закончился.
B-19 был вознагражден за свои страдания: вскоре ему начали на три часа в день предоставлять возможность самостоятельно стимулировать свою септальную область. В один из таких сеансов он нажал на кнопку 1500 раз (в среднем каждые 7 секунд). Он чувствовал наслаждение, бодрость, душевное тепло, а еще сексуальное возбуждение, сопровождавшееся желанием мастурбировать. Когда у него забирали стимулятор, он всегда протестовал и требовал дать ему нажать на кнопку еще хотя бы несколько раз.
В целом у пациента значительно улучшился характер, отмечают Моун и Хит. Он охотно шел на сотрудничество с врачами и был вежлив и доброжелателен с персоналом. (Ну еще бы! Я тоже была бы доброжелательна к людям, от которых зависит мое ежедневное трехчасовое счастье.) Среди прочего он сообщил исследователям о том, что испытывает интерес к одной из сотрудниц, а также согласился снова посмотреть гетеросексуальное порно, и мастурбировал, и испытал оргазм. Еще через несколько дней восхитительной стимуляции мозга B-19 сообщил, что ему могло бы быть интересно попробовать секс с женщиной (впервые в жизни). Для этой цели исследователи пригласили проститутку, объяснили ей ситуацию и, предварительно подбодрив пациента двадцатисекундной стимуляцией септальной области, оставили будущих любовников наедине. У пациента B-19, заметим, из головы торчали провода: электроды ему вживили не только в септальную область, но и еще в несколько участков мозга, и они использовались для постоянного мониторинга электрической активности. Исследователи трогательно отмечают, что специально для такого случая они сделали провода подлиннее, чтобы они не мешали B-19 двигаться.
В течение первого часа наедине с девушкой B-19 убеждал ее, что он, во‐первых, плохой человек (и лучше с ним не связываться), а во‐вторых, вообще гей. Она утешала его и постепенно придвигалась ближе. К концу часа она сняла платье; B‐19 тем временем сообщил, что настроение его улучшилось и он чувствует что‐то вроде возбуждения. Девушка разделась и предложила B-19 поисследовать ее тело, показывала ему, как трогать ее грудь и половые органы. Постепенно B-19 втянулся: стал задавать вопросы и стараться гладить ее хорошо. Тогда она начала его возбуждать, и хотя B-19 оставался сдержанным, все‐таки эрекция наступила, девушка села на него сверху и через некоторое время достигла оргазма (по крайней мере, и B-19, и исследователи в это поверили). Это вызвало у B-19 всплеск энтузиазма, он предложил поменять позу, чтобы перехватить инициативу, и через некоторое время кончил. После этого всячески демонстрировал свое восхищение девушкой и выражал надежду, что они встретятся снова.
Вскоре его выписали из больницы (и электроды, видимо, из головы вытащили, хотя в статьях об этом прямо не говорится). Приходя на консультации, B-19 говорил, что нашел подработки, записался на стажировку для последующего поиска постоянной работы и завел роман с замужней женщиной (исследователи скрупулезно описывают, какие именно формы сексуальной активности, со слов B-19, практиковала пара). Что касается мужчин, то с ними B-19, по его словам, за 11 месяцев отчетного периода спал буквально пару раз и только ради денег. На этом история заканчивается, а Моун и Хит гордо рапортуют, что лечить гомосексуальность надо не с помощью аверсивной терапии (например, ударами тока во время просмотра фотографий мужчин, как делали их коллеги в то время), а добром и любовью. И то верно: добрым словом и электрическими разрядами в септальную область можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом. Дальнейшая судьба B-19, впрочем, неизвестна. Зато известна судьба многих современных пациентов.
Люди-киборги
На самом деле лечение с помощью вживленных электродов давно стало рутинным. Вы сто раз про него слышали, просто могли не задумываться о его природе. Конечно, сейчас я говорю о кохлеарных имплантатах – устройствах, которые возвращают человеку способность слышать.
Если задуматься, любые рецепторные клетки решают одну и ту же задачу: переводят разнообразные сигналы из внешнего мира на универсальный, понятный мозгу язык электрических импульсов. На входе может быть что угодно: фотоны, если это клетка-колбочка; молекулы, если клетка обонятельного эпителия; механические колебания, если волосковая клетка внутреннего уха. На выходе всегда получаются нервные импульсы. По их частоте и по тому, от каких именно клеток они поступают, мозг может делать выводы о том, что происходит в мире. Потенциально это позволяет восстанавливать работу любых утраченных органов чувств (по большому счету мозгу вообще неважно, есть ли у него тело, – мозгу важно, чтобы он получал такие электрические импульсы, как будто бы у него есть тело), но задача эта технически непростая. Самых больших успехов человечество на сегодня добилось именно в воссоздании слуха.
Вот у нас есть внешний мир, а в нем звуки – колебания воздуха. Эти колебания передаются на барабанную перепонку, потом на слуховые косточки, а потом в главную часть слухового органа, улитку внутреннего уха. Там есть волосковые клетки – слуховые рецепторы, которые, как следует из названия, обладают волосками, особенными тонкими выростами, способными отклоняться в результате механических воздействий. Это, в свою очередь, приводит к тому, что волосковая клетка открывает мембранные каналы, запускает каскад внутриклеточных изменений и в конце концов выбрасывает во внешнюю среду глутамат – нейромедиатор, который уже воспринимается настоящими нервными клетками.
Существенно здесь то, что эта система конструктивно неспособна кодировать частоту звука непосредственно, по принципу “сколько пришло колебаний, столько и отправим нервных импульсов”. Мы, люди, умеем воспринимать довольно высокочастотные звуки, вплоть до 20 000 Гц. В то же время наши нервные клетки умеют генерировать нервные импульсы не чаще одного раза в миллисекунду, то есть на частоте 1000 Гц, а обычно и того меньше: клеткам нужно время, чтобы открывать-закрывать мембранные каналы, восстанавливать концентрацию ионов по обе стороны мембраны и вообще приходить в себя[69]. Поэтому, для того чтобы закодировать частоту звука, в нашей слуховой системе используется просто положение волосковых клеток внутри улитки. Чем ближе они к началу улитки, тем сильнее они возбуждаются в ответ на звуки высокой частоты; чем дальше вглубь, тем сильнее возбуждаются на низкочастотные звуки. В основном это обусловлено механическими свойствами базилярной мембраны, на которой находятся клетки-рецепторы: она узкая и жесткая в начале, широкая и гибкая в конце, и из‐за этого колебания разных частот достигают на ней максимальной амплитуды в разных местах[70].
Чувствительные окончания слухового нерва подсоединены к улитке по всей ее длине. При этом мозг ожидает, что если он получил самый сильный сигнал от нервного окончания в начале улитки, значит, это у нас звук высокой частоты; а если в конце улитки, то, соответственно, низкой частоты. Это удобное свойство (оно называется “тонотопическая организация”) позволяет подключиться к этим чувствительным окончаниям слухового нерва непосредственно – в том случае, если волосковые клетки у человека погибли.
Кохлеарный имплантат состоит из двух частей: съемной внешней и вживленной внутренней. Они удерживаются вместе с помощью магнита. Внешняя часть содержит микрофон, преобразователь звука и радиопередатчик. Внутренняя часть завершает процесс обработки сигнала, сортирует его по частотам и отправляет импульсы на стимулирующие электроды (в современных устройствах их от 16 до 22). Все электроды закреплены в гибком силиконовом стержне, введенном внутрь улитки. Высокие частоты передаются туда, где мозг ожидает обнаружить высокие частоты. Низкие – туда, где низкие.
Конечно, этот прибор не позволяет воссоздать все богатство звуковой гаммы. Носители кохлеарных имплантатов способны распознавать мелодии заметно хуже, чем обычные люди, и часто полностью перестают слушать музыку, так как она больше не приносит им эстетического наслаждения[71]. Но принципиально, что кохлеарного имплантата достаточно для восприятия человеческой речи. Даже если ребенок был глухим от рождения, с имплантатом он способен научиться понимать собеседников и говорить самостоятельно. Исследователи не дают конкретных рекомендаций насчет оптимального возраста для вживления электродов, подчеркивая большие индивидуальные различия между испытуемыми[72],[73], но в целом работает принцип “лучше не затягивать”: тому, кто обрел слух в два года, будет проще научиться говорить, чем тому, кто получил его в четыре; им обоим будет намного проще, чем ребенку, прооперированному в восемь лет, но даже он будет обладать серьезными преимуществами по сравнению с тем человеком, чью операцию отложили до двенадцати.
Активно разрабатываются и имплантаты для борьбы со слепотой. Принцип в том, чтобы переводить изображение от видеокамеры, прикрепленной к очкам, или от вживленной прямо в глазное яблоко решетки с фотодиодами в электрические импульсы. Они, в свою очередь, передаются на нейроны сетчатки. Или в латеральное коленчатое тело таламуса (промежуточную станцию обработки зрительной информации). Или прямо в зрительную кору. Сегодня уже есть устройства, одобренные для клинического применения[74], и еще больше новых подходов обсуждается, патентуется и испытывается на животных. Но пока что разработчики сталкиваются с гигантским количеством технических проблем[75]. Для сколько-нибудь качественного распознавания образов нужно вживить очень много электродов близко друг к другу. Часть из них будет выходить из строя, нервные клетки будут гибнуть, и, в конце концов, вся эта система от многочасовой работы просто будет сильно нагреваться, что тоже не очень‐то полезно для живой ткани. Поэтому на сегодняшний день человек с таким имплантатом может в лучшем случае определять направление источника света и отмечать крупные движущиеся объекты. Ни об узнавании предметов, ни тем более о чтении речь пока не идет.
Значительно лучше обстоят дела с теми заболеваниями, для лечения которых не нужна ювелирная точность вживления электродов в конкретный нейрон, а достаточно простимулировать какую‐то относительно крупную область мозга. В конце восьмидесятых французские ученые Алим-Луи Бенаби и Пьер Поллак сосредоточились на вживлении электродов для борьбы с болезнью Паркинсона – и достигли в этом таких впечатляющих успехов, что им даже иногда приписывают само изобретение глубокой стимуляции мозга[76].
Открытие, как это нередко бывает, отчасти было случайным[77]. Исходно Бенаби занимался хирургическим лечением болезни Паркинсона. К тому моменту было известно, что удаление вентрального промежуточного ядра таламуса приводит к ослаблению симптомов, в частности к снижению тремора, и эта процедура часто применялась к пациентам, не отвечавшим на лекарственную терапию. Для разрушения участка мозга Бенаби использовал радиочастотную абляцию: в нервную ткань вводят электрод и пропускают через него переменный ток высокой частоты (около 500 кГц). В электрическом поле, окружающем проводник, все заряженные частицы – а их в мозге много! – начинают очень быстро двигаться туда-сюда, соответственно, происходит локальное повышение температуры, приводящее к разрушению выбранного участка. Такой метод менее травматичен для окружающего мозга, чем обычная операция[78]. Но перед тем как запускать процесс разрушения, важно убедиться, что электрод попал туда, куда нужно. Для этого на него – или на несколько электродов, введенных в приблизительные окрестности искомой точки, – сначала подают ток более низкой частоты (например, 100 Гц) и наблюдают за реакциями и движениями пациента. И выяснилось, что такая стимуляция сама по себе способна ослабить тремор и улучшить координацию движений, например при письме (пациенты во время операции находятся в сознании, применяется только местная анестезия). В таком случае, может быть, и не обязательно ничего разрушать?
Честно говоря, это пробовали проверять и предшественники Бенаби. Когда вы читаете об истории любого открытия, всегда полезно иметь в виду, что все стоят на плечах гигантов, каждая “самая первая” статья об исследовании всегда ссылается на предыдущие попытки[79] сделать то же самое. Но именно Бенаби удалось подобрать и систематически исследовать такие параметры стимуляции, чтобы эффект от нее был максимальным и сопоставимым по эффективности с разрушением участка мозга. Это дало толчок лавине новых исследований как самого Бенаби, так и его последователей. За прошедшие годы методология заметно изменилась: вместо вентрального промежуточного ядра таламуса теперь стимулируют субталамическое ядро, а вместо переменного тока могут применять и постоянный[80]. Это дополнительно усилило ту магию, которую наблюдал Бенаби: пока стимулятор выключен, человека с болезнью Паркинсона непрерывно бьет крупная дрожь, руки ходят ходуном, выполнять какие-либо действия невозможно. Как только вы включаете стимулятор, человек сразу же возвращает себе контроль над движениями.
Симптомы болезни Паркинсона: сильный тремор, ригидность мышц, неустойчивость, трудности с координацией движений – обусловлены гибелью нейронов, вырабатывающих дофамин. Электрическая стимуляция, к сожалению, не воскрешает эти нейроны, но, по‐видимому, максимизирует выброс дофамина теми, что остались в живых. То есть речь идет не о полном излечении болезни, но все‐таки о серьезном улучшении качества жизни пациентов. Если у вас есть под рукой интернет, обязательно посмотрите на Ютюбе какой-нибудь ролик по запросу Parkinson deep brain stimulation, это правда потрясающее зрелище.
Несколько лет назад вживление электродов в субталамическое ядро пациентов с болезнью Паркинсона было официально одобрено FDA[81]. В ключевом исследовании[82], на которое опирались эксперты, электроды вживили 136 пациентам, страдавшим от выраженных двигательных нарушений по крайней мере в течение 6 часов в день. Те из них, кому повезло попасть в экспериментальную группу (а не в контрольную, не получавшую стимуляции), сообщили о том, что время, в течение которого они чувствовали себя хорошо и не испытывали серьезных проблем с координацией движений, возросло в среднем на 4,27 часа в день, – а это серьезный выигрыш в качестве жизни.
Болезнь Паркинсона – не единственная медицинская проблема, с которой может помочь справиться глубокая стимуляция мозга. Ее можно также применять для лечения эпилепсии (и здесь тоже уже есть одобрение FDA), а исследования проводятся и для ряда других заболеваний: обсессивно-компульсивного расстройства, синдрома Туретта, депрессии, биполярного аффективного расстройства и головной боли[83]. Во всех случаях это крайняя мера, к которой обращаются тогда, когда перепробовали все остальные методы и ничего не помогло. Во всех случаях речь идет не об абсолютном излечении, а об ослаблении симптомов. Вживление электродов – далеко не рядовая повседневная процедура, она требует очень высокой квалификации врачей и не бывает полностью безопасной. Но сама возможность такого лечения напоминает нам, что мозг – материален. Если в нем есть проблема, то во многих случаях возможно найти, где она локализована, и подействовать на этот участок, чтобы он начал работать по‐другому. Это непросто и вряд ли когда-нибудь станет просто, но это осуществимо уже сегодня.
Важно помнить и другое. Вживленный электрод – в прямом смысле палка о двух концах. С его помощью можно подавать электрические импульсы, чтобы изменить работу какого‐то участка мозга, а можно, наоборот, регистрировать те паттерны электрической активности, которые мозг генерирует совершенно самостоятельно. Это важно не только для исследований мозга, но и для решения медицинских задач. Например, для создания роботизированных протезов, которыми можно управлять напрямую с помощью собственного мозга.
В 2004 году молодой американец Тим Хеммес ехал на мотоцикле и попал в аварию. В результате все его конечности оказались парализованы. Но он не впал в уныние: в видеорепортаже Питтсбургского университета он приезжает в лабораторию хоть и в инвалидном кресле, но зато в хорошей компании: его сопровождает дочь, родившаяся незадолго до катастрофы (уже школьница), и ее мама. В комнате для экспериментов Тима ждет еще и его девушка Кэти. Неудивительно, что у него получается поддерживать хорошие отношения со всеми, потому что даже в интервью, посвященном его роботизированной руке, он фокусируется именно на эмоциональном контакте с близкими, на том, как важно для него самому обнять дочь и самому протянуть руку Кэти – в первый раз за всю историю их отношений.
Такая возможность появилась у парализованного Тима благодаря исследованиям нейробиолога Энди Шварца и его коллег. Еще в 2008 году они научили обезьян манипулировать роботизированной рукой с пятью степенями свободы (вращение плеча в трех плоскостях, сгибание локтя, хватательное движение кисти) достаточно эффективно, чтобы брать кусочки еды и класть их себе в рот[84]. На самом деле учить требовалось не столько обезьян, сколько компьютер, который должен был расшифровывать сигналы, поступающие от моторной коры, и передавать их на шарниры роботизированной руки таким образом, чтобы обезьяна действительно могла делать то, что хочет. Получилось неплохо: уже в первый день тренировки обезьяна успешно донесла еду до рта в 67 попытках из 101 предпринятой.
В случае Тима адаптация к роботизированной руке заняла больше времени и дала меньше возможностей. Во-первых, в его случае электроды не вживляли в кору, а фиксировали на поверхности мозга. Во-вторых, обезьяна не переставала пользоваться собственной рукой, а вот Тим попал в лабораторию только через семь лет после автокатастрофы. Работа началась с того, что ему делали функциональную магнитно-резонансную томографию, показывая видео движений руки; он должен был мысленно представлять, как повторяет их. Это позволило понять, как Тим управляет движениями плеча и локтя, чтобы правильно разместить электроды для кортикографии – 32 платиновых диска на силиконовом лоскуте размером 2 на 4 сантиметра – поверх моторной коры. В течение месяца после этого он учился правильно думать о движениях. Он смотрел видеозаписи движений и пытался мысленно их повторять. Наблюдал за собственной электрокортикограммой и учился целенаправленно вызывать в ней всплески активности. Учился двигать силой мысли курсор на экране компьютера в двухмерном и в трехмерном пространстве. Только после этого ему передали управление рукой – и тренированный Тим действительно сразу смог указывать ею на нужные объекты и протягивать ее своей девушке.
На этом, собственно, его возможности заканчивались. В ходе самого первого эксперимента, в 2011 году, Тима не пытались научить даже совершать хватательные движения кистью. Только плечо и локоть, только силиконовый лоскуток с электродами на поверхности мозга, без углубления в кору. “Мы намеревались только провести быструю демонстрацию, а более интенсивные исследования были невозможны из‐за ограниченной длительности эксперимента”, – невозмутимо поясняют исследователи[85].
Что происходит дальше именно с Тимом, неизвестно: публичность его не вдохновила, и с момента первого испытания роботизированной руки он, по‐видимому, общался со СМИ всего один раз, когда собирал деньги на новый микроавтобус для своей семьи. По научным статьям его судьбу тем более не проследить: в них не указывают имена участников исследований. Но в целом лаборатория Энди Шварца процветает и регулярно публикует отчеты о новых успехах. В 2013 году ученые представили широкой общественности своего следующего пациента, Джен Шерман. Ей вживили в моторную кору две пластинки с микроэлектродами, по 96 штук на каждой. Это позволяет записывать сигналы с гораздо более высокой точностью, так что через 13 недель тренировок Джен свободно управляла роботизированной рукой с семью степенями свободы (движение и вращение в трех плоскостях, плюс захват предметов)[86], а через 17 недель те же электроды позволили ей овладеть уже другим протезом, с десятью степенями свободы (включающими разные положения пальцев)[87]. На видеозаписях, которыми исследователи щедро сопровождают свои статьи, видно, как Джен перекладывает с места на место разнообразные мелкие предметы, строит пирамидки, вытряхивает мячик из стакана в чашку, а еще – на радость журналистам – подносит ко рту плитку шоколада и откусывает от нее.
Теперь Джен учится управлять с помощью своих электродов авиасимулятором (вряд ли ей уже доведется летать за штурвалом настоящего самолета, но даже играть в компьютерные игры – хорошая возможность для человека, который 13 лет был абсолютно беспомощным), а перед журналистами отдувается следующий пациент, согласившийся на публичность, – Натан Копланд. В 2016 году он прошел через имплантацию четырех пластинок с микроэлектродами. Две из них, как и в случае Джен, были вживлены в моторную кору, но еще две – в сенсорную. Часть ладони роботизированной руки теперь обрела чувствительность. Натан способен с завязанными глазами сказать, к какому из пальцев прикасаются экспериментаторы, и в большинстве случаев определяет верно. Чувства, которые он испытывает при стимуляции его сенсорной коры с помощью вживленных электродов, не совсем такие, как если бы исследователи прикасались к его настоящей руке[88]. Из 250 прикосновений всего 12 Натан охарактеризовал как “практически естественные”, 233 – “возможно, естественные” и 5 – “скорее неестественные”. Чаще всего (в 128 случаях из 190, которые он не затруднился описать в деталях) он ощущает давление, на втором месте (79 случаев) – пощипывание, третье место делят между собой чувство тепла и чувство слабого электрического разряда (30 и 29 случаев соответственно). Во всяком случае, ему ни разу не было больно.
Роботизированные протезы (а со временем, будем надеяться, и целые экзоскелеты), управляемые с помощью вживленных электродов, – это весьма многообещающая технология, но до того момента, как она перейдет из лабораторных экспериментов в повседневную жизнь парализованных людей, предстоит решить еще множество технических проблем[89]. Люди могут жить с имплантированными электродами по нескольку лет, но качество передачи сигнала нестабильно и снижается со временем. Мозг живой и постоянно изменяется, что отчасти хорошо (потому что человек бессознательно учится активировать именно те нейроны, от которых поступает самый четкий сигнал к электродам), но в значительной степени плохо, потому что нужные нейроны могут погибнуть или же рост глиальных клеток[90] может просто оттеснить их подальше от электрода, и сигналы от них перестанут распознаваться. Сама компьютерная обработка сигнала требует регулярной калибровки, то есть невозможно просто привинтить роботизированную руку к инвалидному креслу пациента и отпустить его заниматься своими делами: ученым все равно будет необходимо встречаться с ним каждый день, чтобы настраивать систему, иначе движения роботизированной руки быстро станут хаотическими и бесполезными. Тим, Джен и Натан, как и другие пациенты департамента нейробиологии Питтсбургского университета, соглашаясь на операцию и многонедельные тренировки, отдают себе отчет в том, что лично их жизнь это улучшит разве что в смысле общения с хорошими учеными и получения необычного опыта. До того момента, когда роботизированные руки можно будет использовать постоянно и в любом месте, эти пациенты, честно говоря, могут и не дожить. Тем больше восхищения они заслуживают, когда день за днем зажимают камешки и пирамидки в своем роботизированном кулаке: маленький захват для человека, огромный захват для человечества.
Альтернативный подход к восстановлению движений у парализованных людей – это функциональная электрическая стимуляция. Она возможна благодаря тому, что мышцы, как и нейроны, электрически активны. Можно подать на них электрические стимулы, и мышцы будут сокращаться. А можно, наоборот, записать электрические сигналы от сокращающихся мышц – еще и намного более сильные, чем от мозга. Соответственно, в классическом варианте функциональная электрическая стимуляция подразумевает передачу сигнала от одних мышц человека – тех, над которыми он сохранил контроль, – к тем, над которыми контроль потерян. Например, вы надуваете щеку, и ваша парализованная рука совершает хватательное движение. Это хорошая технология, во многих случаях она помогает людям управлять конечностями, а также восстанавливать контроль над мочеиспусканием и дефекацией. Но все равно есть проблемы. Во-первых, возможности функциональной электрической стимуляции зависят от того, как много осталось мышц, которыми человек способен управлять. Во-вторых, неизбежны ложные срабатывания, когда человек всего лишь хочет использовать контролирующие мышцы по их прямому назначению. В-третьих, это требует долгого и не всегда успешного обучения; такое управление своим телом антиинтуитивно.
Поэтому здорово, что в 2017 году сотрудники Университета Кейс-Вестерн-Резерв выпустили статью[91] о том, что они совместили функциональную электрическую стимуляцию с вживлением электродов в моторную кору. Пациент, переживший травму шейного отдела спинного мозга и утративший подвижность всех четырех конечностей, прошел через операцию, аналогичную той, которую проводили с Джен Шерман. Первоначально он учился пользоваться вживленными электродами, чтобы управлять виртуальной рукой на экране компьютера. Еще одним подготовительным этапом была стимуляция мышц руки внешними электрическими импульсами – по восемь часов в неделю в течение 27 недель, – просто чтобы вернуть мышцам силу, утраченную за годы паралича. Но главное – пациенту вживили под кожу руки 36 стимулирующих электродов и соединили их с чувствительными электродами, анализирующими электрическую активность мозга. К сожалению, не напрямую: провода все равно выходили из головы, тянулись к компьютеру, декодирующему сигнал, затем к усилителю сигнала и только после этого на мышцы руки. Ее движения все равно были менее точными, чем в случае виртуальной конечности, – и даже менее точными, чем у роботизированной руки Джен. Это практически неизбежно: настоящая рука – тяжелая, громоздкая и неповоротливая, очень сложно управлять ей аккуратно, когда мозг не получает обратной связи от мышц и суставов. Но все же пациент уже за 15 часов практики научился подносить ко рту кружку с кофе и пить его через соломинку и есть картофельное пюре вилкой. Безо всякого робота. Своей рукой.
Царь зверей
Понятно, что любые эксперименты с вживлением электродов людям в наше время проводятся строго по медицинским показаниям. Только тогда, когда есть надежда улучшить жизнь человека и при этом он сам осознает, в какой степени она обоснована, и добровольно соглашается принять все риски, связанные с операцией и вмешательством в мозг. Если вы просто хотите получить какую‐то новую информацию о работе нервной системы без отчетливой прикладной пользы (хотя бы потенциальной), то, даже если вы убедите добровольцев в этом участвовать, этический комитет университета не разрешит вам ничего делать. Даже если вы каким‐то образом ускользнете от его внимания и проведете свой дьявольский эксперимент, вы не сможете его опубликовать.
С животными проще. Их интересы этические комитеты университетов тоже охраняют, но исходят там немного из другой расстановки ценностей: важно не то, принесет ли вмешательство пользу самому подопытному, а то, может ли оно в перспективе открыть новые идеи или дать новые отработанные технологии, чтобы принести пользу людям. Я разделяю эту точку зрения, вы не обязаны со мной соглашаться; если вы мой постоянный читатель, то помните, что этические проблемы, связанные с экспериментами на животных, подробно обсуждались в книжке “В интернете кто‐то неправ!”. Здесь приведу только аналогию: когда наша иммунная система формирует антитела, она использует механизм совершенно случайного перебора вариантов, делает горы белков, которые совершенно неизвестно для чего пригодятся, и большинство из них действительно не пригодится никогда. Но когда в организм попадает совершенно новый вирус, то благодаря вот этому случайному хаотическому перебору обычно выясняется, что у нас уже есть какие‐то антитела, способные с ним связаться и замедлить его распространение в организме, и именно их можно “допилить”, чтобы иммунная система оказалась способна полностью справиться с болезнью. Так и тут: наука – это защитная система общества, она придумывает, как спасать нас от голода, болезней, бедности, зимы и вселенской скорби. Она не всегда видит прямые и четкие пути, как это сделать, во многих случаях она просто накапливает данные, разрабатывает методы, проверяет гипотезы одну за другой, и каждое такое действие повышает вероятность того, что, когда какая‐то проблема встанет остро или когда, наоборот, выплывут какие‐то новые возможности, у человечества уже окажется заранее разработанный набор инструментов, позволяющий справиться с неожиданной ситуацией. Опыты на животных могут быть относительно простыми (“Зачем это проверять? И так гипотетически понятно!”) или зубодробительно сложными (“Да это никогда не войдет в практику! Что вы время и деньги тратите?”), но фокус в том, что далеко не всегда возможно заранее отличить одно от другого. И никогда заранее не известно, где, когда и как это полученное знание окажется критически важным.
Вот пример того, что кажется простым: радиоуправляемые крысы. Принцип действия и правда незамысловатый: в мозг подопытных вживлены три электрода, означающие “направо”, “налево” и “вот тебе вознаграждение”. Первые два стимулировали соматосенсорную кору в той области, которая обрабатывает сигналы от вибрисс (усов), то есть у крысы возникало такое чувство, как будто бы что‐то прикасается к ее вибриссам – справа или слева соответственно. Третий электрод, самый важный, был вживлен в медиальный пучок переднего мозга, то есть в нервные волокна, передающие возбуждение к прилежащему ядру (“центру удовольствия”). После того как такая система выстроена, крысу можно за несколько экспериментальных сессий натренировать делать то, чего вы от нее хотите. Сначала вы можете вознаграждать ее каждый раз, когда она просто идет вперед (и если вы будете увеличивать интенсивность стимуляции, то животное будет соглашаться идти вперед даже в не предназначенных для этого условиях, например если нужно одновременно карабкаться вверх). Потом дополнительно приучаете поворачивать направо при стимуляции правой соматосенсорной коры и налево – при стимуляции левой и вознаграждаете и это тоже. Как только животное поймет правила игры, вы можете запустить его в любой новый лабиринт и провести через него самым быстрым и разумным путем. При этом вы управляете крысой с ноутбука, а микростимулятор она несет сама – в рюкзачке. Это позволяет животному удаляться от ноутбука на 500 метров и все еще быть управляемым. В конце статьи, опубликованной в 2002 году, ученые обещают, что такие крысы в скором времени начнут использоваться для поиска людей под завалами. До этого, кажется, на практике пока так и не дошло, но, по крайней мере, такие головокружительные перспективы помогли исследователям опубликоваться в хорошем журнале[92].
Есть задача и посложнее – создание радиоуправляемых летающих насекомых. Дело в том, что насекомые прекрасны и восхитительны с инженерной точки зрения. Они очень энергоэффективны. Механический летающий робот, созданный человеком, может весить три грамма и при этом лететь куда-нибудь в течение трех минут – потом садится батарейка, и так составляющая треть его веса. Муха весит меньше и летает значительно дольше. Неудивительно, что в мире работает сразу несколько исследовательских групп, которые хотели бы заставить муху (или другое насекомое) лететь туда, куда они прикажут.
Существует несколько способов это сделать, более или менее пригодных для разных видов насекомых[93]. Например, африканские жуки рода Mecynorhina (масса – 10 граммов, электроды с аккумулятором – еще 1,22 грамма, остаточная грузоподъемность – 3 грамма) обладают удобным свойством: они летят, пока светло, и останавливаются, если стемнело. Это означает, что им можно вживить электроды в оптическую долю, чтобы они думали, что кругом белый день (или темная ночь), и, соответственно, летели или нет. Чтобы заставить насекомых поворачивать, можно использовать их склонность лететь к свету (и врубать им светодиоды, прикрученные прямо к голове) или склонность поворачивать голову в направлении движения (и, соответственно, стимулировать им шейные мышцы с этой целью), а еще можно непосредственно воздействовать на мышцы крыльев: если вы машете правым крылом сильнее, то вас начинает сносить влево (попробуйте проверить сами, когда в следующий раз будете плавать в бассейне).
Самые причудливые вещи делает с животными Мигель Николелис из Университета Дьюка. Он хочет создать нечто вроде интернета из мозгов. Соединить нескольких животных в единую мыслящую сеть, способную коллективно обрабатывать информацию и принимать решения. На самом деле, конечно, помимо этого он публикует множество серьезных работ о нейроинтерфейсах, нейропротезах и лечении повреждений нервной системы, но законы журналистики суровы, и в научно-популярные книжки Николелис попадает не с самыми важными своими статьями, а с боковыми ответвлениями от своей основной работы. Просто потому, что их интереснее читать и пересказывать широкой общественности.
В 2013 году Николелис и его коллеги[94] научили крыс обмениваться информацией на расстоянии[95]. У вас есть пара подопытных животных, и они хотят пить. В клетке у каждой крысы есть две поилки, но вода появится только в одной из них и ненадолго, так что важно сделать правильный выбор. У первой крысы есть подсказки: она должна либо нажать на тот рычаг, который подсвечен фонариком, либо просунуть голову между двумя перегородками, расстояние между которыми автоматически меняется, и затем выбрать правую или левую поилку в зависимости от сиюминутной ширины щели (естественно, животных заранее тренировали это делать). У второй крысы тоже есть две поилки, и она тоже хочет пить, но внешний мир не дает ей подсказок. Зато подсказки дает ей внутренний мир: в ее моторную или сенсорную кору вживлены электроды. У первой крысы, соответственно, тоже. Они записывают активность мозга той крысы, которая приняла решение, и подают сигналы другой крысе, которой еще предстоит сделать выбор. Если вторая крыса справилась, то первая получает еще один глоток воды, так что в ее интересах стараться думать погромче. Правильно расшифровывать сигнал удавалось не всегда, но все же крысы, ориентирующиеся на сигналы от своих микроэлектродов, выбирали правильную поилку более чем в 60 % случаев, и это достоверно выше вероятности случайного угадывания. В одном из экспериментов крысы в паре находились в двух разных лабораториях, в Бразилии и США, и передавали свои мысли по интернету. Примерно как мы.
Но это еще нельзя назвать совместной работой над решением задачи. Зато трех обезьян, которые должны силой мысли привести виртуальную руку в правильную точку экрана, – уже можно[96]. Идея в том, что каждая обезьяна по отдельности способна управлять движением только в двух плоскостях. Только вверх-вниз и вперед-назад, но не вправо-влево. Или только вперед-назад и вправо-влево, но не вверх-вниз. Или, соответственно, только вверх-вниз и вправо-влево. Таким образом, любые две обезьяны с задачей справиться могут, а одна – нет. Причем, действительно, если одна из трех обезьян отвлекалась от задания (или была отключена от него исследователями), то оставшимся двум приходилось в буквальном смысле думать более интенсивно, чтобы справиться с заданием. Принципиально и то, что со временем животные сработались и им требовалось все меньше и меньше времени для того, чтобы направить виртуальную руку куда нужно. “Основываясь на этих доказательствах, – заключают исследователи, – мы полагаем, что мозги приматов могут быть интегрированы в самостоятельно адаптирующуюся вычислительную структуру, способную к достижению общей поведенческой цели”.
И я держу равнение, даже целуясь, На скованных одной цепью.Глава 3 Башни-излучатели: ожидание и реальность
Вы наверняка слышали о карго-культах, но если нет, то отвлекитесь от книжки и сделайте поиск по картинкам, они прекрасны. Во время Второй мировой войны и в первые годы после нее на островах Меланезии размещались многочисленные военные базы, как японские, так и европейские. С Большой земли солдатам доставляли одежду, продукты, лекарства, палатки и еще множество ценных вещей. Чаще всего их сбрасывали на парашютах, пролетая над островами. Меланезийцы могли либо сами находить блага цивилизации, либо получать их от солдат в обмен на содействие. Но потом война закончилась, солдаты вернулись домой, и приток полезных предметов прекратился. Чтобы вернуть утраченную милость небес, островитяне начали имитировать действия, которые они наблюдали у европейцев. Они проводили военные парады, маршируя с палками, изображавшими ружья. Строили деревянные самолеты. Сооружали радиоантенны из прутьев и соломы[97].
Это кажется забавным до тех пор, пока мы не начинаем читать современные околонаучные новости на развлекательных ресурсах. “Девушки, которые не ленятся краситься, получают бóльшую зарплату”, – сообщает нам AdMe. “Ребенок, выросший в доме, в котором содержится более 500 книг, в среднем проводит в учебных заведениях на три года больше”, – говорит The Telegraph. Что может быть проще? Хотите много зарабатывать – начинайте краситься. Хотите, чтобы ваш ребенок благополучно окончил школу и поступил в университет, – заведите в доме библиотеку. (Хотите больше посылок с едой – постройте деревянный самолет.)
На самом деле, очевидно, нет. Такие научные новости базируются на настоящих исследованиях с большими выборками[98],[99] и даже не то чтобы очень сильно искажены относительно первоисточников. Но оба исследования – корреляционные. То есть ровным счетом ничего не говорят о причинно-следственной связи. Смотрите, что получается:
1. Да, мы действительно видим, что ухоженность и высокий заработок (или книжки и образование) идут рука об руку. Это не означает, что закономерность будет соблюдаться для каждого конкретного человека, но вот уже если посмотреть на 100 испытуемых, скорее всего, она проявится. Исследователи в обоих случаях брали много тысяч людей и в обоих случаях получили p < 0,001. Другими словами, вероятность того, что им просто попались неправильные респонденты, а для общества в целом такой корреляции нет, крайне невелика: меньше чем 1 к 1000.
2. Но мы понятия не имеем, что было раньше: курица или яйцо. Начали ли женщины следить за своей одеждой, прической и макияжем и из‐за этого им повысили зарплату? Или им повысили зарплату, и у них появилось больше возможностей ухаживать за собой? Даже в случае со школьной успеваемостью нельзя исключать, не проверив, обратную последовательность: в семье рос любознательный ребенок, и поэтому родители накупили много книг.
3. Самое главное: возможно, эти факторы вообще не связаны друг с другом напрямую. Они могут быть двумя следствиями одной и той же причины. Допустим, у некоторых женщин дома хорошо, тихо и спокойно, никто их не дергает, и это позволяет им, с одной стороны, читать вечерами профессиональную литературу, а с другой стороны, неторопливо краситься по утрам. Допустим, ребенок все эти книги с полок вообще ни разу в жизни не открывал, но зато у него есть умный дедушка, который в свое время их накупил, и этот дедушка всю дорогу помогал ему решать задачи по алгебре и физике. И делал бы это независимо от того, есть в доме книги или нет.
Сами исследователи никогда не отказывают себе в удовольствии поговорить в финале статьи о том, как могла бы работать прямая причинно-следственная связь. “Диктат красоты, – отмечают они, – хороший способ контролировать женское поведение. Ухоженная женщина демонстрирует конформность, готовность играть по правилам, и работодатели это поощряют”. Или так: “Дом, полный книг, предоставляет детям возможности, полезные в школьном образовании, стимулирует развитие словарного запаса, расширение набора фактических знаний, навыки понимания, развивает воображение”. Все эти соображения ценны и интересны. Но важно не впадать в карго-культ. Только тогда, когда мы возьмем 1000 женщин с одинаковым уровнем образования и профессиональных навыков, убедим половину группы краситься и делать укладку и маникюр, а половину попросим этого не делать и сравним изменения в их зарплате через три года такой жизни, мы сможем говорить, что ухоженность способствует деньгам. И только когда мы возьмем детей этих женщин, отберем у одних половину книг, а другим привезем еще столько же и посмотрим на их оценки через три года, мы сможем говорить, что книги способствуют успеваемости. То есть, в идеальном случае, мы должны создать ситуацию, в которой экспериментальная и контрольная группа не отличаются друг от друга вообще ничем, кроме единственного фактора, который нас интересует, чтобы можно было посмотреть именно на его влияние. В этом, собственно, заключается ключевая идея экспериментального метода, единственного надежного источника информации о причинно-следственных связях. А пока такая работа не проведена, у меня для вас хорошие новости: если вы хотите больше денег, это не означает, что вам надо срочно начинать краситься. (Впрочем, если вы хотите, чтобы ваш ребенок поступил в университет, то вы вполне можете скупить все книги издательства Corpus. Это я одобряю. Я заинтересованная сторона.)
Мы, люди, по природе своей склонны замечать совпадения между событиями и трактовать их как причинно-следственные связи. Вообще‐то это здорово. Это помогает нам учиться на своих ошибках, придумывать новые способы добычи ресурсов, лучше предсказывать поведение окружающих. Но, как и любой другой эволюционно выгодный механизм принятия решений, эта наша склонность время от времени приводит нас к ложным выводам, заставляет находить несуществующие закономерности, способствует формированию суеверий. Поэтому научный метод направлен скорее как раз на то, чтобы помешать нам видеть причинно-следственные связи там, где их на самом деле нет. В XIX веке британский философ Джон Стюарт Милль сформулировал три критерия причинности, которые полезно держать в голове и применять к любой закономерности, замеченной нами в окружающем мире. Мы можем обоснованно предполагать, что А – это причина Б, только когда соблюдаются три условия сразу: во‐первых, А предшествует Б во времени, всегда сначала происходит одно, а потом уже другое; во‐вторых, действительно, между ними есть корреляция, то есть изменение А вызывает столь же сильное (или столь же слабое) изменение Б; последнее по порядку, но не по важности – мы должны убедиться, что не можем найти других правдоподобных объяснений.
Все это очень актуально для исследований, в которых устанавливают взаимосвязи между структурами мозга и их функциями. Львиная доля данных об этом получена с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. Она крутая, никто не спорит. Но у нее есть несколько методологических проблем[100],[101]
Прежде всего, фМРТ – медленная: она регистрирует не саму активность нейронов, а приток крови к ним, а на его изменение может требоваться, например, секунда. За секунду в мозге произойдет множество событий; фМРТ не позволит сказать точно, в какой последовательности они происходили.
Вторая серьезная проблема связана с тем, что мозг, к сожалению, работает не на 10 %, как утверждается в популярном мифе; он все время работает весь целиком, каким бы заданием ни был занят ваш испытуемый. Поэтому среди огромного множества участков, к которым увеличился приток крови во время выполнения задания, будут те, которые имеют отношение к делу, и еще больше тех, которые отношения к делу не имеют, а заняты чем‐то совершенно другим и просто по совпадению оказались более активны именно в этот момент. Вы, конечно, будете работать со многими испытуемыми и заставите их выполнить задание много раз, но и участков мозга у вас очень много, и поэтому среди них все равно найдутся такие, которые в большинстве случаев оказались активны при выполнении задания просто в результате случайного совпадения. Чтобы бороться с этой проблемой ложноположительных результатов, исследователи применяют очень строгие статистические критерии. И, соответственно, неизбежно упираются в проблему ложноотрицательных результатов, когда на самом деле активность этого участка мозга все‐таки была важна, но оказалась недостаточно убедительной, и ее выкинули из анализа.
И наконец, всегда есть проблема интерпретации результатов. Даже если вы твердо уверены, что приток крови к конкретному участку мозга всегда связан с выполнением конкретного задания, вам все равно еще предстоит понять, почему так происходит, что конкретно делает этот участок. Допустим, вы собрали гору исследований о том, что амигдала активна, когда вы показываете человеку страшные картинки. Но означает ли это, что она нужна именно для того, чтобы бояться? Может быть, это не “центр страха”, а “центр храбрости”, который позволяет человеку лежать и смотреть на страшную картинку, вместо того чтобы с визгом выбираться из томографа и портить вам весь эксперимент? В случае с амигдалой мы думаем, что все‐таки нет. Например, потому что у нас еще есть результаты исследований людей с повреждениями мозга и известно, что без амигдалы они становятся, наоборот, более бесстрашными. А вот если подходящих людей с травмами нет, то прийти к надежным выводам только с помощью фМРТ ну не то чтобы совсем невозможно, но это требует огромного массива разнообразных экспериментов, в которых вы не только регистрируете предшествование во времени и корреляцию, но и планомерно, шаг за шагом, исключаете все многочисленные альтернативные способы трактовки этих данных, пока не будете уверены, что остановились на самом правдоподобном.
То есть выводы, полученные с помощью фМРТ, всегда хорошо бы подкреплять с помощью других методов. Но мы же не можем ловить людей и вырезать им амигдалу? Они сами не согласятся, и этический комитет университета не разрешит, и научный журнал не опубликует. Честно говоря, в случае с амигдалой действительно мало что можно сделать. Но вот когда мы говорим о поверхностных, расположенных близко к стенкам черепа участках мозга, то у нас есть способ их повредить так, что и люди согласятся, и этический комитет не подкопается. Для этого надо повредить их безопасно, безболезненно и полностью обратимо.
И тут на сцену выходит транскраниальная магнитная стимуляция, ТМС.
Что происходит?
Ключевое свойство нейронов – способность проводить электрический ток. О том, как именно они это делают, я подробно рассказываю в “Кратком курсе нейробиологии” в конце книги. Основная идея в том, что на мембранах нервных клеток постоянно поддерживается разность потенциалов. В состоянии покоя внутренняя сторона мембраны заряжена отрицательно, а внешняя – положительно. Это возможно благодаря тому, что мембраны густо пронизаны белковыми каналами, способными выборочно пропускать внутрь и наружу разные ионы.
В момент проведения нервного импульса на каком‐то маленьком участке мембраны нейрона на короткое время происходит деполяризация: ионные каналы запускают внутрь положительно заряженные ионы натрия, разность потенциалов между внутренней и наружной стороной становится гораздо меньше, а часто и вовсе меняет знак: теперь, наоборот, положительно заряженной оказывается внутренняя сторона мембраны. А дальше запускается цепная реакция: ионные каналы, расположенные по соседству, реагируют на деполяризацию мембраны и тоже начинают запускать натрий внутрь клетки (а на том участке, с которого все началось, наоборот, постепенно восстанавливается исходная разность потенциалов). Таким образом возбуждение распространяется вдоль по отростку нейрона. В конце концов оно придет к синапсу (месту контакта с соседней клеткой), и там произойдет выделение нейромедиаторов – межклеточных передатчиков сигнала, которые инициируют (или, наоборот, подавят) такие же процессы в следующей клетке.
Важно здесь то, что потенциал-зависимые ионные каналы, благодаря которым сигнал распространяется вдоль по нейрону, способны реагировать на внешнее, искусственно наведенное электромагнитное поле[102]. В его присутствии ионные каналы меняют свою пространственную структуру, начинают пропускать ионы, и, соответственно, в клетке генерируется нервный импульс, который дальше будет передаваться соседям точно так же, как если бы он возник естественным путем. Добиться этого можно с помощью вживленных электродов, а можно и с помощью электромагнитной индукции, той самой, которую обнаружил Майкл Фарадей в 1831 году. Если у вас есть магнитное поле, которое изменяется во времени, то оно порождает электрическое поле и электрический ток в проводниках, попавших в зону его воздействия. В данном случае – в нервной ткани.
Прибор для транскраниальной магнитной стимуляции выглядит довольно футуристично. В вашей лаборатории стоит большой белый ящик – генератор электрических импульсов силой в тысячи ампер. К нему подсоединен гибкий шланг толщиной в три пальца, на другой стороне которого – катушка для стимуляции, пластиковое кольцо (или восьмерка) размером примерно с блюдце. Внутри у нее проводник, через который проходит разряд электрического тока[103]. Вокруг катушки в этот момент возникает магнитное поле, которое может достигать нескольких тесла (в тысячу раз больше, чем у магнита на холодильнике). Вы при этом держите катушку около головы испытуемого, переменное магнитное поле проникает сквозь череп, и в мозге возникает изменение электрического поля, достаточное для того, чтобы деполяризовать мембраны нервных клеток и, соответственно, запустить в них вышеописанную цепную реакцию передачи сигнала[104]. То есть изменить активность тех зон коры, которые находятся непосредственно под катушкой.
Если вы журналист и придете в Центр нейроэкономики и когнитивных исследований Высшей школы экономики, чтобы снять сюжет о транскраниальной стимуляции, вас встретит там ее властелин и повелитель, профессор Маттео Феурра. Чтобы сразу вас впечатлить, он просто возьмет катушку и поднесет ее к своей моторной коре (или к вашей, если вы человек храбрый). И нажмет на кнопку, чтобы отправить единичный импульс. И рука его (или ваша) хаотически дернется, и он ничего не сможет с этим сделать (или вы не сможете). От единичного импульса происходит мгновенное возбуждение нейронов, и если это были нейроны моторной коры в области, отвечающей за движение руки, то мышцы руки получат соответствующий сигнал. Если это были нейроны зрительной коры, например, то вы увидите вспышку света.
Но если вы придете в Вышку не как журналист, а как участник экспериментов, то все будет происходить гораздо медленнее. Прежде всего, вы заполните миллион анкет, чтобы подтвердить, что вы здоровы как космонавт и ваши родственники до седьмого колена тоже всегда были здоровы как космонавты. Дальше вас отправят на томографию, чтобы у Маттео и его коллег был скан именно вашего мозга и они точно знали, где начинается и кончается каждая извилина именно в вашей голове. Потом вас пригласят в лабораторию и дадут подписать еще несколько документов о том, что вы здоровы и на все согласны. Потом вас посадят в удобное белое кожаное кресло, наклеят на вас светлые шарики, по которым видеокамера поймет, где у вас лоб, и дополнительно покажут ей, где у вас переносица и уши. На основании всего этого компьютер сообщит исследователям, где у вас моторная кора. Вам прикрепят электроды на руку или на ногу и наконец начнут посылать импульсы на моторную кору и оценивать ее активацию по сокращениям ваших мышц. Но это только для того, чтобы понять, с какой силой вообще нужно подавать импульсы конкретно в вашем случае. Только через пару часов калибровки начнется настоящий эксперимент, во время которого катушку будут держать над каким‐то другим отделом вашего мозга, а потом дадут вам какое-нибудь задание и посмотрят, как вы с ним справитесь. Главное, ни в коем случае не пытайтесь целенаправленно помогать экспериментаторам, стараясь, например, специально выполнять задание хуже, чем могли бы, в надежде помочь этим обаятельным людям подтвердить их гипотезу. Во-первых, вы вообще не знаете, в чем заключается их гипотеза и какое именно изменение ваших результатов ее подтвердит (сначала они объяснят все туманно или просто наврут вам и только после окончания экспериментов смогут рассказать, что же они исследовали на самом деле). Во-вторых, ваши личные результаты в любом случае мало что изменят – выводы делаются при обобщении большого количества данных. В-третьих, вы все равно не знаете, попали ли вы в экспериментальную или в контрольную группу, то есть действительно ли вы получали стимуляцию и получали ли ее именно в нужном месте – это зависит от того, какой стороной выпала монетка, брошенная экспериментатором, пока вы заполняли опросники. Даже не спрашивайте исследователей об этом – они вам скажут, что вы‐то, конечно, были в экспериментальной группе, чтобы вам не было обидно за потраченное время, но если вы вынудите их врать, то им будет неприятно.
Единичный импульс вызывает короткий разовый всплеск активности в нервных клетках, и у вас, например, дергается рука. Это прикольно, но ожидаемо, и поэтому не очень интересно для ученых. В настоящих экспериментах чаще всего используется длительная стимуляция[105]. Ученый держит над вами катушку (и внимательно следит, чтобы она оставалась над нужным участком мозга, даже если вы пошевелите головой), а катушка генерирует магнитные импульсы с определенной частотой. У такого воздействия два радикальных преимущества[106]. Во-первых, эффект сохраняется еще несколько минут (или даже несколько десятков минут) после того, как стимуляция прекратится. Выполнять задания, предложенные экспериментаторами, гораздо удобнее, если вы уже не должны сохранять неподвижность и не отвлекаетесь на тарахтящую штуковину за вашей головой. Во-вторых, в зависимости от параметров стимуляции можно либо усилить, либо, наоборот, подавить активность нужной зоны коры. Как правило, если стимуляция низкочастотная (например, 1 Гц, один импульс в секунду), то работа соответствующего участка мозга временно нарушается, а если стимуляция высокочастотная (от 5 Гц и выше), то возбудимость, наоборот, увеличивается.
Конкретные механизмы, отвечающие за эти противоречивые эффекты, сегодня продолжают интенсивно изучаться[107],[108],[109] – и на клеточных культурах, и на животных, и, насколько это возможно, на людях. Для того чтобы сказать об этих механизмах что‐то осмысленное, мне придется нарушить свои авторские планы, отступить от линейной логики повествования (в мозге все связано со всем!) и уже сейчас рассказать вам про способность нейронов к усилению или ослаблению синаптических связей. Вообще‐то я надеялась подробно обсуждать ее в главе о памяти. Но если вы врубитесь в основную идею уже сейчас, при ее беглом изложении, то читать главу о памяти вам будет легко и приятно.
Вот смотрите. По нейрону распространяется возбуждение. Доходит до пресинаптической мембраны. Вызывает там выброс нейромедиаторов. Они действуют на рецепторы, расположенные на постсинаптической мембране. Например – классическая ситуация из учебника – у нас есть нейромедиатор глутамат и AMPA-рецепторы, с которыми он связывается. В ответ на это AMPA-рецепторы открывают свои ионные каналы, пропускают в клетку положительно заряженные ионы, происходит деполяризация мембраны, и возбуждение благополучно переходит с первого нейрона на второй. Чем больше в мембрану встроено AMPA-рецепторов, тем выше вероятность, что это произойдет. Их число может довольно быстро меняться, и это ключевой механизм, лежащий в основе кратковременной памяти.
Но что должно произойти для того, чтобы AMPA-рецепторов в синапсе стало больше? Тут на сцену выходит самая главная молекула во всей книжке, во всей памяти и вообще во всей нейробиологии – NMDA-рецептор.
Все нормальные ионные каналы открываются либо в том случае, если с ними связалась какая-нибудь сигнальная молекула (тогда они называются лиганд-зависимыми), либо в том случае, если изменился потенциал мембраны, на которой они находятся (тогда они называются потенциал-зависимыми). Но не таков NMDA-рецептор. Он соглашается работать только при соблюдении обоих этих условий одновременно. Это значит, что он работает тогда, когда возбуждены одновременно два нейрона: и тот, с которого пришел сигнал (и поступили нейромедиаторы), и тот, на мембране которого NMDA-рецепторы находятся (и при этом она уже деполяризована). То есть это молекула-детектор совпадений, он регистрирует одновременную активность двух нейронов. Тогда и только тогда он открывает свой ионный канал и начинает пропускать внутрь клетки ионы кальция. Эти ионы кальция, в свою очередь, могут влиять на огромное количество событий, происходящих в клетке, причем здесь важно, сколько именно ионов кальция поступило в клетку и с какой скоростью.
Мы еще очень много будем говорить о том, как это работает применительно к настоящему обучению и памяти, а вот как это (предположительно) работает в случае ТМС. Вот у нас есть синапс, место контакта двух нейронов. Первый из них должен выделить нейромедиаторы, и он это сделает благодаря высокочастотной ТМС. На втором нейроне находятся NMDA-рецепторы, которые пока что еще не собираются работать. Но транскраниальная стимуляция действует и на второй нейрон тоже. У него происходит деполяризация мембраны. NMDA-рецепторы становятся готовы к труду и обороне. А тут как раз до них доплыли нейромедиаторы из первого нейрона. Бинго! Каналы открываются, во второй нейрон поступает много кальция. Столько, сколько нужно, чтобы запустить процесс встраивания в мембрану дополнительных AMPA-рецепторов. Соответственно, сигналы через синапс временно начинают проходить лучше. Примерно то же самое происходит и тогда, когда мы просто берем какую-нибудь информацию в кратковременную память. Вот сейчас слово “NMDA-рецептор” вызывает у вас радость узнавания ровно потому, что у вас временно увеличилось количество AMPA-рецепторов в тех нейронах, которые взяли на себя знакомство с этим термином. Привет, я изменила физиологию вашего мозга. Всегда так делаю.
А вот при низкочастотной ТМС это так не работает. Предположительно, она тоже активирует NMDA-рецепторы, но совсем чуть‐чуть. И ионов кальция в клетку поступает совсем немножко. И это приводит к тому, что они запускают другие биохимические каскады, приводящие, наоборот, к снижению количества AMPA-рецепторов на мембране.
Вы прочли ознакомительный фрагмент под названием “самая понятная часть из всей истории про действие транскраниальной магнитной стимуляции”. В подводной части айсберга, например, остается тот факт, что синапсы у нас вообще‐то бывают двух типов: одни отправляют активирующий сигнал, а другие, наоборот, тормозят работу того нейрона, на который подействовали. Они одинаково важны для работы мозга; они отвечают на транскраниальную магнитную стимуляцию; соответственно, регулярно возникают ситуации, когда активность коры вы вроде бы усилили, а поведенческая реакция при этом как раз стала проявляться слабее. Или наоборот. Или по‐разному у разных испытуемых. Еще есть много разных молекул, дополнительно задействованных в изменении проводимости синапсов, а также много разных протоколов стимуляции, в которых промежутки между импульсами делают то длиннее, то короче. Эксперименты на животных показывают, что мозг можно стимулировать так долго и упорно, чтобы добиться изменений в активности генов, а вслед за этим – долгосрочной перестройки нейронных связей. В общем, если вы хотите исследовать какую‐то одну тему всю свою жизнь и при этом даже в момент получения Нобелевки понимать в этой теме примерно так же мало, как на студенческой скамье, то выбирайте механизмы действия ТМС, не прогадаете.
Что может сделать с вами человек с катушкой
Для вдохновляющей демонстрации эффектов ТМС (в учебной аудитории или перед телекамерой) можно заставить испытуемого двигать рукой, а можно заблокировать его способность произносить слова. Такой опыт тоже удается проделать без предварительного картирования и калибровки: человек у вас просто разговаривает, а вы просто водите работающей катушкой вдоль его головы (примерно над ухом, на стыке лобной, теменной и височной долей, там, где находится моторная кора, отвечающая за управление артикуляционными мышцами), и как только попадаете в правильную точку – человек у вас разговаривать перестает, как бы ни старался, и это резко повышает его восхищение как вами лично, так и возможностями современной науки.
Такие эксперименты важны не только в демонстрационных, но и в исследовательских целях, потому что позволяют пересматривать и уточнять представления о том, как мозг вообще порождает речь. Если вы спросите об этом любого нейробиолога, получившего хорошее образование, но никогда специально не интересовавшегося данными ТМС-исследований, то он вам скажет так: в мозге есть зона Брока, отвечающая собственно за связывание слов в грамматически правильные предложения, и она расположена у большинства людей в левом полушарии; в мозге также есть моторная кора, отвечающая за движения челюстей, губ, щек и языка, и она симметрична[110]. Транскраниальная стимуляция демонстрирует, что все более запутанно. Во-первых, выясняется, что асимметрия есть и в моторной коре тоже: если вы пытаетесь заблокировать движение артикуляционных мышц, то, воздействуя на левое полушарие, вы добьетесь гораздо более выраженных успехов, чем воздействуя на правое[111]. Во-вторых, похоже, что моторная кора, управляющая артикуляционными мышцами, нужна не только для того, чтобы говорить вслух, – но и для того, чтобы думать, произносить слова внутри своей головы. Во всяком случае, если ее активность подавить у испытуемых, которые должны мысленно подсчитывать количество слогов в словах, то они будут справляться с этим заданием медленнее[112]. Маленькие дети, когда размышляют над какой‐то задачей, тихонько проговаривают то, что они делают: можно предположить, что и мы так делаем, просто “проговариваем” на уровне моторной коры, управляющей движениями губ, и не отправляем при этом оттуда достаточно сильных сигналов, чтобы губы шевелились.
На этом удивительные истории про – так называемую! – моторную кору не заканчиваются, а только начинаются. В принципе, никто не спорит, что ее основная функция – контроль за движениями. Но само слово “контроль” подразумевает, что ей нужно эти движения как‐то спланировать и представить. То есть о них подумать. Это то, что она точно умеет делать – и делает, независимо от того, собираемся ли мы выполнять какое‐то движение сами.
Я рассказывала вам, что для первоначальной настройки оборудования для ТМС используется именно стимуляция моторной коры. Вы, например, посылаете импульсы на участок мозга, отвечающий за управление мышцами ноги, и постепенно увеличиваете силу тока в катушке (и, соответственно, возникающее вокруг нее магнитное поле) – до тех пор, пока не зарегистрируете мышечное сокращение. Вы запоминаете, какой была интенсивность стимуляции в случае этого конкретного человека в этот конкретный день, для надежности увеличиваете ее еще чуть‐чуть и дальше приступаете к работе с тем участком мозга, который вас, собственно, интересует. Но есть нюанс. Пока вы это делаете, важно не говорить с испытуемым о футболе, потому что это повлияет на возбудимость его моторной коры[113] и вы не сможете правильно определить требуемую силу стимуляции[114].
То есть, когда мы думаем о каком‐то действии, мы активируем те же зоны мозга, как и в том случае, если бы мы выполняли это действие. (А когда думаем о картинке, задействуем зрительную кору и так далее.) На английском языке этот феномен иногда называют embodiment theory of language. Устоявшегося перевода на русский, кажется, нет, но можно было бы сказать “телесная теория языка”, или “теория воплощения языка”. С ней согласуются и работы по “чтению мыслей” – угадыванию того, о каком предмете думает испытуемый, по активности его мозга с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. С первых же шагов исследования демонстрировали, например, что, когда человек читает слово “молоток”, или “отвертка”, или “плоскогубцы”, то у него активируется моторная кора, связанная с управлением мышцами руки[115].
Ну то есть это мы так думаем, что она активируется потому, что связана с управлением мышцами руки. Но всегда остаются альтернативные трактовки. Может быть, например, этот участок связан не с распознаванием названий инструментов, а с распознаванием слов, в которых есть буква О? Эту трактовку тоже можно исключить с помощью фМРТ, если дать испытуемым прочитать, например, слово “пассатижи” (инструмент, но нет буквы О) или слово “море” (море – не инструмент, но буква О там есть).
А вот чего совсем нельзя сделать с помощью фМРТ – понять, почему моторная кора активируется при чтении слова “молоток” или прослушивании предложений, описывающих, как футболисты пинают мяч. Здесь возможны два объяснения. Может быть, мы поняли, с помощью каких‐то других отделов мозга, что речь идет об инструменте или о действии, и после этого у нас активировалась моторная кора, потому что заботливый мозг готовит хозяина к тому, чтобы забивать гвозди или играть в футбол. Но возможно, все гораздо интереснее: мозг сначала воспроизводит соответствующую картину активности, а потом – из‐за этого! – понимает, что речь в принципе идет о молотке или об ударе по мячу.
Функциональная магнитно-резонансная томография позволяет довольно точно установить, где конкретно в мозге находятся участки, активирующиеся при виде слова “молоток”. Но она не предоставляет информации о том, в какой последовательности они активируются, они делают это слишком быстро, чтобы об этом можно было судить по притоку крови к тому или иному отделу мозга. И главное – она ничего не позволяет сказать о причинно-следственных связях, о том, принципиально ли, чтобы у человека вообще была моторная кора, чтобы он понял, что вы показываете ему молоток.
Транскраниальная магнитная стимуляция решает обе эти проблемы. Во-первых, если вы подавили работу какого‐то участка мозга и после этого человек стал хуже справляться с заданием, то это очень сильный аргумент в пользу того, что этот участок для выполнения этого задания именно нужен, а не просто активируется заодно с какими‐то другими. Во-вторых, по сравнению с фМРТ, транскраниальная стимуляция хуже сфокусирована в пространстве, но зато ее можно идеально подогнать по времени. Если у вас, например, два подозреваемых участка и вы не знаете, кто из них вовлекается первым, а кто вторым, то ТМС позволяет подать импульсы, например, ровно через 100 или ровно через 300 миллисекунд после того, как человек увидел свое задание. И если выясняется, что один участок, чтобы все испортить, нужно стимулировать раньше, а второй, наоборот, позже, то логично предположить, что вот в такой последовательности они в этом задании и участвуют.
Это открывает широкие возможности для того, чтобы посмотреть, необходима ли моторная кора для понимания смысла слов. В 2017 году ученые из Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ[116] опубликовали статью как раз об этом[117].
Вы приходите в лабораторию и выполняете там два задания. В одном задании вам показывают на экране русские слова, а вы должны, нажимая на кнопки на клавиатуре, указать, настоящие ли это слова (“рисуешь”) или выдуманные (“шмакишь”). В другом задании все слова настоящие, а ваша задача – определить, конкретные ли это действия (“пишешь”) или абстрактные (“веруешь”).
Пока вы все это делаете, над вами стоит человек с катушкой. Сразу, как только на мониторе на полсекунды возникло новое слово, катушка отправляет вам в моторную кору четыре импульса – бац, бац, бац, бац! – через каждые 50 миллисекунд. Работа моторной коры, управляющей движениями руки, у вас нарушается. Вам пробуют стимулировать поочередно то левое, то правое полушарие (а на кнопки вы каждый раз нажимаете той рукой, чье полушарие сейчас никто не трогает). С заданием вы в большинстве случаев справляетесь, но что здесь интересует исследователей – это время реакции. Сколько вы думали, прежде чем отнести слово к какой-нибудь категории. Вас просят думать как можно быстрее. Если вы тормозили больше полутора секунд, то на экране появляется укоризненное сообщение о том, что как‐то вы слишком медленно принимаете решения. (Сами же подействовали катушкой, да еще и ругают! Но в большинстве случаев людям, несмотря на катушку, полутора секунд хватало.)
Выяснилось, что если задание простое – определить, настоящее слово вам показали или нет, – то стимуляция моторной коры на его выполнение достоверно не влияет (хотя все настоящие слова были связаны по смыслу с движением рук). Совсем иначе дело обстояло со вторым заданием, в котором нужно было различать абстрактные глаголы и конкретные действия руками. Если вам при этом нарушить работу моторной коры в левом полушарии, то вы будете в среднем на 26,5 миллисекунды медленнее реагировать на слова вроде “рисуешь” и одновременно на 21,5 миллисекунды быстрее реагировать на слова вроде “веруешь” (по сравнению с ситуацией, когда вам не стимулируют ничего). Причем такой эффект есть именно для левого полушария, а для правого достоверных отличий в скорости реакции нет.
Если вас эта разница в полсотни миллисекунд не впечатляет, то это потому, что книжка моя началась с исторической части, где людям влетали в голову железные стержни, им вырезали целый гиппокамп, вживляли электроды в центр удовольствия и давали к нему рычажок и делали прочие ужасные вещи. Транскраниальной стимуляцией в принципе тоже можно и посильнее шибануть, но у нас теперь есть этические комитеты, и они предполагают, что людей не надо мучить сверх необходимого. Есть достоверное отличие в скорости реакции – вот и великолепно. Уже можно говорить о том, что да, моторная кора задействована в понимании смысла слов, связанных с движением. И это прямо очень круто. Не будьте кровожадными, лучше приходите в Вышку на эксперименты.
С помощью ТМС можно изучать не только движение или речь, но и по‐настоящему важные вещи. Например, желание съесть шоколадку[118]. Для такого эксперимента вам требуются голодные студенты. Вы говорите им, что проводите исследование пищевых предпочтений и что в конце их покормят. Когда испытуемый поверил вам и пришел в лабораторию, вы сначала показываете ему много фотографий вкусной вредной еды, такой как чипсы и шоколадки, и просите оценить каждую по шкале от – 7 до +7 баллов в зависимости от того, насколько сильно ему хочется это съесть. Потом вы пятнадцать минут стоите над ним с катушкой. Потом даете испытуемому три талона по доллару каждый, за которые он может купить у вас еду на аукционе.
Аукцион устроен так: человек видит изображение еды и сообщает, сколько он готов за нее заплатить: 0 $, 1 $, 2 $, 3 $. После этого компьютер случайным образом назначает цену. Если человек предложил меньше денег, чем компьютер, еда достается компьютеру. Если больше или столько же, еда достается человеку. За новую картинку снова можно предлагать любую сумму – человеку в конце не отдадут всю еду, которую он успешно купил, а только что‐то одно, выбранное случайным образом. Остаток денег ему отдадут наличными. Такая процедура хороша тем, что человеку выгодно каждый раз говорить правду: предлагать за каждый продукт столько денег, сколько он действительно готов заплатить. Глупо отдавать 3 $ за шоколадку, которую вы на самом деле цените на 1 $, и не получить сдачи; но глупо и пытаться купить шоколадку за 1 $ с низкими шансами преуспеть, если вы на самом деле хотите ее настолько, что согласны отдать за нее все ваши 3 $.
В принципе, у всех людей есть линейная зависимость между результатами первой и второй оценки продуктов: чем больше баллов вы присудили конкретной шоколадке, тем больше денег вы за нее предложите во время аукциона. Но есть нюанс. Если вам подавить с помощью ТМС активность правой дорсолатеральной префронтальной коры, то в абсолютных числах вы каждый раз будете предлагать меньше денег, чем если с вами этого не делать.
Дорсолатеральная префронтальная кора участвует в принятии решений. Самых разных, не только по поводу шоколадок. Но в случае с шоколадкой (как предположили исследователи, базируясь на предыдущих томографических исследованиях) чем активнее работает дорсолатеральная префронтальная кора, чем больше сигналов она посылает своим соседям, тем выше вероятность, что вы эту шоколадку захотите. Что вы посчитаете ее ценным ресурсом и будете готовы отдать за нее свои доллары. И действительно, если пятнадцать минут воздействовать на дорсолатеральную префронтальную кору магнитными импульсами с частотой 1 Гц (то есть подавлять ее работу), то в среднем испытуемые платят в каждом раунде аукциона на 65 центов меньше, чем в обеих плацебо-группах, где либо подносили катушку к другому участку головы, либо использовали фальшивую катушку, которая стрекочет как настоящая, но радости от нее никакой. Прикладной вывод здесь очень важный: если вам кто‐то говорит, что у вас все плохо с целеполаганием и поэтому вы едите слишком много шоколадок, то смело отвечайте ему, что с целеполаганием у вас как раз все очень хорошо, а вот если бы вам его искусственно нарушили, то шоколадки привлекали бы вас меньше.
Почему нам вообще важно, что говорят другие люди? Этот вопрос тоже можно изучать с помощью ТМС. Но начинается все, как обычно, с томографических исследований, в которых ученые дают испытуемым какие-нибудь задачи и смотрят, какие отделы мозга вовлечены в их выполнение. Вот Василий Ключарев[119], например, просил своих испытуемых оценивать привлекательность фотографий человеческих лиц. После того как они выносили свое суждение, им сообщали, что другие люди (якобы) оценили эти фотографии по‐другому. Если делать все это в томографе, то выясняется, что такой конфликт приводит к увеличению активности задней медиальной фронтальной коры – и, более того, чем сильнее она активировалась, тем выше была вероятность, что в следующем раунде человек скорректирует свои оценки в соответствии с мнением группы. Активность прилежащего ядра (“центра удовольствия”) при расхождении с большинством, наоборот, снижается[120].
Другие исследователи, кстати, потом сделали еще одно интересное наблюдение: если человек заново оценивает те же самые фотографии, когда он уже узнал, что другие люди посчитали их более привлекательными, то он не просто повышает свою оценку в следующем раунде, а, по‐видимому, начинает искренне считать эти лица более красивыми. Во всяком случае, у него при виде этих фотографий сильнее, чем в первый раз, активируется прилежащее ядро[121].
Но на прилежащее ядро, к сожалению, с помощью ТМС не подействовать: оно слишком глубоко расположено. Магнитное поле уменьшается пропорционально квадрату расстояния, так что экспериментаторам доступны только поверхностные участки мозга. Но вот на медиальную фронтальную кору воздействовать можно. Этим и занялся дальше Василий Ключарев и его коллеги[122].
Испытуемым говорили, что ученые исследуют восприятие женских лиц[123], но фотографии начинали показывать не сразу – сначала подавляли активность медиальной фронтальной коры с помощью ТМС (а в плацебо-группах стимулировали другой участок коры или просто делали вид, как будто что‐то стимулируют). Сразу после этого испытуемым давали оценить женские лица, а потом сообщали, насколько привлекательным в среднем (якобы) посчитали это лицо 200 других студентов того же университета. Еще через 20 минут (когда испытуемые уже не помнили ни своих, ни тем более чужих оценок) им показывали те же самые фотографии еще раз.
Как и в других исследованиях с такими стимулами, выяснилось, что испытуемые всегда, независимо от того, на какой участок коры вы воздействовали (и воздействовали ли вообще), делают во втором раунде поправку на чужое мнение. Но контрольная группа в среднем сдвинулась в своих предпочтениях на 0,35 балла по восьмибалльной шкале. А вот те испытуемые, которым подавили активность медиальной фронтальной коры – необходимой для того, чтобы прислушиваться к общественности, – приближаются к чужой оценке только на 0,22 балла.
Я не знаю, сформировалась ли у вас уже привычка воспринимать себя как совокупность отделов мозга с разными функциями (в целом я нахожу ее очень полезной и именно такой взгляд на вещи в этой книжке исподволь вам навязываю). Но, по крайней мере, вы уже можете практиковаться на окружающих. Одно из главных жизненных преимуществ изучения нейробиологии заключается в том, что она помогает изысканно хамить. Когда в следующий раз захотите сказать кому‐то, что он приспособленец и подхалим, не имеющий собственного мнения, можете сформулировать это так: “Держите под контролем активность своей медиальной фронтальной коры”. Он ничего не поймет, а вам приятно.
Чем может вам помочь человек с катушкой
Возможность вызвать у испытуемого мышечное сокращение, подействовав на его моторную кору, полезна не только для того, чтобы впечатлить журналистов или настроить оборудование перед экспериментами. Это еще и ценный диагностический инструмент[124]. Существует множество заболеваний, при которых нарушается способность к управлению собственными мышцами, – это может быть и рассеянный склероз, и болезнь Паркинсона, и инсульт, и повреждение спинного мозга или периферических нервов в результате травмы. Транскраниальная стимуляция позволяет четко измерить, как конкретно эта способность была нарушена. Изменилась ли скорость проведения импульса от коры к мышце или сила мышечного сокращения, симметричны ли эти нарушения и так далее. Во многих случаях это дает возможность уточнить диагноз, разработать оптимальную стратегию лечения и затем контролировать, приводит ли это лечение к каким‐то результатам. А еще возможность стимулировать моторную (или речевую) кору бывает полезна при подготовке человека к нейрохирургическим операциям, чтобы заранее, до вскрытия черепа, уточнить границы участков, отвечающих за ту или иную функцию у конкретного пациента[125].
Но гораздо интереснее, конечно, применять ТМС не для диагностики, а непосредственно для лечения заболеваний мозга. Здесь внимательный читатель легко заметит противоречие: несколькими страницами раньше я чуть ли не клялась на “Происхождении видов…”, что изменения активности коры, возникшие в результате транскраниальной стимуляции, всегда кратковременные, ну, самое большее, на час, так что приходите, мол, на эксперименты и ничего не бойтесь, вы останетесь таким же человеком, как и были.
Я все могу объяснить. Для этого мне понадобится провести аналогию с тем, как работает человеческая память. В конце первой главы я рассказывала вам про людей, которые пережили сильные повреждения мозга, но удивительно легко отделались. Например, упоминала пациентку C. G. из Аргентины, которая после двух тяжелых инсультов благополучно справлялась со всеми неврологическими тестами, которые ей предлагали врачи. Было такое? Вы читали и вам было все понятно? Внимание, вопрос. Можете ли вы сейчас перечислить, какие конкретно неврологические тесты она проходила?
Я надеюсь, что нет. Вы в тот момент взяли это в кратковременную память, но потом выкинули из головы, как мы вообще делаем с большей частью информации, с которой сталкиваемся в течение дня. Впрочем, не совсем выкинули: если я вам сейчас напомню, что среди прочего ей предлагали закончить предложение, используя слово, подходящее грамматически, но не по смыслу (“Москва – столица нашей ежевики”), то вы подумаете: “Ах да, что‐то такое было”.
Более того, прямо сейчас из‐за моего вмешательства ваши воспоминания о пациентке C. G. укрепились. Это потому, что я заставила вас еще раз прогнать электрические импульсы по тем нейронам, которые в вашем мозге взяли на себя знакомство с пациенткой C. G. А каждый раз, когда вы используете какие‐то нейроны вместе, в них происходит магия[126] и повышается вероятность того, что они соединятся друг с другом в более прочную сеть. Это и есть формирование долговременной памяти.
Существенно здесь то, что я могу заставить вас активировать эти нейроны с помощью текста книжки, а могла бы, в принципе, и с помощью электромагнитного поля – если бы существовала технология, позволяющая прицельно их найти и выборочно на них воздействовать. Вообще, важно понимать, что любые методы искусственного воздействия на мозг, от наркотиков до электродов, эффективны постольку, поскольку они способны вмешиваться в те процессы, которые наш мозг, в принципе, может осуществлять совершенно самостоятельно. У нас так или иначе где‐то есть нейроны для всего: чтобы учитывать общественное мнение, чтобы испытывать грусть, чтобы думать про пациентку C. G. Стимуляция может заставить их работать лучше или хуже, но она не может принести вам те способности, для которых у вас нет и не может вырасти нейронных ансамблей. Например, ТМС едва ли способна научить вас слышать ультразвук. Вы же не летучая мышь. Тут без генных инженеров не справиться.
Когда мы говорим, что транскраниальная магнитная стимуляция вызывает в мозге обратимые, кратковременные изменения, – то мы правы. В том же самом смысле, в котором первое прочтение текста про пациентку C. G. вызвало у вас в мозге обратимые и краткосрочные изменения. Вы не стали запоминать надолго, что именно с ней делали. Но если бы я по какой‐то причине решила рассказывать вам о ней в начале каждой главы (и вы бы при этом не бросили чтение), то к концу книжки история C. G. оказалась бы основным, что вы вообще вынесли из всего текста.
Теперь представьте, что человек с катушкой стоял над вами не 10 минут всего один раз. А по 40 минут каждый день. Несколько недель подряд. И все это время он заставлял ваши нейроны активироваться. Произойдут ли в результате какие‐то долгосрочные изменения в вашем мозге? По-видимому, да. Какие конкретно? Честно говоря, черт его знает. Разные. Слишком грубое и нелокализованное воздействие по сравнению с чтением книжки про C. G.
Самых заметных успехов на сегодняшний день врачи добились в применении ТМС для лечения большого депрессивного расстройства. Несмотря на то что депрессия продолжает оставаться довольно загадочной болезнью, при которой точно задействовано много разных отделов мозга и много биохимических процессов, происходящих в нем, но, по крайней мере, еще в девяностые годы стало понятно, что для сохранения трезвого и оптимистичного взгляда на мир человеку нужна лобная кора. Особенно дорсолатеральная. Особенно в левом полушарии.
Мысль о том, что на нее стоит попытаться подействовать с помощью транскраниальной стимуляции, возникла случайно, как это обычно и бывает. Когда в девяностые годы Альваро Паскуаль-Леоне и другие пионеры применения ТМС, в восторге от открывшихся новых возможностей, интенсивно изучали подавление речи, их испытуемые иногда начинали плакать. Сначала ученые предположили, что люди плачут просто от растерянности, что вот они могли говорить, а теперь не могут – кому такое понравится? Но потом углубились в чтение исследований о функциях лобной коры и заподозрили, что наткнулись на что‐то более интересное. К тому моменту уже было известно, что люди с повреждениями левой дорсолатеральной префронтальной коры (развившимися в результате инсульта или рассеянного склероза) страдают от депрессии чаще, чем пациенты, у которых болезнь затронула другие участки мозга. Что фармакологическое подавление работы левого, но не правого полушария (этого можно добиться, если ввести лекарства в сонную артерию – по медицинским показаниям, конечно) приводит к ухудшению настроения. Что у пациентов с депрессией снижена активность левой лобной коры и это видно во время фМРТ. Так что Паскуаль-Леоне взял (для начала) десять здоровых испытуемых, подавил им активность левой префронтальной коры, дал психологические опросники и убедился, что по шкале “грусть” они теперь набирают больше очков, а по шкале “счастье” – меньше[127]. А значит, наоборот, если подобрать такие параметры стимуляции, чтобы кора работала более активно, то это может поспособствовать улучшению настроения. И это начали интенсивно исследовать.
Сегодня высокочастотная стимуляция левой дорсолатеральной префронтальной коры[128] – в виде ежедневных продолжительных сеансов – предлагается тем пациентам, которым не помогли никакие более мягкие методы лечения депрессии. ТМС тоже помогает им не всегда. В систематическом обзоре[129], обобщающем результаты лечения 1371 пациента, говорится, что через 13 дней стимуляции полностью избавились от депрессии или по крайней мере показали значительное улучшение 47,9 % пациентов. Но в плацебо-группе этим могли похвастаться только 15,4 % участников, а значит, применение ТМС имеет смысл. Еще в 2008 году этот метод был одобрен FDA, то есть признан достаточно безопасным и эффективным, чтобы рекомендовать его для рутинного использования в клинике – еще раз подчеркну, только для тех пациентов, которым не помогли психотерапия и антидепрессанты.
Но как конкретно работает такое лечение? Я как популяризатор была бы больше всего счастлива, если бы изменения в мозге после ТМС были видны прямо на структурной томограмме. Это было бы очень просто объяснить. Вот мы подействовали на мозг, вот в нем наросло настолько много новых синапсов, что этот участок коры прямо увеличился в объеме, – все понятно, все видно, дайте нам следующий слайд. Но нет. Новые синапсы, наверное, растут, но не в тех масштабах, чтобы это было заметно без вскрытия. Вместо этого приходится использовать разнообразные более тонкие методы исследования, они показывают много разных изменений, причем нет никаких гарантий, что все эти изменения действительно связаны именно с лечением и ведут к ослаблению симптомов депрессии.
Но все‐таки есть о чем говорить. Во-первых, повышается активность левой дорсолатеральной префронтальной коры, увеличивается ее кровоснабжение. Во-вторых, увеличивается ее функциональная связность с другими отделами (то есть она более эффективно передает им сигналы), по крайней мере временно. В-третьих, меняется электроэнцефалограмма: в ней становится больше альфа-волн (ассоциированных со спокойным бодрствованием). В-четвертых, снижается уровень кортизола (“гормона стресса”) и уровень экспрессии генов, связанных с ответом на стресс. Скорее всего, увеличивается уровень BDNF (это еще одна моя любимая молекула, способствующая росту новых синапсов, я вам потом о ней подробнее расскажу). Что происходит с уровнем дофамина и других нейромедиаторов, непонятно, результаты противоречивые[130]. То есть совершенно точно в мозге в результате стимуляции происходит много всего разного, суммарно это идет человеку на пользу, но есть куда копать, чтобы в светлом будущем лечение происходило более осознанно, чем по принципу “попробовали, людям помогает”. Но пока и на том спасибо.
FDA пока что одобрила применение транскраниальной стимуляции для лечения трех болезней: помимо большого депрессивного расстройства, еще для тяжелых мигреней (в 2013 году) и обсессивно-компульсивного расстройства (в 2018‐м). Но потенциально этот принцип – “если стимулировать кору подолгу и регулярно, то в ней произойдут долгосрочные изменения” – может оказаться полезным и в борьбе со многими другими заболеваниями[131]. Стимуляция моторной коры позволяет улучшить координацию движений у людей, страдающих от болезни Паркинсона[132] или проходящих реабилитацию после инсульта[133]. Подавление чрезмерной активности зоны Вернике, отвечающей за распознавание речи, ослабляет слуховые галлюцинации у больных шизофренией[134]. И так далее. Но существенно, что для большинства болезней пока что накоплено намного меньше информации, чем для депрессии, исследовано меньше пациентов, результаты экспериментов бывают противоречивыми, оптимальные параметры стимуляции и зоны ее приложения могут быть еще не найдены. Поэтому, если вам вдруг встретится человек с большой черной катушкой и предложит принести в его клинику много денег, чтобы решить все ваши проблемы, то соглашайтесь только после того, как самостоятельно почитаете исследования и убедитесь, что в случае ваших проблем транскраниальная стимуляция и в самом деле помогает. Пока что это не всегда так.
Транскраниальная электрическая стимуляция: дешево и сердито
Транскраниальная магнитная стимуляция, о которой мы говорили все это время, – отличная штука, но, конечно, у нее есть недостатки. Во-первых, установка для ТМС стоит около двух миллионов рублей, так что не каждый университет может ее себе позволить. Во-вторых, испытуемых надо сначала отправить на МРТ, а томограф стоит еще в десять раз больше, так что, скорее всего, находится в каком‐то совершенно другом учреждении, с которым надо договариваться и долго ждать, пока до ваших участников исследования дойдет очередь. В-третьих, вам нужны очень высококвалифицированные сотрудники. В-четвертых, сами эксперименты требуют долгой и трудоемкой подготовки. Наконец, у транскраниальной магнитной стимуляции внушительный список противопоказаний (если вы признаетесь, что в пятом классе упали и ударились головой, экспериментаторы на всякий случай откажутся с вами работать), она может вызвать эпилептический припадок (хотя за десятилетия ее применения на многих тысячах испытуемых были зарегистрированы только единичные случаи), может привести к обмороку (почаще, но это тоже вряд ли случится с вами), может вызвать головную боль или дискомфорт (примерно у 30 % испытуемых, но об этом же сообщают и 15 % попавших в плацебо-группу)[135]. Словом, многие лаборатории предпочитают не связываться и выбирают транскраниальную электрическую стимуляцию.
По сравнению с ТМС, она простая, как апельсин. У вас есть два электрода – чаще всего это широкие металлические пластинки, обмотанные губкой, пропитанной физраствором[136]. Вы приматываете их к голове испытуемого и пропускаете через них слабый-слабый ток, обычно около 1 миллиампера (в сто раз меньше, чем в лампочке карманного фонарика). Этого абсолютно недостаточно, чтобы заставить нейроны отправлять импульсы. Но дело в том, что нейроны и так постоянно отправляют друг другу импульсы совершенно самостоятельно – а с помощью транскраниальной электрической стимуляции вы облегчаете или затрудняете им эту задачу, потому что слабый наведенный ток влияет на потенциал покоя, то есть на разницу зарядов между внутренней и наружной сторонами мембраны нейрона.
Существуют две ключевые разновидности транскраниальной электрической стимуляции[137]: с применением постоянного или переменного тока[138]. Если вы используете постоянный ток, то зоны мозга, расположенные под катодом, становятся менее возбудимыми и, наоборот, под анодом – более возбудимыми. В случае переменного тока вы влияете на собственные ритмы мозга (те самые, которые регистрирует электроэнцефалограмма), навязывая ему какую‐то частоту импульсов и, соответственно, усиливая те процессы, которые происходят именно на этой частоте.
Магнитная стимуляция более или менее сфокусирована: с помощью хорошей современной катушки вы можете воздействовать на участок коры площадью около одного квадратного сантиметра. Электрическая же стимуляция в стандартном случае не сфокусирована совсем: сам электрод может быть, например, 5 на 5 сантиметров (или даже больше), и вот на все, что под ним находится, вы и воздействуете.
Неудивительно поэтому, что с помощью транскраниальной электрической стимуляции удобнее всего изучать процессы, которые затрагивают более или менее весь мозг целиком. Например, сон. Про него я еще буду рассказывать подробнее, но вот вам спойлер: по современным представлениям, сон нужен мозгу в первую очередь для того, чтобы рассортировать накопленную за день информацию и разобраться, что из этого имеет смысл перевести в долговременную память, а что стоит забыть навсегда. С одной стороны, поведенческие тесты демонстрируют, что люди, которые что-нибудь выучили, а потом вздремнули, воспроизводят эту информацию лучше, чем те, кто не спал. С другой стороны, электроэнцефалограмма демонстрирует, что во время стадии медленноволнового сна мозг генерирует – нетрудно догадаться по названию! – медленные волны. Связаны ли эти события друг с другом? Это можно проверить, если попросить испытуемых зазубрить длинные списки слов, сгруппированных попарно, а потом уложить их спать с электродами на голове. При этом половине спящих испытуемых вы усиливаете их собственные мозговые ритмы с помощью наведенной стимуляции на частоте 0,75 Гц, а контрольная группа тоже спит с электродами, но только выключенными. Наутро вы просите участников исследования воспроизвести слова, которые они запоминали вечером. Результат улучшается у обеих групп, потому что обе группы выспались, но все‐таки те, кто получал стимуляцию, вспоминают в среднем на три пары слов больше[139]. Лиза Маршалл, которая еще в 2006 году опубликовала эти данные, к сожалению, до сих пор не выпустила на рынок шлем для улучшения памяти во сне, который помог бы нам всем готовиться к экзаменам. Вместо этого она сосредоточилась на перспективах улучшения памяти у пожилых людей, потому что небезосновательно предполагает, что возрастные нарушения памяти и возрастное снижение доли медленных волн во время сна – взаимосвязанные процессы. И действительно, если люди проводят свой дневной сон в лаборатории доктора Маршалл с электродами на голове, это здорово помогает им лучше припоминать те факты, которые они изучали перед этим[140].
Что еще интересного вы можете сделать со спящим человеком, если у вас есть прибор для транскраниальной электрической стимуляции? Например, научить его видеть осознанные сны[141]. Они существуют, они признаны наукой, их изучали с помощью ЭЭГ и фМРТ. Судя по активности мозга, это некое промежуточное состояние между быстроволновым сном и бодрствованием. Оно сопровождается увеличением доли гамма-волн на частоте около 40 Гц, которые вообще‐то характерны для людей бодрствующих, причем сосредоточенных на решении какой‐то задачи. Соответственно, сразу возникает вопрос: что, если взять спящего человека и искусственно подействовать на его мозг в таком ритме? Урсула Фосс и ее коллеги укладывали испытуемых спать у себя в лаборатории, а в три часа ночи тихонько подходили к спящему и начинали ставить над ним опыты. Дожидались, пока человек перейдет в стадию быстрого сна (это легко определить по энцефалограмме), а потом на 30 секунд запускали транскраниальную электрическую стимуляцию переменным током – на разных частотах в разные дни. Или не запускали, если человек попадал в контрольную группу. Еще через 10 секунд человека будили (добровольцы на многое соглашаются ради науки!) и давали ему специальный опросник, призванный оценить, насколько осознанным был сон. Опросник содержит три шкалы: “инсайт” (осознание себя спящим), “диссоциация” (способность посмотреть на себя со стороны), “контроль” (способность управлять событиями в своем сне). Выяснилось, что люди, получавшие стимуляцию на частоте 25 Гц и 40 Гц, набирали в этих опросниках гораздо больше баллов, чем те, кто получал стимуляцию на других частотах или не получал ее вообще. Существенно, что ученые специально привлекали испытуемых, у которых раньше не было опыта осознанных сновидений, так что люди вдобавок получили массу удовольствия, хотя и описывали его довольно сумбурно: “Я разговаривала с актером Маттиасом Швайгхёфером и двумя студентами по обмену… и удивлялась, откуда взялся актер. И студенты сказали: ты ведь с ним уже знакома. И тогда я поняла, что сплю! В смысле, прямо во сне поняла! Так странно!”
Но, конечно, транскраниальную электрическую стимуляцию можно применять и к бодрствующим людям. Например, чтобы помочь им лучше справляться с несколькими заданиями одновременно. В 2016 году Джастин Нельсон и его коллеги провели эксперимент со служащими военной авиабазы – людьми, для которых способность распределять внимание между разными процессами критически важна[142]. Им всем давали выполнять тренировочное задание, разработанное NASA специально для оценки многозадачности. Человек сидит перед экраном, на котором одновременно происходит много всего. Он должен следить за тем, чтобы лампочки горели правильными цветами. Чтобы дрейфующая цель удерживалась под прицелом. Реагировать на голосовые команды и переключаться с одной радиочастоты на другую. Контролировать уровень топлива по графической схеме. При этом в ходе получасовой тренировки скорость изменения всех этих параметров постоянно нарастает.
На голове у каждого участника, над левой дорсолатеральной префронтальной корой, был закреплен анод – тот электрод, который активирует расположенные под ним участки мозга. Катод, который обычно все подавляет, был закреплен на плече, потому что там у людей мозга нет. В начале эксперимента всем участникам включали постоянный ток силой 2 мА, чтобы они почувствовали легкое покалывание кожи. Но у экспериментальной группы стимуляция продолжалась полчаса, а в контрольной группе отключалась через 30 секунд.
Все эти полчаса люди сидели и выполняли задание. Правда, они все равно не успевали отслеживать все изменения, происходящие на экране. Сначала, пока происходило мало событий, они действовали все быстрее и быстрее, но потом выходили на плато и дальше работали с постоянной скоростью, неизбежно упуская часть заданий. Эта скорость определяется тем, как много заданий человек может одновременно удерживать в сфере своего внимания, что, в свою очередь, контролирует дорсолатеральная префронтальная кора[143]. И выясняется, что если ее не стимулировать, то люди в среднем способны реагировать на одно изменение в секунду. А если стимулировать – то уже на 1,3 изменения.
“Если все так круто, – спросите вы, – то почему же транскраниальная электрическая стимуляция до сих пор не пришла в каждый дом?” На самом деле, она пытается, есть целые сообщества фанатов, которые скручивают приборчики для ТЭС или заказывают их в интернете, цепляют их себе на голову и в таком виде, например, медитируют или делают домашнее задание по математике. Но научное сообщество относится к этому скептически и призывает соблюдать осторожность[144]. Напоминает, что транскраниальная электрическая стимуляция совершенно не сфокусирована и затрагивает кучу разных зон. Что ее эффекты отличаются в зависимости от того, чем вы, собственно, занимаетесь в это время. Что она может улучшить какие‐то функции, но в ущерб другим. Что если вы добьетесь с помощью регулярного воздействия долгосрочных эффектов, то они ведь могут и действительно оказаться долгосрочными, будете еще полгода другим человеком, и хорошо еще, если улучшенной, а не ухудшенной версией себя. Что даже небольшие изменения силы и продолжительности стимуляции могут радикально изменять ее эффект. Что есть большие отличия между тем, как реагируют на стимуляцию разные испытуемые, и вообще примерно 30 % участников реагируют на нее прямо противоположным образом относительно запланированного (но этого не видно в усредненных результатах эксперимента, которые попадают в новости). Что одно дело – это медицинские исследования или разовое воздействие в лаборатории, где ученые сто раз взвесят риски, расспросят вас о противопоказаниях и при любых сомнениях выгонят из лаборатории, потому что неприятности им не нужны, а другое дело – эксперименты над собой, особенно когда ими занимаются люди, которые вообще довольно смутно представляют, где именно у них находится дорсолатеральная префронтальная кора.
Собственно, даже и с медицинскими исследованиями имеет смысл соблюдать осторожность. Транскраниальная электрическая стимуляция очень хорошо подходит для всяких жуликов от медицины, потому что стоит недорого, звучит наукообразно и относительно безопасна для пациента. Так что если человек в белом халате предлагает вам принести в его клинику много денег, чтобы электроды на голове излечили вас от всех болезней, то не несите деньги сразу. Сначала попросите ссылки на исследования эффективности ТЭС для вашего заболевания и оцените эти статьи хотя бы по формальным критериям. В приличных ли журналах они опубликованы? Какого размера была выборка? Была ли контрольная группа? Обратили ли внимание на это исследование другие ученые?
Самое смешное, что какие‐то статьи о пользе метода вам в любом случае предоставят. Ну просто потому, что в мире каждый год выходит около двух миллионов научных статей, из них около десяти тысяч – про транскраниальную электрическую стимуляцию. В них можно найти подтверждения более или менее чему угодно, по крайней мере на уровне “кто‐то когда‐то попытался, и вроде бы что‐то у него получилось”. Соглашайтесь платить деньги за лечение только в том случае, если метод проверен хотя бы на сотнях людей, исследования были плацебо-контролируемыми, они опубликованы в журналах с импакт-фактором[145] не меньше двух (чем больше, тем лучше) и были процитированы хотя бы в десятках других работ.
На самом деле проблема глубже. Она касается любых исследований во всех областях науки. Она проявляется на всех этапах передачи информации, от исходного планирования лабораторного эксперимента и до освещающего его научно-популярного ролика на Ютюбе. Дело в том, что абсолютно все счастливы, когда у исследования есть результат: выдвинули гипотезу, проверили, и – ура, она подтвердилась. И никто не любит те исследования, в которых ничего интересного обнаружить не удалось.
Соответственно, вот ученые проводят эксперимент. Они, например, протестировали десять человек и уже нашли статистически достоверное отличие между экспериментальной и контрольной группой. Тогда они счастливы и готовят свою статью к публикации. Всё же в порядке. А вот если они этого отличия не нашли, то тогда они начинают тщательно пересматривать свою методику, наращивать выборку, применять другие алгоритмы статистической обработки данных – и продолжают в этом духе до того момента, когда отличие все‐таки появится, пересечет волшебный порог “p<0,05”, означающий, что результат, с вероятностью 1 к 20, не получился у них случайно, в силу неучтенных отличий между людьми, попавшими в одну и во вторую группу.
Если все сделано правильно, а отличия между группами так и не нашлось, то это проблема. Потому что все хотят публиковаться в крутых научных журналах. То есть в высокоцитируемых. А они придирчивы и переборчивы и при прочих равных гораздо охотнее возьмут статью с выводом “эффект есть”, чем с выводом “эффекта нет”. Потому что хотят и дальше оставаться высокоцитируемыми. Так что если исследователи эффекта не нашли, то они идут в журнал похуже и публикуются там. (Нам как потребителям научной информации это явление полезно в том смысле, что мы можем с чистой совестью не обращать внимания на те работы, в которых эффект как раз есть, а журнал при этом все равно плохой: “Что же вас, голубчики, в хороший журнал не взяли с таким открытием? Вероятно, есть в вашей работе какие‐то серьезные проблемы”.)
Дальше юный исследователь ищет информацию и видит две похожие работы. В одной эффект есть, во второй эффекта нет. Но первая опубликована в хорошем журнале, а вторая в плохом. “Значит, на самом деле эффект есть, – думает юный исследователь, – а эти неудачники просто попали в плохой журнал, потому что у них были какие‐то ошибки и вообще они небрежно работали”. И цитирует, скорее всего, преимущественно те статьи, в которых эффект есть, потому что ему же надо обосновать для грантодателя, для научного руководителя и для коллег, почему он решил заниматься именно этой темой. Но он все‐таки ради объективности хотя бы в скобках упомянет, что вот у некоторых исследователей эффекта не было.
Другое дело – научный журналист. Много вы видели новостных статей с заголовками в духе “Ученые не обнаружили влияния транскраниальной стимуляции на рабочую память”? Да не смешите. Какой дурак будет такое писать? Вот же есть исследование, про которое можно написать новость с заголовком “Ученые обнаружили влияние транскраниальной стимуляции на рабочую память”. Оно еще и опубликовано в журнале получше.
Серьезно, мы работаем ради того, чтобы вам было интересно. Мы не обманываем вас специально, но постоянно, даже не задумываясь, непроизвольно вводим в заблуждение – в том смысле, что выбираем для вас самые яркие исследования с самыми крутыми результатами. Нам очень нравится нейробиология, и мы хотим, чтобы вам она тоже нравилась. Благо есть за что. Но когда она понравится вам настолько, что вы пойдете в нашу прекрасную магистратуру по когнитивным наукам и там обнаружите, что мозги у людей, черт возьми, разные и в экспериментальной науке все оказывается даже не так гладко, как в учебнике, не говоря уже о научно-популярной книжке, – не говорите тогда, что я вас не предупреждала.
Часть II Нейропластичность Пережитый опыт перестраивает мозг
Глава 4 Улитки, котята и NMDA-рецептор
В 1969 году в Кембридже родились котята[146]. Дело житейское, но на этот раз они родились в абсолютно темной комнате и находились там первые две недели своей жизни. После того как котята немного подросли и глаза у них открылись, они стали проводить время более интересно: каждый день биологи Колин Блэкмор и Грэм Купер на пять часов сажали их в высокий цилиндр, на стеклянную прозрачную платформу, пересекающую его посередине. Куда бы ни смотрели котята, они видели только внутреннюю поверхность цилиндра. Она была полностью закрашена только горизонтальными или только вертикальными полосками. Подопытные не могли увидеть и собственное тело, потому что носили черные ветеринарные воротники. “Судя по всему, котят не огорчала однообразная обстановка, – трогательно отмечают авторы. – Они подолгу сидели и рассматривали стены”.
Когда котятам исполнилось пять месяцев, их стали выпускать в комнату с обыкновенной обстановкой и наблюдать за их поведением. Сначала все животные были довольно беспомощны и ориентировались в основном на ощупь. Но через несколько часов практики они уже понимали, как пользоваться своим зрением – например, для того чтобы смело соскочить со стула на пол. Хотя некоторые проблемы сохранились надолго. В частности, котята не умели оценивать расстояние до объектов. С одной стороны, они пытались потрогать то, что находилось на другом конце комнаты, с другой стороны – время от времени врезались в мебель.
Но главное – они не умели видеть горизонтальные линии, если росли только в окружении вертикальных. Вообще. Совсем. Вы берете указку и играете с котенком. Он следит за ней и ловит ее, как любой обычный котенок. Но только до тех пор, пока вы указываете ей вверх. Или вниз. Или хотя бы по диагонали. Как только вы поворачиваете указку параллельно полу, котенок перестает обращать на нее внимание. Он смотрит прямо перед собой, вы размахиваете указкой прямо у него перед носом, но он в упор ее не видит и никак не реагирует на нее. И наоборот, котенок, выросший в окружении горизонтальных линий, очень заинтересуется указкой в такой ситуации, но перестанет обращать на нее внимание, как только вы повернете ее вертикально.
К тому моменту было уже известно, чтó искать в кошачьем мозге. Десятью годами раньше Хьюбел и Визель, будущие лауреаты Нобелевской премии, показали[147], что в зрительной коре существуют клетки, чувствительные к ориентации линий. Чем ближе угол наклона к тому, что предпочитает эта конкретная клетка, тем с большей частотой она отправляет импульсы. И действительно, при вживлении электродов в зрительную кору котят, выросших в цилиндрах, удавалось найти клетки, чувствительные к тем линиям, которые они видели в детстве, – и не удавалось обнаружить клеток, которые должны были бы реагировать на линии, незнакомые котенку.
Главный вопрос жизни, вселенной и всего такого
Если излагать всю современную нейробиологию в двух предложениях, то это будут две англоязычные поговорки: Use it or lose it (используй, или потеряешь) и Cells that fire together wire together (клетки, которые активируются вместе, связываются вместе)[148].
У младенца – будь то котик или человеческий детеныш – очень много нейронов и очень много связей между ними[149]. Больше, чем у взрослого кота или у профессора Гарварда. В младенчестве нервные клетки выращивают отростки во все стороны – не то чтобы совсем хаотически и бессистемно, но избыточность очень большая. Отправляй импульсы всем, Господь отберет своих.
Собственно, как раз поэтому малыши такие неуклюжие. Когда годовалый ребенок пытается есть ложкой, то клетки его моторной коры отправляют импульсы во всех направлениях одновременно, так что неудивительно, что ложка постоянно выпадает из руки и валяется под столом, а каша оказывается на щеках, на подбородке, на люстре, но только не во рту. Но поскольку у ребенка есть намерение научиться пользоваться ложкой (конечно, если вы мудро проводите обучение в те моменты, когда он голодный, а каша вкусная), то он анализирует свой опыт и старается повторять именно те движения, которые, пусть и по чистой случайности, все‐таки позволили донести ложку до рта. Соответственно, электрические импульсы чаще проходят именно через те нейронные ансамбли, которые требуются для доставки каши в рот, чем через те, которые нужны для доставки каши в ухо. А мозг конструктивно предрасположен к тому, чтобы укреплять связи между теми нейронами, которые мы часто используем совместно. И ослаблять связи между теми нейронами, которые мы совместно не используем. До такой степени, что человек может научиться пользоваться ложкой (и делать еще много интересных вещей). А котенок может навсегда лишиться способности видеть горизонтальные линии, если в нежном возрасте, когда процесс реорганизации нейронных связей проходил особенно эффективно, зрительная кора не получала от сетчатки совсем никаких сигналов о том, что горизонтальные линии вообще‐то в мире существуют.
Я уже говорила об этом и еще много раз повторю: любое долгосрочное обучение – это физические изменения в мозге. Сначала все слабо связано со всем, а потом то, что взаимодействует, оказывается связанным прочно, а то, что не взаимодействует, становится связанным менее прочно. И иногда это уже никак не исправить.
Тут можно приводить огромное количество метафор. Например, общение между нейронами похоже на общение между людьми. Вот вы попали в новый университет и сначала просто смутно помните всех однокурсников и преподавателей в лицо. Потом с кем‐то из них вы начинаете общаться, становитесь друзьями, влюбляетесь. Вы можете перестать тусоваться вместе после окончания университета, но вы запомните их навсегда. Тех, с кем вы не общались, вы все равно будете помнить в лицо во время учебы и некоторое время после, но вот уже через пять лет после выпускного не узнаете их ни при встрече в транспорте, ни наткнувшись на них случайно в Фейсбуке. Впрочем, пока все живы, вы всегда можете познакомиться заново в рамках какого-нибудь рабочего проекта – как и нейроны, люди формируют прочные связи с теми, с кем они взаимодействуют.
Или, например, сравните мозг с полем, заросшим травой. Сначала по нему можно ходить в любом направлении, нет никакой разницы в эффективности движения, куда бы вы ни повернули. Но постепенно на тех направлениях, по которым вы чаще всего прогоняете нервные импульсы, появляются тропинки. Потом грунтовые дороги. Потом трехполосные шоссе с баннерами. Ходить по траве и протаптывать новые тропинки по‐прежнему возможно (хотя и трудно, потому что трава со временем превращается в одревесневшие колючки), но с гораздо большей вероятностью нервный импульс отправится по проторенной, расчищенной дороге.
Это тот кусок нейробиологии, который имеет огромное прикладное повседневное значение. В этом свете примерно все становится понятным. Большинству из нас не надо прилагать серьезные волевые усилия, чтобы почистить зубы, потому что мы делали это десятки тысяч раз в своей жизни. А вот если мы попытаемся добавить другое настолько же простое действие, например каждый день намазывать лицо кремом, то будем постоянно забивать и забывать, пока не приложим достаточно волевых усилий, чтобы проложить удобные нейронные дорожки и для этого тоже. Когда в нашей жизни происходит какая‐то резкая перемена, то нас еще долго, месяцы или даже годы, накрывают флешбэки из прошлой жизни. Вы бросили курить, и физиологическая зависимость прошла за три недели, но еще год вы не будете понимать, чем занять голову и сердце в тех ситуациях, в которых курение было особенно важным, потому что эти нейронные сети не успели перестроиться (так что большинство людей срывается обратно в физиологическую зависимость). Вы поссорились с другом, и, например, уверены в своей правоте, и не планируете извиняться, но все равно еще пару лет ловите себя на том, что ведете с ним мысленные диалоги и порываетесь кидать ему прикольные ссылки, – и огорчаетесь каждый раз, когда вспоминаете, что это больше не приветствуется. Но главное, конечно, вот эта история про новые нейронные связи страшно важна для любого целенаправленного обучения. Каждый раз, когда вы занимаетесь повторением, вы повышаете вероятность того, что новые нейронные связи сформируются. Когда вы учите любой материал маленькими кусочками в течение долгого времени, вы запоминаете намного больше, чем при попытке загрузить в голову все сразу за один день перед экзаменом[150], – скорость усвоения информации ограниченна именно потому, что для нее же надо вырастить новые нейронные связи и лучше делать это постепенно.
Прекрасная аплизия
Ну ладно, честно говоря, никто не проверял, как именно у меня в голове работает и медленно перестраивается нейронная сеть, посвященная моему утраченному другу. Мое хобби – экстраполяция. То есть да, исследователи полагают, что укрепление связей между нейронами лежит в основе любого обучения, и у них немало оснований для такой точки зрения, но ключевые прямые эксперименты с непосредственным наблюдением за молекулами и синапсами, конечно, проводят на клеточных культурах и на животных. Причем львиная доля информации была получена благодаря моллюскам, а уже потом многое из того, что верно для них, оказалось правдой и для нас.
Если вдруг вы еще не читали научно-популярную книгу Эрика Канделя “В поисках памяти”, то лучше вообще не читайте меня, а читайте ее. Если уже читали, то тем более не понимаю, что вы тут делаете. На самом деле эта глава нужна только третьей категории читателей – тем, кто Канделя еще не осилил, потому что это кирпич на 736 страниц, и предпочитает сначала получить бойкое и веселое краткое изложение от меня.
Канделю дали Нобелевку за редукционистский подход. За то, что он отвернулся – временно – от млекопитающих с их мелкими и многочисленными нейронами, среди которых толком не найти нужные, особенно когда непонятно, что именно вообще предстоит искать. Он вместо этого сосредоточился на работе с аплизией, или морским зайцем, – большущим, с человеческую ладонь, брюхоногим моллюском, у которого примерно 20 тысяч нейронов, и многие из них такие крупные, что видны невооруженным взглядом, они находятся в одном и том же месте у всех подопытных животных и выполняют одну и ту же функцию.
“Пожалуй, главная мудрость, которую дает Слизень, – пишет про аплизию нейробиолог Коля Кукушкин, – это относительность жизни, смерти, восприятия, памяти, поведения и вообще почти любого биологического процесса. Когда ты можешь разобрать животное на молекулы и, в общем, свести всю его жизнь к биохимическим каскадам, становится понятно, что ты как гигантское позвоночное очень ограничен своей обезьяньей концептуализацией живого организма в принципе. Когда ты усыпил улитку – она еще живая? А когда вытащил из нее мозг? Мозг не знает, что его вытащили. Он так может работать еще несколько дней. А если взять и вытащить из него нейроны? Они могут расти в чашке неделями и не знать, что что‐то изменилось. А если расклонировать гены, выделить РНК, разделить белки и заморозить? Молекулам все равно. Где заканчивается жизнь и наступает смерть? Что умерло, а что выжило? На каком уровне искать субъект?”
То есть у вас есть целое животное, и у него есть поведение. Например, когда вы задеваете сифон (трубку, которая соединяет мантийную полость с внешней средой и служит, например, для выведения отходов жизнедеятельности), аплизия немедленно втягивает внутрь и сам сифон, и жабры – они тонкие и их важно беречь от внешних угроз. Это врожденный рефлекс, но вы можете модифицировать его с помощью обучения: приучить аплизию не обращать внимания на слабые прикосновения к сифону или, наоборот, напугать ее, ударив током (причем неважно, в какую часть тела), чтобы она снова втягивала жабры в ответ на самое незначительное воздействие.
Вы можете разобрать аплизию, чтобы посмотреть, где у нее что находится. Вы видите, что чувствительный нерв от сифона заходит в абдоминальный ганглий (брюшной нервный узел). Вы видите, что из этого же ганглия выходит нерв, ведущий к жабрам и заставляющий их втягиваться. Вы начинаете разбирать абдоминальный ганглий поклеточно и находите там сенсорный нейрон. Если вы вставите в него записывающий электрод, то увидите, что этот нейрон активируется от прикосновения к сифону животного. А еще вы найдете рядышком моторный нейрон. Если простимулировать его с помощью электрода, то ваша аплизия втянет жабры.
Теперь вы можете ставить эксперименты по обучению полуразобранной аплизии – чем, собственно, и занялись Кандель и его коллеги. В одном из первых своих ключевых экспериментов[151], в 1970 году, они оставили от аплизии кусочек кожи с сифона, чувствительный нерв, ведущий от него к абдоминальному ганглию, и собственно абдоминальный ганглий. Убедились, что действительно, когда в такой конструкции вы прикасаетесь к коже, моторный нейрон активируется – как если бы аплизия втягивала жабры. Но если вы прикоснетесь к коже много раз, то моторный нейрон перестает активироваться – как если бы аплизия привыкла и перестала обращать внимание. А если вы оставите препарат в покое на двадцать минут и потом снова прикоснетесь к коже, то моторный нейрон снова активируется – как если бы аплизия отдохнула. А еще вы можете воздействовать электрическим током на остатки любого другого чувствительного нерва из тех, что раньше заходили в абдоминальный ганглий из разных концов тела. И в этой ситуации моторный нейрон снова начнет активироваться, хотя аплизия еще не отдохнула. Это потому, что вы ее напугали. Ну, точнее, напугали то, что от нее осталось.
Уже на этом раннем этапе работы можно вставлять много электродов в разные нейроны аплизии – чтобы регистрировать собственную активность клеток и чтобы подавать на них импульсы. Можно изменять состав солевого раствора, в котором все это происходит, чтобы усиливать или ослаблять передачу сигналов. И можно прицельно изучать один-единственный синапс – контакт между сенсорным нейроном и моторным нейроном. То, что на уровне целой аплизии выглядит как привыкание к прикосновениям, на уровне этого единственного синапса выглядит как кратковременное снижение его способности передавать сигналы. Если вы снова напугаете аплизию, то уже будут задействованы какие‐то другие нейроны – в 1970 году пока не было понятно, какие конкретно, и сколько, и как именно они подсоединены, – но они влияют на тот самый контакт между сенсорным и моторным нейроном и снова увеличивают эффективность проведения импульсов. Но тоже ненадолго.
Привет. Это кратковременная память. Целая аплизия ненадолго запоминает, что она привыкла к стимуляции. Или ненадолго запоминает, что она испугана. Для этого она соответственно снижает или повышает проводимость этого своего ключевого синапса между сенсорным и моторным нейроном. Полуразобранная аплизия делает то же самое, и это поддается непосредственному измерению.
В 1970 году было еще неизвестно, как именно аплизия это делает, какие конкретно молекулы отвечают за то, что проводимость синапса временно увеличивается, а главное – имеет ли этот феномен какое‐то отношение к настоящему обучению, долгосрочным и устойчивым изменениям в поведении животного, или они происходят как‐то совсем иначе. Данные накапливались постепенно, кирпичик за кирпичиком, в десятках последующих работ, – но неуклонно. Кандель и его коллеги научились выращивать аплизий в лаборатории, а не ловить на побережье. Это само по себе было нетривиальной задачей, потому что понадобилось выследить, какой конкретно вид водорослей обязательно должен присутствовать в рационе детенышей. Наличие юных аплизий позволило извлекать из них нейроны и культивировать их в чашке Петри (нейроны взрослых хуже переносят такое обращение). В таких условиях более удобно делать с нейронами что захотите, например поливать их растворами разных веществ и смотреть, что получится. А получалось многое.
Во-первых, для того чтобы усилить проводимость синапса, необязательно механически воздействовать на кожу или стимулировать нейроны с помощью электродов. Можно просто полить синапс серотонином, эффект будет аналогичным.
Во-вторых, воздействие на синапс приводит к увеличению в сенсорном нейроне концентрации цАМФ, циклического аденозинмонофосфата. Это такая молекула-посредник, ее основная биологическая роль заключается в том, чтобы сообщать внутриклеточным белкам, что на мембране происходит что‐то интересное. Более того, если на 15 минут залить синапс раствором цАМФ (точнее, раствором его синтетического аналога, способного проникать сквозь клеточную мембрану), то это тоже усилит проведение сигнала.
В-третьих, когда мы говорим о прямых направленных воздействиях на синапс, будь то механическая стимуляция, электрическая или с помощью серотонина, то одноразовое действие приводит к изменению проводимости синапса на несколько минут. Но вот если повторить такое воздействие пять раз подряд, то эффект окажется устойчивым, будет сохраняться даже через сутки.
В 1988 году, располагая этими данными, Кандель и его коллеги перекинули мостик от кратковременной к долговременной памяти[152]. Они проверили сразу две гипотезы, в поддержку которых говорили косвенные данные, но ощущалась нехватка прямых экспериментальных доказательств.
Во-первых, Кандель и его коллеги показали, что если долго, около двух часов, поддерживать повышенную концентрацию цАМФ в нейронах, то и изменение проводимости синапсов окажется долгосрочным. А если использовать всякие другие молекулы-посредники, то ничего не произойдет. Это очень важно, потому что это означает, что различие между кратковременной и долговременной памятью скорее количественное, чем качественное, – в том смысле, что одни и те же молекулы, в зависимости от продолжительности воздействия, вызывают либо краткосрочные, либо долгосрочные изменения.
Во-вторых, и это еще важнее, долгосрочные эффекты пропадают, если одновременно добавить в питательную среду анизомицин. Это вещество, которое подавляет в эукариотических[153] клетках синтез белка. Оно никак не влияет на краткосрочные изменения проводимости синапса. А вот если мы хотим, чтобы синапс изменился надолго, то без производства новых белков это невозможно.
Одновременно с этим Крейг Бейли и его коллега Мэри Чень выяснили с помощью аплизий еще одну важную вещь насчет долговременной памяти[154]. Они работали с целыми, а не разобранными животными и обучали их либо вообще не реагировать на прикосновение к сифону, либо, наоборот, очень серьезно его бояться. А уже потом, после вручения аплизиям красных дипломов в награду за успешное обучение, накачивали их сенсорные нейроны пероксидазой хрена, заливали эпоксидкой, резали на слои и подсчитывали количество пресинаптических выростов – участков нейрона, содержащих пузырьки с нейромедиаторами и готовых эти нейромедиаторы куда-нибудь выделить.
(“При чем тут хрен?” – спросите вы, если вам не доводилось раньше интересоваться молекулярной биологией. Сам хрен действительно ни при чем, а вот выделенный из него фермент по имени пероксидаза – важный инструмент для биологических исследований. Если просто ввести пероксидазу хрена в нейроны, их становится намного удобнее рассматривать под микроскопом. В современных лабораториях широко применяют молекулярные комплексы из пероксидазы и антител к конкретным белкам, позволяющие их выявлять и подсчитывать.)
Так вот, если вашу аплизию вы вообще ничему не обучали, то в среднем у нее в каждом сенсорном нейроне 1300 пресинаптических выростов. Если она у вас достигла просветления, перестала беспокоиться и втягивать жабры (потому что вы дотрагивались-дотрагивались до ее сифона, и ничего страшного не происходило, и ей надоело тревожиться), то пресинаптических выростов на нейроне будет около 900. Если же, наоборот, вы несколько дней били ее током и внушили ей, что жизнь опасна и тяжела, так что втягивать жабры надо при каждом шорохе, то вы насчитаете у такой аплизии в среднем 2700 пресинаптических выростов на один сенсорный нейрон.
Привет. Это долговременная память. Каждое использование синапса (в том числе и поступление на него дополнительной информации о том, что тут опасно и в другие места тела бьют током) повышает количество сигнальной молекулы цАМФ в сенсорных нейронах. Рано или поздно количество переходит в качество, запускаются молекулярные каскады, клетка инициирует процессы считывания генов, синтеза новых белков и начинает выращивать себе новые пресинаптические окончания, с тем чтобы дальше аплизия могла понадежнее связать сенсорные нейроны с моторными, то есть на много недель запомнить, что надо старательно втягивать жабры в ответ на любое прикосновение.
Все это время я старательно фокусировалась на одном-единственном синапсе, контакте между сенсорным и моторным нейроном, чтобы не пугать вас раньше времени. Но на самом деле, когда мы говорим про аплизию и про те механизмы ее обучения, которые исследовал Кандель, там обычно задействованы не два нейрона, а три.
Сенсорный нейрон воспринимает сигналы от внешнего мира. Моторный нейрон передает их мышце. Третья категория – интернейроны, которые делают все остальное. В случае с рефлексом втягивания жабр у аплизии интернейроны серьезно влияют на то, в какой степени система вообще будет изменяться под влиянием пережитого опыта. Именно интернейроны выделяют серотонин – тот, который в лаборатории просто капают из пипетки. Он служит сигналом о том, что случилось что‐то важное.
На молекулярном уровне происходит вот что[155],[156]: серотонин воспринимается предназначенными для него рецепторами в сенсорном нейроне, и это запускает производство сигнальной молекулы цАМФ; та, в свою очередь, действует на следующего ключевого игрока в этой цепочке – протеинкиназу А. Вообще, протеинкиназы – это большая группа ферментов, которые всегда делают в клетке важные вещи: они умеют навешивать на разные другие белки фосфатную группу (-PO4) и изменять таким образом их активность.
Когда мы говорим о кратковременной памяти, то есть о процессах, которые затрагивают только проводимость отдельно взятого синапса и ненадолго, то протеинкиназа А действует там на ионные каналы, способствует притоку в сенсорный нейрон ионов кальция и усиливает выделение им глутамата – нейромедиатора, передающего сигнал на моторный нейрон.
Когда мы говорим о долговременной памяти, то ее основное отличие в том, что протеинкиназы А накапливается много. Настолько много, что она поступает в ядро клетки и активирует там белок CREB-1. Он, в свою очередь, взаимодействует с ДНК и запускает считывание генов, кодирующих белки, нужные для последующего роста новых синапсов.
Мы и без аплизии догадывались, что повторение – мать учения. Но именно благодаря ей стало понятно почему. В нейронах просто должно накопиться достаточно цАМФ и вследствие этого достаточно протеинкиназы А, чтобы она инициировала процесс роста новых синапсов. Вероятность этого качественного перехода повышается каждый раз, когда нейроны вовлекаются в работу.
На самом деле, конечно, в клетке еще есть система сдержек и противовесов. Запомнить что-нибудь с первого раза аплизия не может не только потому, что у нее еще не активирован белок CREB-1, но и потому, что у нее, наоборот, работает белок CREB-2. Он тоже сидит в ядре, но только не стимулирует, а подавляет экспрессию генов, нужных для роста новых синапсов. Чтобы его отключить, тоже нужна протеинкиназа А (она делает это не напрямую, а с помощью посредника, который называется “MAP-киназа”). Когда у вас есть нейроны аплизии в клеточной культуре, вы можете сделать антитела к белку CREB-2, ввести их непосредственно в сенсорный нейрон и убедиться, что теперь одного-единственного стимула достаточно для того, чтобы сформировать долговременную память[157].
Не пытайтесь повторить это дома. Если бы мы запоминали с первого раза всю информацию, с которой сталкиваемся, наша жизнь была бы довольно неудобной, потому что мы бы постоянно путались, стараясь выделить важное среди кучи хлама. Это как если бы вы сохраняли на своем рабочем столе отдельным файлом каждую фотографию, которую вы когда-либо видели в интернете, а потом пытались бы перебрать их все, чтобы найти собственное фото на паспорт, которое тоже где‐то там на рабочем столе хранится.
Значимость повторения и невозможность запомнить все сразу – это те вещи, которые могут быть легко перенесены с аплизии на млекопитающих. У нас тоже должна накопиться протеинкиназа А, чтобы запустились процессы считывания генов, синтеза белков и роста новых синапсов. Но все же между нами и аплизией, по‐видимому, есть и некоторые отличия.
Человек сложнее улиточки?
Вот смотрите, что мы поняли про аплизию. Ей для обучения обычно нужно три нейрона. В случае рефлекса втягивания жабр – сенсорный и моторный, которые проводят сигнал, и еще интернейрон, который выделяет серотонин. Этот серотонин инициирует перестройки в синапсе между сенсорным и моторным нейроном, причем в первую очередь за счет изменений в первом из них.
Пока Кандель совершал открытие за открытием, изучая аплизию, другие нейробиологи возились с гиппокампом млекопитающих. Это та самая зона мозга, которую в первой главе удалили Генри Молисону, после чего он лишился способности формировать долгосрочные воспоминания. Работать с гиппокампом гораздо сложнее, чем с абдоминальным ганглием аплизии, нейроны там мелкие, их очень много, эксперименты трудоемкие, результаты противоречивые. Но многие коллеги Канделя сохраняли надежду – и правильно делали. Еще в 1966 году именно в экспериментах на гиппокампе удалось впервые показать, что проводимость синапсов в принципе увеличивается после того, как через них пропустили электрические импульсы (это называется “долговременная потенциация”), а потом и описать молекулярные механизмы, которые ее обеспечивают[158]. И в целом получилось, что у млекопитающих, по сравнению с аплизиями, выше роль изменений не в первом, а во втором нейроне цепочки. И что, по‐видимому, это усиление проводимости в синапсе с большей вероятностью может сохраниться и перейти в долговременную память и без участия какого‐то дополнительного третьего интернейрона.
Если на этом месте вы подумали: “Ну и зачем Ася столько времени рассказывала нам про каких‐то улиток, если у млекопитающих по‐другому?” – то я хочу вас сразу от этого предостеречь. Сходства между нами намного больше, чем различий[159], – эволюция вообще легко меняет всякие несущественные детали типа формы тела и количества лапок, но очень консервативна в том, что касается жизненно важных молекулярных механизмов. У аплизии, по‐видимому, усиление проводимости синапса происходит и за счет изменений в постсинаптическом нейроне тоже[160]. У млекопитающих присутствует и регуляция памяти с помощью интернейронов, просто ее намного сложнее изучать, чем у аплизии, и поэтому до сих пор накоплено мало хороших примеров. Но, скажем, еще в 2001 году Сабина Фрей и ее коллеги экспериментировали с крысами, в мозг которых были вживлены электроды[161]. Животным стимулировали зубчатую извилину (ее можно рассматривать как часть гиппокампа, и она точно связана с памятью и пространственным мышлением). После стимуляции возбудимость нейронов повышалась, но за восемь часов падала до прежнего уровня. Или не падала. Зависит от того, посылали ли крысе импульсы еще и на амигдалу. Активная амигдала резко замедляет затухание возбуждения в гиппокампе. Видимо, как раз потому, что отростки ее нейронов контактируют с синапсами гиппокампа, поливают их нейромедиаторами (в данном случае в первую очередь норадреналином) и усиливают долговременную потенциацию, то есть резко повышают вероятность того, что структурные изменения произойдут прямо с первого раза.
Вот ровно об этом я думала, дорогой читатель, этими самыми словами, когда два дня назад судьба занесла меня в “Макдоналдс” на Охотном Ряду. Вообще‐то я его избегаю, но когда нужно быстро и дешево поесть понятной еды в центре города, то вариантов особо нет. А избегаю я его потому, что меня там начинает трясти. Потому что в прошлый раз я туда заходила после того, как три часа подряд позорно липла к человеку, в которого безнадежно и пламенно влюблена. Он, скорее всего, горестно думал: “Ну вот че она? Нормально же сидели” – и пытался мягко от меня отвязаться, но я была непреклонна и решительна, как бронетранспортер. И уж точно проявляла в тот вечер ничуть не больше интеллектуальных способностей, чем улиточка. И у меня, как и у нее, сработала гетеросинаптическая пластичность. То есть амигдала моя, осознав, что наша с ней репутация разрушена безвозвратно, начала со страшной силой посылать импульсы в гиппокамп, чтобы я, по крайней мере, твердо запомнила, в каком месте со мной случилось ужасное, и больше никогда туда не ходила. Вообще у меня к ней много претензий по поводу того, что она могла бы включиться и на три часа раньше, но в присутствии объекта ей приходится преодолевать конкуренцию с прилежащим ядром, а оно у меня тоже эволюционно древнее и довольно мощное.
Влюбленности вообще хорошо подходят, чтобы словить интуитивное понимание того, как работают обучение и память. В конце концов, эти функции миллионы лет эволюционировали не ради того, чтобы мы были способны брать интегралы и дочитывать до конца эпилог “Войны и мира”. Задача была сложнее: повысить вероятность того, что мы выживем, найдем себе убежище, пропитание и половых партнеров. Соответственно, нужна была способность запоминать, где опасно, а где хорошо, какие наши действия приводят к тому, что нам больно, а какие – к тому, что нам приятно. Это уже потом выяснилось, что иногда для того, чтобы платить за квартиру и производить впечатление на девушек, оказываются полезны интегралы или “Война и мир”. И соответственно, мы до сих пор особенно круто умеем запоминать те обстоятельства, которые сопровождали эмоционально значимые события. Например, те песенки, которые были в моде во время острой стадии нашей влюбленности и, соответственно, постоянно крутились по радио, когда мы думали о потенциальном партнере (мы же все время о нем думали, не так ли?). В результате условный Игорь до сих пор железобетонно ассоциируется у меня с “I just cannot fight this feeling, we should be lovers, we should be lovers” (хотя я уже давно не думаю, что we should, но в 2010 году эта песня звучала из каждого утюга), а условный Андрей – с “Завтра в семь двадцать две я буду в Борисполе”, модной в 2012‐м (хотя, честно говоря, если я встречу Андрея на улице, я вряд ли его вообще узнаю). Уверена, что, если вы когда-нибудь были влюблены, вы сможете без проблем набросать собственный аналогичный список.
Что при этом происходит в мозге? Вот смотрите. У влюбленного человека есть довольно большая и активная нейронная сеть, которая постоянно думает про объект его страсти. И еще есть нейронные сети, которые отслеживают происходящее вокруг, в частности такая, которая слышит и узнает песенку. Между нейронной сетью “объект” и нейронной сетью “песенка” где‐то есть контакт. Просто потому, что между любыми нейронными сетями где‐то есть контакт. Как-никак у каждого нейрона примерно 10 000 синапсов. (Это как автодороги, по которым можно доехать от Липецка до Парижа, ни разу не съезжая с асфальта.) А на этом синапсе, соединяющем объект и песенку, есть специальные молекулы – детекторы совпадений. Они регистрируют, что эти две нейронные сети были активны одновременно. И делают связь между ними более прочной. Физически.
Понятно, что учебники по нейробиологии[162] рассказывают нам не про любовь, а про эксперименты с электродами, вживленными в гиппокамп. Вот у вас там есть два нейрона. От первого ко второму идет аксон (тот отросток, по которому нейрон отправляет информацию соседям; еще бывают дендриты, которые, наоборот, собирают информацию). Вы этот аксон стимулируете, но совсем немного. Так, что сигнал по нему идет совсем слабый и даже не вызывает никакого потенциала действия во втором нейроне, с которым контактирует. Выделил чуть‐чуть нейромедиаторов, но для запуска активности не хватило. Естественно, после этого вы не наблюдаете никакой долговременной потенциации, никакого усиления проводимости синапса. Но – внимание! – если вы одновременно в пределах 100 миллисекунд простимулируете и второй нейрон, то тогда долговременная потенциация как раз возникнет. Причем существенно, что она возникнет не во всех синапсах второго нейрона, а только в том, который одновременно получил слабый, подпороговый, но все‐таки существующий входящий сигнал.
Это классический принцип Хебба, помните? Cells that fire together wire together. Для того чтобы усиление проводимости синапса произошло, нужно, чтобы второй нейрон одновременно и сам был возбужден, и получил нейромедиаторы от первого. Необязательно стимулировать второй нейрон именно с помощью электродов, вставленных в него, – можно добавить в систему третий нейрон. Теперь вы делаете так: на нейрон № 2 приходят одновременно слабенький сигнал от нейрона № 1 и сильный возбуждающий сигнал от нейрона № 3. И – та-дам! – у второго нейрона усиливается связь не только с третьим, но и с первым. Но не с остальными 9998, с которыми он взаимодействует. Что происходило одновременно, про то и запомним, что оно как‐то связано друг с другом. Про все остальное ничего не запомним.
Детекторы совпадений
Теперь я еще раз коротко напомню вам, как работает синапс. Электрический импульс приходит на пресинаптическое окончание. Там выделяются нейромедиаторы, например глутамат. Нейромедиаторы плывут через синаптическую щель, достигают второго нейрона и связываются с рецепторами, расположенными на постсинаптической мембране. Если это обыкновенные рецепторы, например AMPA, то они в ответ изменяют свою пространственную структуру, открывают канал, который пронизывает мембрану насквозь, и в клетку начинают заплывать положительно заряженные частицы, например ионы натрия. Если их будет много, то начнется цепная реакция. Подключатся другие каналы, возбуждение начнет распространяться дальше по мембране. Возникнет потенциал действия.
Пока обыкновенные рецепторы стараются, NMDA-рецепторы сидят и ничего не делают. Они не могут. У них каналы закупорены. Серьезно, в каждом канале сидит ион магния и никого не пускает ни туда, ни сюда.
NMDA-рецептор откроет свой канал тогда и только тогда, когда будут соблюдены два условия. Во-первых, на него придет глутамат, выделившийся в синаптическую щель. И во‐вторых, постсинаптическая мембрана уже будет деполяризована. Либо потому, что нейромедиаторы от первого нейрона все поступают и поступают и AMPA-рецепторы успели хорошо поработать. Либо потому, что параллельно что‐то произошло в соседних синапсах и возбуждение распространилось и на интересующий нас синапс тоже. Поодиночке ни одного из этих условий недостаточно. NMDA-рецептор регистрирует строго одновременную активность двух нейронов. И вот если она случилась, тогда да. Тогда он открывает канал, и через канал начинают затекать ионы кальция. И эти ионы кальция запускают в клетке еще кучу всего интересного.
Сразу после того, как NMDA-рецептор запустил в клетку кальций, последний воздействует на две новые для нас протеинкиназы (так, напомню, называются ферменты, которые изменяют активность белков). Одну зовут Ca2+/кальмодулин-зависимая протеинкиназа, вторую – протеинкиназа С. Они запускают последовательность событий, приводящую к тому, что в постсинаптическую мембрану встраиваются новые AMPA-рецепторы. Соответственно, она начинает эффективнее улавливать глутамат, приходящий от первого нейрона. Проводимость синапса увеличивается. Ненадолго, максимум на пару часов. На этом может все и закончиться. Число AMPA-рецепторов вернется к прежнему уровню, и мы забудем то, что выучили прямо на лавочке в коридоре перед экзаменом.
Но если в клетку попало много кальция (например, потому что нам попался на экзамене тот самый билет, который мы учили в последний момент, и пришлось еще раз прогнать импульсы по тем же самым синапсам, и так уже усиленным, что позволило им легко задействовать NMDA-рецепторы еще раз), то протеинкиназы еще и усиливают в клетке производство цАМФ. А дальше вы знаете. Дальше все то же самое, что и у аплизии. Накапливается много активной протеинкиназы А, она проникает в ядро, действует там на CREB, запускает считывание генов, синтез белков, рост новых синапсов. Память стала по‐настоящему долговременной, анатомически зашитой в мозге.
Ой, всё. Если вы человек, не отягощенный биологическим образованием, и при этом все это прочитали, то я глубоко вами восхищаюсь. Но мне правда кажется, что это очень-очень важная история, одна из ключевых для понимания того, как вообще работает мозг. У нас есть детектор совпадений. Специальная молекула, задача которой – регистрировать одновременную активность двух нейронов и усиливать связь между ними. То есть наша нервная система конструктивно предрасположена к двум невероятно важным вещам. Во-первых, к тому, чтобы укреплять те нейронные цепочки, которыми мы пользуемся регулярно. Во-вторых, к тому, чтобы регистрировать совпадения. Ассоциировать друг с другом те события, информация о которых поступила в мозг одновременно. Для этого есть совершенно четкий молекулярный механизм. Мы просто так устроены.
Эта жестокая правда о себе, если как следует в нее врубиться, очень сильно дисциплинирует. Каждый раз, когда я совершаю какое‐то правильное действие – например, сажусь работать или учиться, хотя это не срочно, – я не просто сажусь работать или учиться здесь и сейчас. Я одновременно еще и повышаю вероятность того, что и в следующий раз я поступлю точно так же. Что в следующий раз мне будет проще это сделать. У мозга уже будет для этого проторенная дорожка, по которой импульсы пойдут с большей вероятностью. Но и каждый раз, когда я совершаю какое‐то неправильное действие – например, сев работать, тут же залипаю в Фейсбук, – я тоже не просто залипаю в него здесь и сейчас, а еще и повышаю вероятность того, что и дальше я буду склоняться к выбору Фейсбука, а не работы. Бр-р. Об этом лучше не думать. Пойду посмотрю, не лайкнул ли меня кто-нибудь.
Это еще и жестокая правда об окружающих людях и коммуникации с ними. Мы можем влиять на чужие нейронные сети. Мы постоянно это делаем. У всех, кто меня помнит, есть в голове нейронная сеть “Ася Казанцева”. Она постепенно ослабевает, пока мы не взаимодействуем. А каждый раз, когда мы взаимодействуем, она усиливается, и при этом информация обо мне обновляется в соответствии с новыми полученными стимулами. Когда я кого‐то все время хвалю или кормлю, он мне автоматически становится рад. Когда я ему все время рассказываю про обожаемые мной NMDA-рецепторы, он при мне автоматически начинает скучать. Если хотите, это дрессировка. Не надо думать, что она работает только для собачек.
А еще это жестокая правда об обществе в целом. Все люди вокруг нас конструктивно заточены на то, чтобы фиксировать связи между событиями, совпавшими во времени. Вообще‐то это невероятно полезное свойство, которое позволяет открывать закономерности в окружающем мире. Но наша проблема в том, что мы слишком уж сильно склонны видеть такие закономерности даже там, где их нет и в помине. Как раз поэтому вся методология науки направлена вот ровно на то, чтобы помешать ученым – они тоже люди! – видеть взаимосвязи там, где их нет. Именно для этого нужны и контрольные группы, и рандомизация, и статистика. А вот нормальным людям, вне рамок научного эксперимента, никто не мешает это делать. Поэтому мы постоянно, даже не задумываясь, набираем информацию о мире именно за счет регистрации совпадений и совершенно неправомерной их экстраполяции на весь окружающий мир. Черная кошка перешла человеку дорогу, а потом он упал и разбил коленку – и сам запомнит, что черная кошка к беде, и детям своим расскажет. Болел гриппом, съел сахарные шарики, выздоровел – будет и дальше есть сахарные шарики. Если вам смешно и вы считаете, что вы‐то не такой, подумайте еще раз. Вот я, например, ужасно люблю студентов, сотрудников и выпускников Физтеха и Вышки, всех скопом, автоматически. Основываясь на весьма ограниченной выборке, я железобетонно уверена, что они – лучшие возможные возлюбленные, друзья и коллеги. Поэтому сообщить о своей принадлежности к одному из этих университетов – это самый надежный способ мгновенно купить мою лояльность, автоматически получить кредит доверия, готовность с вами тусоваться и сотрудничать. Дальше работает самосбывающийся прогноз: людям сложно не реагировать на такое искреннее обожание, и они тоже ведут себя со мной доброжелательно. А я, соответственно, укрепляюсь в уверенности, что это лучшие люди на свете. Что я могу сделать? У меня есть NMDA-рецепторы.
Глава 5 Как вмешаться в чужую память?
Доверять показаниям свидетелей, наверное, можно, но с осторожностью. Вот представьте такой эксперимент: в лабораторию приходят 150 человек, и вы показываете им всем один и тот же видеоролик про автомобильную аварию. Нестрашный. Просто машины неудачно пытались разъехаться и поцарапали друг друга.
Потом вы спрашиваете испытуемых, с какой скоростью ехали автомобили. При этом одну группу, контрольную, вы спрашиваете именно в такой формулировке. А двум экспериментальным группам подсовываете подсказки: “С какой скоростью ехали машины, когда они соприкоснулись?” и “С какой скоростью ехали машины, когда они врезались друг в друга?”
Нетрудно догадаться, что скорость автомобилей окажется разной в зависимости от формулировки вопроса[163]. Те, кто описывал врезавшиеся автомобили, в среднем сообщили, что они ехали со скоростью 10,46 миль (16,83 км) в час, а испытуемые, размышлявшие о соприкоснувшихся автомобилях, приписали им скорость 8 миль (12,87 км) в час. Само по себе это не слишком удивительно. Люди не очень хорошо умеют оценивать время, расстояние и скорость, и вполне естественно, что они бессознательно опираются на подсказку, содержащуюся в формулировке вопроса, и корректируют свои оценки в соответствии с ней.
Интереснее другое. Через неделю испытуемых снова пригласили в лабораторию. Ролик больше не показывали, зато спросили, видели ли они разбитое стекло. Среди тех, кто во время прошлого визита в лабораторию размышлял о врезавшихся автомобилях, разбитое стекло припомнили 16 % участников. В остальных двух группах, с соприкоснувшимися автомобилями и вовсе без уточнений о характере столкновения, – 7 и 6 % соответственно. На самом деле, конечно же, никакое стекло в ролике не разбивалось.
Это была первая работа о ложных воспоминаниях, опубликованная в 1974 году психологами Элизабет Лофтус и Джоном Палмером. С тех пор Элизабет Лофтус и ее коллеги проделали со своими испытуемыми еще гору интересных вещей. Например, пробовали внедрить им в голову фальшивые воспоминания о детстве[164].
Для каждого испытуемого готовили буклет, в котором были описаны четыре истории из его старшего дошкольного возраста. Три настоящие, подготовленные с помощью родственников, и одна выдуманная, одинаковая для всех, – о том, как участник исследования, когда ему было пять лет, потерялся в торговом центре, заплакал, но пожилая женщина помогла ему найти родственников, и все закончилось хорошо. К участию в эксперименте привлекали только тех людей, чьи старшие родственники были абсолютно уверены, что на самом деле ребенок в торговом центре никогда не терялся. Самим испытуемым расплывчато говорили, что исследуют детские воспоминания, и просили записать в буклете все, что они помнят о каждом случае, – ну или написать, что они совсем ничего не помнят, если это так. Через неделю-две после заполнения буклета, а потом еще через неделю-две, с ними проводили интервью, в которых просили воспроизвести в памяти дополнительные подробности, а также оценить, насколько четко они помнят эти события и насколько уверены, что смогут добавить еще какие-нибудь детали, если подумают.
Всего в исследовании участвовали 24 человека. Они смогли вспомнить 49 из 72 событий, которые происходили с ними на самом деле. Кроме того, семеро из них сообщили, что помнят, как потерялись в торговом центре. Но двое из этих участников отсеялись (одна девушка призналась на интервью, что все‐таки не помнит случай с торговым центром, а со вторым испытуемым ошиблись сами экспериментаторы – задали не все вопросы, которые планировали, и его пришлось исключить из анализа данных). Пятеро оставшихся людей, успешно запутанных экспериментаторами, все равно помнили настоящие события из своей жизни лучше, чем фальшивые, – на 6,3 балла по десятибалльной шкале. Что касается выдуманной истории, то ее они помнили в среднем на 2,8 балла во время первого интервью – но уже на 3,6 балла во время второго. Добавляли всякие подробности: “Женщина, которая меня нашла, была толстая, а мой брат сказал, что она милая”. Когда им объяснили, что одно из четырех воспоминаний в буклете было фальшивым, и предложили угадать которое, 19 участников из 24 выбрали правильно, но даже среди них некоторые продолжали удивляться: “Но как же, я же четко помню, как я шла мимо примерочных и не нашла свою маму там, где она должна была быть!”
Как видите, большинство людей остается довольно устойчивыми к ложным воспоминаниям. Но зато, если воспоминание все же показалось человеку достаточно убедительным, оно встраивается в картину мира и начинает влиять на представление человека о том, кто он такой, и, соответственно, на принимаемые им решения. Это Элизабет Лофтус и ее коллеги продемонстрировали, например, в эксперименте, посвященном любви к спарже[165].
Людей, как обычно, запутали. Сказали им, что изучают связь между пищевыми предпочтениями и складом характера. Дали пять опросников. Из них три были про характер, а важны для исследователей на самом деле были только остальные два: про то, какую еду человек любил в детстве, и про то, какие блюда в ресторанном меню кажутся ему привлекательными сейчас. В опросник про детские предпочтения подсунули пункт “полюбил спаржу, когда попробовал ее первый раз”, согласие с которым нужно было оценить по шкале от 1 до 8. В опроснике про рестораны исследователей тоже на самом деле интересовало только одно блюдо, “обжаренные ростки спаржи”, но для конспирации там была куча другой еды. Испытуемых просили представить, что они идут в ресторан отмечать какое‐то важное событие, и оценить для каждого блюда вероятность того, что они его закажут, тоже по восьмибалльной шкале.
Через неделю люди снова приходили в лабораторию. Им говорили, что компьютер составил профиль их пищевых предпочтений в детстве. “Вы не любили шпинат, вам нравилось жареное, вы радовались, когда ваши одноклассники приносили в школу сладости, а еще вы любили спаржу” – вот такое описание получила половина испытуемых. Они спокойно это выслушали, никто из них не завопил: “Эй, ваш компьютер что‐то перепутал!” В контрольной группе текст был таким же, но только спаржа вообще не упоминалась. Когда испытуемым затем снова предлагали заполнить опросник про детские пищевые предпочтения, то контрольная группа оценила спаржу так же, как и раньше, – в среднем на полтора балла из восьми. А вот те, кому компьютер сказал, что они любили спаржу в детстве, приняли это к сведению и теперь оценили ее в среднем на четыре балла из восьми.
Разумеется, разные люди поддались на манипуляцию в разной степени. Испытуемых также расспрашивали, насколько твердо они помнят свой первый приятный опыт поедания спаржи (а заодно и другой еды, которая им нравилась на самом деле), и это наконец создавало удачную возможность заявить: “Да не было вообще ничего такого”. Из 46 человек, попавших в экспериментальную группу, 20 именно так и поступили. У этих людей отношение к спарже осталось прежним, несмотря на попытки исследователей их запутать. Но нашлись и 26 доверчивых испытуемых, которые заявили, что да, они помнят, как полюбили спаржу, или по крайней мере верят, что с ними такое было. И вот эти люди приписали спарже дополнительные полтора балла и тогда, когда еще раз заполняли ресторанный опросник, посвященный их сегодняшним пищевым предпочтениям.
То есть смотрите, что происходит. Людям говорят, что в детстве они любили спаржу. Половина верит. После этого у них обновляются представления о себе: “Я такой человек, который в детстве полюбил спаржу”. И это меняет их современное отношение к спарже: они заявляют, что с большей вероятностью закажут ее в ресторане, и вдобавок готовы заплатить за нее в овощном магазине больше денег, чем контрольная группа (это тоже проверяли с помощью опросника).
Обсуждая эти результаты на конференции TED, Элизабет Лофтус говорит: “Психотерапевты по этическим соображениям не могут насаждать фальшивые воспоминания в головы своих пациентов, даже если бы это пошло тем на пользу. Но никто не может запретить родителям попробовать сделать это со своими детьми, страдающими от лишнего веса. Когда я высказала эту мысль публично, это вызвало переполох: «Вот до чего дошло! Она говорит, что родители должны лгать своим детям!» Привет, Санта-Клаус. Я имею в виду, есть другой способ смотреть на вещи. Что бы вы предпочли – ребенка с ожирением, диабетом, сниженной продолжительностью жизни или ребенка с лишним кусочком фальшивых воспоминаний? Я знаю, что я бы выбрала для своего”.
Если серьезно, то эти данные лишний раз напоминают нам, что ближнего своего лучше бы обычно хвалить, а не ругать. Потому что всегда есть риск, что он нам поверит. Имеет смысл регулярно рассказывать окружающим, что они красивые, хорошие, добрые, старательные, способные. Люди формируют представление о себе в том числе и с учетом мнения общественности и склонны соответствовать ее ожиданиям. Поэтому, если вдруг я для вас тоже важный источник информации, то сообщаю вам, что вы такой человек, который регулярно двигается, питается здоровой пищей, вовремя ложится спать и легко бросает вредные привычки. Живите теперь с этим знанием о себе.
Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым
Вот вам еще один поведенческий эксперимент с людьми, на этот раз менее зажигательный, но демонстрирующий важные свойства нашей памяти[166].
Испытуемые приходят в лабораторию. Им поочередно показывают 20 предметов (игрушечную машинку, зубную щетку, ложку, носок и т. п.), а потом складывают их в синюю корзинку. Процедура повторяется либо четыре раза подряд, либо до тех пор, пока человек не запомнит хотя бы 17 предметов из списка.
Через два дня люди снова приходят в лабораторию. Половине из них показывают синюю корзинку (без вещей) и просят описать, как происходила процедура обучения, не перечисляя при этом конкретные предметы. Потом им всем дают заучить еще один список из 20 предметов (яблоко, камень, книжка…), но теперь показывают все предметы одновременно, и вообще это делает другой экспериментатор в другой комнате.
Еще через два дня испытуемых просят вспомнить как можно больше предметов из первого списка. И выясняется, что успех этого мероприятия зависит от того, показывали ли им в середине синюю корзину. Если этого не делать, человек вспоминает в среднем 45 % предметов из первого списка и ошибочно добавляет туда 4,9 % предметов из второго. А вот если второй список пришлось учить сразу после активации воспоминаний о первом визите в лабораторию, то человек правильно вспоминает 36,3 % предметов, а еще приплетает 23,8 % предметов из второго списка. Важно, что такой эффект наблюдается именно в том случае, если уже прошли два дня с прошлого визита. Если попросить испытуемых припомнить вещи из первого списка сразу после того, как они зубрили второй, они никогда не перепутают, что откуда.
Что это означает? Каждый раз, когда мы обращаемся к какому‐то воспоминанию, оно перезаписывается в нашей голове. Новая полученная информация накладывается на старую, если мы одновременно обдумывали и ту и другую. При этом изменение воспоминания не происходит мгновенно, реконсолидация требует времени на перестройку нейронных связей.
Это утверждение поддается проверке и в экспериментах, имеющих более прямое отношение к нейробиологии. Например, можно взять крыс и научить их бояться звукового сигнала, потому что его сопровождает слабый, но ощутимый удар током. Когда крыса слышит этот звук, она прекращает свою деятельность, замирает и ждет неприятностей. Она делает так всегда. Но если в один прекрасный день одновременно с предъявлением звука вы сделаете ей инъекцию анизомицина – вещества, нарушающего синтез белков, – то крыса забудет, что этого звука она боялась[167]. Анизомицин в этом эксперименте вводили прямо в амигдалу – помните, тот участок мозга, который связан как со страхом, так и с памятью о нем. Существенно, что если вы введете крысе анизомицин просто так, без предъявления звука, то ее пугающие воспоминания никуда не денутся. Звук был нужен для того, чтобы активировать нейроны, связанные с выученным страхом, а анизомицин – чтобы помешать им правильно перезаписать воспоминание.
В тот момент, когда воспоминание только-только формируется, или в тот момент, когда мы заново к нему обратились, – оно нестабильно, его можно нарушить, в том числе и с помощью фармакологических воздействий. Понятно, что это открывает интересные направления работы с человеческими страхами. Насколько мне известно, никто всерьез не предлагает вводить нам в мозг анизомицин или другие блокаторы синтеза белка. Даже если бы их можно было дать в виде таблетки и добиться при этом достаточной концентрации в мозге, все равно они токсичны. И к тому же возникают этические проблемы. Вот, допустим, человек пережил травмирующий опыт – например, стал свидетелем теракта или жертвой изнасилования. Пускай мы придумаем такую таблетку, которую ему сразу могут выдать сотрудники скорой помощи, чтобы предотвратить запись этого воспоминания в долговременную память. Хорошо ли это? Имеет ли смысл отказываться от пережитого опыта? И к тому же вряд ли таблетка будет настолько эффективна, чтобы у человека просто случился провал в памяти. Более вероятно, что воспоминание будет отрывочным, неполным и нелепым. Человека, например, всю оставшуюся жизнь будет трясти на этой станции метро, но он не будет понимать почему. Лучше использовать более мягкие, более выборочные, более осознаваемые самим человеком способы вмешательства.
Львиная доля исследований человеческих страхов проводится с помощью испытуемых, которые боятся пауков. Во-первых, таких людей легко найти – от арахнофобии страдает примерно каждый десятый. Во-вторых, паука гораздо удобнее держать в лаборатории, чем змею или собаку. Он недорого стоит, долго живет, мало ест и неприхотлив в быту.
Когнитивно-поведенческие психотерапевты широко применяют живых пауков, чтобы, собственно, вылечить своих пациентов от фобии. Метод, который они чаще всего используют, называется экспозиционная терапия. Вы приходите в клинику, а там сидит живой паук. Вы смотрите на паука, паук смотрит на вас. Вы смотрите на паука, паук смотрит на вас. Вы смотрите на паука, паук смотрит на вас. Вы смотрите на паука, паук смотрит на вас. В конце концов вам становится скучно. То есть вы запомнили, что пауки – это скучно. Вы начинаете бояться меньше. Классическое павловское затухание условного рефлекса (именно поэтому паука-птицееда, который работает в Центре нейроэкономики и когнитивных исследований в НИУ ВШЭ, зовут Иван Петрович). Это хороший способ лечения, но долгий, иногда мучительный для пациентов с сильной фобией, и к тому же эффект не всегда сохраняется надолго и не всегда распространяется на любых пауков, а не только на конкретного Ивана Петровича. Так что многие лаборатории по всему миру ищут способы повысить эффективность экспозиционной терапии. В том числе с помощью фармакологических воздействий.
Как вы знаете, нейроны общаются друг с другом с помощью нейромедиаторов. У нас их много разных, некоторые широко распространены по всему мозгу, некоторые преимущественно работают в каких‐то конкретных его областях. В частности, в амигдале велика роль норадреналина, и там много специфических рецепторов к нему. Похожие рецепторы есть в сердце, там они нужны для того, чтобы реагировать на адреналин и увеличивать частоту сердечных сокращений. Соответственно, давно существовали лекарства, способные связываться с этими рецепторами и мешать им работать – исходно предназначенные для того, чтобы снижать частоту сердечных сокращений. Некоторые из этих лекарств способны проникать через гематоэнцефалический барьер (таможню между кровеносной системой и мозгом) и нарушать проведение нервных импульсов в амигдале, и вдобавок снижать интенсивность синтеза новых белков в ее нейронах. Этим можно воспользоваться.
Мэрил Киндт из Университета Амстердама приглашает к себе в лабораторию людей, которые боятся пауков[168]. В течение двух минут испытуемые внимательно смотрят на живого паука, а сразу после этого съедают таблетку пропранолола, блокатора бета-адренорецепторов (или таблетку плацебо, тут уж кто в какую группу попал). Когда участники эксперимента, которым досталось настоящее лекарство, приходят в лабораторию в следующий раз, они по‐прежнему помнят про себя, что они такие люди, которые боятся пауков, – и уверенно заявляют это при заполнении психологических опросников. Но дальше им предлагают поведенческий тест, в котором нужно взаимодействовать с настоящим пауком. И испытуемые, к собственному удивлению, соглашаются делать с ним такие вещи, о которых раньше отказывались и думать, – например, согласны подталкивать паука пальцем или брать его в руку. “Вообще‐то я помню, что я пауков боюсь, но этот ваш какой‐то нестрашный”, – вероятно, думает испытуемый в такой ситуации. А с чего бы пауку быть страшным, если в прошлый раз у человека было нарушено формирование эмоциональной памяти о взаимодействии с ним. Амигдала должна бы выть сиреной: “Паук! Паук! Бежим отсюда!”, но она этого больше не делает. Ни через две недели, ни через три месяца, ни через год. Две минуты, одна таблеточка, и вы избавлены от фобии навсегда. Круто же.
Но, честно говоря, фобии – это не самая главная проблема. Обычно вы боитесь чего‐то конкретного и в принципе можете выстроить свою жизнь так, чтобы этого избегать. Больше неприятностей людям доставляет посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Если человек стал свидетелем катастрофы, жертвой сексуального насилия, если его жизнь подвергалась опасности, ему может быть очень плохо еще месяцы и годы после этого. Его преследуют навязчивые мысли, он не может ни на чем сосредоточиться, испытывает тревогу, избегает любых ситуаций, которые могут напомнить ему о травме, и качество его жизни снижается очень сильно. Было бы здорово, если бы с этим тоже можно было бороться с помощью пропранолола.
Теоретически это должно работать хорошо: вы даете человеку таблетку, у него сохраняется память о событии, но притупляется эмоциональная реакция на него. На практике результаты пока довольно противоречивы. Например, известно, что посттравматическое расстройство часто развивается после инфаркта миокарда, хотя в этой ситуации пациенты как раз получают бета-блокаторы. Если прицельно посмотреть на статьи, в которых людям предлагали принять таблетку пропранолола или плацебо[169], например при поступлении в приемный покой больницы после автокатастрофы, то успехи тоже оказываются скромными. Во-первых, мало кто вообще соглашается: человеку и так плохо, а тут вы к нему еще и пристаете с какими‐то научными исследованиями. Во-вторых, не всегда возможно предложить пациентам принять таблетку в пределах хотя бы шести часов после травмы – понятно, что в первую очередь они должны пройти через все необходимые лечебные процедуры. В-третьих, сложно сравнивать разные исследования, потому что там применялись разные дозировки, графики приема и способы оценки состояния пациентов. Соответственно, некоторые исследования показывают, что эффект есть (у тех, кто принял пропранолол, ПТСР развивается реже и его симптомы оказываются менее выраженными), но это уравновешивается исследованиями, в которых никакого эффекта обнаружить не удалось.
Но у нас есть феномен реконсолидации воспоминаний. То есть вам необязательно приставать к человеку непосредственно после травмы. Если прошло несколько месяцев, жизнь уже нормализовалась, но посттравматическое стрессовое расстройство по‐прежнему не позволяет ей радоваться, то вы можете пригласить человека в лабораторию, попросить его обстоятельно вспомнить тот ужас, который с ним случился, накормить его пропранололом и посмотреть, поможет или нет.
Вот совсем небольшое пилотное исследование, описание четырех пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством, с которыми в 2016 году работала Мэрил Киндт[170]. Вкратце процедура была следующей: вначале человек заполняет опросники, призванные оценить тяжесть ПТСР, потом приходит в лабораторию, и его просят описать травматический опыт, побуждая концентрироваться на самых-самых ужасных и чудовищных аспектах события. Когда пациент сообщает, что достиг максимально возможного уровня стресса и просто не способен расстроиться из‐за воспоминаний еще сильнее, чем уже расстроен, ему дают таблетку пропранолола. Через неделю человек приходит снова и заполняет опросники. Если какого‐то существенного улучшения не произошло, с ним делают то же самое, что и в прошлый раз, только стараются найти какие‐то новые чудовищные аспекты травмы. Потом люди приходят в лабораторию через месяц и через четыре месяца, чтобы исследователи могли снова оценить их состояние.
Проблема была у каждого своя. Первая пациентка страдала от непрекращающихся ночных кошмаров, острого горя и навязчивых мыслей, с тех пор как три месяца назад ее мать совершила самоубийство. Она набирала 27 баллов из 40 возможных по диагностической шкале интенсивности посттравматического стрессового расстройства (PDS). Уже через неделю после вмешательства выраженность ПТСР снизилась до 9 баллов. Вернувшись для контрольного визита через месяц, женщина отметила, что почти скучает по панике и тревоге, мучившим ее после смерти матери, – настолько внезапно они исчезли. Она, конечно, по‐прежнему испытывает грусть, но теперь интенсивность переживаний не так велика, чтобы пытаться всеми силами гнать их прочь, как она делала это раньше. Пациентка рассказала, что она смогла обсудить смерть матери со своим братом, а также зайти в комнату, где произошло самоубийство, о чем не могла и помыслить, пока не прошла лечение.
Вторая женщина за два года до встречи с исследователями путешествовала со своим мужем по ЮАР. Ночью в их гостиничный номер вломился вооруженный грабитель. Он держал женщину под прицелом, пока ему не отдали все ценные вещи. Все время, прошедшее с этого момента, потерпевшая страдала от навязчивых воспоминаний об ограблении – особенно по ночам, когда она просыпалась от каждого шороха. В то же время по формальным критериям ее симптомы были относительно слабыми (14 баллов из 40 возможных), и она решила принять участие в исследовании только потому, что друг снова пригласил ее в ЮАР и она хотела бы поехать. Во время неприятной процедуры пробуждения воспоминаний пациентка, рыдая, описывала, как грабитель в отвратительно грязных мешковатых штанах стоял рядом с ней, приставив к ее голове ружье. Затем женщина получила таблетку пропранолола. Через неделю она набрала в опроснике всего 4 балла, рассказала, что снова стала хорошо спать, а вскоре благополучно съездила в Йоханнесбург, где произошло ограбление, и не испытала там никаких неприятных ощущений.
Третья участница исследования четыре года не могла прийти в себя после опыта абьюзивных отношений, включавшего, в частности, изнасилование[171]. Прежде она уже пыталась обращаться за помощью к психологам, но это никак не улучшило ее состояние, так что и от нового вмешательства она не ожидала ничего хорошего. Во время первой психотерапевтической сессии она описывала ужасные ощущения от того, что дверь в ее комнату во время изнасилования была открыта, но никто из соседей по общежитию не пришел ей на помощь. Она говорила, что испытывает бессилие и чувство, что она заслужила дурное обращение. Обсуждение этого события привело ее в подавленное настроение, но не вызвало выраженного всплеска эмоций, так что исследователи решили не давать ей лекарство сразу, а встретиться с ней еще раз. Во время второй встречи они обсуждали другой случай из ее отношений, который она не восприняла как изнасилование, но тоже было неприятно: они с бойфрендом ездили на пляж на мотоцикле, она рассчитывала, что это будет романтично, но выяснилось, что его интересует исключительно секс. Она чувствовала бессилие, утрату контроля, сильный дискомфорт. Исследователи предложили ей представить, как она могла бы повести себя по‐другому в этой ситуации. Девушка представила, что уходит. Это важный прием с точки зрения реконсолидации воспоминаний: чтобы они могли измениться, важно, чтобы появилась какая‐то новая информация или какие‐то новые чувства. Действительно, в этот раз она ощутила возможность контроля, чувство безопасности и освобождения – и сразу же разрыдалась. После этого ей дали пропранолол. Во время следующего визита она набрала 4 балла по шкале ПТСР (исходно было 22) и рассказала, что смогла выкинуть из головы навязчивые мысли о бывшем бойфренде, бóльшую часть времени пребывает в хорошем настроении и стала лучше учиться. Она также отметила, что стала более раздражительной, но и это трактовала как хороший признак – возросшую способность постоять за себя в конфликтных ситуациях.
Четвертая пациентка – единственная в этом исследовании, которой терапия не помогла. У нее был тяжелый травматический опыт: когда она была подростком, за пять лет до обращения, в ее дом вломились вооруженные грабители. Отец попытался оказать сопротивление, и ему выстрелили в голову (к счастью, он выжил). В маму тоже стреляли, хотя промахнулись, и самой девушке приставили оружие к голове и угрожали убить. Ее и маму связали. Одного из грабителей впоследствии нашли и посадили, но второй все еще разгуливает на свободе. Описывая свой травматический опыт, девушка была довольно сдержанна в эмоциональных проявлениях, и поэтому исследователи не были уверены, что в полной мере достигли пробуждения воспоминаний, важного для возможности в них вмешаться. Тем не менее три сессии подряд ей давали пропранолол. Количество баллов по шкале ПТСР слегка снизилось (с 24 до 15 баллов), но потом снова поднялось до 19. Девушка предположила, что у нее действительно не получилось достаточно испугаться, потому что дневной свет и присутствие врача создавали ощущение безопасности. Исследователи предложили ей провести еще одну сессию в доме, где произошло ограбление, но пациентка отказалась, опасаясь, что от этого паника станет абсолютно неконтролируемой и она сойдет с ума.
Разумеется, четырех пациентов недостаточно, чтобы делать какие‐то выводы. Проблема даже не столько в количестве, сколько в том, что им всем давали лекарство и никому не давали плацебо. Соответственно, мы не знаем, в какой степени благотворный эффект связан именно с воздействием на бета-адренорецепторы. Может, людям просто помогло заплакать в кабинете у психотерапевта. Собственно говоря, экспозиционная терапия, о которой мы говорили в связи с паучком, может применяться и для лечения посттравматического стрессового расстройства, причем часто пациентам предлагают именно вообразить травмирующее событие. Разница в том, что, во‐первых, при экспозиционной терапии врач и пациент общаются дольше, а во‐вторых, в исследовании Мэрил Киндт разговоры прекращались в момент максимального эмоционального напряжения, а при экспозиционной терапии нужно, наоборот, дождаться, пока человек проживет все заново и успокоится. Но в любом случае золотой стандарт испытания любых лекарств – это двойные слепые плацебо-контролируемые рандомизированные исследования. То есть людей случайным образом разбивают на две группы, одной дают лекарство, а другой пустышку, и при этом ни врач, ни пациент не знают, кто в какую группу попал.
Вот вам исследование 2018 года, в котором были уже 60 участников и все делалось по правилам[172]. На этот раз лекарство (или плацебо) давали за час до активации воспоминаний. Вызывали их с помощью сочинения, в котором человек от первого лица и в настоящем времени описывал свои чувства во время травмы, а потом вслух зачитывал свои записи терапевту. Люди приходили в лабораторию каждую неделю, шесть недель подряд. Во время последующих визитов их уже не просили писать новые сочинения, только читать вслух готовое, но всегда спрашивали, не хотят ли они внести в текст какие-либо изменения. За время исследования половина участников по разным причинам отсеялась: некоторые сообщили о побочных эффектах от лекарства (и в плацебо-группе тоже, как это обычно и бывает), некоторым просто надоело, у одного человека нашли рак, и ему, естественно, стало не до научных исследований, одна участница забеременела (а беременных никогда не берут ни в какие исследования и тем более не дают им лекарств, потому что как бы чего не вышло). Впрочем, осталось по 15 человек в обеих группах – достаточно, чтобы посмотреть, как меняются результаты опросников. Снижение симптомов ПТСР наблюдалось в обеих группах, но было значительно более выраженным в группе, получавшей пропранолол. Например, по опроснику PCL-S (шкала самооценки посттравматического стрессового расстройства, в которой можно набрать максимум 85 баллов) люди перед началом лечения набрали в среднем 61,73 балла в экспериментальной группе и 61,27 балла в контрольной (то есть разницы между ними не было), а после лечения – 38,07 и 55,71 балла соответственно. Некоторых пациентов (9 человек из экспериментальной группы и 5 из контрольной) удалось привлечь к еще одному тестированию через полгода, и там средний балл остался низким (38,4) в группе, получавшей пропранолол, и вырос у тех, кто получал плацебо (аж до 69 баллов, но я не нашла в статье данных о том, каким был исходный уровень именно у этих пятерых людей).
В общем, на сегодняшний день эта терапия изучена еще недостаточно, чтобы войти в повседневную клиническую практику, но результаты обнадеживающие, и, скорее всего, это произойдет в обозримом будущем. Некоторые биохакеры уже едят пропранолол самовольно[173], но я, как обычно, не рекомендую. Во-первых, потому что это все‐таки лекарство, снижающее частоту сердечных сокращений, и если она у вас и так невысокая, то вам станет очень нехорошо. И вообще у него, как и у любого эффективного лекарства, внушительный список противопоказаний, и в научных исследованиях пациентов сначала с пристрастием расспрашивают о здоровье, а потом внимательно за ними наблюдают после приема. Во-вторых, потому что правильно провести процедуру реактивации воспоминаний – это тоже на самом деле довольно тонкая вещь, требующая участия квалифицированного специалиста. От самостоятельного лечения эффект, скорее всего, будет сомнительным. Если вы потом напишете мне с просьбой вернуть деньги за книжку и за пропранолол, то я не поведусь, так и знайте.
Мозг как флешка
Когда человек пишет научно-популярную книжку, он старается выбирать эксперименты, которые можно описать простыми словами. Вживили электроды, измерили проведение сигнала между нейронами. Отрезали кусок мозга, посмотрели поведение. Все понятно.
Настоящая современная нейробиология, конечно, состоит не только из простых экспериментов и даже в основном не из них. Она обычно комбинирует много причудливых методов, пришедших из разных областей науки, и это позволяет ей делать с экспериментальными животными совершенно фантастические вещи. Например, смотреть, на какие нейроны записалось воспоминание, а потом редактировать его в этих же конкретных нейронах[174].
Для этого нужны мыши, и не простые, а генно-модифицированные. Причем два раза модифицированные, сначала полностью, а потом частично. А потом в них еще нужно вживить оптоволокно. А потом еще посмотреть, что получилось, с помощью поведенческих методов. И это я собираюсь пересказать только половину исследования, проигнорировав и некоторые группы участвующих в нем животных, и последовавшее посмертное исследование мозга мышей иммуногистохимическими методами. И все равно будет довольно запутанно.
Вот смотрите. Когда мышь (или человек) чему‐то учится, то в мозге начинает считываться ген c-fos. Причем именно в тех конкретных нейронах, которые вовлечены в это обучение. Нобелевский лауреат Судзуми Тонегава и его коллеги воспользовались этим фактом, чтобы создать мышей с генетической конструкцией c-fos-tTA. Это значит, что их нейроны во время обучения еще и вырабатывают белок tTA. В норме его у нас в нейронах не бывает, нейробиологи вообще позаимствовали его у бактерий. Но до поры до времени это ни на что не влияет, ну есть и есть.
Дальше вы делаете с этими животными еще одну штуку. Вы дополнительно генетически модифицируете им кусочек мозга, который вас интересует, – зубчатую извилину (часть гиппокампа). Вводите туда ген, который позволит клеткам синтезировать каналородопсин-2. Это такой белок, позаимствованный у хламидомонады (одноклеточная водоросль, любимая многими поколениями школьников за свое прекрасное имя) и очень широко применяемый в нейробиологических исследованиях. Потому что он встраивается в мембрану и пропускает через нее ионы, активируя таким образом нервную клетку. Так же, как это делали многие другие рецепторы, о которых мы уже говорили. Но только каналородопсин реагирует не на нейромедиатор и не на изменение потенциала мембраны, а на свет. То есть когда у вас есть нейрон, мембрана которого утыкана каналородопсином, вы можете посветить на него лампочкой (ну, на самом деле провести к нему свет через вживленный оптоволоконный кабель), и нейрон начнет работать. Очень удобно. Называется “оптогенетика”[175].
Вот, но в случае этой работы (и многих других, применяющих такой метод) вы вводите в нейроны не просто ген каналородопсина. Вы вводите более сложную генетическую конструкцию, которая запустит синтез каналородопсина только в том случае, если в клетке одновременно присутствует tTA. То есть мы получили животных, которые встраивают светочувствительные белки только в мембраны тех клеток, которые чему‐то учатся.
Но в этой блистательной схеме все еще есть существенный недостаток. В мозге очень много клеток, и в его зубчатой извилине тоже. И все регулярно чему‐то учатся. Пока непонятно, как пометить те, которые учатся именно тому, что нас интересует.
Я уже упоминала, что tTA позаимствован у бактерий. А его полное название – тетрациклиновый трансактиватор. Это название намекает нам, что он имеет какое‐то отношение к антибиотикам тетрациклинового ряда. И действительно, если мышей кормить антибиотиком доксициклином, то он связывается с tTA – и мешает ему запускать синтез каналородопсина. Вы можете так делать всю мышиную жизнь. А тогда и только тогда, когда собираетесь обучать их тому, что вас интересует, ненадолго из их диеты доксициклин убрать.
Именно так вы и поступаете. Когда доксициклина нет и вся система работает как задумано (клетки, участвующие в обучении, встраивают в свои мембраны светочувствительный белок), вы приводите мышей в незнакомые им комнаты и делаете там с ними что-нибудь хорошее или что-нибудь плохое. Хорошее – это, конечно, секс, общество прекрасной мышиной самки. Плохое – это, как обычно, удар током. После обучения вы снова сажаете мышей на доксициклиновую диету, чтобы светочувствительные белки больше никуда не встраивались, и убеждаетесь, что все произошло именно так, как вы планировали. Если вы направите свет в мозг мыши, которую до этого пугали, то он активирует те самые нейроны, которые запомнили, что жизнь тяжела. Мышь будет избегать того участка клетки, в котором получает неприятную стимуляцию. А вот если включать нейроны, которые были активны во время знакомства с самкой, то это, наоборот, приятно, и тогда подопытное животное будет стремиться проводить больше времени именно в том углу клетки, где вы подаете свет на вживленный ему в мозг оптоволоконный кабель.
Это уже довольно круто, да? Но это еще не конец истории. Дальше вы берете ваших напуганных мышиных самцов, сажаете их в клетку с двумя самками – и активируете им те же самые нейроны, которые были нужны для того, чтобы мышь испытывала неприятные ощущения. И наоборот, берете счастливых самцов и бьете их током, одновременно активируя им с помощью света те же самые нейроны, которые раньше были задействованы в том, чтобы испытывать удовольствие. И да, когда вы тестируете их в следующий раз, вы выясняете, что те, кто раньше боялся, – больше не боятся. А те, кто раньше радовался, – больше не радуются. То есть удалось пометить конкретные нейроны, на которые записалось воспоминание, а потом еще и отредактировать это воспоминание, изменить его эмоциональную окраску.
Понятно, что конкретно эта технология не очень подходит для того, чтобы менять воспоминания у людей. Не то чтобы нас нельзя было генетически модифицировать, но все‐таки работы в этом направлении пока что ведутся только в целях излечения тяжелых наследственных заболеваний, а не для того, чтобы мы начали вырабатывать в своих нейронах странные бактериальные белки. Но важно, что локализовать и перезаписывать воспоминания возможно в принципе, что для этого нет фундаментальных препятствий, связанных с законами природы. Что мозг материален – и мозг познаваем.
А вот вам еще одна впечатляющая история – про то, как ученые вмешались в мышиные сны и таким образом изменили воспоминания животных о реальности. Сон, надо понимать, вообще в первую очередь нужен для обработки информации, полученной в течение дня. Это верно и для людей (к ним мы еще вернемся), но особенно ярко проявляется у грызунов, чья высшая нервная деятельность не настолько запутанна и хаотична. Когда животное ходит по лабиринту, у него в гиппокампе активируются клетки места[176] – одна за другой, в четкой последовательности. Когда животное потом ложится спать, оно воспроизводит у себя в голове фрагменты той же самой последовательности, только проматывает их в ускоренном режиме[177]. Мозг прилежно повторяет маршрут, выученный накануне, чтобы на следующий день животное могло пройти его более уверенно.
Нейробиологи из Сорбонны использовали это свойство мозга для того, чтобы научить мышей любить конкретные места[178]. В течение дня каждое животное исследовало огороженный загончик, заполненный разными интересными объектами. Площадь его была чуть больше одного квадратного метра – такая, чтобы мышь могла свободно перемещаться, несмотря на провод, торчащий из ее головы. Провод был нужен, чтобы записывать сигналы от электродов, вживленных в клетки места – каждая из них активна на своем собственном конкретном участке исследованного пространства. Когда мышь потом ложилась спать, она, как и положено, время от времени активировала те же самые клетки места, которые работали в течение дня. Исследователи выбирали среди них какую-нибудь одну (ту, в которую просто удачно вошел электрод и от нее было удобно записывать сигналы). Смотрели по своим записям за время бодрствования мыши, с какой именно областью пространства связана эта конкретная клетка места. И после этого каждый раз, когда мышь активировала во сне именно эту клетку, исследователи одновременно отправляли ей электрический импульс в медиальный пучок переднего мозга (оттуда сигнал передается на прилежащее ядро, “центр удовольствия”, то же самое делали с радиоуправляемыми крысами из третьей главы). Так они делали в течение часа, пока мышь спала: за это время конкретная клетка места возбуждалась около 500 раз, и каждый раз это сопровождалось искусственно наведенным счастьем.
Что происходило, когда мышь просыпалась и ее снова сажали в знакомый загончик? Правильно, она прямым ходом устремлялась в то место, где ей было так хорошо во сне. И проводила там в 4–5 раз больше времени, чем накануне. Почти так же она делала и во второй раз, когда ее снова пускали в тот же загончик, а вот к третьему-четвертому разу постепенно теряла интерес, потому что в реальной жизни ничего особенно приятного с ней в этом месте не происходило. А если бы происходило, то, конечно, ни за что бы она оттуда не ушла.
Думаю в этой связи о том, что если бы мне предложили любую магическую способность, то оптимальным выбором было бы “активировать центр удовольствия у других людей – не у всех подряд, конечно, – в тот момент, когда я рядом с ними”. Это залог не только счастливой личной жизни, но и карьерного процветания, потому что так можно было бы делать с теми организаторами, которые предлагают особенно высокие гонорары за мои лекции. К сожалению, вживить им всем электроды в медиальный пучок переднего мозга я не могу, так что приходится активировать центр удовольствия косвенными методами. Вот баечки про биологию рассказывать, например.
Глава 6 Самостоятельное плетение нейронных сетей
Отец маленькой Джини совершенно не переносил шума. Один из ее братьев умер в трехмесячном возрасте от пневмонии: младенца держали в холодном гараже, чтобы он не мешал отцу своим плачем. Самой Джини повезло ненамного больше[179]. У нее был врожденный вывих бедра, так что в положенном возрасте девочка не начала ходить. На этом основании отец решил, что Джини – умственно отсталая и все равно вскоре погибнет. С этого момента девочка была заперта в комнате, привязанная то к детскому стулу с горшком, то к своей кроватке. Ей не давали другой еды, кроме детского питания. Отец бил ее каждый раз, когда она пыталась издавать какие-нибудь звуки, сам же не разговаривал с ней, а только лаял на нее по‐собачьи.
Мать Джини не одобряла такие методы воспитания, но не решалась спорить с мужем: она была почти слепой и зависела от него. К тому же муж обещал, что если Джини не умрет до двенадцатилетнего возраста, то он позволит показать ее врачам. Потом, правда, он отказался от своих слов, но еще через полтора года мама Джини все же взяла девочку и ушла из дома.
Когда в ноябре 1970 года Джини попала в сферу внимания социальных работников, ей было 13 лет и 9 месяцев. Она весила 28 килограммов, а ее рост составлял 1 метр 38 сантиметров. Джини не умела ходить, контролировать мочеиспускание, жевать твердую пищу. По данным СМИ[180], она понимала около двадцати слов, а сама произносила только два: stopit и nomore – “остановись” и “хватит”. Возможно, это душещипательная легенда: академические публикации утверждают, что она не говорила совсем, а только скулила. Родителям Джини были предъявлены обвинения в жестоком обращении с ребенком, но в то утро, когда они должны были предстать перед судом, отец покончил с собой, оставив записку “Мир никогда не поймет”. Мать оправдали: когда вас регулярно избивают и вы совсем ничего не видите, защищать детей от сумасшедшего отца не так-то просто.
Что касается Джини, то ее, конечно, стали пытаться вернуть к нормальной жизни. Через несколько недель занятий она стала пытаться повторять слова, которые были к ней обращены, а через несколько месяцев начала произносить первые слова спонтанно. Но это требовало от нее огромных физических усилий: она просто не умела управлять мышцами, нужными для речи, ее всю жизнь били за любой звук, который она издавала. Часто она пыталась правильно шевелить губами, но не понимала, как подключить дыхание, чтобы появились звуки. Когда она говорила, все ее тело было напряжено.
Тем не менее через восемь месяцев после начала обучения она уже могла произносить фразы из двух слов: “больше суп”, “желтый машина”. Вскоре она освоила и глаголы: “Марк рисовать”, “хотеть молоко”. Через год с небольшим появились предложения, состоящие из трех-четырех слов: “Тори жевать перчатка”, “Большой слон длинный хобот”, “Джини любить Мартин”. Через полтора года Джини научилась добавлять к своим высказываниям частицу “не”, хотя и всегда в начале предложения (“не больше ухо болеть”), а через два – научилась различать единственное и множественное число существительных. В целом к 1973 году, то есть к своим 16 годам, она освоила язык примерно на уровне двухлетнего ребенка (чуть хуже по грамматике, но лучше по активному словарному запасу: она использовала более 200 слов) – и ученые в целом рассматривают это как успех, потому что до исследования Джини считалось, что настолько взрослый человек уже не способен освоить язык вовсе.
Активные занятия с Джини продолжались до 1975 года. К этому моменту девушка достигла новых успехов в грамматике: например, освоила концепцию прошедшего времени, а также начала более правильно выстраивать отрицательные предложения. В 1975 году ее основная исследовательница, Сьюзан Кёртис, защитила диссертацию, а средств на продолжение исследований не было, так что Джини начала скитаться по приемным семьям, и ее языковые способности ощутимо ухудшились. Летом 1977 года Кёртис смогла получить еще один грант на занятия с Джини, но они продлились всего несколько месяцев[181]. С одной стороны, по‐видимому, сама исследовательница была серьезно разочарована, обнаружив резкое снижение языковых навыков девушки (Кёртис отзывается о них даже хуже, чем они того объективно заслуживают), а с другой стороны, к этому моменту мама Джини изъявила желание самостоятельно о ней заботиться и не приветствовала дальнейшие контакты с учеными. Сегодня о судьбе Джини ничего толком не известно, но, по слухам (отраженным в Википедии), она живет в приюте для умственно отсталых за счет государства, использует всего несколько слов, а общается в основном с помощью жестов.
Вам все еще кажется, что у вас плохие родители?
Ребенок рождается, не зная ни единого слова, – но за несколько лет овладевает речью в совершенстве, причем независимо от того, насколько сложен язык страны, в которой он появился на свет. Бóльшую часть слов и грамматических конструкций он улавливает буквально из воздуха: никто не объясняет трехлетнему малышу логику падежей и спряжений, в лучшем случае исправляют ошибки, и то не всегда. Как это, вообще говоря, ему удается?
Ключевой механизм, который мы используем при овладении родным языком, называется статистическое обучение (statistical learning)[182]. Мозг младенца обрабатывает огромное количество информации и постепенно вычленяет общие закономерности. Разбирается, что важно, а что неважно. Какие звуки и слоги обычно встречаются вместе. Как строятся предложения.
Например, это работает на уровне различения звуков[183]. Вот к вам в лабораторию приходит младенец. Он сидит на коленях у мамы или папы. Большую часть времени он смотрит вправо – там есть ассистент, который привлекает внимание ребенка с помощью игрушек. Слева нет ничего интересного, скучный черный ящик. В это время из динамика звучат одинаковые слоги, например “ра… ра… ра…”. Но вы приучаете младенца, что в тот момент, когда среди монотонного “ра” вдруг прозвучит “ла”, нужно повернуть голову, потому что в черном ящике ненадолго появится кукольный театр, намного более интересный, чем игрушки у ассистента.
В 6–8 месяцев дети уже неплохо справляются с этим заданием. В 65 % случаев они поворачивают голову в правильном направлении. Но фокус в том, что вы проводите этот эксперимент с двумя группами детей: американскими и японскими. Когда они достигают 10–12 месяцев, вы приглашаете их в лабораторию еще раз. И обнаруживаете, что теперь между группами появилась разница. Подросшие англоязычные малыши правильно различают звуки уже в 73,8 % случаев. У детей из Японии результаты, наоборот, ухудшились: теперь они правильно поворачивают голову только в 59,9 % случаев. Понятно, почему так происходит: в английском языке звуки [r] и [l] отличаются. Если уж в каком-нибудь слове есть звук [l], то там всегда [l]. Если там вдруг появится [r], то это уже будет другое слово, с другим значением, употребляющееся в других контекстах. В японском разницы между этими звуками нет, в одних и тех же словах могут встречаться и [r], и [l], и что‐то промежуточное между ними. Японский младенец привыкает, что это неважно.
Статистическое обучение полезно и для того, чтобы выделять границы слов в потоке речи. Если обстановка позволяет, попробуйте прочитать предыдущее предложение вслух. Обратите внимание, что вам хватает дыхания для того, чтобы произнести его целиком. Вы не делаете между простыми короткими словами никаких пауз, особенно когда их не разделяют знаки препинания: “полезноидлятого”. Как маленький ребенок должен понять, что это четыре разных слова? Отчасти этому способствует склонность родителей разговаривать с малышами особенно медленно и четко, но очень многие новые слова ребенок все же подцепляет из обыкновенных разговоров взрослых людей друг с другом – и именно благодаря тому, что слышит их много. Соответственно, его мозг накапливает гору информации для анализа и постепенно улавливает в ней закономерности: слоги “по‐лез-но” часто встречаются вместе, а вот слог “для” может быть окружен в предложениях чем угодно.
Такие вещи удобно изучать в экспериментах[184]. Например, вы приглашаете в лабораторию полуторагодовалых детей, которые растут в англоязычных семьях, и даете им слушать предложения на итальянском – с этим языком они никогда не встречались раньше. Предложения составлены так, чтобы в них регулярно встречались четыре существительных: bici, casa, fuga и melo. Вообще это “велосипед”, “дом”, “бегство” и “яблоня”, но смысл в данном случае неважен. Важно, что вы манипулируете тем, в каких сочетаниях встречаются слоги в предложениях. Либо только в составе интересующих вас слов, либо и в других словах тоже.
После того как дети трижды прослушали 12 предложений на незнакомом языке, вы показываете им картинку, а закадровый голос объясняет, что это bici. Потом показываете другую – и это casa. (На самом деле им показывали не велосипеды и домики, а абстрактные изображения – чтобы пара картинок была одинаковой для всех детей независимо от состава предложений и чтобы не запутывать детей, которые уже знают, что домик – это house, а не casa). Обучаете вы их довольно долго, показываете картинки по 25 раз – ну или до тех пор, пока детям совсем не наскучит.
Здесь надо отметить, что младенцы (как, впрочем, и остальные люди) склонны смотреть подолгу на те вещи, которые им незнакомы, удивляют, кажутся неожиданными, – и довольно быстро отводить взгляд, если им все понятно. Это свойство очень широко применяется в самых разных исследованиях младенческого поведения, в том числе и здесь. В тестовой фазе ребенку снова показывают два изображения, названия которых он уже выучил. Но только на этот раз их названия могут либо остаться прежними, либо измениться: bici теперь внезапно будет называться casa, и наоборот. И вы оцениваете, покажется ли такая перемена ребенку удивительной, то есть будет ли он дольше смотреть на изображение, чье название изменилось.
И выясняется, что дети гораздо эффективнее соотносят слова и объекты, если сначала слушали речь на незнакомом языке, в которой эти слова присутствовали, чем если вместо этого слушали музыку. Это надежно работает в том случае, если слоги bi-ci встречались только вместе. Это продолжает работать, если слог -bi- встречался и в составе других слов тоже, но слог -ci- не встречался. А вот если оба слога встречались и вместе, и в других словах, то это не повышает эффективность последующего выучивания этого слова. Но, скорее всего, все равно бы ее повысило, если бы дети слушали речь не 2 минуты 15 секунд, как в эксперименте, а постоянно, как это происходит в настоящей жизни.
С нашей прекрасной способностью к статистическому обучению есть две проблемы. Во-первых, она действительно требует того, чтобы мы набирали большой массив информации. Чтобы уловить, какие слоги обычно встречаются вместе, мало встретить их вместе – надо еще и удостовериться, что они редко встречаются по отдельности. Нужно, чтобы язык окружал нас везде и всюду, чтобы все звуки, слова и грамматические конструкции встречались нам регулярно и многократно. Причем живое общение работает для этого гораздо эффективнее, чем телевизор, – во всяком случае, когда мы говорим про маленьких детей и их способность различать звуки, присутствующие в языке[185]. Во-вторых, это свойство стремительно теряется с возрастом. Разумеется, взрослые люди могут учить новые языки и овладевать ими на хорошем уровне, но они делают это совершенно не так, как маленький ребенок, погруженный в языковую среду. Нам с вами приходится думать. Вникать в грамматические правила. Зубрить слова. Прикладывать усилия. Ребенок в языковой среде никаких осознанных целенаправленных усилий не прикладывает, а язык усваивает гораздо лучше нас с вами.
Это демонстрируют, например, исследования людей, переехавших в Соединенные Штаты на разных этапах своей жизни[186]. К тому моменту, когда взрослые испытуемые попали к исследователям, они все уже владели английским полноценно, они абсолютно успешно использовали его, чтобы работать, учиться, строить отношения. Но исследователи дали им сложный грамматический тест и показали, что его результаты четко зависят от того, в каком возрасте человек попал в страну. Те, кто переехал до семи лет, набирают столько же баллов, сколько и те, кто родился в США, – в среднем 270, тест был длинным. У тех, кто приехал в 11 лет, будет по 240 правильных ответов. Если старше 17 – уже только 210. Еще раз, все это совершенно не мешает им пользоваться английским, речь идет именно о тонкостях языка. Люди, если они не профессиональные филологи, обычно не помнят никаких правил. И черт с ними, ведь у нас есть чувство языка, интуитивное понимание того, что вот здесь лучше будет звучать одна конструкция, а там – другая. Но вот то, насколько безотказно эта интуиция будет работать, сильно зависит, увы, не только от того, как много примеров мозг успел обработать, но и от того, в каком возрасте он начал это делать.
Из этого вытекает самая ужасная новость во всей книжке. Если вы, как и многие другие люди, когда-нибудь упрекали своих родителей в том, что они не отдали вас на языковые курсы в детстве, когда у людей такие прекрасные способности, – то настало время перед ними извиниться. Прекрасные способности детей проявляются тогда, когда они погружены в языковую среду. А вот когда мы говорим об обучении в классе пару раз в неделю, то эти удивительные способности немедленно куда‐то деваются[187]. Здесь на успех влияет мотивация, уверенность в себе, способность понимать логические связи и готовность прикладывать сознательные усилия для переработки больших объемов информации. А с этими качествами у взрослых как раз обычно получше, чем у детей, так что и прогрессируют они быстрее[188]. Так что если и обижаться на родителей, то за то, что они не наняли вам англоязычную няню. Но с этим, кажется, надо идти уже не на языковые курсы, а к психотерапевту.
Куда бы вы ни пошли – ваш мозг изменится
В предисловии я уже рассказывала вам про таксистов, у которых из‐за изучения карты Лондона увеличивается плотность серого вещества в гиппокампе. Это исследование стало одним из самых известных во всей современной нейробиологии благодаря тому, что там сравнивали состояние “до” и состояние “после” и убедились, что у тех, кто учился, мозг изменился, а у тех, кто не учился, – нет. По очевидным причинам придумывать и проводить такие эксперименты сложно. Далеко не всегда обучение меняет мозг настолько сильно, чтобы это прямо можно было увидеть на томограмме, а если да, то обычно речь идет о результатах многолетнего освоения какого-нибудь сложного навыка.
Вот допустим, вы хотите посмотреть, как влияет на мозг изучение иностранного языка. Вам нужно найти людей, которые совсем его не знают, а потом сделать так, чтобы половина из них начала его учить, честно и старательно, а вторая половина не начала, и чтобы они делали это долго. Но на практике некоторые из них собирались учить язык, а потом передумали. Некоторые учили, но спустя рукава. Некоторые не собирались учить, а потом начали. Многие переехали, потеряли телефон, забыли пароль от почтового ящика, и у вас нет никакого способа снова поймать их через пять лет, чтобы посмотреть, изменился ли их мозг. Не говоря уже о том, что ваше начальство ждет, что вы будете публиковать что-нибудь регулярно, а не гоняться за нерадивыми испытуемыми ради долгосрочного эксперимента, в котором еще неизвестно, получится ли что-нибудь обнаружить или нет.
Поэтому во всех таких случаях – не только с иностранным языком, но и, например, с игрой на музыкальных инструментах – первоначальную информацию обычно собирают с помощью кросс-секционных исследований. Это означает, что вы ни за кем не гоняетесь пять лет, вы просто один раз приглашаете в лабораторию людей, которые уже знают (или не знают) иностранный язык, уже умеют (или не умеют) играть на музыкальных инструментах. Делаете им всем структурную магнитно-резонансную томографию[189] и видите, что да, действительно, отличия между группами существуют, причем сразу во многих отделах мозга[190],[191]. Я не буду перечислять все отличия, которые удавалось выявить, но вот пара хорошо подтвержденных и понятных примеров. У тех, кто владеет двумя языками, как правило, выше плотность серого вещества в левой нижней лобной извилине – если вы внимательный читатель, то помните, что как раз там находится зона Брока, связанная с самой способностью к членораздельной речи. Для тех, кто умеет играть на музыкальном инструменте, характерно более развитое мозолистое тело – перемычка, соединяющая два полушария и помогающая им обмениваться информацией друг с другом.
Но есть очевидная проблема: когда вы берете людей, уже чему‐то научившихся до встречи с вами, и исследуете их мозг, у вас нет никакой возможности отличить причину от следствия. Может быть, они выучили язык, и от этого у них увеличилась плотность серого вещества в нижней лобной извилине. А может быть, у них от рождения была высокая плотность серого вещества в нижней лобной извилине, и поэтому они легко и быстро выучили язык. Или, например, они в детстве ели много черешни, а от нее (никто ведь не проверял!) растет нижняя лобная извилина и легко запоминаются языки. Поэтому, когда с помощью кросс-секционных исследований накоплена первичная информация о том, чего ожидать от человеческого мозга в контексте изучения того или иного навыка, наступает время настоящих экспериментов.
Шведские юноши и девушки, желающие служить в разведке (или просто работать переводчиками в вооруженных силах), проходят отбор по уровню интеллекта, школьным достижениям, эмоциональной стабильности – а затем приступают к изучению языка вероятного противника. Из 14 курсантов, принявших участие в эксперименте[192], четверо начали учить с нуля арабский, восемь – дари (диалект персидского, распространенный в Афганистане), еще двое – русский. В качестве контрольной группы выступали студенты, изучающие медицину и когнитивные науки. У нас жизнь тоже довольно тяжелая, но попроще, чем у военных переводчиков. И действительно, при сравнении томограмм, сделанных до начала семестра и всего через три месяца интенсивных занятий, выяснилось, что у тех, кто изучал язык, достоверно увеличилась толщина коры в нижней лобной извилине, верхней височной извилине и средней лобной извилине левого полушария. К тому же вырос объем гиппокампа, причем сильнее всего – у тех курсантов, которые достигли наибольших академических успехов. Про гиппокамп и нижнюю лобную извилину мы уже говорили, средняя лобная извилина связана с контролем артикуляции, а верхняя височная – с анализом звуковых частот. У контрольной группы все эти области мало того что не выросли, но даже стали немножко меньше. Сами авторы исследования никак не комментируют этот факт, а я со своей стороны надеюсь, что у студентов-когнитивщиков зато выросли какие-нибудь другие зоны мозга, не связанные с речью и, соответственно, не подвергавшиеся пристальному анализу. Но возможно и альтернативное объяснение: если вас не ограничивает армейская дисциплина, то у вас больше шансов мало двигаться, поздно ложиться спать и злоупотреблять алкоголем, и все это, в принципе, может скомпенсировать благотворное воздействие университетского образования на анатомию вашего мозга.
Лучше ставить эксперименты на детях[193]. Вы договариваетесь с дошкольниками и их родителями и отдаете 18 человек на занятия музыкой. Раз в неделю они полчаса занимаются с преподавателем, который обучает их играть на пианино или на струнных инструментах, а дома тренируются столько, сколько хотят. Еще 13 человек музыкой не занимаются совсем, ни с преподавателем, ни дома. Всем детям вы делаете томограмму до начала эксперимента, убеждаетесь, что исходно отличий в мозге нет, а потом два с половиной года занимаетесь своими делами и ждете, пока испытуемые выучатся играть. По прошествии времени у вас образовались уже три группы испытуемых: дети, которые серьезно отнеслись к обучению и тренировались дома больше двух часов каждую неделю; дети, которые тоже ходили на занятия, но посвящали домашним заданиям меньше двух часов в неделю; и контрольная группа, вообще не занимавшаяся музыкой. Когда вы снова исследуете их мозг, то обнаруживаете изменения там, где и надеялись их увидеть, – в мозолистом теле, и конкретно в том его участке, который помогает координировать активность моторной коры правого и левого полушария и соответственно левой и правой руки. При этом увеличение мозолистого тела было выраженным только у тех детей, которые практиковались много.
Это вполне ожидаемые результаты в свете того, что мы знаем про мозг. Какие его участки мы постоянно задействуем, те и развиваются – и иногда достаточно сильно, чтобы изменение можно было прямо увидеть на томограмме. Очевидно, что изучение иностранного языка или музыки – это большая умственная нагрузка, и вполне логично, что она оставляет наглядные следы. Более удивительно, что иногда анатомические изменения удается выявить и в результате относительно слабых воздействий – например, после курса психотерапии.
В принципе, это логично. Мозг материален, наши мысли и эмоции – результат его работы. Если мы признаем, что психотерапия влияет на мысли и эмоции, то правомерно ожидать, что она влияет и на мозг. Обычно это изучают с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, то есть ищут не анатомические перестройки, а изменение активности тех или иных отделов. Тут данные накапливаются давно; например, уже к 2006 году было известно[194], что успешная когнитивно-поведенческая терапия снижает активность хвостатого ядра (связанного с целенаправленными движениями, а также с желанием их совершать) у пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством или активность амигдалы у пациентов с социальным тревожным расстройством. А в 2017 году вышло первое исследование, зарегистрировавшее и анатомические изменения в мозге после психотерапии[195].
Социальное тревожное расстройство, или социофобия, – это заболевание, которому особенно не повезло с восприятием широкой общественностью. Каждый второй гордо говорит о себе: “Я социофоб!” – имея в виду, что не хочет идти тусоваться, а предпочитает посидеть дома. Но для тех приблизительно 10 % людей, которые на самом деле страдают от социофобии, это не способ отмазаться от скучной вечеринки, а серьезная проблема. Каждый раз, когда им предстоит знакомство с новыми людьми или, не дай бог, публичное выступление, они по‐настоящему паникуют, со всеми положенными соматическими симптомами типа потливости и сердцебиения; они боятся незнакомых людей так же сильно, как арахнофобы боятся пауков, а клаустрофобы – тесных замкнутых пространств. При этом издержки у разных фобий серьезно отличаются. Не очень трудно организовать свою жизнь так, чтобы не сталкиваться с пауками. Ходить пешком по всем лестницам, избегая лифтов, полезно для здоровья. Обойтись без коммуникации с малознакомыми людьми гораздо сложнее, это сразу отсекает огромное количество образовательных и карьерных возможностей. А главное – мало кто способен выступать хорошо, когда ему плохо и страшно, так что человек с социофобией попадает в дурной замкнутый круг: он боялся выступить – он выступил плохо – он начал бояться еще сильнее.
Неудивительно поэтому, что люди с социофобией часто находятся в поисках способа ее преодолеть. Один из методов, показавших свою эффективность, – это групповая когнитивно-поведенческая терапия. Пациенты логически анализируют свои страхи, терапевт помогает им выявить когнитивные искажения, связанные с пугающими ситуациями, а еще они проходят через экспозиционную терапию (мы говорили о ней в контексте пауков в прошлой главе), то есть учатся разговаривать с незнакомыми людьми сначала в искусственно созданных безопасных контекстах, а потом и в реальной жизни. В случае 33 пациентов, вошедших в это исследование, терапия продолжалась 12 недель. Участники достигли за это время улучшения своего состояния (это количественно оценивали с помощью специальных опросников). А еще у них изменился мозг. В частности, уменьшился объем серого вещества в левой нижней височной коре и в дорсомедиальной префронтальной коре в обоих полушариях, причем сильнее – именно у тех людей, которые достигли максимального ослабления симптомов. Авторы отмечают, что левая нижняя височная кора связана с процессами удержания внимания и фокусировки на важных стимулах, а дорсомедиальная префронтальная кора вовлечена в регулирование эмоций и тесно взаимодействует с амигдалой. То есть в первом приближении мы можем предположить, что в результате терапии люди начинают обращать меньше внимания на предстоящий ужас и позор от взаимодействия с незнакомцами и одновременно становятся менее восприимчивы к паническим сигналам, поступающим из подкорки. Но понятно, что ассоциативная кора – сложная штука, любой ее отдел задействован во многих психических функциях сразу (вспомните, сколько раз я уверенно говорила вам: “Дорсолатеральная префронтальная кора отвечает за…” – а продолжение все время было разным), так что вряд ли это исчерпывающее объяснение. Во всяком случае, пациенты стали меньше бояться. Вот и хорошо.
Можно ли замедлить старение мозга?
Если у вас есть заботливые родственники (или заботливые комментаторы в Фейсбуке), то вы наверняка замечали одну интересную особенность человеческого взросления: абсолютно невозможно оказаться в правильном возрасте. Например, жизненные этапы “рано тебе еще на свидания бегать” и “да кто тебя уже замуж возьмет в таком возрасте?” не просто переходят один в другой без какой-либо паузы, а даже перекрываются друг с другом. Так вот, если вы спросите нейробиологов об идеальном возрасте для человеческого мозга, произойдет примерно то же самое. Если вы младше 25 лет, то вам сообщат, что мозг ваш еще не созрел, еще продолжается миелинизация[196] нервных волокон и полноценная жизнь еще впереди. Если вы старше 25 лет, то вам сообщат, что у вас уже началось возрастное снижение когнитивных функций и полноценная жизнь осталась в прошлом. Если вам 25, то вы можете услышать оба варианта ответа[197] – в зависимости от того, на какие исследования опирается тот нейробиолог, к которому вы обратились.
Об этом неприятно писать, но да, возрастное снижение когнитивных функций настолько же реально, как появление морщин или седых волос. Это изучают довольно простым способом: приглашают испытуемых в лабораторию, дают им кучу тестов, записывают результаты, ищут корреляции с возрастом и находят их. Тут есть два основных подхода: кросс-секционные и лонгитюдные исследования.
В первом случае вы приглашаете в лабораторию разных людей – одним сейчас 30, другим сейчас 40 – и сравниваете их результаты. Очевидная проблема в том, что люди отличаются друг от друга не только по возрасту, но и по куче других параметров. Но, насколько возможно, вы делаете на это поправку (например, сравниваете группы с одинаковым уровнем образования) и, конечно, приглашаете очень много людей, хотя бы по нескольку сотен, чтобы снизить вероятность того, что в одну группу случайно попали только талантливые, а в другую – только бестолковые.
Во втором случае вы сначала приглашаете людей, когда им по 30, а потом выжидаете 10 лет и зовете их еще раз. Тут минус в том, что они примерно помнят, какие тесты вы собираетесь им предлагать, и это помогает им настроиться и достичь лучших результатов. Но несмотря на это, оба способа проведения исследований стабильно демонстрируют, что все плохо[198].
Результаты тестов на память (например, способность воспроизвести рассказ с сохранением максимального количества деталей) начинают падать уже с 25 лет – медленно, но неуклонно. Логическое мышление (скажем, способность подобрать подходящую геометрическую фигуру для продолжения ряда по определенным правилам, как в тестах на IQ) ухудшается с 20 до 30 лет, затем долго сохраняется на более-менее постоянном уровне, а с 55 лет результаты начинают снижаться дальше. Пространственное мышление (допустим, способность понять, какая трехмерная фигура соответствует предложенной двухмерной развертке) быстро ухудшается с 20 до 35 лет, остается стабильным с 35 до 50, после чего продолжается снижение. Наконец, скорость обработки информации (например, при выполнении задания, в котором нужно сверяться с таблицей кодировки и заменять цифры на определенные символы) остается неизменной до 30 лет, но начинает довольно быстро падать сразу после этого возраста.
Понятно, что у взрослых людей есть и преимущества, но они связаны скорее с объемом уже накопленной информации, чем со скоростью обработки новых данных. Например, словарный запас растет практически всю жизнь, общий объем знаний о мире – тоже, и эти факторы позволяют достигать более глубокого и комплексного понимания сложных текстов и прочих запутанных процессов в реальном мире. Если честно, при старении проблемы возникают и с этим[199], но они хотя бы проявляются в 70 лет, а не в 25.
Почему интеллектуальные способности ухудшаются с возрастом? Ну, мозг материален. В нем накапливаются повреждения, они отражаются на его возможностях (хотя у разных людей с разной скоростью и в разной степени). Это та же самая проблема, что и с возрастным ухудшением суставов, кожи, сердечно-сосудистой системы. Глобально она связана с тем, что после завершения репродуктивного периода мы больше не интересны эволюции. То есть любые мутации, которые ухудшают наше здоровье в молодом возрасте, отсеиваются естественным отбором, потому что мешают нам оставить потомство и, соответственно, передать эти гены дальше. А любые мутации, которые ухудшают наше здоровье во взрослом возрасте, невидимы для естественного отбора: мы уже передали их нашим деточкам до того, как они помешали нам этих деточек завести. (В этом смысле забавно, что мы могли бы здорово улучшить человеческое здоровье и продолжительность жизни, если бы все-все люди договорились заводить детей не раньше 45 лет, причем без помощи репродуктивной медицины. Многие в этом случае остались бы вообще без потомства, зато в следующих поколениях неуклонно повышалась бы доля людей, несущих варианты генов, связанные с замедленным старением. По крайней мере, для дрозофил это работает[200].)
Изменений в мозге по мере старения происходит много и разных. Часть информации о них можно накопить, сравнивая нервную ткань людей, умерших в разном возрасте и от разных причин, но больше данных получено благодаря экспериментам с другими млекопитающими, например с обезьянами и крысами[201],[202]. некоторой степени проблемы обусловлены непосредственно гибелью нейронов, но при нормальном старении это не самая главная проблема: опаснее то, что нейроны, оставшиеся в живых, начинают хуже работать. Изменяется проведение ионов через мембраны, клеткам требуется больше времени на то, чтобы восстановиться после активации, производится меньше цАМФ, и, соответственно, сложнее становится запустить процессы экспрессии генов, связанных с обучением. Словом, возьмите любую молекулу из всего множества, о котором мы говорили в связи с нейропластичностью, введите в систему поиска Google Scholar название молекулы и слово ageing, и вы непременно получите множество исследований на животных о том, что количество таких молекул в нервных клетках меняется с возрастом и это нехорошо. К тому же в мозге накапливается всякий мусор – в первую очередь неправильно синтезированные белки, которые не работают. Лизосомы, которые в норме должны были бы их переваривать, не справляются с этой задачей. Вырабатывается меньше всяких полезных белков типа инсулиноподобного фактора роста 1. И так далее, и так далее. Гипотетически исследования всего этого могут открыть дорогу к созданию лекарств, замедляющих или обращающих вспять процессы старения мозга (“если какого-нибудь белка стало меньше, давайте его добавим; если какого-нибудь белка стало слишком много, давайте сделаем лекарство, которое его блокирует”), но пока что там действительно черт ногу сломит, потому что меняется сразу все, уровень производства сотен разных молекул, и какие из них важны, а какие вторичны – разобраться не то чтобы совсем невозможно, но эта история еще очень далека от завершения.
Важно еще понимать, что у мозга большие компенсаторные способности. Мы уже немного обсуждали это в главе про травмы, и то же самое со старением. Вот когда мы говорим про изменение количества каких-нибудь молекул, то их число может не только падать, но и расти у стареющего животного – и в каждом случае надо понять, хорошо это или плохо: вреден ли их избыток, или это способ компенсировать недостаток (или избыток) чего-нибудь другого. Или вот нейропластичность: если ее изучать с помощью вживленных электродов в каком-нибудь конкретном синапсе, то выясняется, что у стареющих животных дела обстоят хуже, чем у молодых. Но всегда ли это верно, если рассматривать мозг как целое, со всем его обилием возможных участков для выращивания новых нейронных связей?
Вот, например, Арне Мей и его коллеги – пионеры томографических исследований нейропластичности, связанной с индивидуальным опытом, – учили своих испытуемых жонглировать тремя шариками. В их первой работе[203] испытуемым было в среднем по 22 года. За три месяца практики все они достигли хороших результатов – были способны жонглировать по крайней мере в течение минуты. Анатомические изменения у них нашли в двух отделах мозга: в средней височной области (там находится участок зрительной коры по имени V5, связанный с распознаванием движущихся объектов) и в левой задней внутритеменной борозде (она необходима для моторно-зрительной координации). Через четыре года исследователи воспроизвели этот эксперимент[204] с испытуемыми постарше – на этот раз на курсы жонглеров попали люди в возрасте от 50 до 67 лет. Они тоже тренировались три месяца, но жонглировать тремя шариками в течение 40 секунд (либо дольше) научились только 25 из 44 участников. Тем не менее увеличение плотности серого вещества в средней височной области наблюдалось и здесь, причем не только у тех участников, которые научились жонглировать хорошо, но и у тех, кто тренировался, однако за отведенное время не достиг сопоставимого успеха. Что еще интереснее, у пожилых участников, в отличие от молодых, изменения затронули несколько других участков мозга, в частности гиппокамп и прилежащее ядро. Овладевать новыми навыками приятно; молодые люди и так делают это постоянно, а вот для пожилых эксперимент внес приятное разнообразие в жизнь и, можно предположить, в целом развил их способность получать удовольствие.
С гиппокампом интереснее. В нем увеличилась плотность серого вещества[205], и это может означать две вещи: либо появление новых связей между нейронами, либо увеличение количества самих нейронов. Сами авторы исследования склонялись ко второй трактовке и в 2008 году, когда была опубликована статья, имели на это полное право, потому что могли обильно подкрепить свои выводы ссылками на работы коллег. Но через десять лет эта история внезапно стала темной и запутанной: ко множеству исследований, предполагающих, что новые нейроны в гиппокампе взрослых людей появляются[206],[207], в 2018 году неожиданно добавилось одно (но хорошее), утверждающее, что все ошибались, а новые нейроны появляются только у детей, максимум – в подростковом возрасте[208]. А потом вышло еще одно (настолько же хорошее), утверждающее, что все‐таки нейрогенез сохраняется до глубокой старости[209]. Там куча технических деталей, связанных, например, с тем, как добывают образцы ткани гиппокампа (из живых людей, которым делают нейрохирургические операции, или из погибших) и каким образом в них ищут новые нейроны (нужно, с одной стороны, доказать, что клетка новенькая, а с другой – что это именно нервная клетка; чаще всего обе задачи решают, регистрируя присутствие белков-маркеров, типичных именно для таких клеток, но требования к составу и количеству этих белков могут отличаться в разных работах, равно как и методы, применяемые для их выявления). В общем, прямо сейчас те нейробиологи, которые занимаются поиском новых нейронов в гиппокампе взрослых людей, получили мощный стимул провести еще больше исследований, а все остальные нейробиологи и научные журналисты наблюдают, ждут и волнуются, молятся св. Дарвину, едят попкорн и делают ставки. Подавляющему большинству, конечно, очень хочется, чтобы нейрогенез благополучно подтвердился. Более или менее все согласны, что он есть у других млекопитающих, а мы‐то чем хуже?
Во всяком случае, появляются ли у взрослых людей новые нейроны или нет, но вот новые связи между ними благополучно растут, это точно. И в старости растут, хотя, видимо, похуже. Возникает закономерный вопрос: как способствовать росту новых синапсов и поможет ли это сохранить ясность ума до самой смерти?
Вы наверняка слышали о том, что люди с хорошим образованием и в целом представители интеллектуальных профессий меньше подвержены развитию деменции. Даже в том случае, если они становятся жертвами болезни Альцгеймера, у них проходит намного больше времени между появлением первых симптомов и полным выпадением из реальности. В первом приближении это, скорее всего, верно[210], но в конкретных исследованиях есть много проблем с тем, как трактовать полученные результаты. Вот, например, сообщают нам французские ученые, что они провели исследование[211] и показали, что люди с более высоким уровнем образования остаются в здравом уме еще 15 лет после того, как у них была диагностирована болезнь Альцгеймера, а для менее образованных людей этот показатель составляет только 7 лет. Звучит здорово. Авторы связывают это с гипотезой когнитивного резерва: грубо говоря, у вас в мозге выращено больше связей, и поэтому гибель отдельных нейронов медленнее приводит к заметным нарушениям интеллекта. Но они также оговаривают, что во Франции начала XX века было не то чтобы очень хорошо со всеобщим образованием, так что образованными в их исследовании считаются люди, закончившие по крайней мере шестилетнюю школу, а у менее образованных и того не было. И тут возникает проблема: скорее всего, шестилетнюю школу люди окончили или нет в зависимости от того, могла ли их семья себе это позволить. А если в обществе присутствовало такое неравенство, то наверняка оно отражалось в первую очередь не на обучении, а банально на количестве и качестве еды, которой питались беременные мамы современных стариков с Альцгеймером и они сами в детстве, – и, может быть, мозг у них развился так замечательно просто потому, что их нормально кормили. Эта проблема в большей или меньшей степени применима ко всем современным исследованиям деменции. Корреляции есть и с образованием, и с уровнем IQ, а вот с причинно-следственными связями все туманно. Умные люди дольше сохраняют здоровье мозга, потому что они много учились? Или потому, что жили в более благоприятных условиях в детстве и от этого одновременно стали более здоровыми и более умными? Или им попались удачные гены, связанные с развитием мозга, которые влияют на многие его возможности сразу? Или они, будучи умными, ведут более здоровый образ жизни? И да, люди живут очень долго, и те, кто сегодня уже дожил до болезни Альцгеймера, в среднем провели свою юность в радикально более голодных и опасных условиях, чем мы, так что непонятно, насколько их результаты вообще окажутся к нам применимы.
Тем не менее гипотеза когнитивного резерва очень воодушевляет. Можно не только сравнить, например, скорость развития болезни Альцгеймера у тех, кто хорошо знает иностранный язык, и у тех, кто всю жизнь говорил только на родном (и да, убедиться, что знание иностранного языка позволяет отсрочить деменцию на пять лет), но и зайти с другой стороны: сделать МРТ людям, которые уже одинаково сильно погрузились в деменцию, – и обнаружить, что при этом физически мозг поврежден гораздо сильнее у тех, кто говорил на двух языках[212]. То есть обучение сложному навыку – такому как иностранный язык – дает мозгу возможность намного дольше компенсировать процесс физических разрушений таким образом, чтобы они не принципиально отражались на интеллектуальных возможностях.
Как наращивать когнитивный резерв? Имеет ли смысл, например, в 60 лет пойти получать еще одно высшее образование? Эту гипотезу обстоятельно проверяли и продолжают проверять австралийские ученые. В 2011 году они запустили программу, в рамках которой пожилые люди выбирают в Университете Тасмании любые интересные им курсы (не меньше двух предметов одновременно и не меньше года подряд), ходят на лекции, делают домашки и сдают экзамены – а исследователи смотрят, как это отражается на их когнитивном резерве (по сравнению с их состоянием до обучения и по сравнению с контрольной группой, которая в университет не ходит). В 2018 году были опубликованы результаты четырех лет наблюдений за первыми 359 участниками программы[213]. Выяснилось, что у них – разумеется! – стало больше знаний и, соответственно, улучшились результаты тестов, в которых оценивался словарный запас, способность понимать прочитанное и вспоминать названия различных объектов. То есть университетское образование определенно принесло участникам пользу, укрепив и развив их способности к переработке информации. Но вот во всем остальном экспериментальная группа не демонстрировала никаких явных отличий от контрольной, которая на лекции не ходила. Результаты тестов на память за четыре года слегка улучшились, но это произошло в обеих группах в равной степени – скорее всего, просто потому, что люди уже были знакомы с форматом заданий, которые им предстояло выполнить при очередном визите в лабораторию. Результаты тестов, оценивающих способность контролировать собственное внимание (например, теста Струпа, в котором слово “красный” написано зеленым цветом, а слово “зеленый” – красным, и надо каждый раз называть цвет чернил, игнорируя содержание текста), со временем слегка снижались (хотя и не успели снизиться статистически достоверно), и тоже одинаково в обеих группах.
В сочетании с исследованиями о пользе обучения в юном возрасте это дает нам важный практический вывод: учиться полезно, чтобы сохранить здоровье мозга, но лучше делать это не тогда, когда возрастное снижение когнитивных функций уже успело далеко зайти, – а лет на двадцать раньше, пока мозг еще здорово умеет растить себе нейронные связи на всю оставшуюся жизнь и сможет извлечь из вашего университетского образования намного больше пользы. Так что если вам сейчас, например, тридцать и вы думаете, что вам делать дальше со своей жизнью: то ли зарабатывать на квартиру, то ли рожать ребенка, то ли сходить в магистратуру (в аспирантуру, на второе высшее…), – то лучше всего выбирать последний вариант[214]. Заработать денег можно и потом. Эмбрионы можно заморозить. А вот новые синапсы нужно растить смолоду.
В любой непонятной ситуации ложитесь спать
Понятно, что для укрепления синапсов нужно их использовать, то есть чему-нибудь учиться, гонять информацию по нейронным контурам. Но при одинаковом объеме переработанной информации количество того, что удалось усвоить, будет отличаться у разных людей. Отчасти, конечно, на это влияют гены, но – как и везде в биологии – влияет и образ жизни. У нас есть два хороших, изученных и доказанных способа повысить способности своего мозга к обучению: нужно как можно больше двигаться и спать. Второе даже важнее.
Начну со страшилок. В конце 1980‐х группа исследователей из Чикаго выпустила серию из 10 статей, в которых они описывали, что случится с крысами, если не давать им спать. В таких экспериментах две крысы – экспериментальная и контрольная – живут на вращающемся пластиковом диске. У них комфортная температура, сколько угодно пищи и воды. Им в голову вживлены электроды. Каждый раз, когда экспериментальная крыса засыпает (что видно по активности ее мозга), включается мотор, диск начинает поворачиваться. Если крыса не проснется и не пойдет по нему в противоположном направлении, она свалится в воду, налитую в поддон под диском, – и все равно проснется. Контрольная крыса может спать сколько угодно, пока не спит экспериментальная. Ее тоже иногда будит движущийся диск, она тоже соскальзывает в воду, но ничего плохого с ней не происходит.
А вот крысы, которым не дают спать, неизбежно умирают[215] – самое большее в течение месяца, некоторые уже через 11 дней. При этом никто не может сказать, от чего конкретно они умерли.
С одной стороны, портится одновременно все. У животных появляются язвы на коже хвоста и лап, шерсть становится коричневатой и клочьями топорщится во все стороны, температура сначала повышается, а потом, наоборот, резко падает, в крови растет уровень адреналина, и, соответственно, повышается частота сердечных сокращений, животные все больше и больше едят и все равно стремительно теряют вес. Если перестать мешать крысам спать, когда у них уже развились видимые нарушения, они все равно могут погибнуть через несколько дней.
С другой стороны, ни одно из этих изменений само по себе не выглядит несовместимым с жизнью. Крысы теряют около 20 % массы тела, что не особенно отразилось бы на их здоровье, если бы они высыпались. Не видно явных повреждений внутренних органов, в том числе мозга. Повреждения кожи тоже были бы вполне совместимыми с жизнью, если бы крысе при этом давали спать. То есть крысиный патологоанатом не может установить никакой конкретной причины, по которой животное погибло.
Интереснее всего с иммунитетом. В 1989 году чикагские исследователи изучили лимфоциты в селезенке своих неспящих крыс, но не нашли там ничего, заслуживающего внимания. В 1993 году одна из участниц этой исследовательской группы, Кэрол Эверсон, уже перебравшаяся к тому времени работать в штат Мэриленд, провела эксперимент по другой методике: она смотрела не на иммунные клетки, вместо этого она искала бактерии. И действительно обнаружила, что кровь неспящих животных обильно заселена бактериями, чего в норме быть, конечно, не должно. А организм не пытается с ними бороться[216]. Впоследствии она показала, что бактерии проникают в кровь и во внутренние органы из кишечника, стенки которого в результате депривации сна также оказываются поврежденными и легко проницаемыми[217]. Эверсон пришла к выводу, что инфекция – это и есть причина смерти крыс.
“Да, нехорошо получилось, – прокомментировали в 2002 г. ее бывшие коллеги из Чикаго. – Мы исследовали лимфоциты, но у половины наших животных их активность была сдвинута в одну сторону, у половины – в другую, и мы решили, что это неважно”. Но дальше они взяли крыс и накормили их антибиотиками широкого спектра действия. Бактерий в их организме теперь обнаружить не удавалось, но от недостатка сна животные умирали по‐прежнему[218].
Мне не удалось найти свежих исследований, в которых бы кто‐то разобрался, почему конкретно все‐таки умирают крысы, лишенные сна. Возможно, за последние 20 лет этические комитеты стали строже и теперь говорят исследователям: “Ну и зачем вы будете мучить животных, если вы все равно понятия не имеете, что именно вы надеетесь найти?” Но, скорее всего, просто ученые смирились с мыслью, что портится все одновременно и бессмысленно искать единственную главную причину.
Тем более что это далеко не единственная и даже не самая главная из многочисленных научных загадок, связанных со сном[219],[220]. Прежде всего, поразительно, что он вообще есть. Очевидно, это ужасно невыгодно с точки зрения борьбы за выживание: каждые сутки вы на несколько часов впадаете в бессознательное состояние, которое резко увеличивает шанс, что вас съедят. Если бы кто‐то научился не спать, это дало бы ему большие эволюционные преимущества, – но таких умников нет. Спят все позвоночные, хотя некоторым приходится придумывать для этого очень сложные решения, например спать двумя полушариями по очереди (если вы дельфин и вам приходится дышать воздухом) или плыть неведомо куда под управлением спинного мозга (такая потребность возникает у тех рыб, которым необходимо непрерывно двигаться, чтобы вода омывала жабры). У беспозвоночных, даже совсем примитивных, тоже наблюдаются суточные циклы активности, которые имеют много общего со сном, в том числе и с точки зрения молекул, которые задействованы в этом процессе. Спит, например, Caenorhabditis elegans – круглый червь, у которого всего‐то 302 нейрона. Тараканы тоже спят, и за 35 дней 95 тараканов из 100 умрут, если мешать им это делать (к сожалению, я не знаю, как применить это в домашних условиях). У позвоночных не существует зоны мозга, которую можно было бы вырезать, чтобы животное одновременно осталось бы в живых и при этом перестало спать. Да чего там, клеточные культуры спят! Нейроны и глия в чашке Петри! Ну то есть если их не трогать, они демонстрируют такие паттерны спонтанной активности, как при медленноволновом сне, а с помощью коктейля из возбуждающих нейромедиаторов или с помощью электрических импульсов их можно разбудить, чтобы они работали по‐другому. Сама в шоке, но вот в приличных обзорах[221] так написано, и ссылки на эксперименты приведены. То есть сон – это какое‐то глубинное, фундаментальное, базовое свойство нервной системы, проявляющееся начиная с самых простых уровней ее организации.
И при всем этом мы не знаем, зачем сон нужен. Ну то есть существует большое количество взаимодополняющих гипотез. Да, сон помогает экономить энергию в то время суток, когда добывать еду все равно неудобно. Да, он важен для работы иммунной системы. Если, например, сделать добровольцам две прививки против гепатита А с разницей в 8 недель и оба раза просить их не спать ночью после укола, то на 12‐й неделе у тех, кто не спал, в крови будет в два раза меньше антител против этого вируса, чем у контрольной группы, которой спать разрешали. Да, сон важен для нормального функционирования эндокринной системы[222] и сильно влияет на обмен веществ. Именно во время сна активнее всего вырабатывается гормон роста, полезный для разнообразного мелкого ремонта и обновления тканей. При недостатке сна падает толерантность к глюкозе (клетки хуже справляются с тем, чтобы забрать ее из крови и направить на свои нужды), и эпидемиологические исследования показывают, что у тех, кто регулярно не высыпается, заметно увеличивается вероятность развития ожирения и диабета. Но вышеперечисленные функции, скорее всего, вспомогательные. В смысле, раз уж мы все равно лежим и спим, то организму удобно в это время позаниматься наведением порядка, а если бы в ходе эволюции сон не появился, то регуляция иммунной и эндокринной системы, наверное, была бы нормальной и без него. Более интересны те функции сна, которые непосредственно связаны с работой мозга.
Тут есть три гипотезы. Из них две, красивые и свеженькие, подтверждены пока только отдельными экспериментами, но еще не превратились в научный мейнстрим, а третья – абсолютно общепризнанная.
Во-первых, во время медленноволнового сна мозг потребляет меньше энергии, чем при бодрствовании. Предполагается, что это удобный момент, чтобы восполнить запасы гликогена в глиальных клетках[223] (а возможно, еще и уделить энергию тем внутриклеточным процессам, до которых днем не доходила очередь).
Во-вторых, в последние пять лет начали накапливаться данные о том, что во время сна увеличивается объем межклеточной жидкости, омывающей нейроны. Это, по‐видимому, способствует выведению из них всякого мусора вроде бета-амилоида (того самого, который образует бляшки у людей с болезнью Альцгеймера). Это называется “глимфатическая система” (очень удачно подобранное название: оно сочетает отсылку к лимфатической системе, которая выводит мусор из остальных тканей, и часть слова “глия” – в честь глиальных клеток, которые контролируют процесс притока жидкости в межклеточное вещество мозга и последующего ее отведения).
Я лично в обе гипотезы верю, но как честный человек должна вас предупредить, что исследований пока мало, абсолютной ясности нет и, может быть, придут злые люди и скажут, что все не так. Зато вот в чем вообще никто не сомневается: что сон нужен для нормальной работы памяти, что его важнейшая функция – это переработка информации, накопленной за день, закрепление тех воспоминаний, которые важны, и одновременно стирание воспоминаний, которые не пригодились. Это подтверждено невероятным количеством экспериментов, выполненных самыми разными методами. В моем любимом обзоре про сон и память[224] список литературы включает 1358 наименований – а он, между прочим, вышел в 2013 году, и с тех пор появилась еще масса исследований.
Во-первых, есть поведенческие эксперименты, стабильно демонстрирующие, что учиться нужно перед сном. Например, у вас есть 207 испытуемых. Каждый из них сидит перед компьютером и запоминает слова[225]. Они объединены в пары и внутри пар могут быть либо связаны друг с другом по смыслу (“газета – интервью”, “ружье – пуля”), либо нет (“газета – операция”, “ружье – волна”). Чтобы оценить результат обучения, вы показываете человеку одно слово из пары, а он должен напечатать второе. Обучение продолжается до тех пор, пока испытуемые не запомнят хотя бы 24 слова из предложенных 40.
Половина участников приходит к вам в лабораторию в девять утра, половина – в девять вечера. Если вы тестируете их через полчаса после того, как они запомнили слова, то разницы между утренней и вечерней группой нет. И те и другие вспоминают 75 % от того, что помнили сразу после обучения, если им достались связанные слова, и 70 % – если несвязанные.
Других участников вы тестируете повторно не через полчаса, а когда прошло уже 12 часов. Здесь у вас четыре группы людей, учивших связанные или несвязанные слова утром или вечером. Соответственно, на тест они приходят либо после того, как весь день занимались своими делами, либо после того, как выспались (настолько, насколько это вообще возможно, когда вас ждут в лаборатории к 9:00). Выяснилось, что при таких условиях люди одинаково хорошо справляются с воспроизведением связанных слов. Вам показывают слово “газета”, вы вспоминаете “интервью”. Но вот если участникам достались слова, не связанные по смыслу, то им говорят “газета”, а они должны ответить… Вы‐то помните, какое второе слово я только что приводила в пример? Если нет, то идите спать, потому что те, кто поспал, справлялись с этим заданием так же хорошо, как и с воспроизведением связанных слов, и лучше, чем люди, которые в промежутке бодрствовали.
Еще интереснее третий вариант: теперь все люди приходили в лабораторию через 24 часа после теста. То есть для половины участников расписание выглядело так: “выучил слова – весь день занимался своими делами – лег спать – пришел на тест”, а для другой половины так: “выучил слова – лег спать – весь день занимался своими делами – пришел на тест”. И вот выяснилось, что те, кто учил слова и проходил тест по вечерам, вспоминают примерно столько же слов, сколько и сразу после обучения. Те, кто учил слова и проходил тест утром, вспоминают в среднем на 6,5 слова меньше.
Вы понимаете, что это значит, да? Мир устроен принципиально неправильно. Это не один такой эксперимент есть, их десятки, с разными типами заданий. Людям дают запоминать относительное расположение объектов на экране компьютера[226]. Учат быстро нажимать на клавиши в определенной последовательности[227]. Дают или не дают выспаться ночью. Дают или не дают поспать днем. А результаты везде похожие. Если люди учат что‐то и вскоре ложатся спать, то это записывается им в долговременную память. Если люди учат что‐то утром, то это перебивается всеми последующими дневными впечатлениями, и когда они наконец добрались до постели, закреплять там уже нечего.
Нейробиология говорит нам: в первой половине дня надо заниматься всякой неважной ерундой. Серьезными вещами, например обучением, надо заниматься ближе к ночи. В моей прекрасной магистратуре по когнитивным наукам, которую делали нейробиологи, за два года ни разу не было первой пары. Второй обычно тоже не было. Пятая и шестая бывали регулярно. Нейробиологи понимают: бессмысленно учить людей по утрам. И к тому же бессмысленно учить чему‐то людей, которые не высыпаются, они все равно ничего не запомнят. Когда мы придем к власти, мы отменим первые уроки повсеместно.
Это особенно важно для подростков. Есть такая штука – синдром отсроченного наступления фазы сна. Попросту говоря, человек – сова и не переучивается. Когда социальные обязательства заставляют его изо дня в день рано вставать, он, конечно, начинает засыпать раньше, чем делал бы это добровольно, но изо дня в день, из года в год он все равно сначала час ворочается в постели, а потом на этот же час меньше спит из‐за будильника. И вот если вы подросток, то вы, с одной стороны, не имеете возможности самостоятельно организовывать свой режим сна, а с другой стороны, по‐видимому, в принципе подвержены этому расстройству с большей вероятностью, чем дети или взрослые, – у вас в среднем позже начинает вырабатываться в организме мелатонин (“гормон сна”).
Американские подростки страдают сильнее, чем наши, потому что там вообще принято раньше начинать занятия, причем по мере увеличения количества уроков в старших классах их добавляют в еще более раннее время. Например, занятия в девятом классе могут начинаться в 8:25, а в десятом – уже в 7:20. В конце такой ужасной недели (и не одной!) ученые приглашают школьников в лабораторию[228], сажают их там вечером в комнату с приглушенным светом и через равные промежутки времени измеряют им уровень мелатонина в слюне. И обнаруживают, что у десятиклассников он достигает установленного порога (предполагающего, что человек уже уснет, если его положить в кровать) все равно в среднем на сорок минут позже. Просто потому, что они старше. Несмотря на то, что они были вынуждены вставать на час раньше все это время.
“Заставлять подростка вставать в 7:30 – это то же самое, что заставлять взрослого вставать в 4:30”, – пишет в неофициальном обзоре[229] Тени Шапиро, исследующая экономические и академические последствия депривации сна. С точки зрения того, что написано в научных статьях про мелатонин, она все же немного сгущает краски, трехчасовой разницы там нет. Но по сути, действительно, все сомнологи сходятся на том, что подростки – самая невысыпающаяся часть человечества, и не только потому, что они разгильдяи и тупят в компьютер, но и потому, что общество требует от них вставать неадекватно рано, а они не могут в полной мере к этому приспособиться. Сдвиг начала школьных занятий на час вперед повышает результаты тестов по математике и чтению в среднем на 3 %, причем сильнее всего для отстающих учеников (может, они потому и отставали, что ничего не соображают от недосыпа)[230]. Среди тех 8,4 % норвежских подростков, у которых диагностирован синдром отсроченного наступления фазы сна (то есть это самые неизлечимые совы), 61 % начинает курить, 55,2 % злоупотребляют алкоголем и 35,2 % страдают от депрессии. Не потому, что они совы, а потому, что у них жуткий недосып из‐за школы[231]. Я вот пишу этот абзац в три часа ночи, и мне отлично, потому что издательству Corpus совершенно все равно, во сколько я встаю утром, им главное, чтобы я в принципе написала книжку. Вот курить, правда, начала еще в школе, и пока что мне еще ни разу не удавалось бросить надолго.
Но мы вообще‐то собирались говорить о хорошем. О том, что сон способствует нейропластичности и, соответственно, эффективному обучению. На людях это приходится выяснять, опираясь на поведенческие эксперименты, на данные ЭЭГ и фМРТ о взаимодействии коры и гиппокампа во время сна, на транскраниальную электрическую стимуляцию – словом, по косвенным признакам. А вот на животных много чего можно посмотреть непосредственно. Например, вы берете генно-модифицированных мышей, чьи дендриты (отростки нейронов, собирающие информацию) светятся желтым. Это позволяет вам увидеть под микроскопом прямо сквозь череп, сколько там у мыши дендритных шипиков (выростов, способных образовывать синапсы). Принципиально, что ее для этого не надо убивать (зато надо сбрить шерсть на голове) – это хорошо не только для мыши, но и для исследователей, потому что дает возможность следить за динамикой роста дендритов у того же самого животного. И вот когда вы учите мышей ходить по вращающемуся барабану, то количество дендритных шипиков в нейронах моторной коры предсказуемо увеличивается. Причем в разных местах, в зависимости от того, какое задание вы даете мыши. Но если вы сравните животных, которых вы обучили и потом семь часов мешали им спать (даже если в середине этого периода еще раз их потренировали), с животными, которые после обучения спокойно уснули, то сразу после этого вы увидите, что у выспавшейся группы новых синапсов образовалось вдвое больше, чем у неспавшей[232]. И через сутки по‐прежнему будет больше, даже если уже всем мышам дали поспать. Потому что спать полагается сразу после обучения, даже если вы мышь.
Существенно, что сон способствует не только выращиванию новых синапсов, но и ослаблению тех, которые не пригодились[233]. Если взять три группы мышей – хорошо выспавшихся, не спавших принудительно и не спавших добровольно – и с помощью трехмерной электронной микроскопии изучить их моторную и сенсорную кору, то обнаружится, что площадь синапсов во время сна вообще‐то склонна уменьшаться. У выспавшихся мышей средняя площадь каждого отдельного синаптического контакта уменьшается в среднем на 18 % по сравнению с неспавшими животными. Но важно, что эти изменения не затрагивают 20 % самых крупных синапсов, вероятно связанных с хранением особенно полезных и часто используемых воспоминаний.
На лекциях про память часто спрашивают, может ли в мозге закончиться место. Нет, точно нет. Во-первых, мы просто не успеем до этого дожить. Во-вторых, его там много, синапсы растут и растут себе спокойно на просторе среди межклеточной жидкости. А в‐третьих, все, что мы не используем, мы все равно забываем, и очень эффективно, и, скорее всего, в основном именно во сне.
Беги, Форест, беги
Теперь, если вам позволяет окружающая обстановка, отложите книгу и сделайте пять приседаний, пять наклонов и пять взмахов руками. Если не лень, то десять. Если вы самый лучший читатель этой книги, то сходите на полноценную пробежку. Потом возвращайтесь.
Я просто опять собираюсь рассказывать вам про всякие новые молекулы, а есть исследования о том, что даже разовая тренировка способствует улучшению результатов в тестах на внимание и рабочую память[234]. Нормальная тренировка, конечно, содержит более пяти приседаний, но в случае с физической активностью особенно ярко проявляется принцип “делать хотя бы немножко – гораздо лучше, чем не делать ничего вообще”. Например, многолетние наблюдения за здоровьем пожилых людей демонстрируют, что 15 минут умеренной физической активности в день увеличивают[235] ожидаемую продолжительность жизни на три года, а три часа медленной ходьбы в неделю приводят[236] к улучшению рабочей памяти и внимания на 35 % по сравнению с теми, кто ходит меньше сорока минут[237].
Если вы честно сделали наклоны и приседания и у вас улучшилось внимание, то вы могли заметить, что я сейчас совершаю классическую ошибку популяризаторов науки: пишу об исследованиях, в которых нашли корреляцию, так, как будто бы там есть причинно-следственная связь. В данном случае я делаю это осознанно и злонамеренно. Имея в виду весь остальной накопленный массив информации, я считаю, что по‐настоящему существующее влияние физической активности на здоровье и интеллект – это самое правдоподобное объяснение полученных данных. Авторы исследований, собственно, тоже так считают.
Начнем, как всегда, со страшной истории про зверюшек. Представьте себе мышь, которая страдает от ожирения и к тому же очень хочет пить. Она толстая, потому что ее 32 недели подряд досыта кормили тяжелой жирной пищей. А пить она хочет, потому что ей сутки не давали воды: это нужно, чтобы протестировать ее интеллектуальные способности. Вы помещаете животное в лабиринт, в котором от центральной площадки отходит восемь коридоров и в конце каждого – плошечка с водой. Задача мыши – напиться, а для этого имеет смысл зайти в каждый рукав лабиринта только один раз и больше туда не ходить, потому что воды там все равно больше нет. Таким образом вы убеждаетесь, что толстая мышь вообще‐то глупее, чем худая мышь из контрольной группы: за 8 минут пребывания в лабиринте она успевает сунуться в те рукава, где уже нет воды, в среднем по 17 раз, в то время как худые мыши лучше держат в голове карту местности и забегают в неправильные рукава только по 9 раз (прежде чем истечет время или прежде чем выпьют всю воду)[238].
Но у вас есть и другая группа мышей. Они тоже толстые, потому что их тоже досыта кормят жирной пищей. Но зато последние 12 недель они занимались на беговой дорожке[239]. Сначала по полчаса на скорости 10 метров в минуту, потом нагрузка постепенно увеличивалась до 16 метров в минуту в течение 50 минут. Это кажется крайне скромным по человеческим меркам (16 метров в минуту – это примерно километр в час), но мыши быстро устают, и вообще у них короткие лапки, так что им в большинстве подобных исследований предлагают примерно такие скорости. Тем более если мышь страдает от ожирения. И вот те толстые мыши, которые тренировались на дорожке, попадая в лабиринт, ошибаются там всего лишь 8 раз. И примерно столько же, 7 раз, ошибаются те худые мыши, которые тоже ходили по дорожке.
То есть если вы питаетесь всякой гадостью и стали толстым, у вас ухудшается пространственное мышление и вообще нарушается интеллект и работа мозга. Про это, кстати, действительно есть куча исследований на животных[240],[241]. С людьми сложнее: в принципе, такая корреляция многократно зафиксирована[242], но тут куча важных оговорок. Во-первых, очевидным образом люди очень разнообразны, и любой отдельно взятый гражданин вполне может оказаться одновременно умным и толстым или худым и глупым. Во-вторых, толстые люди часто бывают чем-нибудь больны, например диабетом 2‐го типа, и на мозге плохо отражается непосредственно болезнь. В-третьих, проблематично отличить причину от следствия: может быть, люди потолстели и от этого у них ухудшились результаты выполнения интеллектуальных тестов, а может быть, они были не очень умными с самого начала и вследствие этого не следили за своим весом. В-четвертых, проблемы с фигурой и с интеллектом могут быть у людей двумя несвязанными следствиями общей причины, например низкого социоэкономического статуса их родительской семьи. Так что не будем останавливаться на этой скользкой теме, а вернемся к нашим баранам – в смысле к толстым мышам. Вот они точно тупили в лабиринте – и при этом, что принципиально важно, переставали тупить, если в их жизни появлялась регулярная физическая нагрузка, даже несмотря на то, что режим питания по‐прежнему был нездоровым.
Исследователи анализировали не только поведение толстых мышей, но и состояние их мозга. При жизни им вводили бромдезоксиуредин. Эта молекула достаточно похожа на тимидин, один из строительных блоков ДНК, чтобы клетки могли их перепутать и встроить неправильную молекулу во время копирования своего генетического материала. Это очень удобно, потому что потом можно проанализировать содержание бромдезоксиуредина в клетках и таким образом понять, размножались ли они в обозримом прошлом. Если дополнительно использовать антитела к белкам, типичным именно для нейронов, то можно определить, сколько в мозге появилось в последнее время новых нервных клеток. Все это анализировали в зубчатой извилине гиппокампа (пространственное мышление и память, напоминаю я для малоподвижных читателей). Результаты вполне предсказуемые: больше всего юных нейронов, по 400 на квадратный миллиметр, было у мышей, которые ели нормальную еду и занимались спортом; по 300 – у тех, кто правильно питался, но мало двигался; около 280, но без достоверных отличий от второй группы, – у мышей, которые ели жирную пищу, но ходили по дорожке; и меньше всего, около 200, – у самых несчастных животных, толстых и малоподвижных.
Подобная картина наблюдалась и для производства белка BDNF и рецепторов к нему: чем более здоровый образ жизни ведет животное, тем больше у него BDNF. А это очень важная молекула.
BDNF, или нейротрофический фактор мозга, – в каждой бочке затычка, когда мы говорим о нейропластичности. Он способствует высвобождению нейромедиаторов; работе NMDA-рецепторов; экспрессии белка CREB, нужного для роста новых синапсов; участвует в созревании и выживании нейронов. Он синтезируется во многих отделах нервной системы, но особенно активно – в коре головного мозга и в гиппокампе. А что самое интересное – любая физическая активность способствует увеличению его производства.
В 2004 году Шошанна Вайнман и ее коллеги провели изящный эксперимент[243], показавший, что львиная доля благотворного влияния физических упражнений на интеллектуальные функции, в частности на пространственное мышление и память, обусловлена именно активностью BDNF.
Крысы, с которыми работали исследователи, могли бегать в колесе сколько хотят и пользовались этой возможностью, пробегая по крайней мере по 100 метров в сутки. Это должно приводить к увеличению синтеза BDNF. Но половине из них этот факт не приносил особенной пользы, потому что рецепторы к BDNF у них были заблокированы с помощью инъекции антител в гиппокамп. Кроме этого, две группы крыс жили в клетках, где было негде побегать, – им тоже либо блокировали рецепторы, либо делали инъекцию плацебо.
После того как животные неделю либо бегали, либо нет, с работоспособными или нет рецепторами к BDNF в гиппокампе, их всех пять дней тестировали в водном лабиринте Морриса. Это такая большая круглая кадка, в которую крыс запускают плавать. Где‐то есть подводный островок, на который можно встать. Его не видно с поверхности, животное может только наткнуться на него случайно. Плавать крысы не любят, так что, если они попадают в знакомый лабиринт Морриса, они стараются как можно быстрее нащупать твердую почву под ногами.
В первый день животные натыкаются на подводную платформу случайно, и в среднем до этого момента проходит минута в свободном плавании. Во второй день они уже примерно помнят общее направление и справляются немножко быстрее, в среднем за 50 секунд. А с третьего дня начинает проявляться достоверная разница между теми, кто бегал в колесе и при этом беспрепятственно пользуется своим BDNF, и всеми остальными группами участников эксперимента. Счастливчики, которые вели здоровый образ жизни и при этом не получили дозу антител к рецепторам, бодро устремляются к платформе и стоят на ней уже через 15 секунд. А вот те, кто либо мало двигался, либо двигался достаточно, но с заблокированными рецепторами к BDNF, кружат по лабиринту в два раза дольше. На пятый день все крысы справляются с заданием за 20 секунд – кроме привилегированного сословия, которому требуется всего 10.
Нам, людям, в мозг никто ничего не вводит, так что мы можем беспрепятственно повышать уровень BDNF с помощью упражнений, чтобы лучше справляться с превратностями судьбы. Действительно, большинство исследований подтверждает[244],[245], что уровень BDNF в крови повышается даже после разовой тренировки, а у тех, кто тренируется регулярно, увеличен все время (особенно, конечно, сразу после похода в спортзал). Известно, что BDNF хорошо проникает через гематоэнцефалический барьер, так что считается, что его уровень в крови более или менее надежно отражает его производство в мозге. Увеличение уровня BDNF благотворно отражается на способности испытуемых справляться с различными тестами на внимание и память, хотя конкретные результаты варьируют в зависимости от методики исследования. По-видимому, аэробные тренировки оказывают более выраженный эффект, чем силовые, а мужчины получают от них, с точки зрения BDNF, чуть больше пользы, чем женщины (возможно, это связано с гормональными колебаниями в ходе менструального цикла и взаимодействием между BDNF и эстрогеном). Исследования продолжаются, данные накапливаются и уточняются, но вот в том, что заниматься хоть какой-нибудь физкультурой полезно представителям обоих полов, мы уверены уже сейчас.
Продемонстрировать пользу физических упражнений можно не только с помощью анализов крови и тестов на интеллект, но и с помощью томографии[246]. Кросс-секционные исследования (в которых спортивных людей сравнивают с любителями валяться на диване) показывают, что у тех, кто регулярно двигается, в среднем выше плотность серого вещества в префронтальной коре и гиппокампе. Эксперименты подтверждают, что тут есть причинно-следственная связь: у тех, кто не занимался, а потом начал, через полгода плотность серого вещества тоже увеличивается. Кроме того, регулярные тренировки благотворно отражаются на кровоснабжении мозга в состоянии покоя, хотя этот эффект, к сожалению, быстро ослабевает, если перестать заниматься[247].
Существенно, что регулярность занятий, с точки зрения пользы для мозга, намного важнее их интенсивности. Если вы можете пробежать пять километров и чувствовать себя хорошо, это здорово, но если пока не можете, то не надо себя насиловать: быстрая ходьба отразится на кровоснабжении вашего мозга гораздо лучше. Дело в том, что сонная артерия у нас делится на две веточки, внутреннюю и наружную. Первая доставляет кровь к мозгу, вторая – к коже и мышцам головы. Экспериментально показано[248], что при очень интенсивных физических нагрузках приток крови к мозгу перестает расти и начинает, наоборот, снижаться, потому что она начинает интенсивнее поступать в наружную сонную артерию. Это нужно, чтобы усилить потоотделение: когда вы бежите со всех ног, то вам важнее не упасть в обморок от перегрева, чем думать, куда вы бежите и зачем. В лаборатории это измеряют, заставляя людей заниматься на дорожке или велотренажере в кислородной маске, и ухудшение кровоснабжения мозга начинается с 60–80 % от максимального потребления кислорода. В бытовых целях можно считать, что ради улучшения кровоснабжения мозга имеет смысл тренироваться в диапазоне 60–70 % от максимального пульса. Если считать его по традиционной формуле фитнес-инструкторов “220 минус возраст”, то получится, что максимальный пульс для тридцатилетнего человека – 190 ударов в минуту, а для тренировки, соответственно, следует ориентироваться на 120–130. Это совсем не тяжелая и не мучительная нагрузка, но она очень важна.
Если честно, молодые люди часто набирают свои (рекомендованные ВОЗ) 150 минут физической активности в неделю и без каких‐то сознательных усилий в этом направлении – просто потому, что быстро ходят, носятся по эскалаторам, подметают пол, играют с детьми и собаками, танцуют и занимаются сексом. Гораздо хуже обстоят дела у людей взрослых и солидных, у которых уже есть деньги на такси, домработницу и доставку еды на дом. Еще хуже – у пожилых людей, которые уже плохо себя чувствуют и не стремятся ни к какой активной деятельности (а от этого – порочный круг – начинают чувствовать себя еще хуже). Так что если у вас есть бабушка и вы ее любите, то самое лучшее, что вы можете для нее сделать, – завести привычку регулярно ходить с ней гулять. Или подарить ей беговую дорожку. Абонемент в бассейн. Загородный дом с садовым участком, требующим ухода. Или собаку. Или научить бабушку играть в покемонов. В общем, придумайте что-нибудь. Это правда очень важно, если вы хотите, чтобы ваша бабушка оставалась в ясном уме и добром здравии как можно дольше.
Часть III Иллюзия единства Как спорят и сотрудничают разные части мозга
Глава 7 Сборка реальности из материалов заказчика
Теодор Пауль Эрисман родился в Москве, но в тринадцать лет переехал в Швейцарию: его отца, врача-гигиениста Фридриха Эрисмана, в 1896 году уволили из Московского университета за поддержку революционно настроенных студентов. Так что Теодор учился в Цюрихском университете, где среди прочего обсуждал свои научные идеи с Эйнштейном. Впоследствии он стал доктором философии и психологии. Во время Второй мировой войны Эрисман работал в Австрии, и у него тоже были серьезные проблемы с карьерой: он поддерживал коллег, неугодных власти, не мог (и, по‐видимому, не хотел) доказать свою чистоту крови, а вдобавок выступил с публичной речью “Индивид и массовый психоз”, посвященной национал-социализму. К счастью, администрация Венского университета всерьез заинтересовалась политической неблагонадежностью Эрисмана уже только в 1944 году, так что вскоре все закончилось хорошо.
Даже если бы все закончилось плохо, благодарные потомки все равно помнили бы Эрисмана, потому что те эксперименты, из‐за которых он вошел в историю, были начаты еще в 1931 году. Он сам, его студент Иво Колер и многие испытуемые-добровольцы пробовали носить очки, искажающие реальность[249]. Благодаря разнообразным хитроумным конструкциям из зеркал и призм такие очки могли искривлять линии, искажать цвета, менять местами правую и левую часть окружающего мира, но главное – переворачивать его вверх ногами.
В первые три дня в таких очках человек действительно видит мир перевернутым. Это вызывает массу неловких ситуаций. Например, когда испытуемому предлагают налить чаю, он с готовностью протягивает свою чашку, но только кверху донышком. Он врезается головой в предметы, одновременно пытаясь их перешагивать. Ну и вообще с выполнением любых целенаправленных движений, очевидно, возникают проблемы.
На четвертый-пятый день восприятие становится двойственным. Человек по‐прежнему видит мир перевернутым – но только до тех пор, пока не пытается корректировать свое восприятие, ощупывая объекты. Стоит только к чему‐то прикоснуться, как эта вещь (а может быть, и обстановка в целом) переворачивается в правильном направлении.
Начиная с шестого дня непрерывного ношения очков мир переворачивается полностью. У человека все в порядке: он видит все предметы там, где и положено, без проблем рисует, смотрит кино и водит мотоцикл.
Когда человек снимает очки, он снова видит перевернутое изображение – впрочем, всего несколько минут, а потом все снова в порядке.
Эти эксперименты широко известны общественности (думаю, вы тоже про них слышали) и при этом вызывают неожиданно слабый интерес у современных исследователей. Ну иногда кто-нибудь смотрит, допустим, какие области мозга вовлечены в адаптацию к искаженной картинке, что меняется в электроэнцефалограмме, как на этот процесс влияют разные варианты белка BDNF, – но как‐то все без ажиотажа. Студентам-нейробиологам про эти очки иногда рассказывают, но редко и вскользь, и ни в одном тесте они вам не попадутся. То есть по большому счету самое удивительное в экспериментах Эрисмана – что они никого не удивляют. “А что такого? – считает каждый нейробиолог. – И так понятно, что мозг разбирает картинку по элементам и собирает ее заново. Ну внес он в этот процесс дополнительную поправку, и что теперь? Он и не такие поправки вносит”.
Мозг как иерархическая система
Мы с вами много говорили о нейробиологии и много говорили о психологии, но еще толком не подступились к тому, чтобы объединить их друг с другом. Вот есть нейроны, вот они отправляют импульсы, – но как из этого возникают мысли, образы, поведение?
Подсказка содержится уже в классическом изображении нейрона, которое вы видели в школьном учебнике. Вспомните, у него много дендритов (отростков, которые собирают информацию) – и всего один аксон (отросток, который передает информацию дальше). В большинстве случаев именно так и есть. И это очень важно. Потому что ключевой универсальный принцип организации нейронных сетей – это их иерархическая структура. Клетка действительно собирает информацию от многих своих подчиненных, на этом основании принимает какое‐то решение о собственной активности и передает его на уровень выше, где, в свою очередь, собирается информация от многих нейронов.
Ближайшие несколько страниц я буду очень подробно рассказывать вам о том, как это реализовано в зрительной системе, – и вообще буду к ней регулярно обращаться в следующих двух главах. Это нужно мне для того, чтобы не быть гуру, который что‐то там постулировал насчет общих закономерностей работы мозга и вынуждает вас поверить на слово, а быть вместо этого экскурсоводом в прекрасном мире реально существующих и хорошо изученных нейронных ансамблей. Но, конечно, эта история перенасыщена сложными деталями и подробностями и потребует от вас большой концентрации внимания. Если вы через нее продеретесь, есть шанс получить от текста интенсивный интеллектуальный кайф. Если вам про зрение не очень интересно – ну, пролистывайте, переходите сразу к частям про психику. Но просто тогда и психика останется для вас более загадочной, потому что принципы там и там одни и те же.
Рассказывая о зрении, я опираюсь в основном на современные учебники и обзорные статьи, но должна подчеркнуть, что львиная доля информации была получена еще в середине прошлого века, и в первую очередь мы должны благодарить трех исследователей: Штефана Куффлера, Дэвида Хьюбела и Торстена Визеля. Последние двое получили в 1981 году Нобелевскую премию (а Куффлер, к сожалению, всего год до нее не дожил), и я очень рекомендую вам пойти на сайт Нобелевского комитета и посмотреть там лекцию Хьюбела, потому что она мгновенно превращает седовласых классиков (с налетом студенческой тоски “да сколько же можно уже говорить про Хьюбела и Визеля?”) в живых и невероятно обаятельных чуваков, обожавших свою работу. Они нумеровали экспериментальные клетки, начиная с числа 3000, чтобы произвести впечатление на старшего коллегу (когда он посетил лабораторию, они как раз работали с клетками 3007, 3008 и 3009), в три часа ночи от усталости начинали разговаривать по‐шведски (точнее, Визель начинал, а Хьюбел делал из этого вывод, что на сегодня эксперименты пора прекращать) и три месяца жили впроголодь, потому что Куффлер, их научный руководитель, просто забыл оформить платежную ведомость, а они стеснялись приставать к нему с такими низменными вопросами. А еще у Дэвида Хьюбела есть научно-популярная книга “Глаз, мозг, зрение”. Она, конечно, во многих отношениях серьезно устарела, но для понимания общей логики работы зрения – и нервной системы вообще – до сих пор трудно найти что‐то более прекрасное. Не давайте ее вашему ребенку, если не хотите, чтобы он все бросил и стал нейробиологом.
Так вот. Вы смотрите на внешний мир. В нем есть всякие объекты, которые хорошо или плохо отражают падающие на них лучи света. Эти лучи попадают на сетчатку и воспринимаются ее фоторецепторами: палочками и колбочками. Они изменяют свою активность. Здесь, на входе, картинка еще пиксельная. Внешний мир просто проецируется на сетчатку. Это последний момент, когда все просто. Последний, когда глаз еще можно сравнивать с фотокамерой.
Дальше фоторецепторы взаимодействуют с настоящими нейронами (формально говоря, они и сами – нейроны, просто очень необычные и видоизмененные). Там, в сетчатке, есть несколько слоев обработки информации, но в конечном счете она стекается в ганглиозные (или ганглионарные) клетки. На этом уровне принимается решение о том, какая информация поступит в зрительный нерв и будет передана дальше вглубь мозга. Обратите внимание на безличную формулировку. Решение “принимается” само, никто его не принимает. Оно вытекает из самой организации сети, из того, каким образом клетки соединены друг с другом.
Самый простой пример иерархической организации связан с нашим периферическим зрением. Дело в том, что мы отчетливо видим только очень маленький участок мира – тот, на котором сфокусировали взгляд. Изображение в этом случае проецируется на центральную ямку сетчатки, в которой число ганглиозных клеток приблизительно равно числу клеток-колбочек. Но вот на всей остальной сетчатке разрешающая способность гораздо ниже, потому что каждая ганглиозная клетка обрабатывает информацию сразу от десятков фоторецепторов. Изображение там нечеткое и размытое.
Если вы мне не верите, если вам кажется, что вы отчетливо видите всю страницу, то попробуйте удерживать взгляд на слове “крокодил” и одновременно дочитать абзац до конца. Получается? Не очень? Вот именно. Мы абсолютно не замечаем, насколько несовершенно наше периферическое зрение. Отчасти потому, что мы постоянно двигаем глазами и немедленно фокусируем взгляд на том, что нас заинтересовало, а отчасти потому, что большую часть картинки нам заботливо дорисовывает наш мозг – как на основании памяти о том, что в принципе находится в комнате (мы же осмотрели ее, когда зашли), так и на основании жизненного опыта, подсказывающего, каким именно объектом должна оказаться смутная тень такой‐то формы.
Есть даже эксперименты, в которых мозг вполне успешно обучали предсказывать будущее неправильно[250]. Людям показывали в периферическом поле зрения полосатый кружок, а пока они переводили на него взгляд (и долю секунды не были сфокусированы ни на чем и на самом деле не видели ничего), подменяли изображение на кружок с меньшим количеством полосок. После серии таких предъявлений люди обучались считать, что размытая картинка, в которой вроде бы видно шесть полосок, на самом деле соответствует кружку с четырьмя полосками, и уверенно занижали количество полосок во всех тех случаях, когда их просили угадать, сколько же полосок они увидели боковым зрением. Или, наоборот, завышали – смотря к чему их приучили.
А вот другой пример иерархической организации в сетчатке, более сложный, но и более важный для процессов обработки зрительной информации. Пока мы говорим об отдельных фоторецепторах, их активность зависит просто от того, попали ли на них фотоны. Совсем другое дело – ганглиозная клетка: ее активность уже зависит от простейших паттернов, присутствующих в изображении. Например, от наличия контраста между освещенным и затемненным участком. Уже здесь, внутри глаза, начинается анализ информации.
Сегодня описано много разновидностей ганглиозных клеток[251], но в 1950‐е годы Штефан Куффлер изучал две ключевые: клетки с on-центром и с off-центром. Первые максимально активны тогда, когда экспериментальному животному показывают небольшое светлое пятно на темном фоне, вторые, наоборот, когда ему показывают небольшое темное пятно на светлом фоне. Если экран равномерно освещен или затемнен, то ни тем ни другим это неинтересно.
Ганглиозные клетки в центральном поле зрения используют причудливо выплетенную нейронную сеть, чтобы сравнивать освещенность своей собственной колбочки и ее соседей. Я опишу вам этот механизм, потому что он классный. Но запутанный.
Представьте себе три клетки-колбочки, расположенные по соседству. Одна из них, центральная, получает поток света. Остальные две, по краям от нее, света не получают. Это потому, что мы показываем животному светлую точку на черном фоне.
А надо сказать, что фоторецепторы – довольно странные ребята. Они активны и выделяют нейромедиатор именно тогда, когда находятся в темноте, а когда они освещены, то их активность, наоборот, падает. Соответственно, в нашей ситуации две колбочки по краям посылают сигналы, а центральная колбочка молчит.
К центральной колбочке подсоединено передаточное звено: биполярная клетка. В данном случае она оснащена таким набором мембранных рецепторов, чтобы возбуждаться именно тогда, когда вверенная ей колбочка освещена и не выделяет нейромедиатор.
Но колбочка пока недостаточно молчит. От самого по себе упавшего на нее луча света ее активность снизилась, но не пропала. Соответственно, биполярная клетка передает сигнал дальше, но очень слабо и неуверенно. Чтобы биполярная клетка достаточно сильно возбудилась и начала интенсивно воздействовать на следующее звено, ганглиозную клетку с on-центром, должны соблюдаться два условия: во‐первых, чтобы центральная клетка была освещена. Во-вторых, чтобы соседние с ней клетки-колбочки освещены не были.
Второе условие контролируется с помощью еще одного нейрона: горизонтальной клетки. Она соединена со всеми тремя колбочками. А у нее такое свойство, что она реагирует на активность колбочек и, если они расшумелись, отправляет им подавляющие сигналы.
В ситуации, когда светлое пятно большое и все три колбочки неактивны, горизонтальная клетка с ними ничего не делает, потому что они и так не шумят. А вот в интересующей нас ситуации, когда одна колбочка уже малоактивна, а остальные две как раз выделяют много нейромедиатора, потому что не освещены, горизонтальная клетка реагирует на это – и подавляет работу всех трех.
Теперь наша центральная клетка-колбочка подавлена сразу по двум причинам. Во-первых, потому что на нее просто попал свет. Во-вторых, одновременно еще и потому, что на соседние клетки он как раз не попал, они выделяли нейромедиаторы, раздразнили горизонтальную клетку, а она сказала: “Да заткнитесь же вы!” всем своим колбочкам сразу.
Это делает центральную клетку-колбочку достаточно молчаливой, чтобы биполярная клетка, заметив это обстоятельство, сгенерировала свой собственный отчетливый сигнал и передала его дальше – на ганглиозную клетку с on-центром.
То есть нейронные сети в нашей сетчатке конструктивно организованы таким образом, чтобы максимально интенсивно реагировать именно на контраст. На переход между светом и тенью. На то обстоятельство, что одни колбочки освещены, а другие, по соседству, нет. Любое темное пятно на светлом фоне (или наоборот) немедленно бросается нам в глаза, в прямом смысле слова. Это довольно важно для нашего выживания, ведь контрастное пятно может оказаться, например, ядовитым насекомым.
Важно здесь то, что у каждой ганглиозной клетки есть рецептивное поле: та группа клеток-колбочек (маленькая в центральном поле зрения, большая на периферии), активность которых – именно в совокупности! – определяет тот сигнал, который ганглиозная клетка отправит дальше. При этом рецептивные поля ганглиозных клеток перекрываются, то есть информация от одного и того же фоторецептора может поступать в разные клетки.
Дальше, как легко догадаться, есть следующие стадии обобщения. Подавляющее большинство волокон зрительного нерва отправляется в латеральное коленчатое тело таламуса, а оттуда информация передается в первичную зрительную кору. На промежуточной станции обработки информации, в таламусе, тоже происходят всякие важные события[252], но они преимущественно связаны с распознаванием цветов и регистрацией движения, и пока мы на них останавливаться не будем. Когда мы говорим о восприятии контуров неподвижных объектов, то для простоты можно считать (и это будет почти полная правда), что клетки таламуса по‐прежнему реагируют на темные пятнышки на светлом фоне или на светлые пятнышки на темном фоне.
Что‐то в этом роде Хьюбел и Визель ожидали найти и в первичной зрительной коре, когда в 1958 году, вдохновленные исследованиями сетчатки и таламуса, приступили к ее изучению. Они выбирали какой-нибудь симпатичный кошачий нейрон, подводили к нему микроэлектрод, показывали кошке стеклышки с нарисованными на них пятнами и надеялись обнаружить отклик. Важнейшим инструментом электрофизиологов тогда, в докомпьютерную эпоху, был аудиомониторинг, при котором электрические импульсы от клеток преобразуются в звуковые сигналы. Даже если нейрон неактивен, он время от времени говорит: “тр… тр…”, просто демонстрируя тем самым, что он жив.
Так прошел месяц экспериментов. Каждый день по много часов, иногда до утра, Хьюбел и Визель сидели в лаборатории со своей кошкой и каким-нибудь очередным ее нейроном, меняя стеклышки в офтальмоскопе в попытках подобрать для этого нейрона подходящий стимул. И вот однажды, через девять часов записи, нервная клетка зрительной коры впервые разразилась пулеметной очередью импульсов: “Тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр!!!”
Это произошло не тогда, когда Хьюбел и Визель подобрали стеклышко с правильно расположенной точкой. Это случилось, когда они меняли одно стеклышко на другое. Край стеклышка отбросил тень. На сетчатку спроецировалась темная прямая линия. Это было именно то, чего хотела клетка зрительной коры.
Обнаружив эту тень от стеклышка, Хьюбел и Визель начали целенаправленно предъявлять кошке уже не отдельные точки – как выяснилось, не очень‐то интересные для нейронов на этом иерархическом уровне, – а линии разной ориентации. И сразу выяснилось, что наклон тоже критически важен. Клетка разряжается пулеметной очередью импульсов, когда кошке показывают темную вертикальную линию на светлом фоне (или вертикально проходящую границу между светлой и темной частью экрана). Та же клетка реагирует слабее, когда линия почти вертикальна, но наклонена (как часовая стрелка в 11 часов). Она абсолютно безучастна, если стрелка показывает на 10 часов. Зато где‐то рядом есть другая клетка, которая ценит именно линии, наклоненные таким образом, равнодушна к вертикальным и почти равнодушна к горизонтальным.
Смысл здесь в том, что клетка зрительной коры обобщает информацию от многих соседних клеток с off– или on-центрами. Это проще объяснить, если мы рассмотрим границу между светлой и темной половиной экрана.
Представьте, что у нас есть клетка с on-центром (то есть активная при виде светлого пятнышка на черном фоне). Если она анализирует информацию только от светлой части экрана и все подконтрольные ей фоторецепторы сетчатки получают свет, то она будет малоактивна – нет темной периферии, в которой клетка заинтересована. Рядом есть другая клетка с on-центром, которая анализирует только сигналы с темной стороны. Для нее условия работы тоже не оптимальны: темный фон есть, а светлых точек нет. Она тоже будет малоактивна. А еще у нас есть третья и четвертая клетки, у которых ситуация интереснее: их рецептивные поля попадают на границу между светом и тьмой. Здесь все зависит от того, с какой стороны они туда наползают и насколько сильно.
Если центр рецептивного поля полностью затемнен, а периферия (хотя бы частично) освещена, то это вообще подавит активность клетки с on-центром, это самая неестественная для нее ситуация, она совсем замолчит. И наконец, у четвертой клетки центр рецептивного поля освещен, а периферия (хотя бы частично) затемнена. Это оптимальные условия для ее работы, и активность ее будет максимальной. А связи между нейронами выплетены таким образом, чтобы клетка коры возбуждалась именно тогда, когда у одних ее подконтрольных клеток активность есть, а у других нету. Они, в свою очередь, получают информацию от фоторецепторов, расположенных рядом друг с другом в какой‐то конкретной области сетчатки. Соответственно, когда все сходится, клетка зрительной коры говорит: “Ага! Паттерн активности именно такой, как если бы тут проходила вертикальная граница между светлым и темным!” Ну вот конструктивно вся сеть выплетена так, чтобы она возбуждалась именно в этот момент.
А дальше – вы уже догадались – есть нейроны следующего уровня иерархии. Они обобщают информацию от многих клеток, которые зарегистрировали линии, расположенные под разными углами. Это позволяет сложить из линий, например, квадрат или букву М (а поскольку все нейронные сети укрепляются, если их постоянно использовать, то букву М большинству читателей этой книги распознать проще, чем букву מ). А параллельно в других таких же сетях происходит обработка цвета, движения, глубины[253]. Принципиально важно здесь то, что зрение совсем не похоже на фотографирование. Мы разбираем информацию на отдельные признаки, обрабатываем их независимо, а потом собираем картинку заново.
Может показаться, что больше всего это похоже на компьютерный алгоритм. На входе нужна определенная комбинация активирующих и подавляющих сигналов (нулей и единиц), чтобы клетка выдала собственный сигнал (ноль или единицу). Но в мозге все немного хитрее, потому что, как правило, важен не единичный сигнал, а частота импульсов. Базовые принципы этой архитектуры (во всяком случае, когда мы говорим о ранних этапах обработки зрительного сигнала) заданы генетически и формируются еще до рождения, но понятно, что индивидуальный опыт влияет на тонкие настройки системы, потому что усиливает одни синапсы и ослабляет другие. Помните котят, которые лишились способности видеть вертикальные или горизонтальные линии, потому что ничего такого не было в их жизненном опыте во время критического периода развития зрительной системы?
Во всяком случае, аналогия с компьютерным алгоритмом интересна тем, что на самом деле все наоборот. Это компьютерные алгоритмы похожи на работу зрительной системы и в значительной степени ее исследованиями и вдохновлены. Есть целая группа математических алгоритмов (и приборов, которые работают на их основе), которая вот прямо так и называется – нейросети. Именно потому, что у них такой же принцип работы: функциональный элемент собирает входящие сигналы и выдает или не выдает свою реакцию в зависимости от того, какие именно сигналы на него поступили. Конструктивно ближе всего к нашей зрительной системе свёрточные нейронные сети[254], которые, собственно, и предназначены в первую очередь для распознавания изображений. Сегодня разрабатывают такие алгоритмы для распознавания лиц, рукописного текста, электроэнцефалограмм и множества других важных вещей. Справляются они пока что хуже, чем живые люди, – ну так у них и функциональных элементов намного меньше. И развиваться они начали на сотни миллионов лет позже, чем наша прекрасная нервная система.
Двустороннее движение информации
Легко и приятно изучать зрение, когда ваше подопытное животное смотрит туда, куда вам нужно, и видит там одну-единственную линию с заданным наклоном. В реальной жизни мы постоянно переводим взгляд с одного участка пространства на другой, нас окружает огромный сложный мир, а наши возможности к обработке информации хотя и велики, но далеко не безграничны. Стимулы конкурируют за возможность пробиться на каждый следующий уровень иерархии, а помогают им в этом нисходящие сигналы. Психологи используют для их описания такие слова, как “внимание”, “ожидания” и “предшествующий опыт”. Нейробиологи используют более красивые термины, например “иерархическое предиктивное кодирование”, – эта модель предполагает, что нейроны более высокого уровня иерархии стремятся предсказать, какой именно сигнал придет к ним снизу, и оценивают уровень расхождения между ожиданием и реальностью[255],[256]
В основном я буду рассказывать, как изучают эти процессы в экспериментах с людьми. Но сначала все же хочу упомянуть одно старинное исследование с электродами, вживленными в мозг обезьян: это одновременно позволит мне закончить разговор о зрительной коре и выстроить мостик к обсуждению нисходящих потоков информации.
Мы с вами остановились на обсуждении первичной зрительной коры, или V1, которая улавливает ориентацию линий (на самом деле не только, в ней тоже есть разные слои с разными задачами, но все равно речь идет о простых отдельных признаках). Она находится в самой задней части мозга. После нее информация обрабатывается еще в нескольких отделах затылочной коры, но почти сразу делится на два потока: один из них отправится в теменную кору, которая будет отвечать на вопрос “где?” (куда движутся объекты, как они расположены относительно друг друга, как согласовать эту информацию с движениями глаз и конечностей), а второй отправится в височную, чтобы ответить на вопрос “что?” (финальная задача – распознавание объектов).
Зрительная кора V4 – это часть пути, отвечающего на вопрос “что?”. Она умеет распознавать простые геометрические фигуры. Играет ключевую роль в восприятии цвета. А еще ее нейроны умеют изменять свою активность в зависимости от того, на что направлено внимание хозяина.
Это выяснили в 1985 году Джеффри Моран и Роберт Десимон. Они записывали активность единичного нейрона в зоне V4 и определяли для начала, на какие стимулы этот нейрон реагирует. Например, могло оказаться, что он реагирует на любые красные прямоугольники, но совершенно равнодушен к зеленым. Кроме того, исследователи определяли, в какой части экрана эти фигуры должны находиться, чтобы попасть в рецептивное поле этого нейрона (то есть быть исходно воспринятыми той частью клеток сетчатки, от которой информация стекается именно туда).
И вот что происходит[257]. Пока обезьяна ничем не занята, ее нейрон интенсивно реагирует на красный прямоугольник. Если ей дать задание, в котором нужно обращать внимание на красный прямоугольник, то, естественно, происходит то же самое. Но вот если ей дать задание, в котором нужно реагировать на зеленый прямоугольник, расположенный по соседству, то активность нейрона, распознающего красные прямоугольники, резко падает, хотя сам красный прямоугольник никуда не делся.
Такие же эффекты можно наблюдать, если вживлять электроды в нижнюю височную кору (еще более высокий уровень иерархии). А вот если вживлять их в первичную зрительную кору, то там внимание ни на что не влияет: V1 честно обрабатывает все, что способна обработать.
У нейрона зрительной коры V4 большое рецептивное поле, то есть в него спокойно помещаются одновременно и красный, и зеленый прямоугольники (информация уже прошла много раундов обобщения; это вам не ганглиозная клетка сетчатки, которая обычно работает с маленьким участком поля зрения). Но все‐таки рецептивное поле конкретного нейрона охватывает не весь экран, на который смотрит обезьяна, а только его часть. И вот эти эффекты – подавление реакции на красный прямоугольник, когда нужно обращать внимание на зеленый, – наблюдаются только тогда, когда оба прямоугольника расположены именно в рецептивном поле этого нейрона. А вот если зеленый прямоугольник, на который должна обращать внимание обезьяна, расположен за границей исследуемого рецептивного поля, то тогда он никак не мешает нейрону по‐прежнему реагировать на красные прямоугольники.
То есть мозг отсекает нерелевантную информацию, чтобы на нее не отвлекаться. Какие‐то другие нейроны зрительной коры V4 тоже получают информацию от тех же клеток сетчатки, но настроены на распознавание зеленых прямоугольников. И если для обезьяны как целого организма зеленые прямоугольники в этой части пространства важнее красных (именно за их обнаружение ей дают глоток воды, а она хочет пить), то ее нейрон, отвечающий за то, чтобы выявлять в этой части пространства красные прямоугольники, затыкается. Чтобы не отсвечивать и не конкурировать. Мне кажется, это очень крутая история.
(Не знаю, кажется ли вам так же. Наверное, да, раз уж вы не оставили чтение еще в момент знакомства с NMDA-рецепторами. Но вообще, конечно, понятно, что если вы не биолог по образованию и у вас не прошиты в долговременной памяти все вот эти нейроны, рецептивные поля и зрительная кора V4, то вам требуется заметно больше усилий, чтобы об этом думать. Спасибо за ваш читательский подвиг. Это очень интересная тема – как предшествующий опыт влияет на легкость обработки новой информации. Мы к ней скоро вернемся.)
Но, конечно, самые яркие и наглядные примеры того, как нисходящие сигналы влияют на восприятие информации, мы получаем из повседневного опыта или психологических экспериментов. Вот только что, час назад, я была в “Макдоналдсе” на Шаболовке[258] и отметила, что там на стене над лестницей нарисована крупная схема размещения электродов для ЭЭГ. Прошла еще несколько ступенек, задумалась, удивилась: зачем она там? Немного неожиданный выбор элемента дизайна для кафе, согласитесь. Вернулась, пригляделась к картинке. Оказалось, что на этой схеме у человека еще и лишний нос на затылке. Потом проанализировала другие картинки на стенах, распознала в одной из них фиш-ролл и только тогда поняла, что художники-оформители, скорее всего, имели в виду чизбургер. Но согласитесь, что первой приходит в голову более очевидная и привычная трактовка?
Вообще понятно, что чем лучше люди знакомы с каким‐то объектом, тем проще им выделить его среди информационного шума, – особенно в том случае, если воспоминания эмоционально окрашены (шапочка для ЭЭГ, конечно, вызывает у меня гораздо больше эмоций, чем чизбургер). Демонстрации этого эффекта, например, посвящена очень милая статья о том, как сплетни о людях влияют на восприятие их лиц[259]. Участникам сначала демонстрировали фотографии людей с нейтральным выражением лица, сопровождая их информацией о том, что сделал этот человек. Он мог сделать что‐то плохое (“ударил ребенка”), хорошее (“читал вслух жителям дома престарелых”), нейтральное (“спросил преподавателя, есть ли у него карандаш”). После этого участники по 10 секунд смотрели одним глазом на фотографию человека, а другим – на фотографию домика. Это называется бинокулярная конкуренция. Как правило, люди воспринимают обе картинки одновременно только небольшую часть времени, а в основном видят лицо и домик поочередно, причем переключение между ними в значительной степени происходит непроизвольно. Испытуемые сообщали, видят ли они сочетание объектов или какой‐то один из них, удерживая соответствующую кнопку на клавиатуре. Выяснилось, что лицо человека, сделавшего что‐то плохое, отчетливо предстает в их поле зрения в среднем на 4,86 секунды, сделавшего хорошее или нейтральное – на 4,34, а новое лицо – на 4,31 секунды.
Но я еще должна объяснить, почему шапочка для ЭЭГ эмоционально значима. Ну, во‐первых, у меня был про ЭЭГ бакалаврский диплом, а я в те времена вообще не хотела заниматься никакими исследованиями и считала дни до того момента, когда меня уже выпустят и можно будет пойти заниматься научной журналистикой. Во-вторых, теперь, когда я уже провела в научной журналистике десять лет (и думаю, наоборот, как бы пойти заняться исследованиями), я осознаю, что ЭЭГ – это очень классная штука. Вот мы с вами уже говорили, что фМРТ позволяет довольно точно понять, где именно в мозге происходит какой-нибудь процесс, но совершенно не позволяет понять когда: временнóе разрешение в лучшем случае в районе секунды, а мозг работает гораздо быстрее. ЭЭГ, наоборот, предоставляет крайне размытую информацию о том, в какой части мозга происходят интересующие нас события, но зато с очень высокой точностью, буквально до миллисекунд, позволяет понять когда. (Понять и то и другое одновременно позволяют только вживленные электроды, но этические комитеты университетов не разрешают вживлять их людям без медицинских показаний.) И вот, хотя ЭЭГ и отражает суммарную активность большого количества нейронов, но и в интересующих нас процессах восприятия тоже участвует большое количество нейронов, так что из нее можно вытащить довольно много интересных данных – например, обнаружить различия, связанные с тем, насколько хорошо ваши испытуемые знакомы с объектами, на которые они смотрят.
Для подготовки такого эксперимента[260] требуется найти 40 изображений совершенно неизвестных вещей. Людям предлагали запомнить название каждой штуковины и сообщали, настоящая она или придуманная. О половине предметов больше ничего и не говорили, а о второй половине рассказывали, что это вообще такое и для чего оно нужно (“калимат – разновидность инкубатора для яиц, поддерживающая постоянную температуру и влажность и позволяющая получать потомство быстрее”). Кроме того, было еще 20 повседневных, хорошо знакомых предметов.
Во время тестирования от людей не требовали вспоминать подробности про инкубатор. Они должны были только сообщить, повседневный это объект или только что выученный, существующий в реальности или придуманный, назвать его имя. Исследователей интересовало, что происходит в это время на электроэнцефалограмме. Конкретно они смотрели на две волны: P1 (появляется через 100 миллисекунд после предъявления стимула, отражает обработку изображения в высших отделах зрительной коры) и N400 (появляется через 400 миллисекунд после предъявления стимула и связана с семантической обработкой информации[261]). Выяснилось, что степень знакомства с изображением влияет и на ту, и на другую.
Амплитуда волны N400, связанной с пониманием значения слов, была тем больше, чем лучше человек был знаком с предметом. Существенно здесь, что ни о каких свойствах предмета его не расспрашивали, то есть не было никакой нужды специально доставать из головы все знание о нем, но все равно (по‐видимому) увеличение N400 показывает, что эта информация оказывается готовой к использованию. Еще более интересно, что амплитуда волны P1, связанной с обработкой зрительной информации, наоборот, возрастала в случае слабого знакомства с объектом, что отражает, по‐видимому, степень усилий, затрачиваемых на его распознавание (эту версию дополнительно подтвердили, показав, что P1 возрастает еще сильнее, если показывать размытые изображения, причем особенно сильно для тех предметов, о которых предоставляли меньше информации). И вот это уже очень важно, потому что показывает существование того самого нисходящего потока информации, в котором абстрактное знание, хранящееся где‐то высоко, влияет на ранние, относительно низкоуровневые этапы обработки информации. То, что нам известно об объекте, влияет на то, как мы его видим. Изменяет шансы вообще его заметить и узнать.
Другая яркая иллюстрация того, как нисходящие потоки информации влияют на распознавание зрительных образов, – это эксперименты, в которых анализируется влияние контекста. Это похоже на статистическое обучение, о котором мы говорили в связи с освоением языка: мы обычно встречаем фен в ванной, а дрель – на верстаке с инструментами, и поэтому, когда мы видим боковым зрением какой‐то небольшой инструмент с ручкой, мы скорее посчитаем его феном или дрелью в зависимости от окружающей обстановки. Нейробиолог Моше Бар, который исследовал нашу склонность видеть на размытой картинке тот предмет, который лучше всего соответствует контексту[262] (в том числе на примере фена), подчеркивает, что обработка изображений требует активации гиппокампа и парагиппокампальной извилины. Мы все время сопоставляем все увиденное с теми образами, которые уже хранятся в памяти, опираемся на собственные ожидания и предсказания, и обычно это очень выгодно, потому что позволяет воспринимать комплексную и сложную окружающую реальность очень быстро и эффективно – или, по крайней мере, пребывать в приятной иллюзии, что мы воспринимаем ее так.
Психологических экспериментов, посвященных тому, как знание о мире влияет на зрительное восприятие, проведено огромное количество[263], но при этом многие из них нещадно критикуются[264], главным образом за то, что их методика не позволяет оценить, действительно ли изменилось именно зрительное восприятие или только истолкование этих данных самим человеком. Например, если человек должен докинуть до мишени тяжелый шар, то он оценивает расстояние до нее более пессимистично, чем если шар у него легкий; но если подчеркнуть в задании, что он должен игнорировать субъективные факторы и оценить настоящее расстояние, то этот эффект исчезает[265].
Я склонна думать, что нисходящему влиянию могут подвергаться не только наши трактовки, но и зрительное восприятие как таковое (это лучше согласуется с нейробиологическими экспериментами). Но, честно говоря, мне кажется, что это вообще не очень важный вопрос. Это как разговоры о свободе воли. Люди, которые ей интересуются, постоянно вспоминают знаменитые эксперименты Бенджамина Либета, который показал[266], что готовность совершить движение видна на энцефалограмме раньше, чем человек осознает свое намерение его совершить. Это, по мысли интерпретирующих, должно вызывать ужас. Вот, говорят они, мозг сам все решает, а “мы”, что бы это ни значило, только пассивно следуем его диктатуре. Но минуточку. С какой стати префронтальная кора – это вы, а моторная кора – это не вы? Какая разница по большому счету, в какой части мозга принято решение, если результат тот же самый? Ну то есть для нейробиологов есть разница, конечно, они это изучают, но для нас, мирных обывателей, главное – общий принцип. А он в любом случае сводится к тому, что каждое решение принимается в результате диалога между разными отделами мозга, что оно подвержено влиянию множества факторов, они оказываются различными для разных людей, и что притча про слепцов, ощупывающих слона и неспособных договориться о природе существа, с которым они столкнулись (потому что один получил информацию о хвосте, второй о ноге, третий о хоботе), на самом деле неплохо описывает почти любую ситуацию взаимного непонимания, с которым мы сталкиваемся в жизни. Люди, которые с нами не согласны, чаще всего не плохие и не глупые; просто у них мозг воспринял реальность как‐то иначе.
Сознательное управление потоками информации
Мы с вами все это время крутились вокруг исследований зрительного восприятия. Но взаимное влияние восходящей и нисходящей информации полезно учитывать и тогда, когда мы говорим о более абстрактных вещах. Например, о памяти и обучении.
Я уже много рассказывала вам про кратковременную[267] и долговременную память с точки зрения синаптических связей. А на самом деле эта классификация интересна тем, что это самый широкий и надежный мост через овраг, разделяющий нейробиологию и экспериментальную психологию. С кратковременной и долговременной памятью уже полтора века работают экспериментальные психологи, это именно они изучили ее свойства вдоль и поперек, а потом уже пришел Кандель и объяснил, что при этом в мозге происходит.
Вот вокруг нас есть внешний мир. На какие‐то события в этом внешнем мире мы направили свое внимание. Вследствие этого мы взяли их в кратковременную память. Это очень узкий шлюз между внешним миром и нашим знанием о нем; у кратковременной памяти очень маленькая пропускная способность. Не только, как следует из названия, во времени (мы сохраняем там информацию в течение нескольких секунд, если только не начали целенаправленно и сознательно крутить ее в голове) – но и с точки зрения объема. Мы можем удерживать там примерно четыре объекта. Ну семь. Ну семь плюс-минус два. Смотря какие объекты и смотря какие мы. Дальше некоторая часть информации (эмоционально значимая или целенаправленно повторяемая) переходит в долговременную память, где может сохраниться уже надолго, чуть ли не навсегда. Хотя вообще‐то может и тоже потеряться, особенно в ближайшие часы, если мы ее не повторили несколько раз (вы уже всё понимаете: снова прогнав импульсы по тем же самым нейронным контурам и тем самым сообщив мозгу, что да, эта информация важна, мы будем для нее синтезировать белки и выращивать синапсы). Существенно здесь то, что два ранних отборочных этапа – внимание и кратковременная память – в свою очередь, находятся под очень сильным влиянием того, какая долговременная память у нас уже есть.
В середине 1960‐х шахматист и психолог Адриан де Гроот показал, что профессиональным игрокам может хватить всего пяти секунд, чтобы запомнить расстановку фигур на шахматной доске, даже когда их там много. Это возможно благодаря тому, что они не оценивают положение каждой фигуры по отдельности – они видят общую картину и обращают внимание на взаимодействие между атакующими и обороняющимися. А главное, профессиональные шахматисты уже хранят в своей долговременной памяти большое количество известных комбинаций. Поэтому в ситуации, когда новичок пытается (безуспешно) удержать в голове 22 фигуры, профессионалу достаточно подумать, например, так: “Это похоже на одну из задач Лобусова, но только черная ладья на a1, а белая пешка на b2” – и, соответственно, удерживать в рабочей памяти всего три смысловые единицы.
А. Я. Лобусов. “Шахматы в СССР” (1983), 1‐й приз.
Белые начинают и ставят мат в три хода
В 1973 году другой известный исследователь памяти, Уильям Чейз, воспроизвел этот эксперимент с одним важным изменением: люди запоминали либо эпизоды настоящих шахматных партий, либо случайным образом перемешанные фигуры на доске[268]. Если люди смотрят на настоящую шахматную партию, то новичок за первые пять секунд запоминает положение четырех фигур; любитель – восьми; профессионал – пятнадцати. Для того чтобы воспроизвести всю расстановку, профессионалу нужно посмотреть на доску четыре раза по пять секунд, любителю – семь раз, для новичка семи попыток недостаточно, хотя он тоже уже близок к правильному результату.
Но вот если они видят случайно расставленные фигуры, то результаты новичка и любителя оказываются лучше результатов профессионала. После того как люди посмотрели на доску пять раз по пять секунд, новичок правильно воспроизводит положение 17 фигур, а памяти профессионала оказываются подвластны только 12. В данном случае склонность к поиску осмысленных комбинаций только мешает. Не ищите логику там, куда ее не клали.
Чуть позже Уильям Чейз решил посмотреть, до каких пределов можно натренировать рабочую память. Это он делал вместе с Андерсом Эрикссоном, тем самым психологом, чье исследование студентов-скрипачей[269] легло в основу модной идеи про 10 000 часов практики, которые превратят любого человека в профессионала. Сам Эрикссон потом много раз объяснял, что это среднее значение, причем для двадцатилетних исполнителей (то есть им предстоит еще много практиковаться во взрослой жизни), что практика практике рознь и так далее. Но идея так всем понравилась, что ее распространение было уже не остановить. И все же мы любим Чейза и Эрикссона не за это – мы любим их за исследование студента-психолога, вошедшего в историю под инициалами S. F. Есть подозрение, что на самом деле его звали Стив Фэлон (и он был соавтором статьи про себя), потому что если он даже не был соавтором, то совсем непонятно, как его убедили приносить такие огромные жертвы ради науки[270],[271]. В течение 20 месяцев он 3–5 раз в неделю приходил в лабораторию и каждый раз проводил час за высокоинтеллектуальным и увлекательным занятием: запоминал случайные последовательности цифр. Ему называли какие‐то цифры, например: 3, 4, 9, 2, 8, 9, 3. Он должен был их повторить. Попробуйте тоже. Если у вас получилось, то в следующий раз последовательность будет на одну цифру длиннее. Если не получилось – на одну цифру короче.
Сначала S. F. был способен удержать в своей рабочей памяти около 7 цифр. Но потом это число начало расти. И расти. И расти. В конце периода тренировок он мог воспроизводить последовательность из 79 цифр, которую услышал один раз.
Означает ли это, что у S. F. улучшилась рабочая память? Как ни парадоксально, нет. Во-первых, когда исследователи тестировали его, используя не цифры, а какие-нибудь другие стимулы (например, согласные буквы), он по‐прежнему запоминал 6–7 единиц информации, как и любой нормальный человек. Во-вторых, и это самое главное, он и в случае с цифрами держал в рабочей памяти те же самые 6–7 единиц информации. Просто каждая из этих единиц была комплексной. Включала в себя много цифр.
S. F. серьезно увлекался бегом – и как спортсмен, и как болельщик. На первом этапе обучения его прогресс был связан с тем, что он ассоциировал цифры с какими‐то конкретными беговыми рекордами, которые уже хранились в его долговременной памяти. Когда он слышал “3492”, он не запоминал четыре цифры. Он успевал подумать: “3 минуты и 49,2 секунды – приблизительно мировой рекорд бега на милю” – и дальше помнил одну единицу информации, мировой рекорд. Для тех последовательностей, которые не соответствовали никаким рекордам, он представлял что-нибудь другое, например возраст человека (893 – 89 лет и 3 месяца) или дату (1944 – война почти закончилась). Первый скачок в обучении был связан именно с тренировкой способности быстро подбирать ассоциации для любых сочетаний цифр. Второй скачок – с тем, чтобы научиться группировать несколько таких единиц. Таким образом, 34928931944 превращались у S. F. в единый образ “мировой рекорд бега на милю, установленный очень старым человеком в конце мировой войны”, а дальше он аналогичным образом группировал следующие цифры, которые ему называли.
Используя такие приемы, вы тоже можете натренироваться запоминать 79 цифр, чтобы поражать этим знакомых на вечеринках. Но лучше уловить общий принцип. Наши способности к обработке информации ограничены, но резко расширяются, если мы можем опереться на какие‐то знания, которые уже записаны в долговременной памяти. Собственно, именно это и отличает профессионалов от новичков: у них разная эффективность работы с потоком информации. У профессионала больше шансов сфокусироваться на самом важном, и так происходит именно потому, что он тратит меньше ресурсов на обработку того, что ему уже и так известно.
В социологии есть такая метафора – эффект Матфея, названный в честь того самого апостола: “Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет” (Мф. 25:29). Чем больше славы, тем больше славы: продать третью книжку несопоставимо проще, чем первую, даже если она жутко занудная. Чем больше денег, тем больше денег: их излишек не только растет на вкладах, но и позволяет совершать какие‐то более выгодные покупки, допустим платить за интернет на год вперед с большой скидкой. Чем больше знаний, тем больше знаний, тут совершенно то же самое: если вы уже умный и у вас уже много всяких концепций записано в долговременной памяти, то вам будет требоваться намного меньше усилий на освоение новой информации, ведь в ней так или иначе есть параллели с тем, что вам уже известно[272]. Жизнь несправедлива, но если понимать, как именно она несправедлива, то этот маховик можно раскрутить в правильном направлении.
Глава 8 Внутренний конфликт – основа принятия решений
Один человек страдал от тяжелой депрессии и решил покончить с собой выстрелом в голову из арбалета. Ему повезло: он выжил. Ему повезло дважды: он разрушил себе вентромедиальную префронтальную кору, но сохранил дорсолатеральную.
В третьей главе я рассказывала вам, что усиление активности дорсолатеральной префронтальной коры помогает бороться с депрессией. Такого же эффекта, в принципе, можно добиться, если повредить ее антагониста, вентромедиальную префронтальную кору[273]. Человек с арбалетом, как с некоторым подспудным неодобрением пишут исследователи, после травмы стал “безразличным к своей ситуации и неуместно радостным”. Другая пациентка, у которой тоже была депрессия, попытка самоубийства и последовавшее в результате разрушение вентромедиальной префронтальной коры, также отмечала “полное исчезновение грусти и суицидальных мыслей”. Пожалуйста, не пытайтесь повторить это дома.
Вентромедиальная префронтальная кора получает информацию от подкорковых эмоциональных центров, в частности от амигдалы, обрабатывает ее и сообщает старшим товарищам – стоящим выше в иерархии областям ассоциативной коры, – насколько хороша или трагична жизнь. Более обстоятельные исследования пациентов с повреждениями вентромедиальной префронтальной коры демонстрируют, что нарушение обработки информации о собственных эмоциях довольно причудливым образом влияет на стратегию принятия решений.
Вот представьте гипотетическую ситуацию. Грейс и ее подруга совершают экскурсию по химическому заводу. В перерыве Грейс идет за кофе, подруга просит принести ей тоже, с сахаром. Рядом с кофемашиной стоит контейнер с белым песком, на нем написано “сахар”. Грейс насыпает из него две ложки в кофе, приносит подруге, но оказывается, что в контейнере на самом деле был яд, по ошибке оставленный заводскими технологами в коробке из‐под сахара на видном месте. Подруга умирает. Оцените по семибалльной шкале, в какой степени поведение Грейс было морально приемлемым.
Антонио Дамасио и его коллеги придумали множество историй, построенных по схеме “благие намерения – трагический исход”, и предлагали их трем группам испытуемых: здоровым людям, людям с повреждениями вентромедиальной префронтальной коры и людям с повреждениями других отделов мозга (не связанных с эмоциями)[274]. Все группы оценили поведение Грейс и других участников подобных историй в среднем на три балла (1 балл означает “морально неприемлемо”, 7 баллов – “морально приемлемо”). Грейс неосторожна, но не повинна в убийстве.
Ученые использовали и другую схему построения рассказов. На этот раз Грейс видит рядом с кофемашиной контейнер с белым песком и с надписью “Токсично!”. Грейс читает надпись и решает добавить пару ложек яда в кофе подруги. Но оказывается, что на самом деле в контейнере был сахар. Подруга выпивает кофе, и у нее все хорошо. Оцените по семибалльной шкале, в какой степени поведение Грейс было морально приемлемым.
В этой ситуации оценки испытуемых разошлись. Люди без повреждений мозга (или с повреждениями, но не в том отделе, который интересовал ученых) считают, что нельзя добавлять в кофе яд, думая, что это яд, даже если в итоге все закончилось благополучно, и осуждают Грейс сильнее, чем в первом случае. Люди с повреждениями вентромедиальной префронтальной коры, напротив, присудили Грейс и другим подобным героям в среднем 5 баллов из 7 по шкале приемлемости. То есть осудили Грейс меньше, чем в первом случае. Всё же в порядке. Подруга жива.
В другом похожем исследовании[275] Дамасио и его коллеги предлагали людям три разновидности ситуаций, в которых нужно принимать решения. Первая группа была вообще никак не связана с моралью. Например, вы фермер и собираете репу. Ваш комбайн для сбора репы подъезжает к развилке. На левом поле вы сможете собрать 10 бушелей репы, но если вы повернете на правое поле, то там получится собрать 20 бушелей репы. Должны ли вы повернуть направо?
Вторая группа историй была связана с моралью, но к ним все же можно было относиться отстраненно. Например, вы находитесь на ночном дежурстве в больнице. Из-за аварии в соседнем здании в вентиляционную систему больницы попал ядовитый дым. Если вы ничего не предпримете, то он попадет в палату, где спят три пациента, и все они погибнут. Единственное, что вы успеваете сделать, – повернуть переключатель в вентиляционной системе, чтобы дым ушел в другую палату. Но в этой палате тоже спит человек. Правда, всего один. Стали бы вы перенаправлять поток дыма?
Третья группа – истории, к которым относиться отстраненно уже сложнее. Вашему городу угрожает террорист. Он уже заложил бомбу в каком‐то людном месте и собирается ее взорвать. Ваша единственная возможность отговорить его от этого шага связана с тем, что вы захватили его сына-школьника. Вы можете обратиться к террористу по видеосвязи и перед камерой сломать руку его ребенку, угрожая сломать и вторую, если террорист не остановится. Стали бы вы ломать руку сыну террориста, чтобы предотвратить смерть множества людей?
Большинство людей склоняется к тому, чтобы собрать 20 бушелей репы. А также и к тому, чтобы спасти трех человек, пожертвовав одним (мы ничего про них не знаем, кроме количества, и никаких альтернативных решений у нас, по условиям задачи, нет). Что же касается третьей разновидности – персональных моральных дилемм, – то здесь только около 20 % людей соглашаются брать на себя такую ответственность. Остальные говорят: “Нет, я не буду этого делать”. Если только мы не говорим о группе испытуемых с повреждениями вентромедиальной префронтальной коры. Среди них на собственноручное насилие ради объективного общественного блага теоретически согласны около половины.
То есть повреждения вентромедиальной префронтальной коры делают человека более склонным к утилитаризму – направлению этики, предполагающему, что судить о поступках нужно по их результатам. Не очень важно, что Грейс хотела отравить подругу. Важно, что подруга осталась жива. Не очень важно, что вы сломаете руку ни в чем не повинному школьнику. Важно, что это поможет спасти много людей.
В принятии решений важны эмоции. Чтобы эмоции были важны, нам нужно их чувствовать и осознавать. Эту способность можно нарушить, и тогда воспринимаемая реальность будет выглядеть по‐другому.
Увидеть мир в красках
Кстати, о том, как выглядит реальность. Я так много рассказываю вам про работу зрительной системы, потому что именно на ее примере удобнее всего демонстрировать, что общие принципы работы мозга проявляются на всех уровнях его организации – не только при взаимодействии крупных отделов, но и при взаимодействии единичных клеток. Мы уже много говорили в прошлой главе о том, что разные аспекты информации обрабатываются в мозге независимо и только потом, где‐то высоко, снова сливаются в единую картину. И говорили о том, что мозг устроен иерархически, что высшие командные центры собирают много данных от нижних отделов, и вычленяют из них самое важное, и могут давать обратную связь. Но мы еще не делали акцент на важном свойстве нейронных сетей: разные сигналы постоянно конкурируют друг с другом. И это тоже удобно для начала проиллюстрировать на примере зрения, на этот раз поговорим о восприятии цветов.
Переходили ли вы сегодня дорогу на зеленый свет? Я очень рада, что вы всё еще живы. Это не такая простая задача, как кажется.
Мы способны различать цвета, потому что у нас есть три типа клеток-колбочек, реагирующих на свет с разной длиной волны. Школьный учебник называет их синими, зелеными и красными, а университетский – реагирующими на короткие, средние и длинные световые волны, или просто S-, M- и L-колбочками (от слов short, medium и long). Такие названия более корректны, потому что максимум чувствительности так называемых “красных” колбочек находится примерно в районе 560 нанометров, а это далеко не красный цвет, это переход от зеленого к желтому. Они способны улавливать настоящий красный, но реагируют на него не так уж интенсивно. И главное, что их спектр чувствительности очень сильно перекрывается со спектром чувствительности зеленых колбочек (чей максимум как раз находится в области настоящего зеленого цвета, в районе 530 нм). Это означает, что когда вам на сетчатку попадает световая волна длиной 545 нанометров (вполне зеленая), то на самом деле зеленые и красные колбочки реагируют на нее примерно одинаково интенсивно. “Вижу зеленый!” – говорят одни. “Вижу красный!” – говорят другие. “Так переходить или не переходить через дорогу?” – недоумевает мозг. Точнее, недоумевал бы, если бы на этом уровне обработки информации все и останавливалось.
Если честно, процесс распознавания цвета в зрительной системе еще не изучен во всех деталях[276],[277] Дело в том, что полноценное цветовое зрение, с тремя видами колбочек, вообще не очень характерно для млекопитающих: оно появляется только у приматов, а работать с ними дорого и сложно. По-видимому, сосуществует несколько механизмов обработки информации, и они могут отличаться для разных цветов и для разных участков сетчатки. И все же в первом приближении мы не ошибемся, если скажем, что ключевую роль играет именно конкуренция между красными и зелеными колбочками[278].
Представьте себе ганглиозную клетку сетчатки, которая должна сообщать вышерасположенным отделам мозга, что в поле зрения появился красный цвет. Если бы она делала это просто на том основании, что зарегистрировала возбуждение красных колбочек, то ее сигнал был бы неточным, потому что они реагируют и на длины волн, близкие к зеленому цвету. Поэтому она не отправит сигнал выше до тех пор, пока не сопоставит информацию, приходящую и от красных, и от зеленых колбочек. При этом связи между ней и подчиненными клетками выплетены таким образом, чтобы любая активность красных колбочек возбуждала ганглиозную клетку, а любая активность зеленых – наоборот, тормозила бы генерацию сигналов. Эта клетка так и называется: L – M, “длинные волны минус средние волны”. Она реагирует на сигналы от красных колбочек, но тогда и только тогда, когда они сильнее, чем сигналы от зеленых. Одновременно на сетчатке присутствуют и ганглиозные клетки типа M – L, которые ведут себя противоположным образом – возбуждаются тогда, когда зеленые колбочки точно присылают больше сигналов, чем красные. По-видимому, клетки с точно такой же задачей сопоставления сигналов, переданных от колбочек, присутствуют и выше в иерархии, в латеральном коленчатом теле таламуса, а обобщение информации от клеток L – M и M – L заканчивается уже совсем высоко, в зрительной коре.
По поводу того, кто на каком уровне находится, вы мне особенно не доверяйте (потому что в большинстве статей, которые я читала, написано что‐то вроде “у наших коллег получилось так, а у нас по‐другому, но точно мы не уверены”), но общая идея, скорее всего, верна: клетки L – M активны тогда, когда красные колбочки верещат громче, чем зеленые, а M – L – наоборот. Следующая задача мозга – сопоставить активность от нескольких таких клеток. Если клетки L – M присылают интенсивные сигналы, а M – L в то же время хранят молчание, то на светофоре красный цвет и дорогу переходить не надо. Если M – L активны, а M – L молчат, то цвет зеленый и переходить дорогу можно. Возможна и третья ситуация, когда и те и другие клетки активны примерно одинаково. Это просто означает, что цвет не красный и не зеленый. Тут уже надо добавить к анализу информацию от синих колбочек, а если и это не прояснит ситуацию, то опереться на предшествующий жизненный опыт, то есть на сигналы от гиппокампа и нескольких областей коры, которые сообщат нам, что это банан, а значит, он желтый, независимо от того, какую искаженную информацию посылает нам сетчатка, например из‐за цветной лампы в помещении.
Я рассказываю об этом, чтобы подчеркнуть, что сопоставление интенсивности сигналов в мозге – это не метафора, не упрощение, а осязаемая реальность, которая определяется тем, как выплетены нейронные сети, как отдельные синапсы отправляют активирующие или тормозящие сигналы, с какой частотой посылают импульсы возбужденные нервные клетки.
На уровне целого мозга изучением этих процессов занимается нейробиология принятия решений, она же нейроэкономика. В России ее активнее всего развивают в Высшей школе экономики. Курс лекций Василия Ключарева Introduction to Neuroeconomics есть на сайте онлайн-образования Coursera.org, так что вы можете его пройти, даже если живете на краю света. Я вам очень рекомендую это сделать; мне довелось слушать эти лекции вживую, и это было самое сильное впечатление от всех шести лет моего студенчества. Отличных преподавателей в моей жизни было очень много, но редко бывает, чтобы после нескольких лекций по нейробиологии вы на много лет сохраняли чувство, что поняли про жизнь Вообще Все. По крайней мере, все, что имеет значение.
Арифметика жизни
В Стэнфордском университете работает нейробиолог Брайан Натсон. Широкую известность он приобрел, когда в 2001 году показал, что активность прилежащего ядра (“центра удовольствия”) прямо пропорциональна количеству денег, которые заработал испытуемый в простенькой экономической игре[279]. Тогда же был отмечен другой важный результат: если испытуемый потерял деньги, то на активности его прилежащего ядра это не отражается. Она примерно такая же, как и в тех раундах, где испытуемый просто ничего не выиграл. Задача прилежащего ядра – регистрировать удовольствие, огорчаемся мы другими отделами мозга.
Например, островковой корой. Про нее я вам раньше не рассказывала, но вообще‐то это один из важных участков мозга, связанных с эмоциями, особенно с негативными, такими как отвращение и грусть. Натсон показал, что она активируется, когда вы узнаете, что товар, который вам понравился, дорого стоит, и принимаете решение отказаться от покупки[280].
Если честно, все товары предлагались с большой скидкой (чтобы исследователи были уверены, что испытуемые хоть что‐то купят), но и количество денег было ограниченно. Каждый из 26 испытуемых получил на руки 20 долларов, и именно на них мог покупать товары, лежа в томографе. Все, что он приобрел, ему потом отдавали на самом деле. Все сэкономленные деньги тоже оставались у человека. Ассортимент был широким, а вещи полезными: беспроводные наушники (10 $), MP3‐плеер (15 $), книжка “Фрикономика” (4 $), все книжки о Гарри Поттере (7 $), бокалы для мартини с логотипом Стэнфорда (2 $) и так далее. Человеку показывали фотографию и название товара, затем добавляли на экран еще и цену, и надо было принять решение о покупке – на каждый этап отводилось по 4 секунды.
Самые яркие изменения в работе мозга наблюдались в трех отделах: прилежащем ядре, островковой коре и медиальной префронтальной коре[281]. Активность прилежащего ядра росла при виде тех товаров, которые человек впоследствии покупал, и снижалась (по сравнению с паузами, когда человек ожидал появления нового товара) при виде тех товаров, которые он не покупал. Активность островковой коры повышалась при предъявлении цены любого товара, но достоверно сильнее – в том случае, если человек отказывался от покупки. Медиальная префронтальная кора, по‐видимому, нужна для того, чтобы сопоставлять радость от товара и недовольство его ценой: ее активность росла с момента предъявления информации о цене и до принятия решения о покупке для тех товаров, которые человек в итоге приобретал, и наоборот, все это время падала для тех товаров, от покупки которых он отказывался. Существенно, что все эти изменения были настолько выражены, что по любому из них можно было предсказать, купит ли человек в итоге этот товар или нет.
Прилежащее ядро – отдел простой: видит шоколадку да и радуется. Медиальная префронтальная кора – отдел сложный: учитывает дополнительную информацию. Этот тезис подтверждается еще в одном нейроэкономическом эксперименте Натсона[282]. Люди, лежа в томографе, две секунды смотрели на круг или квадрат, перечеркнутый двумя линиями. Потом, после небольшой паузы, им на очень короткое время (не больше 360 миллисекунд) показывали белый квадрат, и они должны были очень быстро нажать на кнопку. Потом им сообщали, справились ли они с заданием и какова их награда. Если они в начале видели круг, то это означало, что у них есть шанс получить настоящие деньги; если квадрат – то успешное выполнение задания означало, что у них хотя бы не отнимут те деньги, которые они уже заработали. Положение вертикальной линии (справа, в середине или слева) означало размер вознаграждения или штрафа (0 $, 1 $ или 5 $), а положение горизонтальной – вероятность его получения (20, 50 или 80 %).
В тех раундах, где человек ожидал получить деньги, активность прилежащего ядра пропорциональна размеру вознаграждения – как и в любых других аналогичных экспериментах. В то же время активность медиальной префронтальной коры была пропорциональна не только размеру, но и вероятности ожидаемого вознаграждения.
Авторы этой и всех других статей по нейроэкономике постоянно используют слово computation, вычисление. Это правда очень похоже на арифметику: есть размер вознаграждения, есть его вероятность, одно надо умножить на другое. Или есть товар и его субъективная ценность, есть его цена, надо одно с другим сопоставить. Если вы когда-нибудь сталкивались с трудным жизненным выбором и ходили обсудить его с когнитивно-поведенческим психотерапевтом (из всех направлений психотерапии это больше всего похоже на коучинг), то вы знаете, что там заставляют делать примерно то же самое: занудно расписывать все доступные варианты со всеми их потенциальными последствиями, на отдельном листочке расписывать ваши жизненные ценности, присваивать всем пунктам численные коэффициенты значимости, соотносить один список с другим, все перемножать и складывать и продолжать эти расчеты до того момента, пока оптимальное поведение не станет для вас очевидным, то есть математически обоснованным.
Интересно, что в реальной жизни мы обычно принимаем решения без бумажки и часто даже не слишком внимательно их обдумываем – но все равно можем вполне успешно опираться на результаты тех бессознательных вычислений, которые мозг осуществляет где‐то там у себя в подкорке, и доносит до сознания в виде эмоций (“нравится”, “не нравится”). В ранних психологических экспериментах, посвященных проблеме бессознательного взвешивания плюсов и минусов, даже удавалось показать[283], что стратегия “голосуй сердцем” может быть более выгодной, чем сознательное обдумывание, – в том случае, когда вы должны проанализировать так много характеристик, что все равно не можете удержать их все в рабочей памяти (например, должны выбрать лучшую машину из четырех, и для каждой предлагают 12 разных параметров оценки). Более свежие попытки воспроизвести эти результаты на больших выборках, как это регулярно случается в экспериментальной психологии, провалились[284], но не в том смысле, что показали преимущество рационального мышления, а в том смысле, что показали отсутствие принципиальной разницы между успешностью выбора тех, кто тщательно все обдумал, и тех, кому не дали возможности это сделать.
Чертик, ангелочек и их начальство
Вот конкретное исследование[285], из которого, как мне кажется, становится понятно про жизнь вообще все. У вас есть испытуемые. Они лежат в томографе и смотрят на разноцветные фигуры. Для каждой фигуры они должны принять решение: хотят они добавить ее себе в корзину или нет. У каждой фигуры есть преимущества и недостатки. Преимущества закодированы с помощью цвета: он определяет, сколько денег испытуемый сможет заработать (например, за коричневую фигуру ему дают от 2,40 до 2,80 евро, а за красную – всего лишь от 0,40 до 0,80). Недостатки закодированы с помощью формы: она определяет, сколько денег испытуемый рискует потерять (например, равносторонний треугольник принесет убытков не больше чем на 40 центов, а ромб – от 2 до 2,40 евро)[286]. Испытуемым, конечно, пришлось заранее выучить систему знаков, но это усилие, в общем, окупилось: каждому из них за время эксперимента в среднем удалось заработать 22,27 евро, не считая гарантированной для всех платы за участие в исследовании. Заработанные деньги им потом, конечно, отдавали на самом деле.
Что при этом видно на томограмме? Во-первых, что информация о плюсах и о минусах решения обрабатывается в мозге независимо. Активность прилежащего ядра пропорциональна цвету фигуры, то есть потенциальному выигрышу, и при этом, что важно, вообще никак не коррелирует с формой, то есть с потенциальным проигрышем. Для амигдалы картина противоположная: она остается спокойной, если ожидаются маленькие потери, и интенсивно отправляет импульсы, если форма фигуры указывает на крупный проигрыш. По активности этих отделов, по тому, кто из них голосит громче, возможно предсказать, будет ли человек соглашаться на эту фигуру или нет.
Кому амигдала и прилежащее ядро отправляют импульсы? Правильно, вентромедиальной префронтальной коре. И вот там картина еще интереснее. Ее активность зависит не от ожидаемой прибыли. Не от ожидаемого проигрыша. А от размера разницы между ними. Она в прямом смысле вычитает один сигнал из другого. А еще интенсивность ее работы отличается у разных испытуемых – и коррелирует с тем, насколько эффективно они принимают выгодные для себя решения.
Был и еще один интересный отдел, задействованный в этом задании, – внутритеменная борозда, часть ассоциативной коры в теменной доле. Особенность ее работы была в том, что она, наоборот, активировалась тем сильнее, чем меньше была ожидаемая разница между выигрышем и проигрышем, то есть – чем сложнее было принять решение. И ее активность была выше у тех испытуемых, которые справлялись с заданием лучше.
Я нежно люблю статью об этом эксперименте, потому что она иллюстрирует одновременно кучу важных вещей. Во-первых, независимую обработку сигналов и конкуренцию разных отделов за внимание высших вычислительных центров – в данном случае вентромедиальной коры. Во-вторых, я неслучайно использую, вслед за авторами исследований, арифметические метафоры – нейроэкономика действительно рассматривает процесс принятия решений как совокупность вычислительных операций, призванных сравнить аргументы в пользу разных опций. В-третьих, в этой статье нам встретилась внутритеменная борозда, и это важно. Она, как следует из названия, расположена в теменной доле, которую все постоянно игнорируют в популярных рассказах о нейроэкономике. Говорят только о лобной доле. Я тоже в основном буду делать так. Но знайте, что на самом деле решения обычно принимаются в результате взаимодействия лобной и теменной коры[287],[288]. Кстати, как раз на границе между ними (со стороны лобной доли) расположена моторная кора, а ведь по большому счету принимать решения нужно именно для того, чтобы их осуществлять с ее помощью – куда‐то бежать, кого‐то ловить, что‐то печатать.
К финальной стадии принятия решений мы еще вернемся, а пока говорим о процессе сопоставления альтернатив. В этой связи вентромедиальную кору обычно упоминают не в одиночку, а во взаимодействии с ее соседкой снизу, орбитофронтальной корой. Считается, что вместе они формируют то, что называется common currency, универсальная валюта, мера всех вещей[289],[290]. Вентромедиальная и орбитофронтальная кора учитывают одновременно все положительные и отрицательные последствия, независимо от их модальности, и сигнализируют старшим товарищам с помощью частоты импульсов, что вот эта опция суммарно хорошая, берем, а вот эта плохая, не берем. Этот процесс довольно хорошо изучен, и в том числе есть эксперименты, иллюстрирующие, как это может работать на уровне отдельных нейронов.
Что лучше – мятный чай или виноградный сок? Вода или несладкий лимонад? Клюквенный сок или молоко? Макаки-резус имеют устойчивое мнение по всем этим вопросам и быстро приучаются выбирать любимый напиток, фиксируя взгляд на его пиктограмме на экране компьютера. Но в то же время они в принципе хотят пить[291]. Поэтому если обезьяне предлагают на выбор один глоток кислого лимонада или обычной воды, то она уверенно выбирает воду. Если два глотка лимонада против одного глотка воды, то она все равно выбирает воду. С тремя глотками лимонада уже возможны варианты, зависит от того, насколько сильно она хочет пить, но обычно все‐таки воду. А вот если четыре глотка, то вероятность примерно 50 на 50. В случае пяти глотков преимущество уже на стороне лимонада, а если уж их шесть или больше, то лимонад побеждает обязательно. Кто же добровольно откажется от такого богатства?
Тем временем обезьяны не просто так выбирают напиток – в их орбитофронтальную кору вживлены электроды, и исследователи регистрируют, что происходит. А происходит важная вещь[292]. Там есть нейроны, которые работают наиболее интенсивно (отправляют по 30–40 импульсов в секунду) в тех случаях, когда выбор очевиден, и ослабляют свою активность (до 10–15 импульсов в секунду) в тех случаях, когда выбор не очевиден. То есть единственное, от чего в таком эксперименте зависит их работа, – это соотношение количества воды и несладкого лимонада. Они активны, когда обезьяне предлагают один глоток воды или один глоток лимонада (и она уверенно выбирает воду). Они точно так же активны, когда обезьяне предлагают один глоток воды или шесть глотков лимонада (и она уверенно выбирает лимонад). Они почти не посылают импульсов, когда обезьяне предлагают три или четыре глотка лимонада и она не уверена. Получается U-образный график, кривизна которого может отличаться для разных сочетаний напитков, но общий принцип сохраняется. То есть эти нейроны кодируют неравнозначность опций. Сигнализируют о том, что одна из них точно лучше, чем другая, а значит, надо брать.
А вот исследование, в котором применялись более разнообразные стимулы[293]. Макаки-резус сидели перед монитором. На мониторе ненадолго появлялись абстрактные картины. Каждая из трех картин означала, что вскоре произойдет либо маленькое приятное событие (обезьяна получит маленький глоток воды), либо большое приятное событие (большой глоток воды), либо неприятное событие (в мордочку обезьяне подует ветер). Животные быстро учатся ассоциировать картины и их последствия: в ожидании воды начинают высовывать язык навстречу пластиковой трубочке, из которой она подается, а в ожидании неприятного дуновения ветра – закрывают глаза. Интенсивность моргания можно померить с помощью айтрекера (он же окулограф – прибор для анализа движений глаз, важный инструмент когнитивных исследований), а чтобы зафиксировать движения языка, исследователи пропустили между ртом обезьяны и поилкой инфракрасный луч, как в тех детекторах движения, которые показывают в фильмах про незадачливых грабителей.
В орбитофронтальную кору обезьян были вживлены электроды – в общей сложности исследователи регистрировали возбуждение 217 нейронов. После того как обезьяне показывали картинку, 86 из них начинали интенсивно работать в ожидании того, что за этой картинкой последует. При этом половина нейронов демонстрировала максимальную активность в ожидании большой награды, промежуточную активность – в ожидании награды поменьше и совсем слабую – в ожидании неприятного потока воздуха. Вторая половина найденных нейронов, наоборот, отправляла импульсы с наибольшей частотой, когда животное предчувствовало неприятности, и с наименьшей – в предвкушении большой награды.
Посреди эксперимента исследователи изменяли кодировку. Абстрактная картина в черно-зеленых тонах, которая раньше предвещала большой глоток воды, теперь предупреждала о дуновении ветра. Абстрактная картина в коричнево-желтых тонах, предупреждавшая раньше о дуновении ветра, сообщала о предстоящем глотке воды. Нейроны быстро подстраивались под новую реальность: тот, кто раньше отправлял больше всего импульсов при виде черно-зеленой картины, начинал делать то же самое при виде коричнево-желтой, и наоборот. Собственно, то же самое делала и целая обезьяна: раньше облизывалась при виде одной картины и моргала при виде другой, потом наоборот.
Что здесь важно? Во-первых, нейроны кодируют именно ценность будущего вознаграждения (а не цвет картины). Во-вторых, одна и та же клетка анализирует и приятные, и неприятные события. В-третьих, одна и та же клетка анализирует события разной физической природы (воду и ветер). В-четвертых, характер активности этих клеток совпадает с тем, что делает вся обезьяна.
Понятно, что орбитофронтальную кору не обходят вниманием и те нейробиологи, которые работают с людьми. У людей есть важное преимущество: им можно задавать вопросы или давать более сложные задания. У людей также есть важный недостаток: им нельзя вживлять электроды, руководствуясь только исследовательским интересом. Но бывает, что электроды им вживляют тогда, когда люди все равно готовятся к нейрохирургической операции, связанной с лечением эпилепсии. Это не позволяет, как в случае с обезьяной, прицельно искать нейроны, занимающиеся именно оценкой альтернатив, но по крайней мере, когда вы стимулируете те нейроны, которые нужно стимулировать по медицинским показаниям (для уточнения границ эпилептического очага перед предстоящей операцией), вы можете расспросить пациента о его ощущениях.
В случае орбитофронтальной коры стимуляция большинства нейронов (из того узкого спектра, который был доступен по медицинским показаниям) не вызывает у пациентов никаких отчетливых ощущений[294]. Но зато, если реакции есть, то они восхитительно разнообразны: при стимуляции соседних участков люди могут говорить, что чувствуют покалывание в пальцах, соленый вкус во рту, ярость, фруктовый запах, запах лака для ногтей. Один пациент начал плакать из‐за того, что заново пережил чувства, сопровождавшие тяжелую автомобильную аварию пятнадцатилетней давности. Это неплохо согласуется с представлением о том, что орбитофронтальная кора должна обобщать доступную информацию разных модальностей.
Существенно, что такого рода эксперименты позволяют картировать орбитофронтальную кору, разбираться, какой из ее участков за что отвечает. В данном случае исследователи отметили, что понятные ощущения (тактильные, обонятельные, вкусовые…) появляются тогда, когда человеку стимулируют заднюю часть орбитофронтальной коры, причем неприятные – при стимуляции левого полушария, а приятные – при стимуляции правого. Но более обстоятельно изучено разделение орбитофронтальной коры на ее центральные и боковые участки: считается, что по краям обрабатывается информация, специфическая для конкретных стимулов, а средняя часть уже переводит эти данные, совместно с вентромедиальной префронтальной корой, в универсальную валюту субъективной ценности[295]. Это можно наблюдать даже в томографическом исследовании, где голодные испытуемые сообщают, с одной стороны, о том, сколько денег они согласны заплатить за еду, а с другой – о том, сколько в этой еде (по их мнению) белка, витаминов, жиров и углеводов. При этом выясняется, что готовность раскошелиться отражается в активности всей орбитофронтальной коры, а вот представления о питательной ценности коррелируют только с активностью боковой части[296].
Для чего я вас этим гружу? Ну если честно, в данном случае для собственного удовольствия. Так же как наука – удовлетворение своего любопытства за государственный счет, ее популяризация – удовлетворение своего любопытства за счет читателей. Но если вы заскучали, пока читали последние два абзаца, то обратите внимание, что это произошло из‐за того, что я не делаю достаточно четких выводов. Я не говорю вам человеческим языком: “Информация из всего мозга стекается в заднюю и боковую часть орбитофронтальной коры, а потом ее серединка переводит это в универсальную валюту”. Я описываю результаты экспериментов, которые в принципе можно трактовать таким образом, но вообще‐то пока не стоит, маловато данных.
Легко и приятно рассказывать (и читать) об эволюционно древних отделах, чье строение в большой степени задано генетически. Амигдала всегда боится. Прилежащее ядро всегда радуется. Первичная зрительная кора всегда видит линии. И у крыс так, и у кошек, и у обезьян. А вот ассоциативная кора (то есть вся кора, кроме сенсорной и моторной) у человека развита принципиально круче, чем даже у обезьян. И каждый ее отдел отвечает за кучу функций. И каждая функция размазана по многим отделам. И вдобавок у коры прекрасная нейропластичность, то есть она довольно серьезно изменяется и отчасти перераспределяет свои функции в течение жизни, по мере накопления индивидуального опыта. Когда я говорю вам, что орбитофронтальная кора (совместно с вентромедиальной) отвечает за оценку вариантов и сопоставление альтернатив, то в первом приближении я права. Но если зарыться чуть глубже, то сразу выяснится, что эта ее функция сопряжена со множеством более комплексных: вроде способности формировать предсказания будущего, учиться на ошибках, выстраивать “когнитивную карту” – обобщенное представление о текущей задаче и о всей релевантной для нее информации. При этом более пристальный анализ любой из этих сложных функций сразу же приводит к тому, что, во‐первых, в ней непременно оказывается задействовано много отделов коры, во‐вторых, часть экспериментальных данных подтверждает, что орбитофронтальная кора для этой функции важна, а часть не подтверждает[297]. Мозг изучен фантастически хорошо, – это правда. В мозге по‐прежнему очень многое непонятно, – и это тоже правда. Особенно тогда, когда мы говорим о человеческой ассоциативной коре.
Внутреннее поле битвы
Простите, но я должна рассказать вам анекдот. Приходит мужик к врачу и говорит:
– Доктор, я на грани срыва, у меня ужасно нервная работа.
– А чем вы занимаетесь? – спрашивает доктор.
– Я сижу у конвейера, по нему едут апельсины. Я должен хорошие складывать в один ящик, а плохие в другой.
– Так. Но почему это нервная работа?
– Как же вы не понимаете?! Я все время должен принимать решения!!!
Так вот. Если честно, это может сказать о себе практически каждая нервная клетка в нашем мозге. Нейрон зрительной коры должен принять решение о том, что он видит линию, наклоненную под определенным углом. Нейрон прилежащего ядра должен принять решение о том, что фигура коричневого цвета ему нравится. Нейрон орбитофронтальной коры должен принять решение о том, что шесть глотков лимонада лучше одного глотка воды. Выше в иерархии есть нейроны, которые принимают решения, непосредственно отражающиеся на наших действиях, например отправляют команды в моторную кору, в результате чего мы нажимаем кнопку вызова лифта, или целуем девушку, или вписываем бородатый анекдот в серьезную научно-популярную книжку. Но важно здесь осознать, что у нас нет и принципиально не может быть какого‐то одного Самого Главного Нейрона, который управляет всем. Вместо этого у нас есть 86 миллиардов нейронов[298] с десятью тысячами синапсов у каждого. И любой из них собирает информацию снизу, принимает решение и отправляет его дальше. И любое наше действие в реальном мире – результат того, что какое‐то сообщество нейронов оказалось более многочисленным и активным, чем другие нейроны, лоббирующие альтернативное решение.
Изучать этот процесс на уровне отдельных клеток, конечно, можно и нужно. Но изучить его на уровне отдельных клеток полностью, если мы говорим о человеческом мозге, вполне вероятно, вообще никогда не получится, просто потому, что в нем слишком много нейронов. Даже если бы специалисты по оптогенетике нашли бы где‐то генетически модифицированных людей со светочувствительными белками на мембранах нейронов, им вряд ли удалось бы подвести оптоволокно так, чтобы оно активировало каждый нейрон по отдельности. Вживленные электроды в таких количествах в мозг тем более физически не поместятся, пускай бы и нашелся доброволец, готовый позволить проделать с собой такое.
Зато много электродов помещается в улиточку, и счастливы те, кто с ней работает[299]. Они могут изучить, например, нейронную сеть, которая нужна аплизии, чтобы высунуть свой язык-терку[300]. Все восемь нервных клеток, которые задействованы в запуске этого действия. Так и пишут в своих статьях: “нейрон принятия решений B51”, “подавляющий нейрон B52”. Понимаете, конкретные клетки, в конкретном месте, одинаковые у всех животных. Можно вживлять электроды и наблюдать, как усиливается или ослабевает синапс между ними в зависимости от того, вкусные вещи лижет ваша улитка или невкусные. Даже там есть свои трудности, потому что надо еще понять, как она решает, вкусные они или нет, да и лижущие движения у нее довольно разнообразны; если честно, когда вы учитываете все промежуточные вариации этого действия, то там даже больше восьми нейронов.
Так что еще круче работать с червяком Caenorhabditis elegans[301], который славится тем, что у него во всем организме всего лишь 302 (триста два) нейрона. У исследователей есть полная карта нервных клеток всего животного. Они могут планировать поведенческие эксперименты, уже заранее представляя, какие конкретно нейроны червяк будет использовать[302]. Известно, что червяк любит запах диацетила (мы тоже любим: диацетилом ароматизируют маргарин, чтобы он пах как настоящее масло). У червяка есть конкретная обонятельная клетка, которая начинает отправлять импульсы, если уловила запах диацетила. А с другой стороны, червяку не нравится ацетат меди (и вообще любые растворы, в которых присутствуют ионы Cu2+). Есть у него чувствительная клетка и для того, чтобы отметить присутствие этой гадости. А еще у червяка есть “беговой нейрон”, нужный, чтобы ползти вперед. И вот вы сажаете червяка около капельки вкусно пахнущего диацетила, но отгораживаете его от этого незамысловатого счастья тонкой полоской ацетата меди. И вы понимаете, что конкретно происходит. Клетка, которая любит диацетил, говорит нейрону движения: “Побежали, там вкусненько!” Клетка, которая не любит медь, общается с тем же самым нейроном с помощью тормозящего синапса и говорит: “Ну нафиг, там медь”. Изменяя концентрацию раствора диацетила и раствора меди, вы добиваетесь того, что побеждает либо возбуждающий импульс, либо тормозящий и ваш червяк решается или не решается преодолеть препятствие.
Если вживить электроды в кору обезьян, то там тоже удастся обнаружить какой-нибудь нейрон, который обобщает информацию и принимает решение, причем именно такое, которое реализует и целая обезьяна. Но в случае обезьяны вы заведомо работаете не с единственным нейроном, а с одним из многих. Если вы при вживлении электродов случайно повредите нейрон B52 у улитки, вам придется брать из аквариума другую улитку. Если вы случайно повредите нейрон у обезьяны, вы продолжите работать с той же обезьяной, просто найдете по соседству другой нейрон с такими же функциями. Обезьяна ничего даже не заметит.
У обезьян (и у нас) в теменной доле есть участок, который называется латеральная внутритеменная кора. С 2001 года он стал очень модным среди нейроэкономистов, потому что выяснилось, что активность его клеток предсказывает, куда именно животное будет переводить взгляд[303].
Макака-резус сидит перед монитором компьютера[304] и смотрит на движущиеся точки в центральной части экрана. Ее задание – решить, вправо или влево движется большинство точек, немного подождать после их исчезновения, а потом перевести взгляд в том же направлении, в котором они двигались, на точку фиксации около правого или левого края монитора. Если обезьяна все сделает правильно, она получит награду (угадайте какую).
Нейроны латеральной внутритеменной коры отвечают, собственно, за то, чтобы перевести куда-нибудь взгляд. И у них есть рецептивные поля, то есть разные нейроны связаны с тем, чтобы фокусироваться на разных участках поля зрения. Исследователи заранее находили нейроны, которые связаны с переводом взгляда именно в ту область экрана, в которую должна была посмотреть обезьяна для корректного выполнения задания (обратите внимание, что это не та же самая область, в которой двигались точки). Активность таких нейронов должна была усилиться, когда животное собирается посмотреть куда нужно, и снизиться (или, по крайней мере, не измениться) – когда оно собирается посмотреть в какое-нибудь другое место.
Так и вышло. Если обезьяна смотрела на точки, которые в основном двигались вправо (а там не сразу очевидно, куда они движутся, есть и меньшинство, которое движется в противоположном направлении, и все в целом выглядит довольно хаотично), и исследователи при этом записывали сигналы от нейронов, связанных с переводом взгляда вправо, то их активность (то есть число импульсов в секунду) постепенно нарастала во время просмотра точек, равно как и позже, во время короткого периода ожидания. Когда наступало время перевести взгляд, эти клетки разражались бурным всплеском активности (50 импульсов в секунду, против 15 в состоянии покоя), обезьяна переводила взгляд куда нужно и получала свой глоток воды. И наоборот, если большинство точек двигались влево, то активность этих нейронов постепенно снижалась. А нарастала – постепенно, по мере накопления уверенности в том, куда движется большинство точек! – активность нейронов, связанных с переводом взгляда влево.
При этом, как вы понимаете, дело не в том, что “исследователи нашли нейрон, единолично принимающий решения”. Для выполнения этого простейшего задания надо шаг за шагом обработать информацию в зрительной системе. Понять, сколько точек движется вправо, а сколько влево, сопоставить эти значения. Решить, что и взгляд надо переводить в ту же сторону (а ведь можно натренировать обезьяну переводить взгляд и в противоположную). Переводить взгляд не сразу, а выждав некоторое время. Для этого отправить сигнал на черепные нервы, управляющие движением глаз. Исследователи описали важный, центральный, но все равно один из многих уровней обработки этой информации. А какое количество взаимодействий между нейронами вовлечено в принятие любого более сложного решения, например, о том, открыть ли Фейсбук или еще поработать, – это вообще страшно представить.
Поэтому в нейробиологических исследованиях принятия решений у людей им тоже дают максимально простые задания. И даже для них требуется так много нейронов, что их суммарную активность прямо видно на томограмме. Например, испытуемые неплохо умеют отличать домики от изображений человеческих лиц[305]. В височной коре (может быть, вы помните, что она связана среди прочего с распознаванием образов) есть конкретные участки, более чувствительные к лицам, и участки, более чувствительные к домикам. А еще есть дорсолатеральная префронтальная кора, задача которой – сопоставить версию “нам показывают лицо” с версией “нам показывают домик” и принять решение о том, на какую кнопку должен нажать испытуемый. Если вы показываете человеку хорошее, четкое изображение домика, то все просто: область височной коры, связанная с домиками, активна, а связанная с лицами – нет. Дорсолатеральная префронтальная кора регистрирует разницу, ее активность повышается, она легко принимает решение, человек отвечает точно. Если вы показываете мутное, туманное изображение, то дорсолатеральная префронтальная кора получает слабые и противоречивые сигналы от височной, сама тоже активируется слабо, человек часто ошибается.
Чувствуете, как это исследование похоже на то, где люди смотрели на разноцветные фигуры? Отделы мозга другие, принцип тот же. Мы все время сопоставляем противоречивую информацию и принимаем решения в зависимости от того, какой сигнал все‐таки оказался более сильным.
В психологии есть важное понятие – метапознание, или метакогнитивные процессы. Так называется человеческая способность думать о том, как мы думаем. Обращать внимание на собственную психику и анализировать, как она работает. Мне представляется, что вот этот способ думать о собственной высшей нервной деятельности – осознавать себя как поле битвы противоречивых устремлений – существенно повышает вероятность того, что силы добра и разума будут побеждать в этой гражданской войне хоть немного чаще.
Глава 9 Личность как уравнение со многими переменными
Самое нелепое интервью в моей жизни было посвящено ответу на вопрос: “Зачем человеку нужна квартира-студия с точки зрения нейробиологии?” Я была застигнута врасплох, но все‐таки что‐то наплела про то, как в мозге представлена категория убежища; еще что‐то наплела про то, что люди в целом хорошо переносят скученность по сравнению с другими животными; а развернутые дифирамбы квартирам-студиям от моего имени заботливо дописал редактор. У меня, в общем, не было возможности уклониться, потому что лекцию в Тюмени, бесплатную для слушателей, организовал местный застройщик, и если бы я отказалась об этом разговаривать, то он бы разочаровался и перестал участвовать в организации культурных событий в дальнейшем. Ну и вообще я уважаю профессионализм, и если бы я была пиарщиком строительной компании, то, конечно, тоже не упустила бы такой случай. Хотя не могу не отметить, что это был момент самой острой в моей жизни зависти к другу и коллеге Александру Панчину, приехавшему тогда в Тюмень читать лекции вместе со мной. Пока я давала интервью, он был свободен, как птицы небесные. Зачем человеку нужна квартира-студия с точки зрения биоинформатики и генной инженерии, организаторы его расспрашивать не стали.
Кажется смешным, но в принципе нейробиологию – а тем более экспериментальную психологию – действительно можно приплести к чему угодно. Существуют горы исследований о том, как на наше поведение влияет примерно все на свете. Каждое отдельное из них может показывать эффект слабый и ненадежный, но в сумме они вполне имеют право на существование. Потому что ну да, действительно, наука нейроэкономика предлагает нам рассматривать высшую нервную деятельность как постоянный диалог между разными нейронными ансамблями, и вполне логично, что отличия в их строении и активности – и врожденные, и приобретенные в ходе индивидуального развития, и просто сиюминутные – запросто могут влиять на то, как человек будет трактовать реальность и какие решения он будет принимать. Понятно, что речь почти никогда не идет о железобетонной предопределенности, любой отдельный человек может принимать любое уникальное решение, – но вот при обобщении больших групп и оценке вероятностей действительно часто обнаруживаются довольно интересные эффекты.
Амигдала говорит: “Ничего страшного”
Есть такое генетическое заболевание – синдром Уильямса. Оно связано с утратой нескольких генов на седьмой хромосоме и вызывает нарушения в работе сердца, а еще некоторые изменения в интеллектуальном развитии и социальных взаимодействиях[306]. Как правило, у людей с синдромом Уильямса резко снижены способности к пространственному мышлению. При попытке нарисовать слона пятнадцатилетний пациент изображает кружочек-тело, треугольник-ухо и палочку-хобот; примерно так справился бы с этой задачей четырехлетний ребенок. Но в то же время художник готов дать развернутое словесное описание своего рисунка: “А слон – это что, это одно из животных. А он что делает, он живет в джунглях. Он также может жить в зоопарке. А у слона что есть, у него есть длинные серые уши, смешные уши, которые могут развеваться на ветру. ‹…› Если слон в плохом настроении, это может быть чудовищным. Вы не хотите держать дома слона. Вы хотите кошку, или собаку, или птицу”.
Но самая заметная особенность в поведении пациентов с синдромом Уильямса – их исключительное внимание и дружелюбие к людям. Если здоровому маленькому ребенку показать игрушку, он будет смотреть на игрушку. Ребенка с синдромом Уильямса она вообще не интересует, его интересует только экспериментатор, на которого малыш и глазеет не отрываясь. Если давать людям с синдромом Уильямса задания, связанные с распознаванием лиц, то они не только показывают высокие результаты, но и демонстрируют в электроэнцефалограмме повышенную амплитуду волны N200, связанной с вниманием.
Люди с синдромом Уильямса совсем не боятся незнакомцев и охотно вступают с ними в контакт. При этом их вовсе нельзя назвать безоглядно храбрыми во всех остальных аспектах жизни: они часто демонстрируют высокий уровень тревоги и беспокойства, среди них широко распространены различные фобии. Просто характер их страха отличается от типичного для здоровых людей, и это можно увидеть на томограмме[307]. У вас есть два набора картинок: первый включает человеческие лица с выражением гнева или страха, второй – любые страшные картинки, на которых нет человеческих лиц (змеи и пауки, автоаварии, взрывы, разбившиеся самолеты, оружие). Люди выполняют несложное задание по их сортировке, а вы в это время анализируете активность их амигдалы. И в этой ситуации вы обнаруживаете, что контрольная группа более интенсивно реагирует на фотографии страшных человеческих лиц, а пациенты с синдромом Уильямса, напротив, к таким картинкам оказываются невосприимчивы, зато их сильнее выбивают из колеи остальные пугающие картинки.
То есть как это работает у обычного человека? Он видит фотографию лица, перекошенного от ярости или ужаса, и его амигдала отвечает интенсивной вспышкой активности. Человек понимает, что происходит что‐то плохое. Если же мы говорим о пациенте с синдромом Уильямса, то его амигдала остается к этим сигналам равнодушна. Это не означает, что такой человек вообще не способен распознавать выражения лиц, но он делает это скорее с рациональной точки зрения, на основании накопленного жизненного опыта (“ага, у человека опущены вниз уголки рта, значит, ему грустно”), у него нет мгновенного интуитивного понимания того, что можно ждать от незнакомцев с тем или иным выражением лица, – сверхспособности, к которой мы так привыкли, что совершенно ее не замечаем.
Для людей с синдромом Уильямса такое искажение восприятия создает ряд проблем в социальной жизни: им слишком нравятся незнакомцы, они слишком им доверяют и поэтому легко могут стать жертвами насилия или мошенничества, с другой стороны, они не формируют прочных привязанностей, именно потому, что близкие отношения подразумевают выделение вашего друга из общей людской массы, а в данном случае человеку нравятся вообще все.
Но в некоторых случаях повышенное дружелюбие имеет смысл. Считается, что у людей с синдромом Уильямса оно связано с утратой[308] генов GTF2I и GTF2IRD1 – они кодируют два транскрипционных фактора, то есть контролируют производство сразу многих белков, вовлеченных в развитие нервной системы. В 2017 году группа американских исследователей изучила эти гены у 18 домашних собак и 10 прирученных волков[309]. Одновременно каждое животное проходило через серию поведенческих тестов, призванных оценить дружелюбие по отношению к незнакомцам. И действительно, именно в этих генах удалось выявить структурные отличия, ассоциированные с повышенной социальностью и характерные, конечно, для собак, а не для волков. Можно предположить, что это сыграло важную роль в их эволюции и вообще сделало возможным давнее взаимовыгодное сотрудничество наших биологических видов.
Рассеченный мозг объясняет реальность, как умеет
Вы сто раз слышали в кухонных разговорах и читали в развлекательных СМИ, что, мол, левое полушарие отвечает за рациональное мышление, а правое связано с творчеством. В отличие от многих других мифов о мозге, этот имеет под собой хоть какие‐то научные основания. Действительно, люди точнее перерисовывают картинки, когда выполняют это задание с помощью правого полушария (даже несмотря на то, что делают это левой рукой)[310], а для выполнения любых математических действий, более сложных, чем “сложить семь и один”, невозможно обойтись без левого полушария[311]. Но есть тонкость. Все подобные выводы получены при тестировании людей с рассеченным мозгом. Тех, у кого перерезано мозолистое тело. Тех, кто не может передавать информацию одного полушария в другое (а мы‐то с вами это делаем мгновенно и всегда). Тех, кто действительно использует при выполнении задания только какое‐то одно полушарие – в отличие от всех обычных людей.
В середине XX века, когда эпилепсию часто лечили с помощью хирургических операций, все очень удивлялись тому, что рассечение мозолистого тела обычно не вызывает вообще никаких видимых последствий[312]. Не нарушается ни интеллект, ни память, ни настроение, ни координация движений, ничего[313]. Казалось бы, это не менее серьезное вмешательство, чем префронтальная лоботомия, – но вот в данном случае все в порядке. Мозг работает, как работал. Психолог и приматолог Карл Лэшли в этой связи пошутил, что мозолистое тело, видимо, нужно просто для того, чтобы одно полушарие не отвалилось от другого[314]. А нейропсихолог Роджер Сперри и его коллеги взялись за разработку оригинальных тестов, нужных для того, чтобы все‐таки выявить, что же изменилось у животных и людей, которые живут без мозолистого тела. Ну не могло же у них ничего не измениться!
Вот какие предпосылки были у Роджера Сперри. Во-первых, было известно, что (в первом приближении) левое полушарие координирует движения правой половины тела, и наоборот[315]. Во-вторых, зрительное восприятие устроено хитрее: информация о стимулах, появившихся справа от нас и, соответственно, спроецированных на левую половину сетчатки обоих глаз, отправляется в зрительную кору левого полушария, и наоборот. Через несколько страниц будет картинка, на которой нарисовано, как распространяется зрительная информация, можете отвлечься и рассмотреть ее. И, в‐третьих, известно, что у большинства людей речевые центры расположены только в левом полушарии, то есть оно умеет разговаривать, а правое не умеет. Располагая этой информацией, Роджер Сперри приступает к экспериментам – вначале на кошках и обезьянах[316]. Преимущество экспериментов над животными в том, что им можно перерезать не только мозолистое тело, но и перекрест зрительных нервов. В этом случае информация, поступающая на правый глаз, будет обрабатываться исключительно правым полушарием, и наоборот.
Сохранились фотографии экспериментов[317]. Коты веселого Роджера Сперри носили пиратские черные повязки на одном глазу и выглядели очень залихватски – пестрые, пушистые, улыбаются с портретов. Повязка нужна была для того, чтобы кот использовал только один глаз при выполнении задания. Например, вы показываете ему квадрат и треугольник, и кот должен выбрать какую-нибудь из фигур. Он быстро запоминает, что выбирать надо квадрат, потому что в этом случае он получит награду, – и делает так всегда. Но только до тех пор, пока вы не перенесете повязку на другой глаз. После этого кот ведет себя так, как будто бы задание ему полностью незнакомо. Если теперь вы вознаграждаете выбор треугольника, кот тоже быстро обучается выбирать треугольник. Дальше его поведение зависит от того, каким глазом он пользуется. Если закрыт один глаз, кот всегда выбирает квадрат, если другой – всегда выбирает треугольник. Потому что одно полушарие обучили выполнению одного задания, а другое полушарие – выполнению другого. У каждого из них своя независимая память, и информацией они не обмениваются, потому что мозолистое тело перерезано.
Аналогично вы можете научить кота, что для получения награды ему нужно нажимать на какую-нибудь педаль – либо на гладкую, либо на шершавую. Он их не видит, и выбор осуществляется на ощупь. Обычному коту неважно, какой именно лапой это делать, вы можете научить его пользоваться правой лапой, а потом он уверенно будет делать то же самое одной левой. Для прооперированного кота это две совершенно разные ситуации. “Каждое из разделенных полушарий теперь обладает собственной независимой ментальной сферой, или когнитивной системой, – пишет Сперри. – Собственным независимым восприятием, обучением, памятью и другими процессами. Каждое из разделенных полушарий не осведомлено об опыте, полученном другим полушарием. В этом смысле у животного как бы два отдельных мозга”.
Опыты на животных помогают понять, как должны быть организованы эксперименты с людьми. В начале 1960‐х Сперри и его ученик Майкл Газзанига связываются с пациентами, которым было рекомендовано рассечение мозолистого тела. Первым на их призыв поучаствовать в исследованиях откликается человек, вошедший в историю под инициалами W. J., ветеран Второй мировой, десантник. После удара в голову, полученного в рукопашной, он начинает страдать от тяжелых эпилептических припадков. И для того чтобы их ослабить, подвергается операции, в ходе которой ему рассекают мозолистое тело, а еще переднюю комиссуру и спайку свода (еще два пучка нервных волокон, соединяющих полушария; всего их пять, но мозолистое тело заметно крупнее остальных). Сперри и Газзанига впервые тестируют W. J. еще до операции и удостоверяются, что все его двигательные, сенсорные и ассоциативные навыки в пределах нормы. После операции эпилептические припадки W. J. серьезно ослабевают, он говорит, что много лет не чувствовал себя так хорошо, и уже через шесть недель сообщает о готовности регулярно участвовать в экспериментах[318].
Для начала Сперри и Газзанига завязывают W. J. глаза и дают ощупывать различные предметы: шляпу, очки, сигарету, карандаш. Если дать ему эти предметы в правую руку, он способен делать с ними все, что предлагают исследователи – и использовать их, и описывать, и называть. Если же дать их в левую руку, то W. J. по‐прежнему может ими манипулировать и правильно использовать их, но совершенно не способен сказать, как они называются или дать им словесное описание. До операции W. J., хотя и был правшой, мог достаточно разборчиво писать левой рукой; теперь он, получив в левую руку карандаш, по‐прежнему понимает, что этой штукой надо водить по бумаге (хотя его правое полушарие не в курсе, как она называется), но из‐под его руки выходят только бессмысленные каракули.
Если дотронуться до мизинца, безымянного, среднего или указательного пальца W. J., он может указать место прикосновения при помощи большого пальца той же руки – но не способен выполнить эту задачу, если нужно правой рукой отметить место прикосновения к левой (или наоборот). Если дотронуться до его руки или ноги несколько раз, то он может постучать по столу столько же раз – но при условии, что стучать нужно соответствующей рукой, а не противоположной.
Человеку с рассеченным мозгом можно показывать картинки и надписи так, чтобы их видело только одно полушарие. Для этого достаточно, чтобы они были расположены в правом поле зрения (и обрабатывались левым полушарием) или, наоборот, в левом поле зрения (и обрабатывались правым полушарием). Первые эксперименты с W. J. показали следующие результаты. Если правое полушарие видит картинку – человек не может сказать, как этот предмет называется. Если правое полушарие видит надпись – человек не может ее прочитать, по крайней мере вслух. Но зато если правое полушарие видит картинку и человека просят ее перерисовать (соответственно, левой рукой), то он справляется с этой задачей лучше, чем если бы с изображением работало левое полушарие. В дальнейшем, с другими пациентами, Сперри и Газзанига (и их последователи) придумывали более хитроумные тесты и выявили еще ряд интересных особенностей.
Если показать человеку слово HEART (“сердце”) таким образом, чтобы первые две буквы проецировались на правую половину сетчатки и обрабатывались правым полушарием, а последние три буквы – наоборот, то человек скажет вам, что на экране написано слово ART (“искусство”). Но если вы положите перед ним карточки со словами ART и HE (“он”), попросите выбрать правильную надпись и указать на нее левой рукой, то человек (то есть его правое полушарие) выберет табличку НЕ[319]. Единственный способ понять, что на экране написано слово HEART, – расположить голову так, чтобы слово полностью попадало в правую половину поля зрения (и обрабатывалось левым полушарием)[320].
Конечно, функции полушарий могут отличаться от человека к человеку. Известен случай пациентки V. J., которая, как и другие испытуемые, была способна использовать устную речь, если обработка информации происходила в левом полушарии. Но вот в заданиях, где ей требовалось что‐то написать, она демонстрировала лучшие результаты, если было задействовано правое полушарие (и, соответственно, левая рука)[321], – так выяснилось, что устная и письменная речь необязательно локализованы в одном и том же полушарии (кстати, V. J. с самого начала была левшой).
Исследования людей с рассеченным мозгом были важны не только потому, что дали много новой информации о функциях полушарий. Кроме того, мы многое поняли о человеческой природе в целом. Прежде всего о нашей склонности выстраивать нарративы, придумывать рациональные объяснения для тех вещей, которые на самом деле логически объяснить невозможно.
Два полушария не обмениваются информацией. У каждого есть свое поле зрения и своя рука. Только одно из них умеет говорить. Но если вы создаете экспериментальную ситуацию, в которой одно полушарие должно объяснить выбор, сделанный другим, то люди проявляют чудеса изобретательности. И одновременно, по‐видимому, вообще не отдают себе отчета в том, что тут есть какой‐то подвох[322],[323].
Вы предъявляете левому полушарию изображение куриной лапки и одновременно показываете правому полушарию заснеженный пейзаж. После этого вы просите человека взять со стола подходящую картинку. Если он берет ее правой рукой, то есть контролирует свои действия левым полушарием, то он выбирает изображение курицы. Это логично. Если он берет картинку левой рукой, то его правое полушарие выбирает лопату для уборки снега. Это тоже логично. Но дальше вы спрашиваете человека (то есть его левое, говорящее полушарие), почему он выбрал картинку с лопатой (на основании той информации, которой располагало только правое полушарие). И человек не отвечает вам: “Понятия не имею”. Он говорит: “Ну это же очень просто. Мы говорим о курице, а лопата нужна для того, чтобы чистить курятник”.
А вот пример еще более восхитительный. В научных обзорах он упоминается вскользь, яркие подробности я в данном случае взяла из научно-популярной книжки “Кто за главного?” Майкла Газзаниги (очень рекомендую). Здесь правому полушарию пациентки показывают страшное видео, в котором человек попадает в огонь. Женщина говорит, что ничего не видела. Но бессловесная часть ее мозга отлично все рассмотрела и активировала симпатическую нервную систему, связанную со стрессом. Произошел выброс адреналина, участилось сердцебиение, усилилось потоотделение. Все это не прошло незамеченным и для левого полушария. Оно понимает, что испугано, и пытается как‐то это объяснить. И сообщает: “Вообще мне нравится доктор Газзанига, но прямо сейчас я почему‐то его боюсь”.
Фраза “меня пугает доктор Газзанига” стала в последнее время одной из самых частотных в моем лексиконе. “Почему ты такая злобная?” – “Меня пугает доктор Газзанига, но я думаю, это потому, что на кухне бардак”. Здесь я имею в виду что‐то вроде: “Вообще‐то я злобная, потому что у меня простуда, ПМС и недосып, но этого всего я не осознаю, поэтому думаю, что все дело в том, что ты оставил бардак на кухне, – хотя в нормальной ситуации я бы на это и внимания не обратила”. Память о пугающем докторе Газзаниге и открытом им “левополушарном интерпретаторе” очень сильно упрощает коммуникацию. И рефлексию.
Вы предпочитаете выращивать пшеницу или рис?
Даже люди бесконечно далекие от социологии (как я, например) все равно слышали об исследованиях Герта Хофстеде. В 1960‐х он работал в IBM, которая тогда уже была огромной транснациональной корпорацией, и исследовал культурные различия между сотрудниками разных зарубежных подразделений, мешающие им достигать взаимопонимания с американским топ-менеджментом. Хофстеде разработал систему из четырех измерений: дистанцированность от власти, индивидуализм, избегание неопределенности и маскулинность. Он опросил по одинаковой методике сотрудников филиалов IBM в сорока странах и определил место каждой культуры, с которой работал, на этих четырех шкалах[324]. Герт Хофстеде, в общем‐то, исходно решал прикладную задачу – разработать рекомендации для более эффективного международного сотрудничества (например, отчетливо прописать все инструкции и формализовать все процессы для тех стран, жители которых стремятся к избеганию неопределенности, или сделать структуру принятия решений в компании более дипломатичной в тех странах, жители которых стремятся к низкой дистанции между собой и властью). Но предложенный им подход впоследствии стали очень широко применять (и развивать) другие социологи в исследованиях новых и новых групп людей в разных странах. Хотя многие аспекты модели Хофстеде, естественно, впоследствии подвергались обоснованной научной критике[325] (например, избегание неопределенности, скорее всего, не то чтобы универсальный показатель для целых культур, оно больше зависит как от возраста опрошенных, так и от текущей обстановки в стране), но модель все равно оказала очень серьезное влияние на развитие социологии, дала язык, методологию и понятийный аппарат для обсуждения различий между культурами разных стран.
Экспериментальные психологи обращают больше всего внимания на кросс-культурные отличия, связанные с положением людей на шкале “коллективизм – индивидуализм”. Принято считать, что жители Северной Америки и Европы, наследники античной греческой культуры, склонны воспринимать мир аналитически, обращая внимание на конкретные объекты и пренебрегая фоном, в то время как жители Азии, вслед за древними китайцами, скорее видят мир холистически, и объекты важны для них именно во взаимодействии с окружающей их обстановкой. Это не просто досужие размышления: это действительно подтверждается в многочисленных лабораторных экспериментах, посвященных вниманию и зрительному восприятию[326]. Например, вы показываете десятилетним детям три изображения: курицу, корову и зеленую лужайку – и просите их ответить, какие две картинки должны остаться вместе, а какая – лишняя в этом наборе. Американские дети в такой ситуации обычно считают лишней траву, потому что корова и курица – это животные. Китайские дети склонны оставлять вместе корову и траву, потому что корова питается травой.
В случае со взрослыми испытуемыми наблюдается точно такая же картина. Вы показываете им, например, поезд, автобус и рельсы. Люди могут объединить либо поезд с автобусом, либо поезд с рельсами (исследователи не оговаривают третий случай, видимо, автобус с рельсами не объединяет практически никто). Но интересно, что внутри Китая наблюдается разница между северными и южными его регионами: люди с севера чаще группируют транспорт, а южане чаще считают, что поезд должен быть обеспечен рельсами[327].
Между северянами и южанами есть и другие отличия (статистически достоверные, подтвержденные на больших выборках). Вот попробуйте сейчас отвлечься от книжки, взять бумагу и ручку и нарисовать схему ваших основных социальных связей. Один кружок должен изображать вас самого, а другие – тех родственников, друзей и коллег, с которыми вы регулярно общаетесь и которые играют важную роль в вашей жизни. Не читайте дальше, пока не нарисуете, потому что иначе вам будет не так интересно. (Ну или читайте, а протестировать сможете потом кого-нибудь другого.)
Чтобы вам было сложнее случайно подсмотреть, зачем рисовать кружочки, я пока расскажу про еще один тест. Людям предлагают представить, что они заключили сделку с другом и тот поступил с ними честно или нечестно, из‐за чего они заработали больше денег, чем ожидали, или же, наоборот, понесли финансовые потери. И предлагают представить такую же ситуацию, но только в сделке участвовал не друг, а посторонний человек – тоже, соответственно, честный или нет. И людей спрашивают, сколько своих денег они готовы выделить, чтобы вознаградить того, кто принес им пользу, – или чтобы наказать того, кто причинил им вред. Жители Сингапура, например, лояльны к своим друзьям: наказывают их меньше, чем посторонних, а вознаграждают, наоборот, больше. Американцы сильнее склонны к тому, чтобы наказывать друзей за нечестное поведение.
Так вот, что касается диаграммы социальных связей. Теперь вам нужно измерить размер кружочков. Известно, что американцы рисуют свой кружочек в среднем на 6 миллиметров крупнее, чем кружочки других; европейцы – на 3,6 миллиметра крупнее; японцы – чуточку меньше. Это тоже широко применяется как тест на принадлежность к индивидуалистической или коллективистской культуре.
Что касается жителей Китая, то в этих тестах выяснилось, что между северянами и южанами есть статистически значимые отличия. Жители северных регионов в среднем рисуют свой кружочек на 1,5 миллиметра крупнее, чем кружочки других, а южане – на доли миллиметра меньше. Кроме того, южане были меньше склонны наказывать друга за нечестное поведение.
Психолог Томас Тальхельм проверял несколько альтернативных гипотез, объясняющих природу этих различий, и пришел к выводу, что все дело в сельском хозяйстве. Коллективисты живут в южных регионах, где преимущественно выращивают рис. Индивидуалисты – родом из северных регионов, где в основном выращивают пшеницу. Справиться с пшеничным полем семья способна и самостоятельно, а вот возделывание рисовых полей требует постоянной кооперации с соседями, потому что устроить и поддерживать в порядке сложные оросительные системы возможно только в результате коллективного труда. Люди, с которыми работал Тальхельм, давно перебрались в города и сами ничего не выращивают, а возможно, и их родители не выращивали – но все равно привыкли воспринимать добрые отношения с соседями как бóльшую или меньшую ценность.
Тальхельм давно и обстоятельно исследует эти отличия, и иногда они принимают вовсе неожиданные формы. Например, недавно он показал[328], что если перегородить проход в “Старбаксе” стульями, то индивидуалисты из пшеничных регионов отодвигают преграду в 16 % случаев, а коллективисты из рисовых регионов – только в 6 % случаев, предпочитая протискиваться в узкую щель[329]. Думаете ли вы в момент отодвигания стула со своего пути о том, что все дело в семейной культуре, поощряющей заботиться о собственных интересах или, напротив, принимать окружающую обстановку как должное, а это, в свою очередь, определяется сельскохозяйственными задачами вашего региона? Китайцы тоже не думают, конечно, но, согласитесь, гипотеза очень красивая.
Измененные состояния сознания
Мысль о том, что наша высшая нервная деятельность находится под огромным влиянием биохимических факторов, вообще не нуждается в доказательствах: она очевидна каждому, кто когда-либо испытывал состояние алкогольного опьянения. Но мы часто признаем влияние внешних веществ и при этом совершенно не учитываем, что наш мозг способен к производству измененных состояний сознания совершенно бесплатно, и часто они оказываются еще и помощнее, чем алкогольное опьянение, да и поддерживаются гораздо дольше. Вот возьмите, например, влюбленность.
Что мы вообще знаем о влюбленности? Прежде всего мы знаем, что она существует. В том смысле, что это функциональное изменение мозга, которое неплохо видно на томограмме[330]. Если вы поместите влюбленных людей в томограф и вдобавок дополнительно напомните им о существовании возлюбленного (показав, например, его фотографию), то сможете наблюдать характерные изменения в куче разных отделов мозга[331]. В частности, усиливается активность хвостатого ядра и вентральной области покрышки – это богатые дофамином участки, тесно взаимодействующие с прилежащим ядром и другими структурами системы вознаграждения, а связаны они в первую очередь с мотивацией и целеполаганием. А вот активность амигдалы, наоборот, снижается.
Кроме того, мы знаем, что психологи и нейробиологи вполне серьезно уподобляют влюбленность наркотической зависимости[332]. Во-первых, очень похожа картина активации мозга. Во-вторых, похожи поведенческие симптомы. Люди постоянно думают об объекте своей страсти. Это измеряют в формальных опросниках: в исследования влюбленностей берут тех, кто думает о возлюбленном по крайней мере 65 % времени бодрствования, и это не предел. Влюбленный человек жаждет обладать возлюбленным, причем запросы нарастают по мере удовлетворения предыдущих. Контакты с предметом влюбленности вызывают у него сильные эмоции. Крах романтических надежд здорово похож по ощущениям на синдром отмены и тоже сопровождается раздражительностью, тревогой, чувством протеста, нарушениями сна и аппетита. В попытках добиться успеха (и даже просто объяснить, зачем ему этот успех нужен) человек может проявлять такие масштабы настойчивости и изощренности, которые можно сравнить разве что с блистательным красноречием недавних курильщиков, обосновывающих, почему именно сейчас сигарета им абсолютно необходима. Это при том, что никотиновая ломка, по идее, должна снижать интеллектуальные способности. Она и снижает, но только не в том, что касается способов рационализации дальнейшего курения. Похожая история и с влюбленностью.
Снижает ли влюбленность интеллектуальные способности? Да и нет. На самом деле, скорее даже нет. Во-первых, есть свидетельства того, что в организме людей со свеженькой влюбленностью увеличивается синтез фактора роста нервов, а это довольно полезная молекула для интеллектуального развития, она способствует выживанию и созреванию нейронов. Впрочем, авторы исследования полагают, что если это и полезно для любви, то скорее с точки зрения повышения чувствительности к ее приятным сторонам, – а может быть, наоборот, и для защиты от неприятных, – то есть все равно для обработки эмоций, а не для того чтобы поумнеть и таким образом склеить партнера[333]. Во-вторых, томографические исследования тоже не особенно проясняют ситуацию. Я, честно говоря, начиная читать обзоры, надеялась найти что-нибудь простое и четкое, например “при виде возлюбленного снижается активность дорсолатеральной префронтальной коры, и от этого человек становится таким нелепым”, но нет. Как ни странно, скорее наоборот, повышается, судя по имеющимся данным[334], – как и активность еще многих высших ассоциативных областей, связанных с вниманием, саморепрезентацией, социальным мышлением, ну и конечно, мотивацией. Из тех областей коры, которые мы успели обсудить в книжке (потому что они важные и относительно хорошо изученные), снижение активности зафиксировано разве что в медиальной префронтальной коре[335]. Тут можно долго спекулировать на тему того, с чем бы это могло быть связано (равнодушие к социальным стандартам? сниженная способность к сопоставлению плюсов и минусов?), но пока все это не проверено экспериментально, толку от таких рассуждений будет немного.
Экспериментально проверяют пока что более простые вещи: например, способность распознавать человеческие эмоции по выражению глаз[336] (повышается после предъявления фотографии объекта страсти, особенно у мужчин, особенно применительно к негативным эмоциям) или способность переносить боль, вызванную воздействием высокой температуры[337] (предъявление фотографий возлюбленного снижает субъективное переживание боли, и на фМРТ видно, что это связано с активацией системы вознаграждения).
Все это звучит запутанно, но вот что важно. Любовь изменяет функциональное состояние мозга. Вы не то чтобы глупеете, но у вас сильно перестраивается способ восприятия реальности. Важно все, что имеет отношение к возлюбленному. Неважно все, что не имеет к нему отношения. Постоянно активная система вознаграждения вызывает у влюбленного человека когнитивные искажения[338], в первую очередь – склонность видеть возлюбленного преувеличенно прекрасным и заодно склонность преувеличивать степень его романтического интереса к себе.
Это тоже изучают экспериментально[339]. Исследователи обращаются к своим студентам-психологам и предлагают всем желающим зайти в лабораторию и захватить с собой друга противоположного пола (важное условие: именно друга, без всяких романтических отношений!). Поскольку за это обещают дополнительный балл для студентов и 12 $ для их спутников, выборка получается приличная – 127 пар.
А дальше циничные ученые начинают проверять, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной. Каждого участника исследования просят заполнить подробные опросники про себя самого и про своего спутника. Требуется согласиться – или не согласиться – с утверждениями типа “Этот человек показался мне привлекательным с первой же встречи”. И то же самое в обратном направлении: “Я показался этому человеку привлекательным с первой же встречи”. А потом исследователи просто построили графики и выявили четкую закономерность: чем сильнее вам нравится в романтическом смысле ваш друг, тем больше вы уверены, что и вы ему тоже очень нравитесь. Увы, из его ответов ничего подобного не следует!
Но есть и хорошие новости. На втором этапе исследования ученые наблюдали за этими парами еще в течение четырех недель и предсказуемо обнаружили, что если вы испытываете сильный романтический интерес к вашему другу, то и у него постепенно нарастает интерес к вам. Особенно хорошо это работает в том случае, если вы сами верите, что вы вообще‐то очень классный партнер (что тоже проверяли с помощью опросников). Это частный случай психологического эффекта, который называется “самосбывающееся пророчество”. Когда мы верим, что реальность устроена каким‐то образом, то мы ведем себя так, как будто бы она на самом деле так устроена. И иногда она действительно прогибается под наши ожидания.
Откуда изначально берутся искаженные ожидания, тоже понятно с позиций нейроэкономики. Наша ассоциативная кора не то чтобы объективно воспринимает окружающую реальность. Единственный источник информации для нее – нервные импульсы, приходящие от подчиненных участков мозга. От текущего состояния мозга зависит, как будет выглядеть суммарная картина этих импульсов.
Ну, скажем, вы уронили ручку, а ваш приятель поднял. В нормальной ситуации, если это просто приятель, вы забудете об этом через минуту. Это был слабый сигнал. Но когда вы влюблены, у вас очень активна система вознаграждения, и она добавляет умножающий коэффициент ко всем явлениям, которые наблюдаются во внешней реальности, если они как‐то связаны с вашим избранником. Это не просто упала ручка, а он поднял. Это он к вам внимателен. Он о вас заботится. Он хочет жить с вами вместе. Вы назовете ребенка Афанасием. Внешний стимул для таких размышлений ведь был? Был! Ручка действительно падала, тут не поспоришь.
Авторы художественных книг пока что знают про любовь больше, чем авторы научно-популярных. И многие книги о любви, хоть “Затворник и Шестипалый” Пелевина, хоть “Любовь во время холеры” Маркеса, говорят нам вот что: любовь – это лучшая возможная мотивация, какая у нас только может быть. Она делает нас бесстрашными. Она делает нас целеустремленными. Она может сохраняться достаточно долго, чтобы мы успели достигнуть чего‐то осмысленного.
Спорить с эволюционно древними подкорковыми структурами бесполезно, вот что я хочу сказать. Если уж человек угодил во влюбленность, то какое‐то время его восприятие реальности будет искажено. Но вот что, как мне кажется, может сделать в такой ситуации мыслящее существо: оно может использовать этот халявный драйв для достижения каких‐то результатов, полезных в реальной жизни. Предпринять какие‐то решительные шаги в направлении самосовершенствования, ввязаться в большие амбициозные проекты, на которые раньше не хватало куража. Научиться бегать, получить водительские права, записаться на курсы иностранного языка и сменить работу на более интересную. Вам как влюбленному человеку – мастерство самообмана и самодисциплины! – все это будет нужно ради того, чтобы потом ходить на пробежки вместе с возлюбленным, подвозить его на машине, путешествовать по дальним странам и травить упоительные баечки о своих рабочих буднях. Может быть, все это в конечном счете и не поможет подкатить к возлюбленному. Но зато, когда помутнение схлынет, вы окажетесь в лучшем положении, чем были.
Многострадальная экспериментальная психология
Мои познания о футболе, как это нередко случается с девочками из питерских интеллигентных семей, сводятся к цитате из Бродского про пенальти и угловой. Но лето 2018 года я провела в Москве и от метро до университета ходила через Никольскую улицу, главную фан-зону чемпионата мира по футболу. И вы знаете, за пару недель накрыло даже меня. Это правда было круто. Лето, карнавал, все счастливы. Когда однажды, обгоняя на узком тротуаре симпатичного мальчика, уткнувшегося в телефон с трансляцией, я спросила у него: “Кто выигрывает?” (хотя и не знала, кто с кем играет[340]), я ощутила настоящее единение с человечеством. И это было приятное чувство.
Неудивительно, что для настоящих болельщиков – тех, кто прямо смотрит футбол по телевизору, – это еще более яркое переживание. И оно интересным образом отражается на их оценках реальности[341]. В 1982 году, во время чемпионата мира, знаменитый психолог Норберт Шварц и его коллеги обзванивали немцев (конечно же, западных) и задавали им несколько вопросов о матче ФРГ – Чили, который должен был начаться через полчаса. А потом спрашивали, можно ли заодно привлечь их и к другому опросу университета, раз уж они так удачно оказались дома. И просили оценить по десятибалльной шкале, насколько счастливыми они себя чувствуют в жизни в целом. И еще: насколько они, глобально говоря, удовлетворены своей жизнью. Со второй группой испытуемых общение происходило по такой же схеме, но через полчаса после матча. Германия выиграла 4:1.
Предсказуемо выяснилось, что счастье всей жизни зависит от того, расспрашивать ли о нем людей до футбольного матча или после. В первом случае, когда результат игры был еще неизвестен, люди в среднем набирали 14,3 балла за два вопроса. Те респонденты, чья сборная только что победила, набирали в среднем 17,4.
Таким же влиянием на счастье всей жизни обладает погода за окном[342]. Если позвонить среднестатистическому человеку в солнечный день и спросить его, насколько он вообще счастлив, он ответит, что на 7,43 балла из 10. Если спросить то же самое в дождливый день, то люди в среднем набирают только 5 баллов. Интересно, что этот эффект исчезает, если с участником исследования сначала поговорить о погоде: в этом случае он обращает внимание на дождь, так что у него есть уважительная причина, чтобы объяснить свое сниженное настроение, и он делает на это поправку.
Норберт Шварц иллюстрировал этими экспериментами свою гипотезу, названную “аффект-как‐информация”. В ней есть большой смысл: когда вы думаете о чем‐то сложном (идти ли в аспирантуру? заводить ли ребенка?) и должны принимать решение в условиях недостатка информации, имеет смысл учитывать, помимо формальных критериев, и те чувства, которые вы испытываете, размышляя о проблеме. Возможно, негативные эмоции сигнализируют о том, что существуют какие‐то подводные камни, в которых вы пока не отдаете себе отчета, но которые тем не менее помешают реализации вашего плана. Это вполне может быть полезным. Но искусственно созданная ситуация эксперимента, со сравнением двух групп испытуемых, ярко подчеркивает, что вообще‐то эмоции могут быть вызваны чем‐то совершенно посторонним – и при этом они все равно влияют на вашу оценку ситуации. По крайней мере до тех пор, пока вы не осознали с помощью экспериментатора, что жизнь‐то у вас хорошая, а настроение плохое из‐за дождя.
Экспериментальная психология накопила горы исследований, разными способами демонстрирующих, что сиюминутное состояние может серьезно влиять на наше восприятие реальности и принимаемые нами решения. Обычно это называют словом “прайминг”, и понятие это сейчас серьезно скомпрометировано, потому что многие эксперименты сначала получили большую известность, а потом не воспроизвелись на более крупных выборках – или воспроизвелись не так, как это подразумевали исследователи. С погодой, кстати, тоже есть трудности: при оценке результатов опроса 30 861 человека и сопоставлении их ответов про счастье с данными близлежащих метеорологических станций выясняется, что влияние хорошей погоды в принципе есть, достоверное, но совершенно крохотное[343]. Теплый ясный день делает людей более счастливыми, но несопоставимо слабее, чем, например, привычка ежедневно двигаться, или регулярно есть фрукты и овощи, или воздерживаться от алкоголя и сигарет (то есть вести здоровый образ жизни и, соответственно, лучше себя чувствовать – спасибо, Кэп).
Проблема здесь на самом деле не в прайминге (как явление его никто не отменял), а в известности, которую отдельные работы по экспериментальной психологии всегда получают преждевременно. Просто потому, что их очень легко и приятно пересказывать и потом о них читать. На самом деле открытия регулярно закрываются (а потом открываются обратно с какими‐то уточнениями) на переднем крае любой науки, просто в случае нейрофармакологии или астрофизики это никого не беспокоит, потому что никто, кроме горстки специалистов, все равно не понимает, что там было написано.
В книжке “В интернете кто‐то неправ!” я рассказывала вам, что люди начинают вести себя приличнее (в частности, становятся более щедрыми), когда за ними наблюдают, – и этот эффект настолько силен, что его можно обнаружить даже в присутствии нарисованных глаз. В тот момент я еще действовала более или менее легитимно, про это правда была куча экспериментов. Но в 2017 году несколько страниц моей книжки превратились в тыкву, потому что подоспел метаанализ[344], обобщающий результаты 27 экспериментов на 19 512 испытуемых. В некоторых из них люди правда давали деньги с большей вероятностью в присутствии нарисованных глаз (и именно эти эксперименты набрали кучу цитирований), в некоторых этот фактор не оказывал влияния, а в некоторых вообще получалось наоборот. Первая группа результатов всем очень нравилась, а на две последние никто никогда не обращал внимания: ну мало ли почему у этих неудачников не получилось, вот же хорошая статья, где эффект есть! А вот при аккуратном обобщении всех результатов получилось, что в присутствии нарисованных глаз люди хотя вроде бы и дают деньги почаще, но только на 17 %, и даже этот скромный результат не дотянул до порога статистической достоверности. То есть разницы между группами нет. Увы.
Бывает интереснее: эффект можно воспроизвести, но только объясняется он совершенно не так, как предполагали исследователи. Вы наверняка читали у Канемана (или в любой другой книжке, посвященной экспериментальной психологии) про эффект Флориды: люди начинают медленнее ходить, если в грамматическом задании дать им слова, связанные со старением (например, “морщины”, “пенсия”, “седина”, а еще “Флорида” – штат, куда традиционно переезжают пенсионеры). Долгие годы эффект Флориды служил классическим примером поведенческого прайминга – склонности людей неосознанно изменять свое поведение в результате какого‐то предшествовавшего воздействия. Но в 2012 году группа бельгийских исследователей взялась за обстоятельную проверку этих данных[345]. Они отметили две методологические проблемы исходного эксперимента: во‐первых, скорость движения участников измеряли с помощью механического секундомера, что легко позволяет ошибиться. Во-вторых, хотя тот человек, который измерял скорость движения, и не знал, попали ли испытуемые в экспериментальную группу или в контрольную, но зато это мог увидеть, даже непроизвольно, тот экспериментатор, который раздавал испытуемым грамматические задания (соответственно, содержащие слова про старение или нет). Исследователи ликвидировали оба эти фактора. Во-первых, они стали измерять скорость с помощью двух инфракрасных датчиков движения в начале и в конце коридора. Во-вторых, привлекли в качестве экспериментаторов, раздававших задания, студентов, которые ничего не знали об истинной цели эксперимента, общались с испытуемыми по строгому сценарию и выдавали задания в закрытых конвертах. И эффект исчез. Теперь люди после выполнения задания шли по коридору с одинаковой скоростью независимо от того, попались ли им какие-нибудь слова про старение или нет.
Но это не конец истории. Во второй серии экспериментов исследователи честно рассказали студентам, раздававшим задания, о том, какую гипотезу они проверяют. Вот, говорят, есть версия, что люди, получившие слова, связанные со старением, будут ходить медленнее. Давайте вы будете выдавать половине испытуемых конверты с заданиями, в которых есть такие слова, а второй половине – нейтральные задания. Общайтесь с ними, пожалуйста, по строго прописанному сценарию. И еще вот мы в принципе измеряем скорость инфракрасными датчиками, но это экспериментальное оборудование, мы не знаем, насколько это надежно, так что вы, пожалуйста, на всякий случай проконтролируйте и с помощью секундомера.
Предсказуемо выяснилось, что при использовании секундомера, который студенты запускали и останавливали вручную, испытуемые ходили медленнее именно тогда, когда экспериментаторы этого и ожидали. Некоторым экспериментаторам, кстати, наврали, что люди должны будут ходить быстрее, – и измерение времени с помощью механического секундомера дало ровно такой эффект. Но гораздо интереснее другое: если экспериментатор выдавал испытуемому набор предложений, содержащий слова о старении, и знал об этом, и ожидал замедления, то человек после выполнения задания действительно шел медленнее. То есть объективно. По результатам измерения с помощью инфракрасного датчика. Так получилось, вероятнее всего, потому, что экспериментаторы, хотя и разговаривали с людьми по стандартному протоколу, но бессознательно замедляли собственную речь и жестикуляцию, ожидая, что человек сейчас пойдет медленно. А испытуемый, со своей стороны, бессознательно подстраивался под темп речи собеседника – и действительно замедлялся, и по коридору потом шел медленнее. Так что статья об этом исследовании называется “Поведенческий прайминг: все в голове, но в чьей?”.
Еще бывает, что открытие сначала закрывают, а потом открывают обратно. Вот вам свежая история про старинный эксперимент с карандашом в зубах (на самом деле с маркером, обернутым в войлок, но в ходе многочисленных пересказов все привыкли называть его именно карандашом). В 1988 году исследователи, как всегда, обманули испытуемых: сказали им, что изучают, каким образом инвалиды могут справляться с повседневными задачами без помощи рук. Задача участников исследования заключалась в том, чтобы рисовать линии и заполнять опросники, удерживая маркер во рту. Их подробно проинструктировали, как именно следует это делать. Одна группа зажимала маркер в зубах, не прикасаясь к нему губами. Вторая, напротив, удерживала его только губами, вытянутыми в трубочку. Среди прочих заданий, им подсунули комиксы, которые требовалось оценить по десятибалльной шкале “очень смешно – совсем не смешно”. И выяснилось[346], что те, кто держал маркер губами (и приобретал от этого нахмуренное выражение), оценили комиксы в среднем на 4,32 балла. Те, кто держал маркер в зубах (и напрягал мышцы щек таким же образом, как при улыбке и смехе), набрали 5,14 баллов. Контрольная группа, державшая маркер в левой руке, получила промежуточный результат.
Этот эксперимент многие годы служил самым известным подтверждением гипотезы мимической обратной связи, предполагающей, что выражение лица влияет на переживаемые эмоции (“Улыбайтесь – и ваше настроение улучшится!”), – пока в 2016 году не подоспели результаты его воспроизведения на 1894 испытуемых в 17 независимых лабораториях. Где‐то комиксы показались чуть более смешными тем, кто держал карандаш в зубах; где‐то – тем, кто держал его губами; но в целом не было никакой разницы, увы, исследование не воспроизвелось, гипотеза не подтвердилась[347]. Бывает.
Но и это не конец истории. В 2018 году вышло еще одно воспроизведение[348]. В вольном переводе его заголовок звучит так: “Ребята, не расстраивайтесь, вы все правы”. Авторы обратили внимание на то, что свежая работа отличалась от исходной по одному важному параметру: испытуемых записывали на видео, и они об этом знали. И вот выяснилось, что если протестировать людей в одних и тех же условиях, но только половину записывать на видео, а половину нет, то эффект появляется вновь – но только для тех, кого не снимали. Большинство людей обращает внимание на камеру, они чувствуют себя объектом наблюдения, воспринимают себя и свои комиксы отстраненно, и если их мозг и посылает какие‐то слабые сигналы от мышц лица, ассоциированные с радостью или нахмуренным выражением, то они не пробиваются через более мощный фильтр сосредоточенности от присутствия видеокамеры. Теперь вот ждем воспроизведения в 17 лабораториях этих результатов, едим попкорн, молимся св. Дарвину.
Потому что вот смотрите, какая штука получается. Вообще‐то никто не сомневается, что контекст влияет на поведение разными причудливыми и плохо осознаваемыми способами. Другой вопрос, что это невероятно плохо воспроизводится, потому что каждый раз на испытуемого влияет еще миллион вещей, от ожиданий экспериментаторов до включенной камеры, – а это только то, что удалось выявить. “Ну а чего вы, блин, вообще ожидаете? – пишут[349] психологи, изучающие прайминг. – Вы расстраиваетесь, что эффекты плохо воспроизводятся, а надо радоваться, что они воспроизводятся хотя бы иногда, с самого начала же понятно, что мельчайшие отличия в экспериментальной процедуре будут оказывать значительный эффект”[350].
Но, конечно, это слабое утешение, и сейчас у экспериментальных психологов накопилось серьезное разочарование во всех этих поведенческих экспериментах, из которых добрую половину не удается повторить[351]. Вообще‐то тот факт, что другую половину – все‐таки удается, сам по себе прекрасен и восхитителен. Но да, действительно, на сегодняшний день экспериментальная психология работает хорошо и надежно, когда имеет дело с какими‐то базовыми этапами обработки информации, универсальными для всех людей, и немедленно выходит на тонкий лед, когда речь идет о сложных абстрактных понятиях, сформированных у каждого человека под действием индивидуального опыта, вроде вот чувства юмора или ассоциаций со старением.
Пример простой и надежной области, в которой результаты неплохо воспроизводятся уже полвека, – это опять прайминг, только не поведенческий, а семантический. Идея незамысловатая: вам показывают (или дают услышать) какое-нибудь слово, а потом какое-нибудь другое слово. Ваше задание – понять, является второе слово реально существующим (например, “трапеция”) или несуществующим (“тапицеря”). Понятно, что вы справитесь с этим заданием в любом случае, но исследователей интересует время реакции – они измеряют, сколько времени вы будете думать перед тем, как примете решение. И всегда выясняется, что люди распознают существующее слово быстрее всего, если перед этим им показать другое существующее слово из того же самого семантического ряда. Они быстро узнают трапецию, если перед ней был круг, быстро узнают доктора, если перед ним была медсестра, и так далее. Они тормозят чуть дольше, если первое слово было настоящим, но не связанным по смыслу, и тормозят еще дольше, если им сначала показать бессмысленное слово. В этом конкретном эксперименте[352] среднее время реакции составило 890, 1051 и 1139 миллисекунд соответственно. Но интересен он не этим, а тем, что все происходило в томографе и параллельно исследователи смотрели, какие зоны мозга активны. Собственно, активировались во всех случаях зоны мозга, связанные с обработкой семантической информации (в частности, верхняя височная извилина, где находится зона Вернике), но интересно то, что при обработке семантически связанных слов ее активность была меньше, чем при обработке несвязанных. И времени выполнение задания занимало меньше. И ошибок люди делали меньше. Потому что задание проще. Где круг, там и трапеция, все же понятно, мозг может позволить себе не напрягаться.
Когда мы изучаем, как мозг принимает относительно простые решения (это слово существует или нет? на картинке изображено лицо или домик? надо ли соглашаться на цветную фигуру?), то наблюдаемые процессы хорошо согласуются с базовыми представлениями, сформированными в экспериментах с вживленными электродами на мышах, обезьянах и улиточках. На этом уровне мы видим, что мозг материален. Что информация, полученная нами извне, кодируется в виде определенных паттернов активности нервных клеток. Что здесь важно, насколько сильно они возбудились (с какой частотой отправляют импульсы соседям) и в каком именно участке мозга это произошло. И это упрощает или усложняет, делает более точной или искажает обработку информации в других отделах. Буквально за счет арифметических вычислений, постоянного сопоставления конкурирующих сигналов.
Когда мы говорим о более сложных решениях (смешная ли картинка? счастливы ли вы в жизни?), то мы предполагаем, что принципиально происходит то же самое. Решение складывается из многих-многих паттернов активности, и влияние некоторых из них иногда удается выявить в исследованиях. Хорошая погода, вероятно, повышает активность прилежащего ядра, и это вносит свой вклад в сиюминутную оценку счастья в целом. Зажатый в зубах карандаш, вероятно, возбуждает те отделы моторной коры, которые обычно контролируют смех и улыбку, и это может повлиять на оценку комиксов, если только все внимание не оттянул на себя участок мозга, контролирующий, прилично ли мы выглядим в глазах окружающих. Но уже на этом уровне сложности такое предположение не очень‐то просто подтвердить прямыми исследованиями в томографе. Чем сложнее поведение, тем больше разных отделов в него вовлечены понемножку.
Где же здесь свобода воли? – возможно, спросите вы. Черт ее знает. Мне всегда было ужасно скучно читать рассуждения про нее, они слишком неконкретные. Из общих соображений я могу сказать, что наша свобода воли заключается в том, чтобы выбирать, на каких внутренних импульсах фокусировать внимание, тем самым их усиливая. Как вы помните, у нас есть не только поток информации снизу вверх, но и его корректировка за счет потока информации сверху вниз. Но здесь гораздо сложнее ответить на вопрос, а кто собственно такие “мы”, которые выбирают, на чем фокусировать внимание? Так‐то получается, что “мы” – это все равно сумма активностей разных отделов нашего мозга, такая вот иллюзия существования личности. “Миф о собственной исключительности, возникший из‐за сложной организации нервной деятельности”, как это формулирует поэт Вера Полозкова.
Что хотел сказать автор?
Сегодня я разговаривала по Скайпу с прекрасной девушкой, которая думает, поступать или не поступать в магистратуру по когнитивным наукам. А после этого вылизывала девятую главу книжки и добавила в нее ссылку номер 17, обзор исследований о разнице зрительного восприятия между представителями индивидуалистских и коллективистских культур. И попутно отправила эту статью своей собеседнице со следующим комментарием: “Простой тест на то, стоит ли вам лезть в нашу песочницу. Если вы, читая это, думаете: «А-а-а-а! Офигенно!» – то да”.
Так вот. Мне совершенно неважно, помните ли вы сейчас, что делает NMDA-рецептор, и врубились ли в схему работы ганглиозных клеток с on-центром. Если вам понадобится, то вы об этом потом еще раз прочитаете – может быть, у меня в книжке или в любом другом научпопе, может быть, в учебниках по нейробиологии, может быть, в статьях-первоисточниках.
Мне бы, в принципе, хотелось, чтобы вы прониклись основными идеями, которые я тут все время крутила на разные лады: что мозг материален, что мозг изменчив и что мозг неоднороден. Мне представляется, что осознание этих его свойств полезно в повседневной жизни, потому что позволяет относиться к себе и окружающим с большей долей доброжелательности и большей долей иронии.
Но единственное, что меня интересует по‐настоящему, – надежда на то, что хотя бы несколько раз в ходе чтения вы испытали чувство “А-а-а-а! Офигенно!”. Мне кажется, честно говоря, что это самый сильный внутренний наркотик из всех, которые умеет вырабатывать наш великолепный, зубодробительно сложный, познаваемый, материальный мозг.
Спасибо.
Краткий курс нейробиологии
Название этого раздела – конечно, отсылка к Довлатову: “Вам трех недель достаточно. Мне трех лет не хватило бы. А эти дураки за три часа все напишут”.
Как работают нейроны
С точки зрения биолога, жизнь – это различие концентрации ионов внутри и снаружи клеточной мембраны, а смерть – выравнивание этих концентраций. В норме внутри всех живых клеток (не только нейронов) есть много ионов калия, а снаружи – много ионов натрия. Над тем, чтобы это было так, постоянно трудится белок по имени натрий-калиевая аденозинтрифосфатаза, сокращенно Na+/K+‐АТФ‐аза. Это, в общем‐то, главное, ради чего мы постоянно дышим и едим.
Кислород и глюкоза нужны, чтобы клетки могли синтезировать АТФ – универсальную клеточную батарейку, молекулу, которая расщепляется с высвобождением энергии. Эту энергию Na+/K+‐АТФ‐аза использует для того, чтобы непрерывно перекачивать ионы через мембрану клетки: калий внутрь, натрий наружу. Если мы перестанем дышать, АТФ быстро закончится, Na+/K+‐АТФ‐аза перестанет работать, ионы потекут по градиенту концентрации (оттуда, где их много, туда, где их мало), и тогда, например, нервные клетки больше не смогут отправить ни одного импульса. А это и есть смерть.
Пока мы еще живы, у нас много ионов калия внутри клеток и мало – снаружи. Этот градиент концентрации подталкивает их к тому, чтобы постоянно пытаться утекать на свободу, и у многих получается. И это тоже хорошо, потому что они уносят с собой свой положительный заряд и в результате на мембране нервной клетки формируется разность потенциалов: отрицательный заряд внутри и положительный снаружи. Именно так обстоят дела, пока нейрон находится в состоянии покоя и никуда не посылает никаких импульсов.
Но нейрон не был бы нейроном, если бы не был готов к тому, чтобы все изменилось. Ключевая идея его работы в том, что на каком‐то участке его мембраны может возникнуть локальная деполяризация, то есть снижение разности потенциалов, а часто и инверсия ее знака. Это возможно благодаря тому, что на мембране нейрона есть много каналов, которые до поры до времени закрыты, а вот если они откроются, то через них интенсивно потекут внутрь ионы натрия. Именно это происходит, в частности, тогда, когда нейрон получает сигнал от соседа. Этот сигнал приходит в виде молекул-нейромедиаторов, они связываются с белками-рецепторами, форма рецепторов изменяется, открываются ворота для ионов, натрий устремляется внутрь, и на конкретном небольшом участке мембраны теперь получается положительный заряд внутри и отрицательный снаружи.
Если стимуляция была слабой, каналов открылось мало и натрия зашло мало, то ничего не произойдет. Na+/K+‐АТФ‐аза выкачает натрий из клетки обратно, и история закончится, не начавшись. Но если удалось преодолеть пороговый уровень деполяризации (в случае классического нейрона из учебников – изменить мембранный потенциал с – 70 до – 55 милливольт), то начинается цепная реакция. К тем каналам, которые открылись благодаря химическому сигналу от соседнего нейрона, подключаются потенциал-чувствительные ионные каналы, которые открываются уже просто потому, что изменился заряд на мембране. В результате этих событий возбуждение начинает распространяться вдоль по мембране, открывая все новые и новые каналы. Когда оно дойдет до синапса – места контакта между нейронами, – там тоже выделятся нейромедиаторы и активируется уже следующая нервная клетка. А на том месте, где возбуждение исходно возникло, мембранный потенциал и концентрация ионов постепенно возвращаются к прежнему состоянию.
(Сразу после того, как по мембране прокатился импульс, у нас отрицательный заряд снаружи и положительный внутри. Натриевые каналы, которые только что пропустили внутрь клетки много ионов натрия, теперь временно закрылись и больше натрий внутрь не пускают. Зато открыты калиевые каналы, и ионы калия интенсивно вытекают наружу – под действием электрического градиента, то есть оттуда, где заряд положительный, туда, где он отрицательный. Потом подключается Na+/K+‐АТФ‐аза и постепенно наводит порядок: загоняет ионы кальция обратно внутрь нейрона и выгоняет оттуда ионы натрия. Теперь нейрон снова готов к работе.)
Существование потенциал-чувствительных ионных каналов оказывается очень полезным, когда мы хотим стимулировать нейроны с помощью электродов (или транскраниальной магнитной стимуляции). Внешнее электрическое поле, наведенное на какой‐то участок нервной ткани, приводит как раз к тому, что эти каналы открываются и нейроны, соответственно, начинают генерировать собственные импульсы, а потом и возбуждать своих соседей. Хосе Дельгадо (тот биолог, который останавливал разъяренных быков) говорит об этом так:
Обсуждая вопрос о том, может ли простой электрический стимул быть причиной многих событий, составляющих поведенческий ответ, мы можем также спросить, является ли палец, нажимающий на кнопку, чтобы отправить человека на орбиту, ответственным за сложную технику или последовательность операций. Очевидно, что палец, как и электрический стимул, – это только триггер для запрограммированной последовательности событий. ‹…› Вызванные эффекты, как и при других цепных реакциях, больше зависят от функциональных свойств активированных структур, чем от стартового стимула.
Какие бывают синапсы
Самая простая разновидность – электрические синапсы. Мембраны двух нейронов сближаются вплотную, их пронизывают общие каналы, через которые могут перетекать ионы. Такой синапс проводит информацию очень быстро и может работать в обе стороны. Проблема с такой передачей в том, что свойства сигнала никак невозможно настраивать. В нервной системе человека электрических синапсов не очень много, и в основном они работают там, где нужна синхронизация активности многих клеток, например в дыхательном центре.
Абсолютное большинство контактов между нейронами в мозге человека происходит с помощью химических синапсов. Когда электрическое возбуждение распространилось по мембране до пресинаптического участка, оно приводит там к открытию кальциевых каналов. Ионы кальция попадают внутрь возбужденного нейрона, активируют чувствительные к ним белки и запускают цепочку реакций, которая приводит к выбросу нейромедиатора (он уже заранее хранится в нужном месте, аккуратно расфасованный по везикулам).
Нейромедиаторы бывают разные. Вы знаете много примеров: глутамат, дофамин, серотонин, норадреналин, ацетилхолин, гамма-аминомасляная кислота. Долгое время считалось, что в одном синапсе может работать только один нейромедиатор, но потом оказалось, что все‐таки бывает и больше (причем выделяться они могут даже независимо друг от друга, в зависимости от параметров сигнала, поступившего на синапс).
Большинство перечисленных нейромедиаторов обладает возбуждающим действием, то есть способствует генерации нервного импульса в следующей клетке. Выделившись в пресинаптическом окончании, нейромедиатор диффундирует через синаптическую щель, связывается с натриевыми каналами, ионы натрия затекают внутрь, на постсинаптической мембране возникает локальная деполяризация, на это реагируют соседние потенциал-зависимые каналы, и нервный импульс начинает распространяться.
Но бывают и тормозные (ингибирующие) нейромедиаторы. Самый известный – гамма-аминомасляная кислота. Ее воздействие приводит к открытию каналов, через которые внутрь постсинаптического нейрона затекают ионы хлора. Соответственно, заряд внутренней стороны мембраны становится еще более отрицательным, нейрон молчит, никаких сигналов не отправляет.
Прелесть этой схемы в том, что она поддается невероятно сложным настройкам. Естественный отбор и индивидуальная нейропластичность могут сколько угодно играть с тем, какие параметры сигнала будут нужны в этом конкретном синапсе для того, чтобы выделились нейромедиаторы, кто именно выделится и в каком количестве, на какие рецепторы он подействует дальше. И плюс вы помните, что в любом поведении участвует не один нейрон, как правило даже не два, а много. И от того, как выплетена сеть, зависит, что именно она сможет делать. Например, нейрон Вася присылает возбуждающие сигналы, нейрон Петя присылает ингибирующие, а нейрон Татьяна Александровна, соответственно, возбуждается или нет в зависимости от того, какой сигнал оказался сильнее.
Мы много говорили о таких сетях в седьмой и восьмой главах. Красные и зеленые колбочки соревнуются друг с другом за то, какой цвет увидит человек. Нейрон любви к маслу и нейрон ненависти к ионам меди соревнуются за то, поползет ли куда-нибудь червяк. То же самое на уровне целого мозга, когда амигдала и прилежащее ядро конкурируют за принятие решения о том, соглашаться или не соглашаться на рискованную инвестицию.
Если вы самый внимательный читатель на свете, то вы даже помните описание нейронной сети, обеспечивающей распознавание светлого пятна ганглиозной клеткой с on-центром. Я тогда вскользь упомянула, что некоторые биполярные клетки, промежуточное звено передачи сигнала, возбуждаются тогда, когда подконтрольная им клетка-колбочка вообще не активна. Теперь могу объяснить, в чем дело. В таких клетках – особенные рецепторы к глутамату (называются mGluR6). Их активация запускает биохимический каскад, который приводит как раз к закрытию натриевых каналов. То есть, когда такая клетка получает глутамат, она запирает каналы и ничего никуда не передает. А как только перестает его получать – каналы открываются. Так что вот видите, я вам говорила, что глутамат – возбуждающий нейромедиатор, а оказывается, тоже не всегда. Зависит от того, какими рецепторами его воспринимать. Это к вопросу о безграничных возможностях настройки.
Зачем нужны глиальные клетки
В мозге есть не только нейроны, но и глия – клетки, которые сами не передают сигналов, но обеспечивают нейронам нормальные условия для работы. У них куча функций: они поддерживают правильный химический состав межклеточной жидкости, служат каркасом, на котором растут юные нейрончики, помогают захватывать из синаптической щели лишние нейромедиаторы, убирают мусор, участвуют в создании гематоэнцефалического барьера (таможни между кровеносными сосудами и мозгом) и даже выполняют некоторые иммунные функции, потому что нормальным иммунным клеткам в мозг прохода нет.
Примерно половина всех клеток в мозге – это клетки астроглии, или астроциты, названные так за свою красивую звездчатую форму. Они контактируют с каждым синапсом и откачивают оттуда лишние ионы калия, тем самым способствуя тому, чтобы нейрон после вспышки активности быстрее восстановил правильную концентрацию ионов по обе стороны своей мембраны и был готов к дальнейшей работе. Они также чистят синаптическую щель от остатков нейромедиатора, чтобы они не продолжали возбуждать следующий нейрон, когда уже не надо. Например, захватывают оттуда глутамат, переделывают его в глутамин и возвращают обратно в пресинаптическое окончание, чтобы там опять синтезировать глутамат. Астроциты, кроме того, выделяют вещества, способствующие росту новых синапсов, а еще тесно контактируют с кровеносными капиллярами, таким образом выбрасывая в кровь все лишнее и забирая оттуда все нужное. Астроглия может, например, забирать из крови глюкозу и транспортировать ее к своим подопечным нейронам, даже на довольно большие расстояния.
Другая важная разновидность глии – это олигодендроциты. Они вырабатывают[353] миелин, белково-жировую изоляционную оболочку для аксонов (отростков нервных клеток, которые передают информацию от нейрона к другим нейронам или к мышцам). Нервным клеткам иногда приходится отправлять свои аксоны на довольно протяженные расстояния (например, от спинного мозга на палец ноги). При этом вы помните, что сигнал распространяется по мембране нейрона постепенно: вовлекается один потенциал-чувствительный канал, потом соседний, потом следующий. Скорость распространения сигнала – метры в секунду. Это, конечно, неплохо, и большинство беспозвоночных этим вполне обходится, но мы, позвоночные, хотим соображать быстрее. Поэтому многие аксоны у нас миелинизированы. Клетка-олигодендроцит плотно-плотно оплетает отросток нейрона изолирующим материалом, и в этом месте его мембрана вообще не может пропускать никакие ионы. Пропускает ионы она только там, где изоляции нет (эти участки называются перехватами Ранвье и расположены примерно на расстоянии в один миллиметр друг от друга). Получается, что сигнал движется скачками, и это может увеличивать скорость его распространения аж до 150 метров в секунду. При заболеваниях, из‐за которых миелин разрушается, животные и люди страдают от огромного количества неврологических нарушений, от размытого зрения до плохой координации движений, потому что сигналы часто вообще теряются, рассеиваются, ослабевают по ходу передачи и не доходят до нужного места в принципе.
Особняком стоит микроглия, она вообще не родственник нервных клеток, она на ранних этапах эмбрионального развития мигрирует в центральную нервную систему из костного мозга (который, как вы знаете, занимается вообще‐то производством клеток крови, в частности иммунных клеток). Она играет в мозге функции, похожие на функции макрофагов в остальном организме, то есть подъедает всякий мусор. Более того, она может не только подъедать мусор, но и откусывать ненужные синапсы – и, по‐видимому, это играет большую роль в нормальном развитии мозга. Еще микроглия умеет разговаривать на том языке химических сигналов, который понятен настоящим иммунным клеткам (и, как пишет Кандель в своем учебнике, способна при необходимости – а иногда и по ошибке – призвать их в мозг, куда они в норме вообще не ходят), но вот это пока ужасно темная история. И про мозг‐то, как видите, не все понятно, а уж взаимодействие иммунитета и мозга вообще пока темный лес процентов на восемьдесят.
Ключевые отделы мозга
Анатомию мозга (как и абсолютно любую другую область биологического знания) легче понять, если смотреть на нее с точки зрения эволюции. Сначала были животные наподобие современных ланцетников, с нервной трубкой, проходящей по всей длине тела. Потом появились рыбки, у которых передний отдел нервной трубки здорово расширился, стал выполнять более сложные функции, стал уже называться мозгом и даже подразделяться на отделы, которые в общем унаследовали и мы, только у нас их стало еще больше. Потом уже этот передний конец нервной трубки так разросся, что ему пришлось всячески изгибаться, чтобы уместиться в черепе, и у нас, людей, уже сложно различить исходную линейную структуру – разве что на ранних стадиях эмбриогенеза. Про это есть классная книжка Нила Шубина “Внутренняя рыба”, посвященная темному наследию нашей биологической эволюции.
Если смотреть от хвоста к мордочке, то сначала мы увидим спинной мозг, который ничего сложного, в общем, не делает. Передает вверх сигналы от рецепторов кожи, мышц и суставов, передает вниз команды для мышц. Может осуществлять какую‐то простую рефлекторную деятельность, вроде отдергивания руки от горячего предмета. В принципе, можно сказать, что спинной мозг контролирует ходьбу млекопитающих, полет птиц или плавание рыб – но только до тех пор, пока мы размеренно совершаем однообразные движения. Как только дорожка, по которой идет животное, становится неровной, а птица или рыба попадает в зону турбулентности, приходится подключать высшие отделы мозга, чтобы принимать меры. И уж точно не спинным мозгом мы решаем, куда мы хотим попасть.
Спинной мозг переходит в ствол мозга, и вот это уже прямо самая важная область. Если его повредить, человек почти наверняка умрет. Зато если ствол мозга сохранился, то жизнеобеспечение возможно даже без всего остального. Ну насчет человека я не уверена, но был такой знаменитый цыпленок по имени Майк. Хозяин собирался отрубить ему голову, чтобы съесть птицу на ужин, но удар топора пришелся высоко, и ствол мозга сохранился. Майк остался жив, он ходил (довольно неуклюже), балансировал на жердочке, пытался кукарекать, хотя и издавал только невнятное клокотание. Хозяин засовывал ему в пищевод зерна кукурузы, заливал молоко из пипетки и здорово обогатился, гастролируя с животным по всей Америке. Так продолжалось полтора года, но потом Майк погиб от удушья: у него и раньше были проблемы с дыханием, но обычно хозяин успевал прочистить ему трахею, откачивая слизь шприцем. Увы.
Ствол мозга включает три отдела: продолговатый мозг, мост и средний мозг (продолжаем идти снизу вверх). Продолговатый мозг контролирует дыхание, кровообращение, дает нам возможность глотать, чихать и кашлять, испытывать тошноту. Мост вовлечен уже в более сложные функции, такие как сон, мочеиспускание, поддержание равновесия. А вообще это пункт приема и перераспределения сигналов, он позволяет моторной коре обмениваться информацией с мозжечком, пропускает через себя информацию от органов чувств, отправляет команды на мимические мышцы и так далее и так далее (мы вплотную подошли к тому моменту, когда перечислить все функции какого‐то отдела уже невозможно). Средний мозг – это основная область, в которой вырабатывается дофамин, а значит, она важна для всего, для чего важен этот нейромедиатор (то есть для контроля за движениями и мотивации). Это первый отдел из тех, которые уже всплывали в основном тексте книжки: совсем недавно, в главке про любовь, я упоминала, что у влюбленных людей повышена активность вентральной области покрышки; вот она как раз там.
Во время эмбрионального развития от того же участка нервной трубки, который превратится в ствол мозга, обособляется и мозжечок. Это важнейшая зона для контроля за движениями, их планирования, моторной памяти. Такие задачи требуют больших вычислительных мощностей, причем не столько даже для формирования правильного движения, сколько для подавления всего лишнего (понаблюдайте за тем, как хаотично двигаются люди, которые только начали осваивать какой‐то моторный навык, и насколько экономичными на этом фоне выглядят отточенные движения профессионалов). В мозжечке выплетены красивейшие и сложнейшие нейронные сети, и абсолютное большинство нейронов мозга находится именно там – примерно 69 миллиардов из тех 86, которые вообще есть у человека. При этом интересно, что сам мозжечок отправляет мало сигналов вниз, к мышцам тела. В основном он сообщает моторной коре, как именно он рекомендует достигать поставленных целей, а окончательный приказ формулирует уже она.
Следующий большой отдел – это промежуточный мозг. Он включает в себя таламус, про который мы говорили очень много, – именно там, как нетрудно догадаться, находится латеральное коленчатое тело таламуса, промежуточная станция обработки зрительной информации. По соседству есть медиальное коленчатое тело, которое делает то же самое для слуховой системы. И вообще таламус – центральный пункт обработки и перераспределения сенсорной информации, а еще он важен для контроля за сном и бодрствованием. Именно таламус поражается при фатальной семейной бессоннице – прионном[354] заболевании, при котором человек все меньше и меньше способен спать, начинает страдать от галлюцинаций и панических атак и через несколько месяцев умирает. Никакого лечения от этой болезни нет. Она развивается у людей с мутацией в гене PRNP, но не сразу, а в среднем в возрасте 50 лет. Соответственно, у них уже есть дети, которые наблюдают мучительную смерть своих родителей и знают, что с вероятностью 50 % то же самое произойдет и с ними. Но есть и хорошие новости: в мире известно всего четыре семьи, страдающие от этой болезни, и понятно, что теперь, в XXI веке, все члены этих семей могут воспользоваться преимплантационной генетической диагностикой, чтобы гарантированно не передать заболевание своим детям.
Кроме таламуса, к промежуточному мозгу относятся эпиталамус, гипоталамус и гипофиз. Про них я в этой книжке ничего не рассказывала, но они важные. Эпиталамус вырабатывает мелатонин (“гормон сна”), гипоталамус контролирует вообще всю работу эндокринной системы, а гипофиз слушает команды гипоталамуса и выбрасывает в кровь разные гормоны, которые дальше действуют либо на эндокринные железы в нашем организме (как, например, тиреотропный гормон, регулирующий работу щитовидной железы), либо напрямую на все наши органы и клетки (как соматотропный гормон, он же “гормон роста”).
Мы приближаемся к вершине и начинаем говорить о последнем из крупных отделов. Он так и называется: конечный мозг[355], в том смысле, что он находится на переднем конце тела, пока вы простое животное. Вот у рыбки, например, основная часть конечного мозга – это обонятельные доли, нужные, как легко догадаться, для анализа химических сигналов из внешней среды. И в целом он у рыбки совсем маленький, гораздо меньше среднего мозга или мозжечка, и какой‐то принципиальной роли в ее духовной жизни не играет. Зато дальше конечный мозг все увеличивается и увеличивается, увеличивается и увеличивается, особенно резко – у млекопитающих. Крыса – это последний по сложности пример животного, у которого обонятельные доли еще виднеются из‐под разросшейся коры. Уже у кошек и собак ее настолько много, что она собирается в извилины (для экономии места) и прикрывает весь мозг, кроме мозжечка. Так же и у нас.
Кроме коры и обонятельных долей, конечный мозг включает множество подкорковых структур – собственно, практически все, о которых мы говорили в книжке. К нему относится гиппокамп (связанный с памятью), амигдала (связанная с эмоциями, особенно со страхом), прилежащее ядро (“центр удовольствия”). Это последнее включено в большую сеть подкорковых центров, которые вместе называются базальными ганглиями[356]. Их основная задача в том, чтобы служить посредниками между моторной корой, непосредственно отправляющей сигналы к мышцам, и всеми остальными областями коры, решающими, зачем, собственно, это надо делать. Но сигналы они передают, конечно, не пассивно, а всячески их преобразовывая, так что вовлечены не только в контроль за движениями, но и в формирование мотивации к тому, чтобы эти движения вообще совершать. Типичный представитель базальных ганглиев – это хвостатое ядро, которое вы недавно видели в главке про любовь, а еще его стимулировал своим бешеным быкам Хосе Дельгадо. Но вообще, базальных ганглиев в мозге еще много разных. Именно они поражаются как при болезни Паркинсона (и человек испытывает трудности с тем, чтобы двигаться), так и при болезни Хантингтона (и человек, напротив, совершает чрезмерные хаотические движения).
Но понятно, что главное в мозге, с точки зрения его обладателя, – это кора. Ну просто потому, что вообще задуматься о том, кто главный, способна только она. Анатомически кора делится на четыре большие доли: лобную, теменную, височную и затылочную. Еще есть маленькая островковая кора, я ее упоминала в связи с недовольством высокими ценами в нейроэкономических экспериментах. Функционально кора бывает трех типов. Моторная кора отправляет сигналы к мышцам – этим занимается только один конкретный участок в лобной доле на границе с теменной. Сенсорная кора обрабатывает информацию от органов чувств. В частности, затылочная доля занимается зрением, кусок височной коры – звуковыми сигналами, кусок теменной коры – осязанием. Запахи в основном анализируются на уровне обонятельной луковицы, которая к коре не относится. О своих выводах она сообщает амигдале, гиппокампу, таламусу и орбитофронтальной коре. Информация о вкусе поступает в продолговатый мозг (это очень удобно: он может сразу вызвать приступ рвоты, если вы взяли в рот какую‐то чудовищную гадость), оттуда – к гиппокампу, амигдале и таламусу, а таламус уже сообщает об интересных находках своим старшим товарищам, островковой и орбитофронтальной коре.
И ассоциативная кора – то есть все остальное: лобная доля с ее орбитофронтальной, медиальной и латеральной корой, которые взвешивают альтернативы, решают, что хорошо, и что плохо, и что об этом сказать вслух; теменная доля с ее пространственным мышлением, обобщением сенсорной информации, контролем за движущимися объектами; височная доля с ее пониманием слов, распознаванием объектов, автобиографической памятью.
Кора – это примерно 16 миллиардов нейронов, выстроенных в упорядоченные слои с четкой иерархией, с прекрасной нейропластичностью во взрослом возрасте, с распределенными функциями, с постоянным двусторонним обменом информацией как между своими отделами, так и с подкорковыми структурами. В результате деятельности коры возникает самосознание, возникает личность, возникает возможность взаимодействовать с другими обладателями таких же сложных штуковин в черепе, строить общество, придумывать большие проекты. Как именно все это возникает из обмена нервными импульсами, пока понятно не до конца. И все же с каждым годом становится все более понятно, что дело именно в них.
Благодарности
Прежде всего, эта книжка написана благодаря лично вам,
________________________________________________.
Особенно в том случае, если вы и до ее прочтения каким‐то образом со мной взаимодействовали – например, приходили на лекции, или читали предыдущие книжки, или хотя бы писали хейтерские комменты под моими видяшечками на Ютюбе. Все это прямо или косвенно способствует моему финансовому благополучию, а оно, в свою очередь, необходимо для того, чтобы на год минимизировать все остальные рабочие проекты и сидеть целыми днями писать про NMDA-рецепторы.
Кроме того, эта книжка написана благодаря моему обучению в магистратуре Cognitive sciences and technologies в Высшей школе экономики. Это были два замечательных года, я была там страшно счастлива, но важно другое: дело в том, что вы тоже можете туда поступить. Для этого вообще не обязательно быть по первому образованию биологом или психологом. Когнитивные науки бесконечно разнообразны, охотнее всего в нашу магистратуру берут математиков и программистов (потому что научить математика психологии обычно значительно проще и быстрее, чем научить психолога математике). Но и лингвистов берут. И вообще кого попало – сужу по себе, конечно. Там правда очень здорово, особенно если вы хотите заниматься настоящей наукой. Обучение на английском, преподают настоящие ученые с крутыми публикациями, ультрасовременное оборудование, широкое международное сотрудничество, жесткая академическая этика, прозрачные критерии оценивания, самый центр Москвы и хороший вайфай. Бюджетные места есть, общежитие дают. Стипендия в мое время была 1480 рублей. С работой совмещать почти невозможно. Я совмещала, будучи уже очень успешным и высокооплачиваемым фрилансером, и то чуть не сдохла. Но оно того стоило.
Там есть Борис Владимирович Чернышев, который читал нам нейробиологию – вот все это про синапсы, нейромедиаторы, отделы мозга, NMDA-рецепторы. Я пережила этот курс только благодаря тому, что у меня уже был в анамнезе биофак. Сейчас я очень хочу все бросить и пойти еще в одну магистратуру, еще больше сконцентрированную на молекулярной нейробиологии, потому что благодаря лекциям Чернышева я влюбилась в нее по уши и хочу слушать про нее еще и еще.
Там есть Елена Сергеевна Горбунова, широко известная в узких кругах как автор паблика “Когнитивный патимейкер” (это что‐то типа Хармса, но для экспериментальных психологов). Она человек огромного личного обаяния и всепобеждающего логического мышления. Ее курс про высшие функции мозга вообще‐то построен на описании громоздких экспериментов и запутанных теорий, потому что так уж устроена хардкорная когнитивная наука, но при этом слушать его интереснее, чем сказки Шахерезады. У лекций Елены Сергеевны есть два ключевых преимущества перед сказками Шахерезады: понятные схемы со стрелочками и фотографии котят.
Там есть Василий Андреевич Ключарев, про которого я и так разливаюсь соловьем всю книжку без перерывов, потому что у меня к нему светлое и восторженное ученическое обожание. Здесь отмечу, что он согласился прочитать мою книжку до публикации и сказал, что главы, посвященные нейроэкономике, для научпопа вполне годятся, – а лучшего комплимента я не могла бы и ожидать.
И там есть Маттео Феурра. Он занимается транскраниальной стимуляцией, но я умудрилась защитить у него диплом вообще не про нее, а про поведенческие эксперименты, в которых мы с коллегой Владом Муравьевым пугали людей паучками. Мы, собственно, надеялись потом начать одновременно пугать их паучками и катушкой для ТМС, но провозились столько, что у меня закончилась магистратура, а Влад развил свой побочный бизнес до того уровня, что за год вот уже почти заработал на квартиру в Москве (кстати, он не женат), а на научную деятельность в связи с этим временно подзабил. Так бесславно закончилась наша первая попытка стать учеными, но в процессе мы были очень счастливы, потому что нам сказочно повезло с лабораторией, и мы оба очень по ней скучаем.
Dear Matteo, new books are very similar to research projects: each one is a leap of faith. You cannot predict all the doubts and traps, you don’t know whether you achieve any meaningful result at all, and it surely takes much more time than you expected; but you still have to keep working, control over your mind, maintain hope and motivation. And this is the whole list of skills I trained while spending two awesome years near you. So this book is totally inspired by our collaboration. Thank you.
Но, конечно, для создания книжки мало, чтобы тебя чему‐то научили, – надо еще и с кем‐то вместе работать. Я неизменно благодарна издательству Corpus, в частности редактору Александру Кабисову, который вместе со мной два месяца думал над тем, как сделать этот текст более пригодным для восприятия, и художнику Андрею Бондаренко, который еще в 2014 году придумал мои прекрасные разноцветные обложки и продолжает их воплощать.
Прекрасные и безумные картинки в этой книжке нарисовал Олег Навальный. Причем многие – еще тогда, когда он сидел в тюрьме. Я передавала ему через его адвокатов распечатанные фрагменты текста, он рисовал пауков с натуры, сидя в карцере, и я надеюсь, это хоть немного его развлекло. Вообще, Олег очень классный. Я писала ему письма, в которых ныла, что у меня домашки, что у меня рейс в Норильске задержали, что хозяева выгоняют из съемной квартиры, вот такого рода проблемы. А он меня еще и утешал. В ответных письмах прямо из карцера. Столько веселого стоицизма, сколько у этого чувака, я вообще никогда в жизни не видела. Почитайте его книжку “3½”, если вам нужна правильная точка отсчета для ваших жизненных проблем. Мне помогает регулярно.
Мою книжку читали до публикации несколько нейробиологов и всяких прочих биологов. Внимательнее всего это делали Юрий Панчин и Николай Кукушкин, но ряд ценных замечаний также внесли Сергей Антопольский, Анна Марченкова, Александр Панчин. Надо признаться, что я, конечно, учла не все их рекомендации, потому что в некоторых случаях считала простоту текста более важной, чем его абсолютную научную корректность, так что все ошибки и неточности, оставшиеся в тексте, – полностью моя вина и ответственность.
Еще книжку читала прекрасная Женя Тимонова, автор самой известной программы о животных “Всё как у зверей”. Ее отзыв на обложку мне особенно дорог в комплекте с отзывом Ключарева. Пасьянс сошелся, круг замкнулся. Я познакомилась с ними обоими одновременно, в апреле 2015 года, когда мы все приехали читать лекции в рамках проекта “Думай, Казань!”. С Женей мы сразу подружились, а Василий Ключарев рассказал мне, какая офигенная магистратура открылась в Вышке. Я начала о ней мечтать, и это был первый шаг к появлению этой книги. Так что еще спасибо Петру Талантову, который организовал, как выяснилось потом, самое важное выступление в моей жизни.
И конечно, во время работы над книжкой здорово помнить, что тебя кто‐то любит. Прекрасный Николя, главный герой благодарностей во всех моих книжках, на этот раз со мной все‐таки развелся (пока я писала главу про самостоятельное плетение нейронных сетей), потому что мы не смогли договориться о том, что будем делать дальше, когда и если книжка закончится. Но разводились мы исключительно мирно и доброжелательно (даже устроили по этому поводу вечеринку), продолжаем регулярно тусоваться вместе и неизменно рады друг другу. Кроме того, есть много других родственников и друзей, которые меня утешали, смешили, поддерживали и вообще как‐то терпели в непростой и длинный период работы над книжкой, сопровождавшийся бесконечным чередованием комплекса неполноценности и мании величия, не говоря уже о множестве других когнитивных искажений. Вот ужасно неполный перечень: Ян, Арсений, Кася, Надя, Ксюша, мама и бабушка, три Тани, две Кати, одна Анна, один Александр Феликсович. А еще сообщество популяризаторов науки “15 × 4” в полном составе, особенно его харьковская, киевская и львовская ветви. Ребята, я всегда очень счастлива с вами. Здорово, что вы есть.
Список литературы
Научно-популярные книги о мозге и/или психике, которые я упоминала в этом тексте и рекомендую прочитать (или не упоминала, но все равно рекомендую), отсортированные в порядке увеличения сложности:
Лобель Т. Теплая чашка в холодный день. Как физические ощущения влияют на наши решения / Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2015.
Фрит К. Мозг и душа. Как нервная деятельность формирует наш внутренний мир / Пер. с англ. П. Петрова. – М.: АСТ: Corpus, 2018.
Панчин А. Защита от темных искусств. Путеводитель по миру паранормальных явлений. – М.: АСТ: Corpus, 2018.
Газзанига М. Кто за главного? Свобода воли с точки зрения нейробиологии / Пер. с англ. под ред. А. Якименко. – М.: АСТ: Corpus, 2017.
Шубин Н. Внутренняя рыба. История человеческого тела с древнейших времен до наших дней / Пер. с англ. П. Петрова. – М.: АСТ: Corpus, 2017.
Якутенко И. Воля и самоконтроль. Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами. – М.: Альпина нон-фикшн, 2019.
Сакс О. Человек, который принял жену за шляпу / Пер. с англ. Г. Хасина, Ю. Численко. – М.: АСТ, 2019.
Канеман Д. Думай медленно… решай быстро / Пер. с англ. А. Андреева, Ю. Деглиной, Н. Парфеновой. – М.: АСТ, 2018.
Рамачандран В. Мозг рассказывает. Что делает нас людьми / Пер. с англ. Е. Чепель. – М.: Карьера Пресс, 2018.
Пинкер С. Чистый лист. Природа человека. Кто и почему отказывается признавать ее сегодня / Пер. с англ. Г. Бородиной. – М.: Альпина нон-фикшн, 2018.
Кандель Э. В поисках памяти. Возникновение новой науки о человеческой психике / Пер. с англ. П. Петрова. – М.: АСТ: Corpus, 2017.
Хьюбел Д. Глаз, мозг, зрение / Пер. с англ. – М.: Мир, 1990.
Два учебника по нейробиологии, с которыми я постоянно сверялась в процессе написания текста:
Purves, D. et al. (2012). Neuroscience. 5th edition. Sunderland, Massachusetts: Sinauer Associates, Inc.
Kandel, E. R. et al. (2013). Principles of neural science. 5th edition. New York: McGraw-Hill, Health Professions Division.
Ссылки на видеоролики, которые я упоминала в тексте, собраны тут:
-could-think.com/brain_is_tangible/
Если вы внимательный читатель, то вас может удивить, что я часто пишу, например, “Исследование провел Кандель”, а в списке литературы при этом упомянут не Кандель, а Кастеллуччи. Это значит, что Кандель был последним в списке авторов соответствующей статьи. В биологических статьях принято писать первым имя того, кто провел основную экспериментальную работу, а последним – имя руководителя исследования. Посередине может быть еще десяток их коллег, и если бы я перечисляла всех, то ради производства бумаги пришлось бы использовать еще больше деревьев.
Сноски
1
Она же – миндалина, или миндалевидное тело. В русском языке часто сосуществуют альтернативные варианты перевода для одних и тех же отделов мозга, и в основном все определяется личными предпочтениями автора.
(обратно)2
Hamani, C. et al. (2008). Memory enhancement induced by hypothalamic/fornix deep brain stimulation. Annals of Neurology, 63 (1), 119–123.
(обратно)3
Penfield, W. & Rasmussen, T. (1950). The cerebral cortex of man: a clinical study of localization of function. The Macmillan company, New York.
(обратно)4
Quiroga, R. Q. et al. (2005). Invariant visual representation by single neurons in the human brain. Nature, 435, 1102–1107.
(обратно)5
Лучше не спорить с теми, кто собирается делать вам операцию на мозге.
(обратно)6
Гиппокамп, как и многие другие отделы мозга, – симметричная структура, то есть у нас их два, правый и левый. Обычно говорят просто “задний левый гиппокамп”, “правая дорсолатеральная кора” и т. п.
(обратно)7
В любом месте, где я не даю достаточно пояснений, мысленно подставляйте фразу “мы к этому еще вернемся”. Книжка про мозг похожа на сам мозг: в ней все связано со всем.
(обратно)8
Woollett, K. & Maguire, M. (2011). Acquiring “the Knowledge” of London’s Layout Drives Structural Brain Changes. Current Biology, 21 (24), 2109–2114.
(обратно)9
Если это утверждение показалось вам неочевидным, отсылаю вас к другим хорошим научно-популярным книгам: “Чистый лист” Стивена Пинкера и “Воля и самоконтроль” Ирины Якутенко.
(обратно)10
Dima, D. et al. (2009). Understanding why patients with schizophrenia do not perceive the hollow – mask illusion using dynamic causal modelling. Neuroimage, 46, 1180–1186.
(обратно)11
Lafer-Sousa, R. et al. (2015). Striking individual differences in color perception uncovered by “the dress” photograph. Current Biology, 25 (13), R545 – R546. Глава 1. Можно ли жить без мозга?
(обратно)12
Harlow, J. M. (1848). Passage of an Iron Rod Through the Head. Reprinted in The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 1999, 11 (2), 281–283.
(обратно)13
Harlow, J. M. (1868). Recovery from the passage of an iron bar through the head. Reprinted in History of Psychiatry, 1993, 4, 274.
(обратно)14
Финеас Гейдж при жизни сам отдал стержень в музей, но вскоре передумал и забрал его обратно. Их можно видеть вместе на сохранившихся фотографиях, а некоторые источники даже указывают, что Финеас и его стержень были похоронены вместе и вместе же эксгумированы впоследствии.
(обратно)15
Damasio, H. et al. (1994). The return of Phineas Gage: clues about the brain from the skull of a famous patient. Science, 264 (5162), 1102–1105.
(обратно)16
Ratiu, P. et al. (2004). The Tale of Phineas Gage, Digitally Remastered. The New England Journal of Medicine, 351: e21.
(обратно)17
Van Horn, J. D. et al. (2012). Mapping Connectivity Damage in the Case of Phineas Gage. PLOS One, 7 (5): e37454.
(обратно)18
Macmillan, M. & Lena, M. (2010). Rehabilitating Phineas Gage. Neuropsychological Rehabilitation: An International Journal, 20 (5), 641–658.
(обратно)19
Строго говоря, зона Брока расположена именно в левом полушарии у большинства людей, но не у всех. Около 4 % правшей и около 15 % левшей и амбидекстров используют для тех же задач симметричный участок правого полушария – или оба полушария одновременно*.
* Knecht, S. et al. (2000). Handedness and hemispheric language dominance in healthy humans. Brain, 123 (12), 2512–2518.
(обратно)20
Lorch, M. (2011). Re-examining Paul Broca’s initial presentation of M. Leborgne: Understanding the impetus for brain and language research. Cortex, 47 (10), 1228–1235.
(обратно)21
Geschwind, N. (1967). Wernicke’s Contribution to the Study of Aphasia. Cortex, 3 (4), 449–463.
(обратно)22
Лурия, А. Р. (1947). Травматическая афазия. Клиника, семиотика и восстановительная терапия. М.: Издательство АМН СССР.
(обратно)23
Raja Beharelle, A. et al. (2010). Left hemisphere regions are critical for language in the face of early left focal brain injury. Brain, 133 (6), 1707–1716.
(обратно)24
В мозге все перепутано: левое полушарие контролирует мышцы правой половины тела, и наоборот. У большинства людей левое полушарие доминирует, и именно поэтому им – нам – удобнее выполнять точные движения правой рукой. Но это доминирование может быть выражено в разной степени, и, видимо, это касается как контроля за движениями, так и локализации речевых центров.
(обратно)25
Лурия, А. Р. (1947). Травматическая афазия. Клиника, семиотика и восстановительная терапия. М.: Издательство АМН СССР.
(обратно)26
Если честно, я тоже пользуюсь подобными приемами; травм мозга у меня не было, но я в принципе глуповата. Например, я не умею непосредственно различать право и лево, но зато я помню, на какой ноге у меня есть шрам, и помню, что она левая, – от этого факта выстраиваю и все остальные пространственные отношения.
(обратно)27
Bates, E. (1994). Modularity, Domain Specificity and the Development of Language. Discussions in Neuroscience, 10 (1/2), 136–149.
(обратно)28
Ardila, A. et al. (2016). How Localized are Language Brain Areas? A Review of Brodmann Areas Involvement in Oral Language. Archives of Clinical Neuropsychology, 31 (1), 112–122.
(обратно)29
Huth, A. et al. (2016). Natural speech reveals the semantic maps that tile human cerebral cortex. Nature, 532, 453–458.
(обратно)30
Faria, M. A. (2013). Violence, mental illness, and the brain – A brief history of psychosurgery: Part 1 – From trephination to lobotomy. Surgical Neurology International, 4 (49).
(обратно)31
Moniz, E. (1937). Prefrontal leucotomy in the treatment of mental disorders. The American Journal of Psychiatry, 93, 1379–1385.
(обратно)32
Freeman, W. & Watts, J. (1942). Prefrontal lobotomy: the surgical relief of mental pain. Bulletin of the New York Academy of Medicine, 18 (12), 794–812.
(обратно)33
Walker, C., Hart A., Hanna P. (2017). Introduction: Conceptualising mental health in the twenty-first century. In: Building a New Community Psychology of Mental Health. Palgrave Macmillan, London.
(обратно)34
Leveque, M. (2014). Psychosurgery: New Techniques for Brain Disorders. Springer.
(обратно)35
Freeman, W. (1953). Lobotomy and Epilepsy: a study of 1000 patients. Neurology, 3 (7), 479–94.
(обратно)36
Rosvold, H. E. & Mishkin, M. (1950). Evaluation of the effects of prefrontal lobotomy on intelligence. Canadian Journal of Psychology, 4 (3), 122–126.
(обратно)37
Struckett, P. B. A. (1953). Effect of prefrontal lobotomy on intellectual functioning in chronic schizophrenia. AMA Archives of Neurology & Psychiatry, 69 (3), 293–304.
(обратно)38
Leveque, M. (2014). Psychosurgery: New Techniques for Brain Disorders. Springer.
(обратно)39
Brown, L. T. et al. (2016). Dorsal anterior cingulotomy and anterior capsulotomy for severe, refractory obsessive-compulsive disorder: a systematic review of observational studies. Journal of Neurosurgery, 124, 77–89.
(обратно)40
Scoville, W. B. et al. (1951). Selective cortical undercutting: results in new method of fractional lobotomy. The American Journal of Psychiatry, 107 (10), 730–738.
(обратно)41
В научных статьях его называют patient H. M., настоящее имя было обнародовано после его смерти в 2008 году.
(обратно)42
Scoville, W. B. & Milner B. (1957). Loss of recent memory after bilateral hippocampal lesions. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 20 (1), 11–21.
(обратно)43
Squire, L. R. (2009). The Legacy of Patient H. M. for Neuroscience. Neuron, 61 (1), 6–9.
(обратно)44
Corkin, S. (1984). Lasting consequences of bilateral medial temporal lobectomy: Clinical course and experimental findings in HM. Seminars in Neurology, 4 (2), 249–259.
(обратно)45
Президент Никсон, планируя избираться на второй срок, организовал прослушку штаба конкурентов в бизнес-центре “Уотергейт”, а когда исполнителей поймали, препятствовал объективному расследованию. Избраться‐то он избрался, но скандал разгорелся страшный, и в 1974 году Никсон был вынужден уйти в отставку. В некоторых обществах считается, что если действующий президент создает препятствия на пути другого кандидата в президенты, то это ненормально.
(обратно)46
Milner, B. et al. (1968). Further analysis of the hippocampal amnesic syndrome: 14‐year follow-up study of H. M. Neuropsychologia, 6 (3), 215–234.
(обратно)47
Milner, B. (1970). Memory and the medial temporal regions of the brain. In: Biology of Memory, edited by Pribram and Broadbent, Academic Press Inc, New York.
(обратно)48
Corkin, S. (2002). What’s new with the amnesic patient H. M.? Nature Reviews Neuroscience, 3 (2), 153–160.
(обратно)49
Annese, J. et al. (2014). Postmortem examination of patient H. M.’s brain based on histological sectioning and digital 3D reconstruction. Nature Communications, 3122.
(обратно)50
Рутина автора научно-популярных текстов: уточнить в издательстве, как перевести английское bitch, чтобы на книжке не появился ярлык “Содержит нецензурную брань” и ее не пришлось бы продавать в целлофановой обертке. Издательство перечислило мне четыре запрещенных корня, и я убедилась, что все в порядке.
(обратно)51
Feinstein, J. S. et al. (2011). The human amygdala and the induction and experience of fear. Current Biology, 21 (1), 34–38.
(обратно)52
Feinstein, J. S. et al. (2013). Fear and panic in humans with bilateral amygdala damage. Nature Neuroscience, 16 (3), 270–272.
(обратно)53
Kanwisher, N. & Yovel, G. (2006). The fusiform face area: a cortical region specialized for the perception of faces. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 361 (1476), 2109–2128.
(обратно)54
Barton, J. J. S. et al. (2002). Lesions of the fusiform face area impair perception of facial configuration in prosopagnosia. Neurology, 58 (1), 71–78.
(обратно)55
Avidan, G. et al. (2005). Detailed exploration of face-related processing in congenital prosopagnosia: 2. Functional neuroimaging findings. Journal of Cognitive Neurosciences, 17 (7), 1150–1167.
(обратно)56
Rosenthal, G. et al. (2017). Altered topology of neural circuits in congenital prosopagnosia. eLIFE, 6, e25069.
(обратно)57
Nahm, M. et al. (2017). Discrepancy between cerebral structure and cognitive functioning. A review. The Journal of Nervous and Mental Disease, 205, 967–972.
(обратно)58
Garcia, A. M. et al. (2016). A lesion-proof brain? Multidimensional sensorimotor, cognitive, and socio-affective preservation despite extensive damage in a stroke patient. Frontiers in Aging Neuroscience, 8, 335.
(обратно)59
Синестезия – это склонность мозга к тому, чтобы смешивать информацию разных модальностей, скажем, воспринимать цифры и буквы – или людей, как в случае C. G., – имеющими свои определенные цвета. Это не жульничество: например, если показать синестету лист, заполненный цифрами 5 вперемешку с цифрами 2, то он видит их по‐разному окрашенными и поэтому мгновенно сообщает, в какую именно фигуру складываются цифры на листе. Подробнее можно почитать в книге Вилейанура Рамачандрана “Мозг рассказывает”.
(обратно)60
Marzullo, T. C. (2017). The missing manuscript of Dr. Jose Delgado’s radio controlled bulls. Journal of Undergraduate Neuroscience Education, 15 (2), R29 – R35.
(обратно)61
Она проводилась в сочетании со стимуляцией таламуса, но он в основном участвует в обработке сенсорной информации и вряд ли играл ключевую роль в этом случае.
(обратно)62
Delgado, J. M. R. (1965). Evolution of physical control of the brain. James Arthur Lecture on the Evolution of the Human Brain. New York, American Museum of Natural History.
(обратно)63
Delgado, J. M. R. (1966). Aggressive behavior evoked by radio stimulation in monkey colonies. American Zoologist, 6, 669–681.
(обратно)64
Delgado, J. M. R. (1963). Cerebral heterostimulation in a monkey colony. Science, 141 (3576), 161–163.
(обратно)65
Delgado, J. M. R. (1965). Evolution of physical control of the brain. James Arthur Lecture on the Evolution of the Human Brain. New York, American Museum of Natural History.
(обратно)66
Hariz, M. I. et al. (2010). Deep brain stimulation between 1947 and 1987: the untold story. Journal of Neurosurgery, 29 (2), E1.
(обратно)67
Heath, R. G. (1972). Pleasure and brain activity in man. The Journal of Nervous and Mental Disease, 154 (1), 3–18.
(обратно)68
Moan, C. E. & Heath, R. G. (1976). Septal stimulation for the initiation of heterosexual behavior in a homosexual male. In: Behavior Therapy in Psychiatric Practice, Ed. by Wolpe & Reyna, Pergamon Press Inc.
(обратно)69
Подробности о том, как работают нейроны, будут в следующих главах, а еще в “Кратком курсе нейробиологии” в конце книги. Там много красивых длинных слов типа “Na+/K+ аденозинтрифосфатаза”, и я не знаю, удобно ли вам вникать в детали прямо сейчас; если вы, скажем, едете в метро, то вряд ли. Для восприятия основного текста это полезно, но совершенно необязательно.
(обратно)70
LeMasurier, M. & Gillespie, P. G. (2005). Hair-cell mechanotransduction and cochlear amplification. Neuron, 48 (3), 403–415.
(обратно)71
McDermott, H. J. (2004). Music perception with cochlear implants: a review. Trends in amplification, 8 (2), 49–82.
(обратно)72
Peterson, N. R. et al. (2010). Cochlear implants and spoken language processing abilities: review and assessment of the literature. Restorative Neurology and Neuroscience, 28 (2), 237–250.
(обратно)73
Svirsky, M. A. et al. (2000). Language development in profoundly deaf children with cochlear implants. Psychological Science, 11 (2), 153–158.
(обратно)74
Finn, A. P. et al. (2018). Argus II retinal prosthesis system: a review of patent selection criteria, surgical considerations, and post-operative outcomes. Clinical Ophthalmology, 12, 1089–1097.
(обратно)75
Lewis, P. M. et al. (2015). Restoration of vision in blind individuals using bionic devices: a review with a focus on cortical visual prostheses. Brain Research, 1595, 51–73.
(обратно)76
Hariz, M. I. et al. (2010). Deep brain stimulation between 1947 and 1987: the untold story. Journal of Neurosurgery, 29 (2), E1.
(обратно)77
Benabid, A. L. et al. (1987). Combined (thalamotomy and stimulation) stereotactic surgery of the VIM thalamic nucleus for bilateral Parkinson disease. Proceedings of the Meeting of the American Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery, Montreal.
(обратно)78
Cosman, E. R. Sr. & Cosman, E. R. Jr. (2009). Radiofrequency Lesions. In: Lozano A. M., Gildenberg P. L., Tasker R. R. (eds.) Textbook of Stereotactic and Functional Neurosurgery. Springer, Berlin, Heidelberg.
(обратно)79
Andy, O. J. (1983). Thalamic stimulation for control of movement disorders. Applied Neurophysiology, 46, 107–111.
(обратно)80
Okun M. S. et al. (2012). Subthalamic deep brain stimulation with a constant-current device in Parkinson’s disease: an open-label randomised controlled trial. The Lancet Neurology, 11, 140–149.
(обратно)81
Food and Drug Administration, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, – подразделение американского Минздрава, известное во всем мире своей строгостью в отношении новых процедур лечения. Когда про что‐то говорят “одобрено FDA”, это означает “признано эффективным и относительно безопасным”.
(обратно)82
Altinay M. et al. (2015). A comprehensive review of the use of deep brain stimulation (DBS) in treatment of psychiatric and headache disorders. Headache, 55 (2), 345–50.
(обратно)83
LeMasurier, M. & Gillespie, P. G. (2005). Hair-cell mechanotransduction and cochlear amplification. Neuron, 48 (3), 403–415.
(обратно)84
Veliste, M. et al. (2008). Cortical control of a prosthetic arm for self-feeding. Nature, 453 (7198), 1098–101.
(обратно)85
Wang, W. et al. (2013). An electrocorticographic brain interface in an individual with tetraplegia. PLOS One, 8 (2), e55344.
(обратно)86
Collinger, J. L. et al. (2013). 7 degree-of-freedom neuroprosthetic control by an individual with tetraplegia. Lancet, 381 (9866), 557–564.
(обратно)87
Woodlinger, B. et al. (2015). Ten-dimensional anthropomorphic arm control in a human brain-machine interface: difficulties, solutions and limitations. Journal of Neural Engineering, 12 (1), 016011.
(обратно)88
Flesher, S. et al. (2016). Intracortical microstimulation of human somatosensory cortex. Science Translational Medicine, 8, 361ra141.
(обратно)89
Downey, J. E. et al. (2018). Intracortical recording stability in human brain-computer interface users. Journal of Neural Engineering, 15 (4), 046016.
(обратно)90
В мозге есть не только нейроны, но и клетки-няньки, которые о них заботятся. Они страшно недооценены, про них никто никогда ничего не рассказывает; я постараюсь хотя бы отчасти исправить эту несправедливость в “Кратком курсе нейробиологии”.
(обратно)91
Ajiboye, A. B. et al. (2017). Restoration of reaching and grasping movements through brain-controlled muscle stimulation in a person with tetraplegia: a proof-of-concept demonstration. Lancet, 389 (10081), 1821–1830.
(обратно)92
Talwar, S. K. et al. (2002). Rat navigation guided by remote control. Nature, 417, 37–38.
(обратно)93
Sato, H. & Maharbiz, M. (2010). Recent developments in the remote radio control of insect flight. Frontiers in Neuroscience, 4, 199.
(обратно)94
В том числе Михаил Лебедев, недавно возглавивший Центр биоэлектрических интерфейсов в НИУ ВШЭ.
(обратно)95
Pais-Vieira, M. et al. (2013). A brain-to-brain interface for realtime sharing of sensorimotor Information. Scientific Reports, 3, 1319.
(обратно)96
Ramakrishnan, A. et al. (2015). Computing arm movements with a monkey Brainet. Scientific Reports, 5, 10767.
(обратно)97
Надо сказать, что это сработало. Карго-культы вызвали широкий интерес у западных ученых, они стали организовывать исследовательские экспедиции, и островитяне получили еще много полезных вещей.
(обратно)98
Wong, J. S. & Penner, A. M. (2016). Gender and the returns of attractiveness. Research in Social Stratification and Mobility, 44, 113–123.
(обратно)99
Evans, M. D. R. et al. (2010). Family scholarly culture and educational success: books and schooling in 27 nations. Research in Social Stratification and Mobility, 28 (2), 171–197.
(обратно)100
Lieberman, M. D. & Cunningham, W. A. (2009). Type I and type II error concerns in fMRI research: re-balancing the scale. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 4 (4), 423–428.
(обратно)101
Logothetis, N. K. (2008). What we can do and what we cannot do with fMRI. Nature, 453 (7197), 869–878.
(обратно)102
Zheng, Y. et al. (2016). A comparison of 15 Hz sine on-line and off-line magnetic stimulation affecting the voltage-gated sodium channel currents of prefrontal cortex pyramidal neurons. Europhysics Letters, 116 (1), 18002.
(обратно)103
Я лично считаю, что именно устройство катушки для ТМС – пластик снаружи, проводник внутри – вдохновило Джоан Роулинг написать, что внутри деревянной волшебной палочки должно быть заключено перо феникса или волос единорога.
(обратно)104
Lefaucheur, J.‐P. et al. (2014). Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS). Clinical Neurophysiology, 125, 2150–2206.
(обратно)105
По-английски она называется repetitive TMS, на русский обычно так и переводят: “повторная”. Речь не идет о том, что человек второй раз пришел на эксперимент. Речь идет о том, что во время эксперимента ему дали много повторяющихся импульсов.
(обратно)106
Hoogendam, J. M. et al. (2010). Physiology of repetitive transcranial magnetic stimulation of the human brain. Brain Stimulation, 3, 95–118.
(обратно)107
Hoogendam, J. M. et al. (2010). Physiology of repetitive transcranial magnetic stimulation of the human brain. Brain Stimulation, 3, 95–118.
(обратно)108
Chervyakov, A. V. et al. (2015). Possible mechanisms underlying the therapeutic effects of transcranial magnetic stimulation. Frontiers in Human Neuroscience, 9, 303.
(обратно)109
Tang, A. et al. (2017). Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation of the Brain: Mechanisms from Animal and Experimental Models. The Neuroscientist, 23 (1), 82–94.
(обратно)110
Я вам говорила, что правая половина мозга управляет левой половиной тела и наоборот. Это верно для рук и ног, а вот в случае мышц лица обязанности распределены между правым и левым полушарием более или менее равномерно. Есть крутейшие гипотезы об эволюционно-эмбриологическом происхождении всей этой путаницы, но про них надо садиться писать отдельную книжку, а я должна для начала все же закончить эту.
(обратно)111
Epstein, C. M. et al. (1999). Localization and characterization of speech arrest during transcranial magnetic stimulation. Clinical Neurophysiology, 110, 1073–1079.
(обратно)112
Aziz-Zadeh, L. et al. (2005). Covert speech arrest induced by rTMS over both motor and nonmotor left hemisphere frontal sites. Journal of Cognitive Neuroscience, 17 (6), 928–938.
(обратно)113
Buccino, G. et al. (2005). Listening to action-related sentences modulates the activity of the motor system: a combined TMS and behavioral study. Cognitive Brain Research, 24, 355–363.
(обратно)114
Парадоксальным образом такого рода разговоры могут как раз ослабить мышечное сокращение при стимуляции. Авторы исследования, на которое я ссылаюсь, предполагают, что это связано с тем, что мозг, думающий о футболе, готов совершать движение – но не такое, как навязывает катушка, и возникает противоречие. Они также отсылают внимательного читателя к ряду аналогичных работ, в которых чувствительность к стимуляции, наоборот, усиливается.
(обратно)115
Just, M. A. et al. (2010). A neurosemantic theory of concrete noun representation based on the underlying brain codes. PLOS One, 5 (1), e8622.
(обратно)116
Да, я все время о нем говорю. Я вообще большой фанат и апологет Вышки, а тут у меня к тому же конфликт интересов: от одного из авторов статьи, которую я сейчас буду описывать, мне когда-нибудь понадобится рекомендательное письмо. Впрочем, книжка мне не поможет, потому что он не читает по‐русски.
(обратно)117
Vukovic, N. et al. (2017). Primary motor cortex functionally contributes to language comprehension: an online rTMS study. Neuropsychologia, 96, 222–229.
(обратно)118
Camus, M. et al. (2009). Repetitive transcranial magnetic stimulation over the right dorsolateral prefrontal cortex decreases valuations during food choices. European Journal of Neuroscience, 30 (10), 1980–1988.
(обратно)119
И снова я должна заявить о конфликте интересов. Хотя конкретно эти исследования Ключарев делал еще не в Вышке, но теперь‐то он там. Создавал ту самую магистратуру, в которой я училась, читал мою книжку до публикации, писал мне отзыв на обложку. Мне кажется, это все не повод не рассказывать вам, какие классные штуки он делал, но знайте, что я пристрастна.
(обратно)120
Klucharev, V. et al. (2009). Reinforcement learning signal predicts social conformity. Neuron, 61 (1), 140–151.
(обратно)121
Zaki, J. et al. (2011). Social influence modulates the neural computation of value. Psychological Science, 22 (7), 894–900.
(обратно)122
Klucharev, V. et al. (2011). Downregulation of the posterior medial frontal cortex prevents social conformity. The Journal of Neuroscience, 31 (33), 11934–11940.
(обратно)123
В принципе, это правда, просто в очень обтекаемой формулировке. Это стандартная практика: сначала людям сообщают о целях исследования в максимально размытом виде и только после экспериментов признаются, какую гипотезу проверяли на самом деле. Это важно для того, чтобы испытуемые не пытались, сознательно или бессознательно, подстраиваться под ожидания экспериментаторов.
(обратно)124
Groppa, S. et al. (2012). A practical guide to diagnostic transcranial magnetic stimulation: report of an IFCN committee. Clinical Neurophysiology, 123 (5), 858–882.
(обратно)125
Picht, T. et al. (2011). Preoperative functional mapping for rolandic brain tumor surgery: comparison of navigated transcranial magnetic stimulation to direct cortical stimulation. Neurosurgery, 69 (3), 581–589.
(обратно)126
Вы правильно подозреваете, что магия связана с NMDA-рецепторами, но не только с ними. Подробнее я расскажу в следующей главе.
(обратно)127
Pascual-Leone, A. et al. (1996). Lateralized effect of rapid-rate transcranial magnetic stimulation of the prefrontal cortex on mood. Neurology, 46 (2), 499–502.
(обратно)128
Строго говоря, существует много экспериментальных протоколов, и не все исследователи работают именно с левым полушарием – некоторые пробуют подавлять активность коры с правой стороны или сочетать воздействие на оба полушария. Но самый распространенный подход именно такой.
(обратно)129
Berlim, M. T. et al. (2014). Response, remission and drop-out rates following high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) for treating major depression: a systematic review and meta-analysis of randomized, double-blind and sham-controlled trials. Psychological Medicine, 44, 225–239.
(обратно)130
Noda, Y. et al. (2015). Neurobiological mechanisms of repetitive transcranial magnetic stimulation of the dorsolateral prefrontal cortex in depression: a systematic review. Psychological Medicine, 45 (16), 3411–3432.
(обратно)131
Eldaief, M. C. et al. (2013). Transcranial magnetic stimulation in neurology. A review of established and prospective applications. Neurology Clinical Practice, 3 (6), 519–526.
(обратно)132
Brys, M. et al. (2016). Multifocal repetitive TMS for motor and mood symptoms of Parkindon disease. A randomized trial. Neurology, 87 (18), 1907–1915.
(обратно)133
Corti, M. et al. (2012). Repetitive transcranial magnetic stimulation of motor cortex after stroke. A focused review. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 91 (3), 254–270.
(обратно)134
Cole, J. C. et al. (2015). Efficacy of transcranial magnetic stimulation (TMS) in the treatment of schizophrenia: a review of the literature to date. Innovations in Clinical Neuroscience, 12 (7–8), 12–19.
(обратно)135
Rossi, S. et al. (2009). Safety, ethical considerations, and application guidelines for the use of transcranial magnetic stimulation in clinical practice and research. Clinical Neurophysiology, 120, 2008–2039.
(обратно)136
DaSilva, A. F. et al. (2011). Electrode positioning and montage in transcranial direct current stimulation. Journal of visualized experiments, 51, 2744.
(обратно)137
Paulus, W. (2011) Transcranial electrical stimulation (tES – tDCS; tRNS, tACS) methods. Neuropsychological Rehabilitation, 21 (5), 602–617.
(обратно)138
На английском они называются tDCS и tACS (transcranial Direct / Alternating Current Stimulation), и даже в русскоязычных научно-популярных текстах широко применяются эти аббревиатуры.
(обратно)139
Marshall, L. et al. (2006). Boosting slow oscillations during sleep potentiates memory. Nature, 444 (7119), 610–613.
(обратно)140
Westerberg, C. E. et al. (2015). Memory improvement via slow oscillatory stimulation during sleep in older adults. Neurobiology of Aging, 36 (9), 2577–2586.
(обратно)141
Voss, U. et al. (2014). Induction of self awareness in dreams through frontal low current stimulation of gamma activity. Nature Neuroscience, 17 (6), 810–814.
(обратно)142
Nelson, J. et al. (2016). The effects of transcranial direct current stimulation (tDCS) on multitasking throughput capacity. Frontiers in Human Neuroscience, 10, 589.
(обратно)143
Вы же понимаете, что каждое такое утверждение требует реверансов в сторону сложности мозга и его изучения? “В том числе дорсолатеральная кора – мы так думаем на основании такой‐то горы предшествующих экспериментов”. Эти оговорки заняли бы половину книжки, так что я надеюсь, что вы каждый раз просто мысленно дописываете их в мой текст.
(обратно)144
Wurzman, R. et al. (2016). An open letter concerning do-it-yourself users of transcranial direct current stimulation. Annals of Neurology, 80 (1), 1–4.
(обратно)145
Импакт-фактор – это формальный показатель авторитетности научного журнала, среднее количество цитирований на каждую статью, опубликованную в нем.
(обратно)146
Blakemore, C. & Cooper, G. F. (1970). Development of the brain depends on the visual environment. Nature, 228, 477–478.
(обратно)147
Hubel, D. H. & Wiesel. T. N. (1959). Receptive fields of single neurones in the cat’s striate cortex. The Journal of Physiology, 148, 574–591.
(обратно)148
Вторая поговорка – это краткое изложение принципа, предложенного в 1949 году нейропсихологом Дональдом Хеббом. Этот человек – что‐то вроде Дарвина для нейробиологии: он высказал совершенно гениальную общую идею, а неблагодарные потомки с тех пор каждый раз радуются, когда обнаруживают*, что конкретные механизмы ее реализации не всегда точно такие, как предположил Хебб.
* Carew, T. J. et al. (1984). A test of Hebb’s postulate at identified synapses which mediate classical conditioning in Aplysia. The Journal of Neuroscience, 4 (5), 1217–1224.
(обратно)149
Markant, J. C. & Thomas, K. M. (2013). Postnatal brain development. In: The Oxford Handbook of Developmental Psychology. Vol. 1. Ed. by Zelazo, Oxford University Press, New York. 129–163.
(обратно)150
Именно поэтому так важно давать студентам промежуточные тесты в течение семестра (как это принято в Вышке, и я не упускаю случая в очередной раз ею восхититься).
(обратно)151
Castellucci, V. et al. (1970). Neuronal mechanisms of habituation and dishabituation of the gill – withdrawal reflex in Aplysia. Science, 167 (3926), 1745–1748.
(обратно)152
Schacher, S. et al. (1988). cAMP evokes long – term facilitation in Aplysia sensory neurons that requires new protein synthesis. Science, 240 (4859), 1667–1669.
(обратно)153
То есть в клетках с ядрами. Например, в клетках людей, или улиток, или паразитических амеб. Анизомицин называют антибиотиком, но важно помнить, что против бактерий он бесполезен. Впрочем, его вообще не назначают людям как лекарство, используют либо в сельском хозяйстве, либо вот в биологических исследованиях.
(обратно)154
Bailey, C. H. & Chen, M. (1988). Long-term memory in Aplysia modulates the total number of varicosities of single identified sensory neurons. PNAS, 85, 2373–2377.
(обратно)155
Kandel, E. R. et al. (2014). The molecular and systems biology of memory. Cell, 157 (1), 163–186.
(обратно)156
Kandel, E. R. (2000). Nobel Lecture: The molecular biology of memory storage: a dialog between genes and synapses. In: Nobel Lectures, Physiology or Medicine 1996–2000, Editor Hans Jörnvall, World Scientific Publishing Co., Singapore, 2003. -lecture.pdf
(обратно)157
Bartsch, D. et al. (1995). Aplysia CREB2 represses long-term facilitation: relief of repression converts transient facilitation into long-term functional and structural change. Cell, 83 (6), 979–992.
(обратно)158
Nicoll, R. A. (2017). A brief history of long-term potentiation. Neuron, 93 (2), 281–290.
(обратно)159
Glanzman, D. L. (2010). Common mechanisms of synaptic plasticity in vertebrates and invertebrates. Current Biology, 20 (1), R31 – R36.
(обратно)160
Roberts, A. C. & Glanzman, D. L. (2003). Learning in Aplysia: looking at synaptic plasticity from both sides. Trends in Neuroscience, 26 (12), 662–670.
(обратно)161
Frey, S. et al. (2001). Reinforcement of early long-term potentiation (early-LTP) in dentate gyrus by stimulation of the basolateral amygdala: heterosynaptic induction mechanisms of late-LTP. The Journal of Neuroscience, 21 (10), 3697–3703.
(обратно)162
В данном случае мой любимый Purves, 2012. Обычно я ссылаюсь на статьи-первоисточники, но сейчас и до конца главы буду опираться просто на университетский учебник. Дело в том, что история про усиление связей между нейронами в результате их одновременной активации складывалась десятки лет из сотен публикаций, и нет никакой возможности перечислить их все.
(обратно)163
Loftus, E. F. & Palmer, J. C. (1974). Reconstruction of automobile destruction: an example of the interaction between language and memory. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 13, 585–589.
(обратно)164
Loftus, E. F. & Pickrell, J. E. (1995). The formation of false memories. Psychiatric Annals, 25 (12), 720–725.
(обратно)165
Laney, C. et al. (2008). Asparagus, a love story: healthier eating could be just a false memory away. Experimental Psychology, 55 (5), 291–300.
(обратно)166
Hupbach, A. et al. (2007). Reconsolidation of episodic memories: a subtle reminder triggers integration of new information. Learning & Memory, 14 (1–2), 47–53.
(обратно)167
Nader, K. et al. (2000). Fear memories require protein synthesis in the amygdala for reconsolidation after retrieval. Nature, 406 (6797), 722–726.
(обратно)168
Soeter M. & Kindt M. (2015). An abrupt transformation of phobic behavior after a post-retrieval amnesic agent. Biological Psychiatry, 78 (12), 880–886.
(обратно)169
Argolo, F. C. et al. (2015). Prevention of posttraumatic stress disorder with propranolol: a meta – analytic review. Journal of Psychosomatic Research, 79, 89–93.
(обратно)170
Kindt, M. & van Emmerik, A. (2016). New avenues for treating emotional memory disorders: towards a reconsolidation intervention for posttraumatic stress disorder. Therapeutic Advances in Psychopharmacology, 6 (4), 283–295.
(обратно)171
Поскольку корреляция между способностью читать научно-популярные книжки и высокими моральными стандартами не абсолютна, на всякий случай оговариваю, что заниматься сексом вопреки желанию партнера неправильно даже в том случае, если он состоит с вами в отношениях. Даже если вы женаты, все равно неправильно.
(обратно)172
Brunet, A. et al. (2018). Reduction of PTSD symptoms with pre-reactivation propranolol therapy: a randomized controlled trial. The American Journal of Psychiatry, 175 (5), 427–433.
(обратно)173
Самое трогательное, что на форумах биохакеров можно также встретить рекомендацию принимать пропранолол перед экзаменами. Чтобы, собственно, снизить частоту сердечных сокращений. Ребята, вы уверены, что вещество, нарушающее память – пусть даже только эмоциональную, пусть даже не мгновенно, – это лучший выбор перед экзаменом? Ну ладно.
(обратно)174
Redondo, R. L. et al. (2014). Bidirectional switch of the valence associated with a hippocampal contextual memory engram. Nature, 513 (7518), 426–430.
(обратно)175
То есть оптогенетика позволяет выборочно включать и выключать конкретные нейроны в живом организме и, очевидно, открывает фантастические возможности для нейробиологов. Я почти не пишу о ней в этой книжке, потому что, во‐первых, оптогенетические исследования пока что имеют мало отношения к людям, а во‐вторых, тяжело поддаются популяризации. Но когда-нибудь надеюсь к этому вернуться, конечно.
(обратно)176
Ключевой элемент внутренней карты пространства, которую формирует мозг. Если вы сейчас на диване в гостиной, у вас в гиппокампе активны нейроны дивана в гостиной, если за угловым столиком в любимом кафе – нейроны углового столика в кафе. За исследования этих клеток в 2014 году дали Нобелевку, так что про них полно хорошего научпопа, в том числе на русском.
(обратно)177
Lee, A. K. & Wilson, M. A. (2002). Memory of sequential experience in the hippocampus during slow wave sleep. Neuron, 36 (6), 1183–1194.
(обратно)178
de Lavilleon, G. et al. (2015). Explicit memory creation during sleep demonstrates a causal role of place cells in navigation. Nature Neuroscience, 18 (4), 493–495.
(обратно)179
Fromkin, V. et al. (1974). The development of language in Genie: a case of language acquisition beyond the “critical period”. Brain and Language, 1, 81–107.
(обратно)180
Angier, N. (1993, April 25). “Stopit!” she said. “Nomore!” The New York Times archives, 007012.
(обратно)181
Jones, P. E. (1995). Contradictions and unanswered questions in the Genie case: a fresh look at the linguistic evidence. Language & Communication, 15 (3), 261–280.
(обратно)182
Erickson, L. C. & Thiessen, E. D. (2015). Statistical learning of language: theory, validity, and predictions of a statistical learning account of language acquisition. Developmental Review, 37, 66–108.
(обратно)183
Kuhl, P. K. et al. (2006). Infants show a facilitation effect for native language phonetic perception between 6 and 12 months. Developmental Science, 9 (2), F13 – F21.
(обратно)184
Hay, J. F. et al. (2011). Linking sounds to meanings: infant statistical learning in a natural language. Cognitive Psychology, 63 (2), 93–106.
(обратно)185
Kuhl, P. K. et al. (2003). Foreign-language experience in infancy: effects of short-term exposure and social interaction on phonetic learning. PNAS, 100 (15), 9096–9101.
(обратно)186
Johnson, J. S. & Newport, E. L. (1989). Critical period effects in second language learning: the influence of maturational state on the acquisition of English as a second language. Cognitive Psychology, 21, 60–99.
(обратно)187
Marinova-Todd, S. H. et al. (2000). Three misconceptions about age and L2 learning. TESOL Quarterly, 34 (1), 9–34.
(обратно)188
На самом деле, работ на эту тему публикуется много, сопоставлять их сложно из‐за больших отличий в выборках и методиках, и результаты противоречивые. Похоже, что при обучении вне языковой среды дети все же лучше учатся говорить без акцента, но вот во всем остальном преимущество на стороне взрослых. Моя подруга Таня Наяшкова, впервые обратившая мое внимание на эти исследования, работает репетитором английского и считает, что приводить к ней детей лучше всего лет в 10–11: произношение поставить еще не сложно, и при этом способность концентрироваться уже тоже развита хорошо.
(обратно)189
Есть два основных вида магнитно-резонансной томографии: структурная (просто МРТ) и функциональная (фМРТ). В первом случае вас интересует, как мозг устроен анатомически, как его отдельные участки отличаются по размеру у разных испытуемых. Во втором случае – что в мозге происходит, куда приливает кровь во время выполнения заданий.
(обратно)190
Li, P. et al. (2014). Neuroplasticity as a function of second language learning: anatomical changes in the human brain. Cortex, 58, 301–324.
(обратно)191
Merett, D. L. & Wilson, S. J. (2011). Music and neural plasticity. In: Lifelong Engagement with Music, ed. Rickard, N. S. & McFerran, K., Nova Science Publishers, Inc.
(обратно)192
Martennson, J. et al. (2012). Growth of language-related brain areas after foreign language learning. Neuroimage, 63, 240–244.
(обратно)193
Schlaug, G. et al. (2009). Training-induced neuroplasticity in young children. Annals of the New York Academy of Sciences, 1169, 205–208.
(обратно)194
Linden, D. E. J. (2006). How psychotherapy changes the brain – the contribution of functional neuroimaging. Molecular Psychiatry, 11, 528–538.
(обратно)195
Steiger, V. R. et al. (2017). Pattern of structural brain changes in social anxiety disorder after cognitive behavioral group therapy: a longitudinal multimodal MRI study. Molecular Psychiatry, 22, 1164–1171.
(обратно)196
Миелин – это электроизолирующая оболочка аксонов, он позволяет нервным клеткам быстрее и точнее передавать сигналы. Подробности можно найти в “Кратком курсе нейробиологии” в конце книжки.
(обратно)197
Lebel, C. & Beaulieu, C. (2011). Longitudinal development of human brain wiring continues from childhood into adulthood. The Journal of Neuroscience, 31 (30), 10937–10947.
(обратно)198
Salthouse, T. A. (2009). When does age-related cognitive decline begin? Neurobiology of Aging, 30 (4), 507–514.
(обратно)199
De Beni, R. et al. (2007). Reading comprehension in aging: the role of working memory and metacomprehension. Aging, Neuropsychology and Cognition, 14, 189–212.
(обратно)200
Rose, M. R. et al. (2002). Evolution of late-life mortality in Drosophila melanogaster. Evolution, 56 (10), 1982–1991.
(обратно)201
Burke, S. N. & Barnes, C. A. (2006). Neural plasticity in the ageing brain. Nature Reviews Neuroscience, 7, 30–40.
(обратно)202
Wyss-Coray, T. (2016). Ageing, neurodegeneration and brain rejuvenation. Nature, 539 (7628), 180–186.
(обратно)203
Draganski, B. et al. (2004). Changes in grey matter induced by training. Nature, 427, 311–312.
(обратно)204
Boyke, J. et al. (2008). Training-induced brain structure changes in the elderly. The Journal of Neuroscience, 28 (28), 7031–7035.
(обратно)205
Тут настало время пояснить, что в мозге бывает серое и белое вещество. Белое – это проводящие пути, покрытые изоляцией из миелина. Серое – это тела нервных клеток, а также те их отростки, которые обходятся без миелинового покрытия.
(обратно)206
Eriksson, P. S. et al. (1998). Neurogenesis in the adult human hippocampus. Nature Medicine, 4 (11), 1313–1317.
(обратно)207
Spalding, K. L. et al. (2013). Dynamics of hippocampal neurogenesis in adult humans. Cell, 153 (6), 1219–1227.
(обратно)208
Sorrells, S. F. et al. (2018). Human hippocampal neurogenesis drops sharply in children to undetectable levels in adults. Nature, 555 (7696), 377–381.
(обратно)209
Boldrini, M. et al. (2018). Human hippocampal neurogenesis persists throughout ageing. Cell Stem Cell, 22 (4), 589–599.
(обратно)210
Roe, C. M. et al. (2007). Education and Alzheimer disease without dementia: support for the cognitive reserve hypothesis. Neurology, 68 (3), 223–228.
(обратно)211
Amieva, H. et al. (2014). Compensatory mechanisms in higher-educated subjects with Alzheimer’s disease: a study of 20 years of cognitive decline. Brain, 137 (4), 1167–1175.
(обратно)212
Schweizer, T. A. et al. (2012). Bilingualism as a contributor to cognitive reserve: evidence from brain atrophy in Alzheimer’s disease. Cortex, 48, 991–996.
(обратно)213
Thow, M. E. et al. (2018). Further education improves cognitive reserve and triggers improvement in selective cognitive functions in older adults: the Tasmanian Healthy Brain Project. Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, 10, 22–30.
(обратно)214
Разумеется, работа и размножение тоже способствуют росту новых нейронных связей. Но, по‐видимому, хороший и сложный университет для этого эффективнее.
(обратно)215
Rechtschaffen, A. et al. (1989). Sleep deprivation in the rat: X. Integration and discussion of the findings. Sleep, 12 (1), 68–87.
(обратно)216
Everson, C. A. (1993). Sustained sleep deprivation impairs host defense. American Journal of Physiology, 265 (5 Pt 2), R1148–1154.
(обратно)217
Everson, C. A. & Toth, L. A. (2000). Systemic bacterial invasion induced by sleep deprivation. American Journal of Physiology: Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 278 (4), R905–916.
(обратно)218
Rechtschaffen, A. & Bergmann, B. M. (2002). Sleep deprivation in the rat: an update of the 1989 paper. Sleep, 25 (1), 18–24.
(обратно)219
Krueger, J. M. et al. (2016). Sleep function: toward elucidating an enigma. Sleep Medicine Reviews, 28, 46–54.
(обратно)220
Cirelli, C. & Tononi, G. (2008). Is sleep essential? PLOS Biology, 6 (8), e216.
(обратно)221
Krueger, J. M. et al. (2016). Sleep function: toward elucidating an enigma. Sleep Medicine Reviews, 28, 46–54.
(обратно)222
Kim, T. W. et al. (2015). The impact of sleep and circadian disturbance on hormones and metabolism. International Journal of Endocrinology, 2015, 591729.
(обратно)223
Гликоген – это углевод вроде крахмала, его можно быстро расщепить на отдельные молекулы глюкозы. Глиальные клетки, или глия, – это клетки-няньки, которые заботятся о нейронах. Созвучие между гликогеном и глией случайное.
(обратно)224
Rasch, B. & Born, J. (2013). About sleep’s role in memory. Physiological Reviews, 93 (2), 681–766.
(обратно)225
Payne, J. D. et al. (2012). Memory for semantically related and unrelated declarative information: the benefit of sleep, the cost of wake. PLOS One, 7 (3), e33079.
(обратно)226
Talamini, L. M. et al. (2008). Sleep directly following learning benefits consolidation of spatial associative memory. Learning & Memory, 15 (4), 233–237.
(обратно)227
Nishida, M. & Walker, M. P. (2007). Daytime naps, motor memory consolidation and regionally specific sleep spindles. PLOS One, 2 (4), e341.
(обратно)228
Carskadon, M. A. et al. (1998). Adolescent sleep patterns, circadian timing, and sleepiness at a transition to early school days. Sleep, 21 (8), 871–881.
(обратно)229
Shapiro, T. (2015). The educational effects of school start times. IZA World of Labor, 181.
(обратно)230
Edwards, F. (2012). Early to rise? The effect of daily start times on academic performance. Economics of Education Review, 31, 970–983.
(обратно)231
Saxvig, I. W. et al. (2012). Prevalence and correlates of delayed sleep phase in high school students. Sleep Medicine, 13 (2), 193–199.
(обратно)232
Yang, G. et al. (2014). Sleep promotes branch-specific formation of dendritic spines after learning. Science, 344 (6188), 1173–1178.
(обратно)233
De Vivo, L. et al. (2017). Ultrastructural evidence for synaptic scaling across the wake/sleep cycle. Science, 355 (6324), 507–510.
(обратно)234
Basso, J. C. et al. (2015). Acute exercise improves prefrontal cortex but not hippocampal function in healthy adults. Journal of the International Neurophysiological Society, 21, 791–801.
(обратно)235
Wen, C. P. et al. (2011). Minimum amount of physical activity for reduced mortality and extended life expectancy: a prospective cohort study. Lancet, 378 (9798), 1244–1253.
(обратно)236
Weuve, J. et al. (2004). Physical activity, including walking, and cognitive function in older women. JAMA, 292 (12), 1454–1461.
(обратно)237
Здесь “умеренная физическая активность” – это все, что приводит к расходу 4–5 ккал на килограмм веса в час (быстрая ходьба, игра в бадминтон, танцы, велосипед, плавание), а “медленная ходьба” – это 3 километра в час.
(обратно)238
Kim, T.‐W. et al. (2016). Treadmill exercise alleviates impairment of cognitive function by enhancing hippocampal neuroplasticity in the high-fat diet-induced obese mice. Journal of Exercise Rehabilitation, 12 (3), 156–162.
(обратно)239
Серьезно, мировая промышленность выпускает специальные маленькие беговые дорожки для крыс и мышей. В принципе, вы можете заказать такую для своего хомячка.
(обратно)240
Kanoski, S. E. & Davidson, T. L. (2012). Western diet consumption and cognitive impairment: links to hippocampal dysfunction and obesity. Physiology & Behavior, 103 (1), 59–68.
(обратно)241
Bocarsly, M. E. et al. (2015). Obesity diminishes synaptic markers, alters microglial morphology, and impairs cognitive function. PNAS, 112 (51), 15731–15736.
(обратно)242
Smith, E. et al. (2011). A review of the association between obesity and cognitive function across the lifespan: implications for novel approaches to prevention and treatment. Obesity Reviews, 12, 740–755.
(обратно)243
Vaynman, S. et al. (2004). Hippocampal BDNF mediates the efficacy of exercise on synaptic plasticity and cognition. European Journal of Neuroscience, 20, 2580–2590.
(обратно)244
Huang, T. et al. (2013). The effects of physical activity and exercise on brain-derived neurotrophic factor in healthy humans: a review. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 24 (1), 1–10.
(обратно)245
Szuhany, K. L. et al. (2015). A meta-analytic review of the effects of exercise on brain-derived neurotrophic factor. Journal of Psychiatric Research, 60, 56–64.
(обратно)246
Erikson, K. I. et al. (2014). Physical activity, fitness, and gray matter volume. Neurobiology of Aging, 35, Suppl. 2, S20 – S28.
(обратно)247
Alfini, A. J. et al. (2016). Hippocampal and cerebral blood flow after exercise cessation in master athletes. Frontiers in Aging Neuroscience, 8, 184.
(обратно)248
Sato, K. et al. (2011). The distribution of blood flow in the carotid and vertebral arteries during dynamic exercise in humans. The Journal of Physiology, 589 (11), 2847–2856.
(обратно)249
Sachse, P. et al. (2017). “The world is upside down” – the Innsbruck goggle experiments of Theodor Erismann (1883–1961) and Ivo Kohler (1915–1985). Cortex, 92, 222–232.
(обратно)250
Herwig, A. & Schneider, W. (2014). Predicting object features across saccades: evidence from object recognition and visual search. Journal of Experimental Psychology: General, Vol. 143 (5), 1903–1922.
(обратно)251
Dhande, O. S. et al. (2015). Contributions of retinal ganglion cells to subcortical visual processing and behaviors. Annual Review of Vision Science, 1, 291–328.
(обратно)252
Nassi, J. J. & Callaway, E. M. (2009). Parallel processing strategies of the primate visual system. Nature Reviews Neuroscience, 10 (5), 360–372.
(обратно)253
Обратите внимание, что картина на сетчатке двухмерная, а мир мы видим трехмерным. У мозга есть много способов воссоздать объемное изображение. Например, важную роль играет сопоставление стимулов, полученных от правого и левого глаза.
(обратно)254
Liang, M. & Hu, X. (2015). Recurrent convolutional neural network for object recognition. CVPR, 3367–3375.
(обратно)255
Rao, R. P. N. & Ballard, D. (1999). Predictive coding in the visual cortex: a functional interpretation of some extra-classical receptive-field effects. Nature Neuroscience, 2 (1), 79–87.
(обратно)256
Clark, A. (2013). Whatever next? Predictive brains, situated agents, and the future of cognitive science. Behavioral and Brain Sciences, 36 (3), 181–204.
(обратно)257
Moran, J. & Desimone, R. (1985). Selective attention gates visual processing in the extrastriate cortex. Science, 229 (4715), 782–784.
(обратно)258
“Дорогая Варя, – говорила я главному редактору издательства Corpus, – у меня есть производственная необходимость два раза упомянуть в книжке «Макдоналдс». Можно?” – “Ну, я думаю, «Бургер Кинг» не подаст на нас в суд. А зачем?” – “Один раз – чтобы объяснить, что такое гетеросинаптическая пластичность, а второй – для того чтобы рассказать про top-down perception”. – “Ага, ну хорошо”.
(обратно)259
Anderson, E. et al. (2011). The visual impact of gossip. Science, 332 (6036), 1446–1448.
(обратно)260
Rahman, R. A. & Sommer, W. (2008). Seeing what we know and understand: how knowledge shape perception. Psychonomic Bulletin & Review, 15 (6), 1055–1063.
(обратно)261
Волна N400 вообще очень интересная. Например, ее амплитуда становится больше, если человек встречает в предложении неожиданное слово.
(обратно)262
Bar, M. (2004). Visual objects in context. Nature Reviews Neuroscience, 5, 617–629.
(обратно)263
Collins, J. A. & Olson, I. R. (2014). Knowledge is power: how conceptual knowledge transforms visual cognition. Psychonomic Bulletin & Review, 21 (4), 843–860.
(обратно)264
Firestone, C. & Scholl, B. J. (2016). Cognition does not affect perception: evaluating the evidence for “top-down” effects. Behavioral and Brain Sciences, 39, e229.
(обратно)265
Woods, A. J. et al. (2009). The various perceptions of distance: an alternative view of how effort affects distance judgments. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 35 (4), 1104–1117.
(обратно)266
Libet, B. et al. (1983). Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity (readiness-potential). The unconscious initiation of a freely voluntary act. Brain, 106, 623–642.
(обратно)267
Еще есть термин “рабочая память”. Это примерно то же самое, что и кратковременная, только акцент на том, что информация там не просто хранится, но одновременно с ней производятся какие‐то манипуляции.
(обратно)268
Chase, W. G. & Simon, H. A. (1973). Perception in chess. Cognitive psychology, 4, 55–81.
(обратно)269
Ericsson, K. A. et al. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. Psychological Review, 100 (3), 363–406.
(обратно)270
Ericsson, K. A. et al. (1980). Acquisition of a memory skill. Science, 208 (4448), 1181–1182.
(обратно)271
Ericsson, K. A. & Chase, W. G. (1982). Exceptional memory. American Scientist, 70 (6), 607–615.
(обратно)272
По той же причине старшекурсники могут ходить на экзамены без подготовки, а первокурсники нет. Если есть накопленная база знаний, то всегда можно либо вывести разговор на что‐то знакомое, либо честно сказать: “Я не знаю, но из общих соображений думаю, что…” – если общие соображения разумны, то экзаменатора это вполне устраивает.
(обратно)273
Koenigs, M. & Grafman, J. (2009). The functional neuroanatomy of depression: distinct roles for ventromedial and dorsolateral prefrontal cortex. Behavioural Brain Research, 201 (2), 239–243.
(обратно)274
Young, L. et al. (2010). Damage to ventromedial prefrontal cortex impairs judgement of harmful intent. Neuron, 65 (8), 845–851.
(обратно)275
Koenigs, M. et al. (2007). Damage to the prefrontal cortex increases utilitarian moral judgements. Nature, 446 (7138), 908–911.
(обратно)276
Conway, B. R. et al. (2010). Advances in color science: from retina to behavior. The Journal of Neuroscience, 30 (45), 14955–14963.
(обратно)277
Lee, B. B. et al. (2012). Spatial distributions of cone inputs of the parvocellular pathway investigated with cone-isolating gratings. Journal of the Optical Society of America. A, Optics, image science, and vision, 29 (2), A223 – A232.
(обратно)278
Valberg, A. (2001). Unique hues: an old problem for a new generation. Vision Research, 41 (13), 1645–1657.
(обратно)279
Knutson, B. et al. (2001). Anticipation of increasing monetary reward selectively recruits nucleus accumbens. The Journal of Neuroscience, 21 (16), RC159.
(обратно)280
Knutson, B. et al. (2007). Neural predictors of purchases. Neuron, 53 (1), 147–156.
(обратно)281
Как вы понимаете, это тот же самый отдел, с повреждения которого при помощи арбалета началась вся глава. Просто там была еще приставка “вентро-”, указывающая, что речь идет конкретно о нижней части медиальной коры.
(обратно)282
Knutson, B. et al. (2005). Distributed neural representation of expected value. The Journal of Neuroscience, 25 (19), 4806–4812.
(обратно)283
Dijksterhuis, A. et al. (2006). On making the right choice: the deliberation-without-attention effect. Science, 311 (5763), 1005–1007.
(обратно)284
Nieuwenstein, M. R. et al. (2015). On making the right choice: a meta-analysis and large-scale replication attempt of the unconscious thought advantage. Judgment and Decision Making, 10 (1), 1–17.
(обратно)285
Basten, U. et al. (2010). How the brain integrates costs and benefits during decision making. PNAS, 107 (50), 21767–21772.
(обратно)286
Для второй половины испытуемых, наоборот, цвет фигуры определял грядущие потери, а прибыль была закодирована с помощью формы. Это важно, чтобы исследователи были уверены, что видят изменения в активности мозга, связанные именно с оценкой финансового потока, а не с рассматриванием красных ромбов и коричневых треугольников.
(обратно)287
Andersen, R. A. & Cui, H. (2009). Intention, action planning, and decision making in parietal-frontal circuits. Neuron, 63 (5), 568–583.
(обратно)288
Levy, D. J. & Glimcher, P. W. (2012). The root of all value: a neural common currency for choice. Current Opinion in Neurobiology, 22 (6), 1027–1038.
(обратно)289
Levy, D. J. & Glimcher, P. W. (2012). The root of all value: a neural common currency for choice. Current Opinion in Neurobiology, 22 (6), 1027–1038.
(обратно)290
Stott, J. J. & Redish, A. D. (2015). Representations of value in the brain: an embarrassment of riches? PLOS Biology, 13 (6), e1002174.
(обратно)291
Вы уже заметили, что это типичное состояние экспериментальных животных?
(обратно)292
Padoa-Schioppa, C., & Assad, J. A. (2006). Neurons in the orbitofrontal cortex encode economic value. Nature, 441 (7090), 223–226.
(обратно)293
Morrison, S. E. & Salzman, C. D. (2009). The convergence of information about rewarding and aversive stimuli in single neurons. The Journal of Neuroscience, 29 (37), 11471–11483.
(обратно)294
Fox, K. C. R. et al. (2018). Changes in subjective experience elicited by direct stimulation of the human orbitofrontal cortex. Neurology, 91 (16), e1519 – e1527.
(обратно)295
Murray, E. A. & Rudebeck, P. H. (2018). Specializations for reward-guided decision-making in the primate ventral prefrontal cortex. Nature Reviews Neuroscience, 19, 404–417.
(обратно)296
Suzuki, S. et al. (2017). Elucidating the underlying components of food valuation in the human orbitofrontal cortex. Nature Neuroscience, 20, 1780–1786.
(обратно)297
Stalnaker, T. A. et al. (2015). What the orbitofrontal cortex does not do. Nature Neuroscience, 18 (5), 620–627.
(обратно)298
Azevedo, F. A. C. et al. (2009). Equal numbers of neuronal and nonneuronal cells make the human brain an isometrically scaled-up primate brain. Journal of Comparative Neurology, 513 (5), 532–541.
(обратно)299
Nargeot, R. & Simmers, J. (2012). Functional organization and adaptability of a decision-making network in Aplysia. Frontiers in Neuroscience, 6, 113.
(обратно)300
Возможно, вы даже помните из школьного учебника по зоологии за седьмой класс слово “радула”, вот это как раз она.
(обратно)301
Faumont, S. et al. (2012). Neuronal microcircuits for decision making in C. elegans. Current Opinion in Neurobiology, 22 (4), 580–591.
(обратно)302
Для анализа активности нейронов C. elegans используют оптогенетические методы и прочие достижения современной генетики и биоинженерии. Электроды в него втыкать неудобно.
(обратно)303
Shadlen, M. N. & Newsome, W. T. (2001). Neural basis of a perceptual decision in the parietal cortex (area LIP) of the rhesus monkey. Journal of Neurophysiology, 86 (4), 1916–1936.
(обратно)304
Исследователи уточняют, что это был PC 486, помните такой? Мне кажется, для большинства людей, которым сейчас больше тридцати, это был первый компьютер в жизни.
(обратно)305
Heekeren, H. R. et al. (2004). A general mechanism for perceptual decision-making in the human brain. Nature, 431 (7010), 859–862.
(обратно)306
Jarvinen, A. et al. (2013). The social phenotype of Williams syndrome. Current Opinion in Neurobiology, 23 (3), 414–422.
(обратно)307
Meyer-Lindenberg, A. et al. (2005). Neural correlates of genetically abnormal social cognition in Williams syndrome. Nature Neuroscience, 8, 991–993.
(обратно)308
Хромосомы у нас парные, то есть у человека с синдромом Уильямса одна хромосома из седьмой пары повреждена, а вторая в порядке. Но одной копии гена часто бывает недостаточно, чтобы производить белки в нужных количествах.
(обратно)309
von Holdt, B. M. et al. (2017). Structural variants in genes associated with human Williams-Beuren syndrome underlie stereotypical hypersociability in domestic dogs. Science Advances, 3 (7), e1700398.
(обратно)310
Gazzaniga M. S. (1967). The split brain in man. Scientific American, 217 (2), 24–29.
(обратно)311
Sperry, R. W. et al. (1969). Interhemispheric relationships: the neocortical commissures; syndromes of hemisphere disconnection. In: Disorders of speech, perception and symbolic behavior. Handbook of clinical neurology. No. 4. North-Holland Publishing Co., Amsterdam.
(обратно)312
Akelaitis, A. J. E. (1941). Psychobiological studies following section of the corpus callosum: a preliminary report. The American Journal of Psychiatry, 97 (5), 1147–1157.
(обратно)313
Важно понимать, что никто не разрезает пополам весь мозг целиком. Остаются неповрежденными мозжечок и ствол мозга, да и между полушариями остается еще несколько маленьких пучков нервных волокон. Поэтому, например, моторные навыки, требующие использования обеих сторон тела – от ходьбы до использования музыкальных инструментов, – остаются сохранными, по крайней мере, если были хорошо знакомы человеку до момента операции.
(обратно)314
Sperry, R. W. (1964). The great cerebral commissure. Scientific American, 210 (1), 42–53.
(обратно)315
Vulliemoz, S. et al. (2005). Reaching beyond the midline: why are human brains cross wired? The Lancet Neurology, 4 (2), 87–99.
(обратно)316
Крыса для таких экспериментов не подошла бы, потому что у нее глаза расположены по бокам головы и поля зрения правого и левого глаза почти не перекрываются.
(обратно)317
Sperry, R. W. (1961). Cerebral organization and behavior. Science, 133 (3466), 1749–1757.
(обратно)318
Gazzaniga, M. S. et al. (1962). Some functional effects of sectioning the cerebral commissures in man. PNAS, 48 (10), 1765–1769.
(обратно)319
Zaidel, D. W. (1994). A view of the world from a split-brain perspective. In: Critchley E. M., editor. The Neurological Boundaries of Reality. London: Farrand Press.
(обратно)320
Мне не удалось найти научных работ, сфокусированных на проблеме чтения книг пациентами с разделенным мозгом. Скорее всего, это и не проблема, потому что человек двигает глазами, и весь текст успешно проецируется на левую половину сетчатки. Впрочем, в обзоре, посвященном повседневной жизни таких пациентов*, отмечается, что для них характерны нарушения работы кратковременной памяти, поэтому они часто в принципе утрачивают интерес к чтению книг и просмотру фильмов.
* Zaidel, D. W. (1994). A view of the world from a split-brain perspective. In: Critchley E. M., editor. The Neurological Boundaries of Reality. London: Farrand Press.
(обратно)321
Baynes, K. et al. (1998). Modular organization of cognitive systems masked by interhemispheric integration. Science, 280 (5365), 902–905.
(обратно)322
Gazzaniga, M. S. (2000). Cerebral specialization and interhemispheric communication. Does the corpus collosum enable the human condition? Brain, 123, 1293–1326.
(обратно)323
Volz, L. J. & Gazzaniga, M. S. (2017). Interaction in isolation: 50 years of insights from split-brain research. Brain, 140 (7), 2051–2060.
(обратно)324
Hofstede, G. (1980). Motivation, leadership and organization: do American theories apply abroad? Organizational Dynamics, 9 (1), 42–63.
(обратно)325
Baskerville, R. F. (2003). Hofstede never studied culture. Accounting, Organizations and Society, 28, 1–14.
(обратно)326
Nisbett, R. E. & Masuda, T. Culture and point of view. PNAS, 100 (19), 11163–11170.
(обратно)327
Talhelm, T. et al. (2014). Large-scale psychological differences within China explained by rice versus wheat agriculture. Science, 344 (6184), 603–608.
(обратно)328
Talhelm, T. et al. (2018). Moving chairs in Starbucks: observational studies find rice-wheat cultural differences in daily life in China. Science Advances, 4 (4), eaap8469.
(обратно)329
Был такой случай и в нашей деревне. Когда я жила в Медведково, у меня была тугая дверь на лестничной клетке. Мой бойфренд отметил, что, подходя к ней, я снимаю с плеча рюкзак, чтобы протиснуться в щель, вместо того чтобы открывать эту дверь, как поступал он. В исследовании Тальхельма тоже обнаружилась гендерная разница, девушки передвигали стулья в два раза реже.
(обратно)330
В принципе, влюбленность можно заподозрить и на основании анализа крови: у людей меняется уровень окситоцина, кортизола, тестостерона и так далее, – но про все это пока есть только единичные исследования с небольшими выборками, так что до внедрения в клиническую практику еще очень далеко.
(обратно)331
Diamond, L. M. & Dickenson, J. A. (2012). The neuroimaging of love and desire: review and future directions. Clinical Neuropsychiatry, 9 (1), 39–46.
(обратно)332
Fisher, H. et al. (2016). Intense, passionate, romantic love: a natural addiction? How the fields that investigate romance and substance abuse can inform each other. Frontiers in Psychology, 7, 687.
(обратно)333
Emanuele, E. (2011). NGF and romantic love. Archives Italiennes de Biologie, 149, 265–268.
(обратно)334
Wlodarski, R. & Dunbar, R. I. M. (2014). The effects of romantic love on mentalizing abilities. Review of General Psychology, 18 (4), 313–321.
(обратно)335
Ortigue, S. et al. (2010). Neuroimaging of love: fMRI meta-analysis evidence toward new perspectives in sexual medicine. Journal of Sexual Medicine, 7 (11), 3541–3552.
(обратно)336
Wlodarski, R. & Dunbar, R. I. M. (2014). The effects of romantic love on mentalizing abilities. Review of General Psychology, 18 (4), 313–321.
(обратно)337
Younger, J. et al. (2010). Viewing pictures of a romantic partner reduces experimental pain: involvement of neural reward systems. PLOS One, 5 (10), e13309.
(обратно)338
Gagne, F. M. & Lydon, J. E. (2004). Bias and accuracy in close relationships: an integrative review. Personality and Social Psychology Review, 8 (4), 322–338.
(обратно)339
Lemay, E. P. & Wolf, N. R. (2016). Projection of romantic and sexual desire in opposite-sex friendships: how wishful thinking creates a self-fulfilling prophecy. Personality and Social Psychology Bulletin, 42 (7), 864–878.
(обратно)340
Но хотя бы знала во что!
(обратно)341
Schwarz, N. et al. (1987). Soccer, rooms, and the quality of your life: mood effects on judgments of satisfaction with life in general and with specific domains. European Journal of Psychology, 17, 69–79.
(обратно)342
Schwarz, N. & Clore, G. L. (1983). Mood, misattribution, and judgements of well-being: informative and directive functions of affective states. Journal of Personality and Social Psychology, 45 (3), 513–523.
(обратно)343
Peng, Y.‐F. et al. (2016). Analyzing personal happiness from global survey and weather data: a geospatial approach. PLOS One, 11 (4), e0153638.
(обратно)344
Northover, S. B. et al. (2017). Artificial surveillance cues do not increase generosity: two meta-analyses. Evolution and Human Behavior, 38 (1), 144–153.
(обратно)345
Doyen, S. et al. (2012). Behavioral priming: it’s all in the mind, but whose mind? PLOS One, 7 (1), e29081.
(обратно)346
Strack, F. et al. (1988). Inhibiting and facilitating conditions of the human smile: a nonobtrusive test of the facial feedback hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 54 (5), 768–777.
(обратно)347
Wagenmakers, E.‐J. et al. (2016). Registered replication report: Strack, Martin, & Stepper (1988). Perspectives on Psychological Science, 11 (6), 917–928.
(обратно)348
Noah, T. et al. (2018). When both the original study and its failed replication are correct: feeling observed eliminates the facial-feedback effect. Journal of Personality and Social Psychology, 114 (5), 657–664.
(обратно)349
В моем вольном пересказе.
(обратно)350
Cesario, J. (2014). Priming, replication, and the hardest science. Perspectives on Psychological Science, 9 (1), 40–48.
(обратно)351
Klein, R. A. et al. (2018). Many Labs 2: investigating variation in replicability across samples and settings. Advances in Methods and Practices in Psychological Science, 1 (4), 443–490
(обратно)352
Rissman, J. et al. (2003). An event-related fMRI investigation of implicit semantic priming. Journal of Cognitive Neuroscience, 15 (8), 1160–1175.
(обратно)353
Строго говоря, олигодендроциты вырабатывают миелин только в мозге, а за его пределами этим занимаются двоюродные сестры глии, шванновские клетки.
(обратно)354
Прионы – это аномальные белки, которые способны наращивать количество себе подобных. Известно несколько прионных заболеваний, но самое впечатляющее из них – это куру, “смеющаяся смерть”. Она поражает аборигенов племени форе в Новой Гвинее в результате ритуального поедания мозга – так принято выражать уважение и скорбь по умершим родственникам.
(обратно)355
На русском языке тут есть небольшая терминологическая путаница. Во время эмбрионального развития выделяют три отдела: ромбовидный мозг (он дает начало продолговатому мозгу, мосту и мозжечку), средний мозг (так и остается) и передний мозг (из которого получаются промежуточный и конечный мозг). Но при этом, описывая взрослое животное, многие авторы используют словосочетание “передний мозг” как синоним для “конечного мозга”.
(обратно)356
Тут есть сложности с классификацией, потому что большинство базальных ганглиев находится в конечном мозге, но функционально в ту же систему включена черная субстанция из среднего мозга и субталамическое ядро из промежуточного. Эволюция плевать хотела на то, чтобы мы потом могли четко разложить все по полочкам.
(обратно)


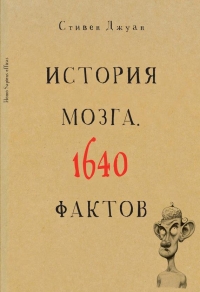




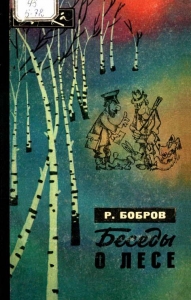



Комментарии к книге «Мозг материален. О пользе томографа, транскраниального стимулятора и клеток улитки для понимания человеческого поведения», Анастасия Андреевна Казанцева
Всего 0 комментариев