Элизабет Колберт Шестое вымирание. Неестественная история
Издание осуществлено при поддержке Политехнического музея
Published by arrangement with The Robbins Office, Inc.
© Elizabeth Kolbert, 2014
© Э. Садыхова, перевод на русский язык, 2019
© А. Якименко, перевод на русский язык, 2019
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2019
© ООО “Издательство Аст”, 2019
Издательство CORPUS ®
* * *
Если в траектории развития человечества и присутствует опасность, то она связана скорее не с выживанием нашего собственного вида, а с невероятной иронией органической эволюции – в момент, когда жизнь достигла самоосознания через разум человека, она вынесла смертный приговор своим самым прекрасным творениям.
Эдвард Осборн УилсонВека проходят за веками, но лишь в настоящем что-то действительно совершается[1].
Хорхе Луис БорхесПролог
Говорят, началу свойственно быть туманным. Именно это и происходит в данной истории, которая начинается с возникновения нового биологического вида примерно 200 тысяч лет назад. У этого вида – как и у всего остального – пока еще нет своего названия, однако у него имеется способность наделять именами все окружающее.
Как и любой молодой вид, он находится в довольно ненадежном положении. Его численность невелика, а территория обитания ограничена небольшим участком Восточной Африки. Популяция понемногу растет, однако затем, по всей видимости, вновь сокращается всего до нескольких тысяч пар – можно сказать, почти фатально.
Представители этого вида не особенно проворны, сильны или плодовиты. Однако у них есть другие преимущества. Постепенно они проникают в регионы с иным климатом, другими хищниками и добычей. Им не мешают никакие обычные ограничения, связанные со средой обитания или географией. Они пересекают реки, долины и горные массивы. В прибрежных зонах собирают моллюсков, вдали от моря охотятся на млекопитающих. Где бы они ни оседали, им удается хорошо адаптироваться и развиваться дальше. Достигнув Европы, они сталкиваются с существами, очень напоминающими их самих, однако более коренастыми и, возможно, более мускулистыми, живущими на континенте гораздо дольше. Они скрещиваются с этими существами, а потом тем или иным способом уничтожают их.
Финал этой истории поучителен. В процессе расширения своего ареала этот биологический вид сталкивается с животными, которые превосходят его по размеру в два, десять или даже двадцать раз, – огромными представителями семейства кошачьих, гигантскими медведями, черепахами размером со слона и ленивцами высотой по пять метров. Эти животные сильнее и часто свирепее. Однако плодятся они слишком медленно и потому истребляются.
Наш невероятно изобретательный вид хотя и зародился на суше, пересекает моря. Он достигает островов, которые населены отщепенцами эволюции: птицами, откладывающими яйца длиной по тридцать сантиметров, гиппопотамами размером со свинью и гигантскими ящерицами. Эти существа, привыкшие к изоляции, плохо приспособлены ко встрече с вновь прибывшими или их попутчиками (главным образом крысами). Поэтому многие из них также погибают.
Этот процесс продолжается, скачками, на протяжении тысячелетий – до тех пор пока биологический вид, уже не столь новый, не распространяется практически до самых дальних уголков планеты. И тут почти одновременно происходит несколько событий, позволивших Homo sapiens (так этот вид стал называть себя) размножаться с беспрецедентной скоростью. Всего за одно столетие численность популяции удваивается, затем она удваивается еще раз, а потом и еще. С лица земли исчезают обширные леса. Люди делают это намеренно – чтобы прокормить себя. Менее умышленно они перемещают другие организмы с одного континента на другой, изменяя биосферу.
Тем временем происходит еще более странная и радикальная трансформация. Обнаружив подземные источники энергии, люди начинают менять состав атмосферы. Это, в свою очередь, изменяет климат и химический состав воды в океанах. Некоторые растения и животные приспосабливаются, перекочевывая на новые места. Они карабкаются в горы и мигрируют в сторону полюсов. Однако значительно большее их количество – сначала сотни, потом тысячи, а потом, возможно, и миллионы – оказывается в безвыходном положении. Темпы вымирания растут, и меняется сама жизнь.
Никакое другое существо никогда прежде так сильно не изменяло жизнь на планете, и все же на ней происходили явления сопоставимого масштаба. Очень редко в далеком прошлом Земля подвергалась изменениям настолько сильным, что разнообразие жизни резко сокращалось. Пять из этих древних событий имели достаточно катастрофические последствия, чтобы их выделили в особую категорию – так называемую Большую пятерку. По фантастическому совпадению, которое, возможно, совсем не случайно, история этих событий восстановлена именно тогда, когда люди начинают понимать, что вызывают еще одну катастрофу. И хотя пока слишком рано говорить о том, достигнет ли эта новая катастрофа масштабов Большой пятерки, она становится известна как Шестое вымирание.
История Шестого вымирания (как минимум в том виде, в каком я хочу о нем рассказать) составляет тринадцать глав, каждая из которых посвящена одному биологическому виду, в некотором смысле символичному, – например американскому мастодонту, бескрылой гагарке или аммониту, исчезнувшему в конце мелового периода вместе с динозаврами. Существ, о которых я рассказываю в первых главах, уже нет, и эта часть книги в основном знакомит с великими вымираниями прошлого и невероятными историями их открытия (начиная с работ французского натуралиста Жоржа Кювье). Вторая часть книги повествует главным образом о настоящем – о все набирающей темпы фрагментации дождевых лесов Амазонии, о быстро нагревающихся горных склонах в Андах, о дальних окраинах Большого Барьерного рифа. Я решила поехать именно в эти места по обычным для журналиста причинам – либо там были научно-исследовательские станции, либо кто-то пригласил меня присоединиться к экспедиции. Масштаб изменений, происходящих в настоящее время, настолько велик, что я могла бы отправиться почти куда угодно и все равно найти их следы. Одна глава рассказывает о вымирании, происходящем в моем собственном саду (и, вполне возможно, в вашем тоже).
Если тема вымирания как такового болезненна, то что уж говорить о массовом вымирании, имеющем огромный масштаб! Но она также невероятно захватывающа. На следующих страницах я попытаюсь рассказать и о волнении, которое вызывают получаемые знания, и о порождаемом ими ужасе. Надеюсь, читатели этой книги смогут в полной мере оценить уникальность момента, в котором мы живем.
Глава 1 Шестое вымирание Atelopus zeteki
Городок Эль-Вайе-де-Антон в Центральной Панаме располагается в середине вулканического кратера, образовавшегося около миллиона лет назад. Кратер имеет ширину шесть километров, и в ясную погоду можно увидеть зубчатые холмы, окружающие город подобно стенам разрушенной крепости. В Эль-Вайе одна главная улица, полицейский участок и рынок под открытым небом. В дополнение к обычному ассортименту – панамам и яркой вышивке – рынок предлагает, пожалуй, самую большую в мире коллекцию фигурок золотых лягушек. Там можно найти фигурки лягушек, отдыхающих на листьях, вальяжно развалившихся на камнях и – что не поддается никакому логическому объяснению – сжимающих в лапках мобильные телефоны. Сувенирные земноводные носят цветастые юбки, принимают танцевальные позы и курят сигареты через мундштук на манер Франклина Делано Рузвельта. Золотая лягушка[2], цвет которой напоминает скорее желтизну нью-йоркских такси, но с темно-коричневыми пятнами, – эндемик области вокруг Эль-Вайе. В Панаме она считается символом удачи; ее изображение зачастую можно встретить на лотерейных билетах (по крайней мере, так было раньше).
Еще десять лет назад этих лягушек можно было без труда обнаружить на любом холме вокруг Эль-Вайе. Они опасны – по некоторым расчетам, яда, содержащегося в коже каждой из них, хватит на то, чтобы убить тысячу мышей среднего размера. Вот зачем яркий окрас – благодаря ему эти земноводные выделяются на фоне лесной подстилки. Один ручей, протекающий неподалеку от Эль-Вайе, стали называть “Потоком тысячи лягушек”. Идущий вдоль него человек видел по берегам так много золотых лягушек, греющихся на солнце, что один герпетолог, неоднократно бывавший в тех местах, описал это как “чистое, невероятное безумие”.
Затем лягушки вокруг Эль-Вайе начали исчезать. Проблема – тогда еще не воспринимавшаяся как катастрофа – была впервые замечена на западе, неподалеку от границы Панамы с Коста-Рикой. Так получилось, что одна американская аспирантка занималась изучением лягушек в тамошней сельве. На некоторое время она уехала в США, чтобы закончить диссертацию, а вернувшись, не смогла найти никаких лягушек – и, более того, вообще никаких земноводных. Она совершенно не представляла себе, из-за чего это случилось, однако, поскольку лягушки нужны были ей для исследования, отправилась в новое место, расположенное значительно восточнее. Поначалу там было много лягушек, но затем произошло то же самое – земноводные пропали.
Мор распространялся по сельве, пока в 2002 году не исчезли все лягушки в горах и водных потоках вокруг города Санта-Фе, примерно в восьмидесяти километрах к западу от Эль-Вайе. В 2004 году небольшие трупики стали находить еще ближе к Эль-Вайе – в окрестностях городка Эль-Копе. К этому моменту группа биологов из Панамы и США уже пришла к выводу, что золотая лягушка находится в смертельной опасности. Биологи решили попытаться сохранить оставшуюся популяцию: отловить в лесах по несколько десятков особей обоих полов и содержать их в закрытых помещениях. Однако то, что убивало лягушек, распространялось даже быстрее, чем боялись биологи. И самое страшное случилось еще до того, как они приступили к выполнению своего плана.
Впервые я прочитала о лягушках Эль-Вайе в детском журнале о природе, который забрала у собственных детей1. Статья, проиллюстрированная цветными фотографиями панамской золотой лягушки и других видов яркого окраса, рассказывала историю об активно распространявшемся бедствии и усилиях биологов, стремившихся его обуздать. Биологи надеялись создать новую лабораторию в Эль-Вайе, однако не успели. Они пытались спасти максимальное количество животных, хотя тех и негде было держать. Что же они придумали? “Разумеется, нам в голову пришла идея лягушачьей гостиницы!” Эта “невероятная лягушачья гостиница” – самый настоящий отель с завтраками для проживающих – разрешила разместить лягушек в нескольких номерах (в специальных контейнерах).
В статье отмечалось, что “биологи сделали все, чтобы лягушки наслаждались первоклассным размещением с горничными и сервисом в номерах”. Кроме того, лягушкам подавалась свежая и вкусная еда – “настолько свежая, что чуть ли не выпрыгивала из тарелок”.
Через несколько недель после того, как я прочитала о “невероятной лягушачьей гостинице”, я натолкнулась еще на одну статью, посвященную лягушкам, однако написанную в совершенно иной тональности2. Авторами этой статьи, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, были двое герпетологов. Статья называлась так: “Не происходит ли сейчас шестое массовое вымирание? Взгляд из мира земноводных”. Авторы статьи, Дэвид Уэйк из Калифорнийского университета в Беркли и Вэнс Вреденбург из Университета штата Калифорния в Сан-Франциско, отмечали, что “за всю историю жизни на нашей планете было пять крупнейших массовых вымираний”. Они описали эти вымирания как события, приводившие к “значительной утрате биоразнообразия”. Первое из них произошло в конце ордовикского периода, примерно 450 миллионов лет назад, когда жизнь на планете в основном происходила под водой. Наиболее чудовищное вымирание случилось в конце пермского периода, около 250 миллионов лет назад, и оно чуть не привело к полному исчезновению жизни на Земле (иногда это событие называют “матерью массовых вымираний” или “великим умиранием”). Самое недавнее – и самое знаменитое – массовое вымирание произошло в конце мелового периода; помимо динозавров тогда же исчезли плезиозавры, мозазавры, птерозавры и аммониты. Уэйк и Вреденбург полагали, что если основываться на темпах вымирания земноводных, то прямо сейчас в мире происходит не менее катастрофическое событие. Их статья была проиллюстрирована всего одной фотографией: дюжина калифорнийских лягушек – все мертвые – лежат на камнях разбухшие, брюшками вверх.
Я поняла, почему детский журнал предпочел опубликовать фотографии живых лягушек, а не мертвых. Я также поняла, почему ученые решили на манер Беатрис Поттер[3] устроить для земноводных гостиницу с обслуживанием в номерах. Тем не менее мне как журналисту казалось, что издатели журнала уклонились от изложения существенных фактов. Любое событие, произошедшее всего пять раз с появления первого позвоночного животного около 500 миллионов лет назад, должно считаться невероятно редким. И предположение о том, что шестое событие такого масштаба разворачивается прямо сейчас, практически на наших глазах, произвело на меня ошеломляющее впечатление. Определенно эта тема – значительная, мрачная, с далеко идущими последствиями – заслуживала серьезного рассказа. И если Уэйк и Вреденбург правы, то люди, живущие в настоящее время, не только присутствуют при одном из редчайших событий в истории жизни на Земле, но и сами вызывают его. “Один слабый биологический вид, – заметили исследователи, – каким-то случайным образом обрел способность напрямую влиять на свою собственную судьбу и судьбу большинства других видов на этой планете”. Через несколько дней после того, как я прочла статью Уэйка и Вреденбурга, я забронировала билет в Панаму.
Центр по защите земноводных El Valle Amphibian Conservation Center (EVACC) стоит у грунтовой дороги неподалеку от открытого рынка, на котором продаются фигурки золотой лягушки. По площади он примерно равен сельскому дому и занимает дальний угол небольшого и сонного зоопарка, сразу за клеткой с невероятно расслабленными ленивцами. Все здание заставлено контейнерами. Некоторые выстроены вдоль стен, напоминая книги на полках библиотеки, а другие сгруппированы в середине комнаты. В более высоких контейнерах располагаются виды, живущие в пологе леса, например филломедузы-лемуры, в более низких – обитающие на лесной подстилке, такие как Craugastor megacephalus. Контейнеры с рогатыми сумчатыми квакшами, вынашивающими икру в специальной сумке на теле, соседствуют с теми, где живут гребнистоголовы, вынашивающие икру на спинах. Несколько десятков контейнеров выделены для панамских золотых лягушек – Atelopus zeteki.
Золотым лягушкам свойственна необычная манера передвижения, которой они немного напоминают пьяных, пытающихся идти по прямой линии. У них длинные и тонкие конечности, заостренные желтые морды и очень темные глаза. Кажется, что они смотрят на мир с опаской. Рискуя показаться сумасшедшей, я все же скажу, что они выглядят смышлеными. В дикой природе самки откладывают яйца в проточной воде, на мелководье; самцы тем временем защищают территорию, сидя на поросших мхом камнях. На территории же EVACC каждый контейнер с золотыми лягушками оснащен специальным шлангом, обеспечивающим проток воды, что дает животным возможность размножаться в условиях, напоминающих естественные. Я заметила в одном из таких искусственных потоков цепочку небольших яиц, похожих на жемчужины. На размещенной рядом доске кто-то восторженно написал, что одна из лягушек “depositó huevos!!” (“отложила яйца!!”).
Панамская золотая лягушка (Atelopus zeteki)
EVACC располагается примерно в центре ареала золотых лягушек, однако по задумке полностью отрезан от внешнего мира. Ничто не поступает в здание без предварительной тщательной дезинфекции. Даже лягушки, для того чтобы попасть внутрь, должны сначала пройти обработку дезинфицирующим раствором. Посетители должны надевать специальную обувь и не могут заносить внутрь никаких сумок, рюкзаков или оборудования. Вся вода, поступающая в контейнеры, фильтруется и специальным образом обрабатывается. Закрытый характер заведения создает у визитеров ощущение, будто они оказались в подводной лодке или, точнее, в ковчеге в разгар потопа.
Директор EVACC – панамец по имени Эдгардо Гриффит. Это высокий широкоплечий человек с круглым лицом и улыбкой от уха до уха, в которые у него вдето по серебряному кольцу. На левой голени – большая татуировка с изображением жабьего скелета. Ему лет тридцать пять, и львиную долю своей взрослой жизни Гриффит посвятил земноводным Эль-Вайе. Более того, он обратил в свою веру и собственную жену – американку, приехавшую в Панаму как волонтер Корпуса мира. Гриффит был первым, кто заметил, что в районе появляется все больше крошечных скелетов. Он лично собрал многих из нескольких сотен земноводных, получивших места в гостинице (животные были переведены в EVACC, как только здание стало готово для их приема).
И если EVACC представляет собой некое подобие ковчега, то Гриффита можно считать Ноем, хотя и работающим сверхурочно – он активно занимается своим делом уже намного больше библейских сорока дней. Гриффит рассказал мне, что значительная часть его работы связана с тем, чтобы узнавать каждую лягушку как отдельную особь. “Каждая крошечная лягушка важна для меня не меньше огромного слона”, – сказал он.
Когда я в первый раз приехала в EVACC, Гриффит показал мне представителей видов, которые уже исчезли в дикой природе. Среди них – помимо панамской золотой лягушки – вид Ecnomiohyla rabborum, впервые описанный лишь в 2005 году. Во время моего визита в EVACC там была всего одна такая лягушка, так что возможность сохранить хотя бы одну библейскую пару для дальнейшего размножения уже была упущена. Это зеленовато-коричневое земноводное с желтыми крапинками имело в длину около десяти сантиметров, а невероятно длинные ступни делали его похожим на неуклюжего подростка. Лягушки Ecnomiohyla rabborum жили в лесу над Эль-Вайе и откладывали яйца в дуплах деревьев. Самцы довольно непривычным и, пожалуй, даже уникальным образом заботились о своем потомстве, позволяя головастикам буквально отъедать кусочки кожи со своих спин. По мнению Гриффита, за то время, что EVACC лихорадочно пытался организовать свою деятельность, могло исчезнуть еще несколько видов земноводных; сложно сказать, сколько именно, – большинство из них, вероятно, были просто неизвестны науке. “К сожалению, – сказал он мне, – мы теряем всех этих земноводных, даже не успев узнать об их существовании”.
“Это замечают даже обычные жители Эль-Вайе, – поведал Гриффит. – Они спрашивают: «Что случилось с лягушками? Мы их больше не слышим»”.
Когда несколько десятилетий назад начали появляться первые сообщения о сокращении популяций лягушек, некоторые из самых компетентных ученых в этой области были настроены весьма скептически. В конце концов, земноводные – одни из самых приспособленных существ на планете. Предки сегодняшних лягушек выползли из воды около 400 миллионов лет назад, а 250 миллионов лет назад уже появились первые представители животных, которые затем образуют современные отряды земноводных: один из них включает лягушек и жаб, второй – тритонов и саламандр, а третий – странных, лишенных конечностей червяг. Это значит, что земноводные живут на Земле не просто дольше, чем, скажем, млекопитающие или птицы, – они появились раньше, чем динозавры.
Большинство земноводных – или амфибий (от греческого слова, означающего “двойная жизнь”) – до сих пор тесно связаны с водным миром, из которого они произошли. (Древние египтяне считали, что лягушки возникают в результате соединения земли и воды во время ежегодного разлива Нила.) Яйцам амфибий, не имеющим скорлупы, необходимо постоянное увлажнение. Есть много видов лягушек, которые, как и панамская золотая, откладывают яйца в потоках воды. Есть лягушки, которые откладывают их во временные водоемы. Другие откладывают их в землю, а некоторые – в своеобразные гнезда, которые делают из пены. Кроме лягушек, вынашивающих икру на спинах и в сумках, есть те, что обматывают икру вокруг своих ног. До своего недавнего исчезновения было даже два вида так называемых реобатрахусов, или заботливых лягушек, которые вынашивали икру в желудках и рожали лягушат через рот.
Земноводные появились в то время, когда вся суша на планете входила в состав единого континента, известного как Пангея. После разделения Пангеи амфибии смогли адаптироваться к условиям жизни на всех материках, за исключением Антарктиды. По всему миру выявили свыше семи тысяч их видов, и хотя больше всего находят во влажных тропических лесах, есть земноводные, которые могут жить в пустыне, например округлые жабы в Австралии, и даже за Полярным кругом – как лесная лягушка. Несколько распространенных видов североамериканских лягушек, в том числе свистящая квакша, способны переживать зиму, замерзая до состояния ледышки. Длительная эволюционная история земноводных означает, что даже те их группы, которые с человеческой точки зрения кажутся почти одинаковыми, могут генетически отличаться друг от друга, как, скажем, летучие мыши от лошадей.
Дэвид Уэйк, один из авторов статьи, “отправившей” меня в Панаму, был среди тех, кто поначалу не верил в исчезновение земноводных. Еще в середине 1980-х годов студенты Уэйка стали все чаще возвращаться из экспедиций в Сьерра-Неваду с пустыми руками. Уэйк помнил, что в его собственные студенческие годы – 1960-е – лягушки в Сьерре попадались буквально на каждом шагу. “Вы могли просто идти по лугу и случайно наступить на какую-то из них”, – рассказывал он мне. “Они были просто повсюду”. Уэйк предположил, что студенты либо ездили не в те места, либо элементарно не знали, как искать. Затем о той же проблеме ему рассказал знакомый аспирант, занимавшийся сбором лягушек уже в течение нескольких лет. “Я сказал ему: «Ладно, я поеду с тобой в одно из хорошо известных мне мест», – вспоминал Уэйк. – Мы приехали туда, но даже после усердных поисков я смог найти всего парочку жаб”.
Отчасти тайна происходившего касалась и географии: похоже, лягушки исчезали не только из шумных и густонаселенных районов, но и из сравнительно диких мест типа Сьерры и гор Центральной Америки. В конце 1980-х годов одна американка-герпетолог отправилась в заповедник “Облачный лес Монтеверде” в Северной Коста-Рике для изучения репродуктивного поведения оранжевых жаб3. Она провела в поисках два полевых сезона; там, где раньше жабы спаривались полчищами, ей удалось высмотреть всего одного самца. (Оранжевая жаба, которая теперь считается вымершей, действительно была окрашена в яркий оранжевый цвет. Она очень дальняя родственница панамской золотой лягушки, которая из-за наличия пары желез, расположенных за глазами, строго говоря, также относится к жабам.) Примерно в то же самое время биологи заметили резкое уменьшение численности популяций нескольких эндемичных видов лягушек в Центральной Коста-Рике. Исчезали как редкие и узкоспециализированные виды, так и более привычные. В Эквадоре жаба темный арлекин, часто посещавшая садики у домов, исчезла всего за несколько лет. А в Северо-Восточной Австралии уже невозможно найти молчаливую речницу – когда-то одну из самых распространенных лягушек в регионе.
Первые предположения о том, кто мог стать таинственным убийцей лягушек от Квинсленда до Калифорнии, появились, как ни странно, в зоопарке. Национальный зоопарк в Вашингтоне успешно разводил много поколений подряд голубых древолазов из Суринама. В какой-то момент лягушки, росшие в искусственных водоемах, начали быстро гибнуть. Местный ветеринар-патолог взял несколько проб и изучил их с помощью электронного сканирующего микроскопа. Он обнаружил на коже погибших животных странный микроорганизм – со временем он смог определить, что это грибок из хитридиевых.
Хитридиевые грибки встречаются практически всюду: и на верхушках деревьев, и глубоко под землей. Однако этот конкретный вид был совершенно неизвестным; более того, он оказался настолько необычным, что его пришлось выделить в отдельный род. Новый вид был назван Batrachochytrium dendrobatidis (batrachos по-гречески означает “лягушка”), или сокращенно Bd[4].
Ветеринар-патолог отправил пробы, взятые от инфицированных лягушек из зоопарка, микологу в Университет штата Мэн. Миколог вырастил культуры грибов, а затем отправил некоторые из них обратно в Вашингтон. Когда выращенный в лаборатории грибок Bd “подселили” к здоровым голубым древолазам, те заболели и через три недели умерли. Дальнейшие исследования показали, что Bd влияет на способность лягушек всасывать через кожу необходимые для жизни электролиты – и те, по сути, умирают от сердечного приступа.
Вероятно, EVACC лучше всего можно описать как проект в стадии разработки. В течение недели, которую я провела в этом центре, там жила и команда американских добровольцев, помогавших в обустройстве выставки. Поскольку выставка планировалась для широкой публики, в целях биологической безопасности пространство следовало изолировать и оснастить отдельным входом. В стенах проделали отверстия, куда предполагалось поместить прозрачные стеклянные аквариумы, а вокруг этих отверстий кто-то нарисовал горный ландшафт, очень сильно напоминавший все то, что можно было увидеть, выйдя из здания на улицу. Основным экспонатом выставки должен был стать огромный аквариум, заполненный панамскими золотыми лягушками, и добровольцы пытались сконструировать для них бетонный водопад метровой высоты. Однако возникли проблемы с насосами, и никто не мог найти запчастей в долине – там просто не было нужных магазинов. Поэтому многие добровольцы частенько просто слонялись без дела.
Я провела в общении с ними много времени. Как и Гриффит, все добровольцы искренне любили лягушек. Я узнала, что некоторые из них были работниками зоопарков и занимались уходом за земноводными в США. (Один из них признался, что увлечение лягушками даже разрушило его брак.) Меня тронула самоотверженность этой команды. Такие же самоотверженные люди ранее разместили постояльцев в “лягушачьей гостинице” и запустили работу центра EVACC, хоть и не полностью готового. Однако при этом я не могла отделаться от ощущения, что в нарисованных зеленых холмах и искусственном водопаде есть что-то очень печальное.
Поскольку в лесах вокруг Эль-Вайе почти не осталось лягушек, стало понятно, что решение переместить максимальное количество животных в EVACC было правильным. И все-таки чем больше времени проводили лягушки в центре, тем сложнее было объяснить, что они там делают. Судя по всему, хитридиевым грибкам для выживания совершенно не обязательно наличие земноводных. Это значит, что даже после того, как грибок убил животных в каком-то месте, он продолжает жить и делать все то же самое, что и обычно. Следовательно, если бы золотым лягушкам из EVACC позволили вернуться на свои родные холмы вокруг Эль-Вайе, они бы заболели и умерли (хотя от грибка и можно избавиться с помощью дезинфекции, по понятным причинам невозможно продезинфицировать сельву целиком). Все, с кем я общалась в EVACC, говорили, что их цель – сохранять животных до тех пор, пока их нельзя будет выпустить вновь заселять леса. Но все также признавали, что совершенно не представляют себе, как это станет возможным.
“Мы должны надеяться, что каким-то образом все наладится”, – говорил мне Пол Крамп, герпетолог из Хьюстонского зоопарка, руководивший застопорившимся проектом с водопадом. “Мы должны надеяться, что что-то произойдет и мы сможем все воссоздать, каким оно было раньше. Хотя звучит это, конечно, довольно глупо”.
“Самое главное – вернуть животных обратно, однако мне все больше и больше кажется, что это фантазия”, – сказал Гриффит.
Распространившись по всему Эль-Вайе, хитридиевые грибы не остановились, а двинулись на восток. Они проникли также в Панаму – с противоположной стороны, из Колумбии. Bd распространялся через высокогорья Южной Америки и вдоль восточного побережья Австралии и переправился в Новую Зеландию и Тасманию. Он прошелся по Карибам и был обнаружен в Италии, Испании, Швейцарии и Франции. В США, судя по всему, он начал распространяться из нескольких точек, не столько волной, сколько серией расходящихся по воде кругов. Похоже, остановить его экспансию пока невозможно.
По аналогии с тем, как инженеры-акустики говорят о “фоновом шуме”, биологи говорят о “фоновом вымирании”. В обычные времена – под временами здесь подразумеваются целые геологические эпохи – вымирания случаются крайне редко, даже реже, чем видообразование; их скорость определяется так называемой фоновой скоростью вымирания. Она разнится от одной группы организмов к другой, и часто ее выражают в количестве вымираний на миллион видо-лет[5]. Вычислять фоновые скорости вымирания – задача весьма трудоемкая, требующая тщательного анализа всех баз данных по ископаемым организмам. Для наиболее изученной группы – млекопитающих – скорость составляет примерно 0,25 вымираний на миллион видо-лет[6]. Это значит, что раз в наши дни на планете существует около 5500 видов млекопитающих, то при данной скорости фонового вымирания ожидается – повторюсь, по очень грубым прикидкам, – что один вид будет исчезать каждые 700 лет.
Иначе обстоят дела с массовыми вымираниями. Вместо фонового шума слышится грохот, и темпы исчезновения резко возрастают. Энтони Хэллам и Пол Уигнолл, британские палеонтологи, много писавшие на эту тему, определяют массовые вымирания как события, уничтожающие “значительную часть биоты мира за незначительный с геологической точки зрения период времени”4. Еще один эксперт, Дэвид Яблонски, характеризует массовые вымирания как “существенную утрату биоразнообразия”, происходящую быстро и “глобальную по масштабу”5. Майкл Бентон, палеонтолог, изучающий вымирание конца пермского периода, использует метафору древа жизни6: “Во время массового вымирания обрубаются огромные ветви дерева, будто атакованные безумцем с топором”. Пятый палеонтолог, Дэвид Рауп, пытался посмотреть на происходящее с точки зрения жертв7: “Биологическим видам бóльшую часть времени вымирание не угрожает”. Однако это “состояние относительной безопасности прерывается редкими периодами крайне высокого риска”. Таким образом, история жизни состоит из “длинных периодов скуки, время от времени прерывающихся паникой”.
Большая пятерка вымираний, согласно палеонтологической летописи, привела к резкому снижению разнообразия на уровне семейств. Семейство считается выжившим, если выживает хотя бы один его вид, так что на уровне видов потери были куда существеннее
В “панические” времена целые группы прежде доминировавших организмов могут исчезнуть или переместиться на вторые роли, словно в мире меняется некая кастовая система. Подобные масштабные потери заставили палеонтологов предположить, что во времена массовых вымираний – а в дополнение к Большой пятерке происходило множество менее заметных событий – обычные правила выживания перестают действовать. Условия меняются настолько радикально или настолько быстро (или одновременно столь быстро и столь радикально), что эволюционная история перестает иметь большое значение. И те же особенности, которые отлично помогали справляться с обычными угрозами, в подобных исключительных обстоятельствах могут оказаться фатальными.
Пока никто еще не производил тщательных расчетов скорости фонового вымирания для земноводных – отчасти из-за того, что их ископаемые остатки встречаются очень редко. Однако почти наверняка эта скорость ниже, чем для млекопитающих[7]. По всей видимости, один вид земноводных должен исчезать примерно каждую тысячу лет. Этот вид может быть из Африки, или из Азии, или из Австралии. Иными словами, шансы отдельного человека стать свидетелем подобного события близки к нулю. А ведь Гриффит наблюдал уже несколько вымираний среди земноводных. Да почти каждый герпетолог, работающий в полевых условиях, сталкивался с несколькими подобными случаями. (Даже я сама во время исследований для этой книги выявила один недавно исчезнувший вид; за это же время в дикой природе исчезли еще три или четыре вида – так же, как это произошло с панамской золотой лягушкой.) “Я стал герпетологом, потому что мне нравится работать с животными, – писал Джозеф Мендельсон, герпетолог из зоопарка Атланты. – Я даже не предполагал, что мои занятия станут напоминать палеонтологию”8.
В наши дни земноводные обладают довольно сомнительной славой класса животных, подвергающегося наибольшей опасности. По некоторым расчетам скорость вымирания в этой группе может в сорок пять тысяч раз превышать фоновую9. Однако скорости вымирания для многих других групп приближаются к уровню земноводных. По имеющимся оценкам, треть всех рифообразующих коралловых полипов, треть всех пресноводных моллюсков, треть акул и скатов, четверть млекопитающих, пятая часть всех рептилий и шестая часть всех птиц находятся на прямом пути к забвению10, 11. Потери повсеместны – в южной части Тихого океана и Северной Атлантике, в Арктике и Сахеле, в озерах и на островах, на горных вершинах и в долинах. Если вы знаете, как искать, то, возможно, сумеете найти признаки происходящего сейчас вымирания в своем собственном саду.
Причины, по которым исчезают биологические виды, кажутся не связанными между собой. Однако стоит проследить процесс достаточно далеко, и вы неминуемо обнаружите неизменного виновника – “один слабый биологический вид”.
Bd способен перемещаться самостоятельно. Грибок образует микроскопические споры с длинными и тонкими хвостиками; споры благодаря хвостикам передвигаются в воде и могут переноситься на значительные расстояния реками и ручьями или потоками после ливней (возможно, в Панаме грибок появился именно так – как скверна, распространяющаяся в восточном направлении). Однако такой тип перемещения не объясняет причины более или менее одновременного появления грибка в различных частях мира – в Центральной, Южной и Северной Америке, в Австралии. Согласно одной теории, Bd перемещался по миру вместе с поставками гладких шпорцевых лягушек, использовавшихся в 1950-х и 1960-х годах при проведении тестов на беременность (самки этих лягушек откладывают яйца в течение нескольких часов после того, как им делают инъекцию мочи беременной женщины). Предполагается, что гладким шпорцевым лягушкам грибок Bd не причиняет особого вреда, хотя многие из них инфицированы. Согласно второй теории, грибок распространялся лягушками-быками из Северной Америки, которые различными путями – порой случайно, а порой намеренно – были ввезены в Европу, Азию и Южную Америку и часто экспортируются для употребления человеком в пищу. Североамериканские лягушки-быки также часто инфицированы грибком Bd, который, судя по всему, не особенно вредит им. Первая теория стала известна под названием “Из Африки”, а вторую, пожалуй, можно было бы окрестить гипотезой “супа из лягушачьих лапок”.
Как бы то ни было, причина в обоих случаях одинакова. Если бы кто-то не погрузил лягушку с Bd на корабль или самолет, она бы не смогла попасть из Африки в Австралию или из Северной Америки в Европу. Подобная межконтинентальная перетасовка, совершенно обычная в наши дни, в действительности не имеет прецедентов в истории жизни, насчитывающей три с половиной миллиарда лет.
И хотя к настоящему времени эпидемия Bd уже пронеслась почти по всей территории Панамы, Гриффит продолжает периодически выходить на поиски выживших особей для пополнения коллекции EVACC. Я запланировала свой визит так, чтобы он совпал с одной из этих экспедиций, и как-то вечером отправилась в поход вместе с Гриффитом и двумя американскими добровольцами, работавшими на строительстве водопада. Мы двинулись на восток, перебрались через Панамский канал и провели ночь в местности, известной под названием Серро-Асуль, в гостевом домике, окруженном железным забором высотой два с половиной метра. На рассвете мы поехали в лесничество, расположенное на въезде в национальный парк “Чагрес”. Гриффит надеялся найти самок двух видов, представителей которых мало в EVACC. Он показал сонным лесничим разрешение на сбор лягушек, подписанное правительственными чиновниками. В это время несколько явно недокормленных псов вышли обнюхать наш грузовик.
Сразу за лесничеством дорога превращается в цепочку огромных ям, соединенных между собой глубокими канавами. Гриффит вставляет в CD-плеер грузовика компакт-диск Джими Хендрикса, и мы трясемся на ухабах в такт музыке. Сбор лягушек требует немало разных принадлежностей, поэтому Гриффит нанял двух человек, чтобы они помогли нам нести вещи. Эти люди появились из тумана у самой последней группы домов в крошечной деревушке под названием Лос-Анджелес. Мы тряслись в грузовике до тех пор, пока он вообще мог ехать дальше, затем выгрузились и пошли пешком.
Тропинка тянется сквозь сельву в красной глине. Каждые несколько сотен метров основную дорожку пересекают более узкие; они проложены муравьями-листорезами, совершающими миллионы – а то и миллиарды – походов за растительностью, которую приносят в свои колонии (сами колонии, напоминающие холмы из древесных опилок, могут покрывать площадь городского парка среднего размера). Один из американцев, Крис Беднарски, сотрудник Хьюстонского зоопарка, предупреждает, чтобы я избегала муравьев-солдат, челюсти которых могут остаться в голени даже после того, как муравей погиб. “Они не будут с вами церемониться”, – замечает он. Другой американец, Джон Честейн, сотрудник зоопарка в Толедо, несет с собой длинный крюк на случай появления ядовитых змей. “К счастью, те, что способны причинить серьезный вред, встречаются довольно редко”, – успокаивает меня Беднарски. Издалека раздаются крики обезьян ревунов. Гриффит показывает следы ягуара на мягкой почве.
Примерно через час мы подошли к ферме, выстроенной кем-то посреди леса. Там росло немного чахлой кукурузы, но никого вокруг не было. Сложно сказать, махнул ли фермер рукой на попытки что-то вырастить на неплодородной почве тропического леса или просто отлучился на денек. В воздух взмыла стайка изумрудно-зеленых попугаев.
Еще через несколько часов мы оказываемся на небольшой полянке. Вспархивает синяя бабочка морфида, c крыльями цвета неба. Там стоит небольшая хижина, но она настолько покосившаяся, что все предпочитают лечь спать снаружи. Гриффит помогает приготовить мне спальное место – повесить между двух деревьев нечто среднее между палаткой и гамаком. Прорезь снизу служит для входа, а верхняя часть обеспечивает защиту от неминуемого дождя. Оказавшись внутри, я чувствую себя лежащей в гробу.
Вечером Гриффит приготовил на газовой горелке рис. После этого мы прицепили себе на головы фонарики и стали карабкаться вниз к ближайшему ручью. Многие земноводные ведут ночной образ жизни, и их можно увидеть, только если пойти искать в темноте. Я постоянно поскальзывалась, нарушая правило безопасности номер один в сельве – никогда не хватайтесь незнамо за что. Когда я в очередной раз упала, Беднарски показал мне тарантула размером с мой кулак, сидящего на ближайшем дереве.
Опытные ловцы могут находить лягушек ночью, направляя свет фонарика в лес и замечая отблеск их глаз. Первым земноводным, которое Гриффит высмотрел именно таким образом, была бахромчатая стеклянная лягушка, примостившаяся на листе. Она относится к семейству стеклянных лягушек, названных так потому, что сквозь их прозрачную кожу видны очертания внутренних органов. Эта лягушка была зеленого цвета с крошечными желтыми точками. Гриффит достал из рюкзака пару хирургических перчаток. Он стоял совершенно неподвижно, а затем, как цапля, метнулся и схватил лягушку. Свободной рукой он взял что-то похожее на кончик ватной палочки и провел по брюшку лягушки. Он положил эту палочку в небольшой пластиковый флакон – позже ее отправят в лабораторию и проверят на наличие Bd – и, поскольку это был не тот вид, что он искал, вернул лягушку обратно на лист. Затем вытащил фотоаппарат. Лягушка бесстрастно уставилась в объектив.
Мы продолжили свой путь ощупью в темноте. Кто-то заметил лягушку Pristimantis caryophyllaceus, оранжево-красную, как лесная подстилка; кто-то – лягушку Варшевича, имеющую ярко-зеленый цвет и форму листа. С каждым животным Гриффит проделывал ту же процедуру – хватал, проводил специальной палочкой по брюшку и фотографировал. В какой-то момент мы наткнулись на пару панамских листовых лягушек, сцепившихся в амплексусе (версия секса у амфибий). Гриффит не стал их тревожить.
Одним из земноводных, которых надеялся поймать Гриффит, была рогатая сумчатая квакша. Ее отличительный зов напоминает звук откупориваемой бутылки шампанского. Шлепая вперед – к тому времени мы уже шли посередине ручья, – мы вдруг услышали этот зов, исходящий будто бы с нескольких сторон одновременно. Поначалу казалось, что источник звука совсем близко от нас, однако по мере нашего приближения он словно отдалялся.
Гриффит принялся имитировать зов лягушки, воспроизводя губами звук вылетающей пробки. В конце концов он решил, что мы распугиваем лягушек всплесками воды. Он побрел вперед, а мы еще долго оставались по колено в воде, пытаясь не шевелиться. Когда Гриффит наконец поманил нас к себе, мы увидели, что он стоит перед крупной желтой лягушкой с длинными пальцами и мордой, напоминавшей совиную. Она сидела на ветке дерева, чуть выше уровня наших глаз. Гриффит хотел найти самку рогатой сумчатой квакши для коллекции EVACC. Он резко вытянул руку, схватил лягушку и перевернул. Там, где у самок рогатой сумчатой квакши располагается сумка, у этой лягушки ничего не было. Гриффит провел специальной палочкой ей по брюшку, сфотографировал ее, а затем вернул обратно на дерево.
“Ты красавчик”, – шепнул он земноводному.
Около полуночи мы направились обратно в лагерь. Единственными животными, которых Гриффит решил взять с собой, были две крошечные ядовитые лягушки Andinobates minutus с голубыми брюшками и одна белесая саламандра, чей вид не смог определить ни он сам, ни оба американца. Лягушки и саламандра были помещены в пластиковые пакеты вместе с несколькими листьями, помогавшими сохранить нужный уровень влажности. Внезапно я подумала, что эти лягушки, их потомство, если таковое будет, и так дальше никогда больше не коснутся земли сельвы, а проживут свои дни в дезинфицированных стеклянных контейнерах. Той ночью шел сильный дождь, и в гамаке, похожем на гроб, меня преследовали тревожные сны, из которых я запомнила лишь ярко-желтую лягушку, курящую сигарету через мундштук.
Глава 2 Моляры мастодонта Mammut americanum
Возможно, идея вымирания – это первая научная идея, которую современным детям приходится осваивать. Годовалые малыши играют с фигурками динозавров, а двухлетки понимают, в меру своего разумения, что эти небольшие пластиковые создания изображают каких-то очень больших животных. Научились ли дети говорить рано или, напротив, заговорили, когда положено, но поздно приучились к туалету – так или иначе, будучи еще в памперсах, они уже могут объяснить, что когда-то существовало много-много разных динозавров и что все они давным-давно вымерли. (Мои собственные сыновья в раннем детстве часами играли с набором динозавров, которых расставляли на пластиковом коврике, изображавшем лес юрского или мелового периода. Также там присутствовал вулкан, плевавшийся лавой и – при нажатии на него – издававший восхитительно ужасающий рев.) Одним словом, может показаться, что мы воспринимаем идею вымирания как вполне очевидную. Но это не так.
Аристотель написал десятитомный трактат “История животных”, даже не рассматривая возможность того, что у них действительно могла быть какая-то история. “Естественная история” Плиния включала в себя описания животных реально существующих и животных вымышленных, но ни одного описания животных вымерших. Не появилось подобного предположения ни в Средние века, ни в эпоху Возрождения, когда словом “ископаемое” обозначалось все, что добывалось из земли (отсюда и пошло выражение “горючие ископаемые”). В эпоху Просвещения было принято считать, что каждый биологический вид – звено великой и неразрывной “цепи бытия”.
В своем “Опыте о человеке” Александр Поуп писал:
Как целость мировая хороша, Чье тело – вся природа, Бог – душа[8].Когда Карл Линней вводил свою систему биномиальной номенклатуры, он не делал никакого различия между живыми и вымершими видами, поскольку, с его точки зрения, этого не требовалось. В десятом издании его “Системы природы”, опубликованном в 1758 году, перечислены 63 вида пластинчатоусых жуков, 34 вида брюхоногих моллюсков конусов и 16 видов камбалообразных. И все же в “Системе природы” описывался всего один тип животных – существующие.
Это воззрение сохранялось несмотря на множество свидетельств обратного. Кунсткамеры в Лондоне, Париже и Берлине ломились от следов существования диковинных созданий, которых никто никогда не видел, – остатков животных, известных теперь как трилобиты, белемниты и аммониты. Некоторые аммониты были настолько огромными, что их окаменелые раковины достигали размеров колеса телеги. В XVIII веке в Европу все чаще и чаще стали попадать кости мамонтов из Сибири. Однако и их каким-то образом втиснули в существовавшую систему. Эти кости были очень похожи на слоновьи. Но поскольку в России того времени слоны определенно не водились, решено было, что те кости принадлежали животным, которых на север вынесло водами Всемирного потопа, описанного в Книге Бытия.
В конце концов концепция вымирания возникла (возможно, не случайно) в революционной Франции. Во многом это произошло благодаря одному животному, которое теперь носит название “американский мастодонт”, или Mammut americanum, и одному человеку, натуралисту Жану Леопольду Николя Фредерику Кювье, известному просто под именем Жорж (в честь умершего брата). Кювье – довольно двусмысленная фигура в истории науки. Он сильно превосходил своих современников, однако многим из них мешал; он мог быть обаятельным – и злобным; он одновременно был и первопроходцем, и ретроградом. К середине XIX века многие его идеи были дискредитированы. Однако недавними открытиями оказались поддержаны именно те теории Кювье, которые ранее подвергались самой суровой критике. И теперь его по сути катастрофическое ви́дение истории Земли начинает казаться пророческим.
Точно не известно, когда именно европейцы впервые наткнулись на кости американского мастодонта. Один моляр, найденный в поле в северной части штата Нью-Йорк, был отправлен в Лондон в 1705 году; он получил название “зуб Гиганта”12. Первые кости мастодонта, которые подверглись некоему научному изучению, нашли в 1739 году. В тот год Шарль ле Мойн, второй барон де Лонгёй, спускался по реке Огайо во главе четырехсот солдат, некоторые были, как и он сам, французами, но большинство – алгонкинами и ирокезами. Поход был тяжелым, припасов недоставало. Впоследствии один из французских солдат вспоминал, что приходилось есть желуди, чтобы выжить13. Как-то, возможно, осенью Лонгёй и его люди разбили лагерь на восточном берегу Огайо, неподалеку от нынешнего города Цинциннати. Несколько индейцев отправились на охоту. Вскоре они набрели на участок болота, источавший запах серы. Со всех сторон к трясине вели цепочки буйволиных следов, а из болотной жижи торчали сотни – а может, и тысячи – огромных костей, напоминавших остов корабля, потерпевшего крушение. Охотники вернулись в лагерь с бедренной костью длиной около метра, гигантским бивнем и несколькими огромными зубами. Корни зубов были с человеческую ладонь, а каждый зуб весил более четырех килограмм.
Лонгёй был настолько заинтригован, что приказал своим людям взять кости с собой. Волоча гигантский бивень, бедренную кость и зубы, солдаты продолжали свой путь по дикой местности. В конце концов они добрались до реки Миссисипи, где встретились со второй группой французских солдат. В течение нескольких следующих месяцев многие люди Лонгёя умерли от болезней, а их кампания – против племени чикасо – закончилась унизительным поражением. Тем не менее Лонгёю удалось сохранить странные кости. Он добрался до Нового Орлеана и оттуда на корабле отправил бивень, зубы и гигантскую бедренную кость во Францию. Находки были показаны Людовику XV, который поместил их в свой музей Cabinet du Roi. Спустя десятилетия карты долины реки Огайо все еще были покрыты огромными белыми пятнами, за исключением Endroit où on a trouvé des os d’Éléphant – “Места, где были найдены кости слона”. (В наши дни это место находится в национальном парке “Биг-Боун-Лик” в штате Кентукки.)
Кости, сохраненные Лонгёем, ставили в тупик всех, кто их исследовал. Казалось, бедренная кость и бивень принадлежат слону или, что по классификации того времени практически одно и то же, мамонту. Однако зубы животного оказались головоломкой. Они не вписывались ни в одну категорию. Зубы слонов (а также мамонтов) сверху плоские с тонкими поперечными бороздками, из-за чего жевательная поверхность напоминает подошву спортивной обуви. У мастодонта же зубы, напротив, заостренные. Они выглядят так, будто принадлежат гигантскому человеку. Первый начавший их изучать натуралист, Жан-Этьен Геттар, даже догадки отказался строить относительно их происхождения.
“Какому же животному они принадлежали?” – печально вопрошал он в отчете, переданном во Французскую королевскую академию наук в 1752 году14.
В 1762 году хранитель королевской коллекции Луи Жан-Мари Добантон попытался разрешить загадку странных зубов, заявив, будто “неизвестное животное из Огайо” – вообще не одно животное, а два. Бивень и бедренная кость якобы принадлежали слону, а зубы – абсолютно другому существу. Добантон решил, что это другое существо – возможно, гиппопотам.
Примерно тогда же в Европу – на сей раз в Лондон – прибыла вторая партия костей мастодонта. Эти остатки, также из “Биг-Боун-Лик”, представляли собой то же сбивающее с толку сочетание: кости и бивни напоминали слоновьи, а жевательная поверхность моляров была бугристой. Уильям Хантер, придворный врач королевы, посчитал объяснение Добантона неверным и предложил свое – первое наполовину правильное.
Он утверждал, что этот “предполагаемый американский слон” – совершенно новое животное, “анатомам доселе незнакомое”. Пугающего вида зубы навели его на мысль, что животное было хищным. Хантер назвал этого зверя American incognitum.
Ведущий натуралист Франции, Жорж-Луи Леклерк, граф де Бюффон, добавил еще жару в дискуссию. Он утверждал, что эти остатки принадлежали не одному и не двум, а трем различным животным: слону, гиппопотаму и третьему, пока неизвестному. С немалым трепетом Бюффон допустил, что этот последний вид, “крупнейший из них”, похоже, исчез с лица земли14. Он предположил, что это единственное наземное животное, которое постигла подобная участь.
В 1781 году в спор оказался вовлеченным Томас Джефферсон. В “Заметках о штате Виргиния”, написанных им сразу после ухода с поста губернатора, Джефферсон выдвинул свою версию происхождения incognitum. Он согласился с Бюффоном в том, что загадочное животное было самым крупным из всех, “в пять или шесть раз больше кубического объема слона”. (Это опровергало тогдашнюю популярную в Европе теорию, согласно которой животные Нового Света были мельче и “вырожденнее” животных Старого Света.) С Хантером Джефферсон согласился в том, что это создание было, скорее всего, хищным. Однако, по его мнению, оно еще где-то существовало. Если его не нашли в Вирджинии, значит, оно бродило в тех частях континента, которые “остаются в их первозданном состоянии, нетронутыми и необследованными”. Когда в годы своего президентства Джефферсон направил экспедицию Мериуэзера Льюиса и Уильяма Кларка на северо-запад, он надеялся, что те найдут в местных лесах живых представителей вида American incognitum.
“Такова уж сила природы, – писал он, – что нет ни одного случая, чтобы она позволила животным какого-либо вида исчезнуть, чтобы она создала где-нибудь в своей огромной работе звено, настолько слабое, чтобы его можно было бы разорвать”15[9].
Кювье прибыл в Париж в начале 1795 года, через полвека после того, как туда доставили остатки из долины реки Огайо. Ему исполнилось двадцать пять лет, у него были широко расставленные серые глаза, большой нос и темперамент, который один его друг сравнил с поверхностью нашей планеты – обычно спокойной, но способной на неистовые землетрясения и извержения16. Кювье вырос в небольшом городке на границе со Швейцарией и почти не имел связей в столице. Тем не менее ему удалось получить престижную должность – благодаря как смене старого режима, так и тщательной заботе о собственных интересах. Один из его бывших коллег впоследствии сказал, что Кювье “выскочил” в Париже “словно гриб”17.
Работа Кювье в парижском Национальном музее естественной истории – демократическом преемнике королевской кунсткамеры – официально ограничивалась преподаванием. Однако в свободное время он погружался в музейную коллекцию. Кювье провел много часов, изучая кости, которые Лонгёй отправил Людовику XV, и сравнивая их с другими образцами. 4 апреля 1796 года – или, если следовать революционному календарю того времени, 15 жерминаля IV года – он представил результаты своих исследований на публичной лекции.
Кювье начал выступление с обсуждения слонов. Европейцы давно знали о том, что слоны живут в Африке, где считаются опасными, и в Азии, где они покладистее. Тем не менее слонов воспринимали как единый вид, подобно тому как собаки есть собаки – одни ласковые, другие свирепые. Изучив остатки слонов в музее (в частности, один особенно хорошо сохранившийся череп с Цейлона и второй – с Мыса Доброй Надежды), Кювье пришел к заключению – правильному, разумеется, – что они принадлежат представителям разных видов17.
“Ясно, что слон с Цейлона отличается от африканского больше, чем лошадь от осла или коза от овцы”, – заявил он. Одной из многих различавшихся особенностей животных были их зубы. У слона с Цейлона борозды на поверхности моляров располагаются волнами, а у слона с Мыса Доброй Надежды – образуют ромбы. Понятно, что изучение живых животных не позволило бы увидеть этой разницы – кому хватит безрассудства засунуть голову в рот слона? “Именно анатомии зоология обязана этим интересным открытием”, – заключил Кювье18.
Успешно, если можно так выразиться, расчленив слона надвое, Кювье продолжил препарирование. После “скрупулезного изучения” доказательств он пришел к выводу, что принятая теория о гигантских костях из России была ошибочной. Зубы и челюсти из Сибири “не имеют точного сходства со слоновьими”. Они принадлежали абсолютно иному виду. Что касается зубов животного из Огайо, то одного взгляда на них было “достаточно, чтобы понять – они отличаются еще сильнее”.
“Что же случилось с этими двумя видами огромных животных, признаков существования которых в настоящее время никто не находит?” – спрашивал он. В самой формулировке вопроса содержался ответ. Это были espèces perdues, или исчезнувшие виды. Итак, Кювье удвоил число вымерших позвоночных – с (возможно) одного до двух. Но на этом он не остановился.
Несколькими месяцами раньше Кювье получил зарисовки скелета, обнаруженного на берегу реки Лухан к западу от Буэнос-Айреса. Этот скелет, имевший более трех с половиной метров в длину и почти два метра в высоту, был отправлен в Мадрид, где его старательно собрали заново. По зарисовкам Кювье сделал вывод (вновь правильный), что скелет принадлежал какому-то ленивцу невероятных размеров. Кювье назвал его мегатерием, что означало “огромный зверь”. Хотя Кювье никогда не бывал в Аргентине (более того, не ездил никуда дальше Германии), он был убежден, что встретить мегатерия, бродящего по берегам южноамериканских рек, уже невозможно. Этот вид также исчез. То же касалось и так называемого маастрихтского животного[10], остатки которого – громадную заостренную челюсть со множеством зубов, похожих на акульи, – нашли в одной из голландских каменоломен (эти ископаемые остатки были захвачены французскими войсками, оккупировавшими Нидерланды в 1795 году).
Кювье заявил, что если есть четыре вымерших вида, то должны быть и другие. Подобное предположение было смелым – учитывая имеющиеся доказательства. На основании изучения нескольких разрозненных костей Кювье предложил качественно новый способ смотреть на жизнь: биологические виды вымирали, и то были не единичные случаи, а широко распространенное явление.
“Все эти факты, согласующиеся друг с другом и не опровергаемые никакими иными сообщениями, как мне кажется, доказывают существование мира, предшествовавшего нашему”, – говорил Кювье. “Но что представляла собой эта первобытная земля? И какая катастрофа смогла ее уничтожить?”
За прошедшие со времен Кювье два с лишним века Национальный музей естественной истории превратился в огромное учреждение с филиалами по всей Франции. Однако его главное здание до сих пор располагается в районе старых королевских садов в V округе Парижа. Кювье не просто работал в музее; основную часть своей взрослой жизни он прожил в большом, украшенном лепниной доме, стоящем на землях, принадлежащих музею. Впоследствии из дома сделали офисное здание. Теперь рядом с ним ресторан, а неподалеку зверинец, где на траве под солнцем в тот день, когда я туда приехала, грелись валлаби. А по другую сторону садов как раз и находится большой павильон с палеонтологической коллекцией музея[11].
Куратор музея Паскаль Тасси – специалист по хоботным, отряду животных, включающему слонов и их исчезнувших родственников, в частности мамонтов, мастодонтов и гомфотериевых. Я отправилась к нему, потому что он обещал показать мне те самые кости, которые держал в руках Кювье. Я нашла Тасси в его тускло освещенном кабинете, расположенном в подвале палеонтологического павильона. Он сидел в окружении древних черепов, словно в морге. Стены кабинета были украшены обложками старых комиксов про Тинтина. Тасси сказал мне, что решил стать палеонтологом в семь лет, когда прочитал о приключениях Тинтина на раскопках.
Мы немного потолковали о хоботных. “Это потрясающая группа животных”, – сказал он. “К примеру, хобот – поистине необыкновенная анатомическая трансформация лицевой области – возникал независимо пять раз. Два раза – и то удивительно. Но это произошло пять раз независимо! Мы вынуждены это признать, изучая окаменелые остатки”. По словам Тасси, пока выявлено около ста семидесяти видов хоботных, а прослежено назад примерно пятьдесят пять миллионов лет. “И я уверен – это далеко не все”.
Мы отправились наверх, в пристройку, располагающуюся позади палеонтологического павильона и похожую на вагончик. Тасси открыл небольшую комнату, полную металлических ящиков. Сразу за дверью, частично обернутое в целлофан, стояло что-то вроде волосатой подставки для зонтов. Это, как объяснил Тасси, была нога шерстистого мамонта, найденная иссохшей и замороженной на одном из островов на севере Сибири. Присмотревшись, я увидела, что кожа на ноге была сшита кусками, как на мокасинах. Темно-коричневая шерсть казалась сохранившейся почти идеально, хотя прошло больше десяти тысяч лет.
Тасси открыл один из металлических ящиков и выложил содержимое на деревянный стол. Это были зубы, которые люди Лонгёя тащили вдоль реки Огайо. Они были огромными, бугристыми и почерневшими.
“Это Мона Лиза палеонтологии”, – сказал Тасси, указывая на самый большой зуб. “Начало всего. Невероятно, но Кювье собственноручно зарисовал именно этот зуб. Так что он изучил его очень тщательно”. Тасси обратил мое внимание на каталожные номера, написанные на зубах в XVIII веке и с тех пор потускневшие до такой степени, что их стало практически невозможно разглядеть.
Я взяла самый большой зуб в руки. Он действительно производил впечатление. Двадцать сантиметров в длину и десять в ширину – размером примерно с кирпич и почти такой же тяжелый. Бугорки его были заострены, а эмаль почти не тронута временем. Корни, толстые, как канаты, образовывали плотную массу цвета красного дерева.
На самом деле с точки зрения эволюции в молярах мастодонта нет ничего необычного. Зубы мастодонта, как и большинства других млекопитающих, состоят из дентина, окруженного слоем более твердой, но более хрупкой эмали. Примерно 30 миллионов лет назад ветвь хоботных, которая приведет к мастодонтам, отделилась от ветви, которая приведет к мамонтам и слонам. У последних со временем развились более замысловатые по структуре зубы, состоящие из пластинок, покрытых эмалью и соединенных вместе в форму, напоминающую буханку хлеба. Такая структура намного жестче, что позволяло мамонтам – и до сих пор позволяет слонам – потреблять необычайно грубую пищу. Что же касается мастодонтов, то они сохранили свои относительно примитивные моляры (как и люди) и продолжали пережевывать то же, что раньше. Как подчеркнул Тасси, Кювье недоставало именно понимания эволюции, что в какой-то степени делает его достижения еще более впечатляющими.
Гравюра с изображением зубов мастодонта была опубликована вместе с описанием Кювье в 1812 году
“Конечно, и он ошибался, – сказал Тасси. – Но технически его работы – большинство из них – просто великолепны. Он был воистину превосходным анатомом”.
Мы еще немного порассматривали зубы, а затем Тасси проводил меня наверх, в палеонтологический зал. Сразу у входа на пьедестале стояла гигантская бедренная кость, отправленная Лонгёем в Париж. Диаметром она была подобна стойке ограждения. Мимо нас, возбужденно крича, прошли французские школьники. Тасси держал огромную связку ключей, которыми открывал различные ящики под стеклянными витринами. Он показал мне зуб мамонта, тоже исследованный Кювье, и остатки других вымерших видов, определить которые Кювье удалось первым в мире. Затем Тасси повел меня посмотреть на маастрихтское животное – одни из самых известных в мире ископаемых остатков. (Французы удерживают их у себя уже более двухсот лет – несмотря на многократные просьбы Нидерландов вернуть их обратно.) В XVIII веке кто-то полагал, что ископаемые остатки из Маастрихта принадлежали странному крокодилу, а кто-то – киту с искривленными зубами. В итоге Кювье, и опять правильно, определил это животное как морскую рептилию. (Впоследствии это существо назвали мозазавром.)
Ближе к обеду я проводила Тасси в его кабинет, а сама прогулялась по садам к ресторану рядом со старым домом Кювье. Мне показалось правильным заказать “Выбор Кювье” – первое блюдо на ваш вкус плюс десерт. За десертом – очень вкусным пирогом с кремовой начинкой – я почувствовала себя неприлично объевшейся. Мне вспомнилось, что я читала об анатомии самого анатома. В революцию Кювье был худым19. Но в последующие годы, живя на территории музея, он постепенно полнел и к концу жизни стал невероятно толстым.
Благодаря своей лекции о “видах слонов, как живущих, так и ископаемых” Кювье сумел констатировать вымирание как факт. Однако его самое экстравагантное предположение – что когда-то существовал целый мир, населенный вымершими видами, – так и оставалось всего только предположением. Если такой мир действительно существовал, то должны обнаруживаться следы и других исчезнувших животных. Кювье задался целью найти их.
Так сложилось, что Париж 1790-х годов оказался неплохим местом для занятий палеонтологией. Холмы к северу от города были испещрены карьерами, в которых интенсивно добывали гипс, главный ингредиент парижской штукатурки. (Столица развивалась настолько бессистемно над таким большим количеством карьеров, что во времена Кювье обрушения представляли серьезную опасность.) Довольно часто шахтеры наталкивались на странные кости, которые высоко ценились коллекционерами, хотя последние и не имели представления, что, собственно, собирают. Благодаря помощи одного такого энтузиаста Кювье вскоре собрал фрагменты скелета еще одного вымершего животного, которое он назвал l’animal moyen de Montmartre – “животное среднего размера с Монмартра”.
Все это время Кювье настойчиво пытался получить образцы от других европейских натуралистов. Однако французы уже имели репутацию захватчиков ценных артефактов, и коллекционеры редко делились с ними подлинными окаменелостями. Зато к ученому начали поступать подробные рисунки из разных городов, в частности из Гамбурга, Штутгарта, Лейдена и Болоньи. “Должен сказать, что я получил самую горячую поддержку ‹…› со стороны французов и иностранцев, которые любят и развивают науку”, – с признательностью писал Кювье18.
К 1800 году, то есть через четыре года после лекции о слонах, у Кювье уже образовался целый зоопарк ископаемых, включающий двадцать три вида, которые исследователь считал вымершими. К этим видам относились: карликовый бегемот, остатки которого Кювье обнаружил в запаснике парижского музея, лось с невероятно большими рогами, чьи кости были найдены в Ирландии, и огромный медведь – в наши дни известный как пещерный – из Германии. К тому моменту “животное с Монмартра” уже разделилось на шесть отдельных видов. (Даже сегодня об этих видах известно очень мало, кроме того, что они были копытными и жили около 30 миллионов лет назад.) “Если за столь короткое время было обнаружено так много исчезнувших видов, то сколько еще может скрываться в глубинах Земли?” – задавался вопросом ученый18.
Кювье обладал талантом шоумена и задолго до того, как музей нанял специалистов по связи с общественностью, знал, как привлечь внимание. (“В наши дни он мог бы стать телезвездой”, – так выразился Тасси.) Как-то в одном из парижских гипсовых карьеров нашли ископаемые остатки существа размером с кролика, с узким телом и квадратной головой. Проанализировав форму его зубов, Кювье заключил, что остатки принадлежали сумчатому животному. Заявление было смелым, поскольку сумчатые не водились в Старом Свете.
Для пущего эффекта Кювье заявил, что готов провести публичную идентификацию остатков. У сумчатых имеется характерная пара выступающих из таза костей, ныне известных как сумчатые кости. И хотя этих костей не было видно у окаменелости в том ее виде, как она попала к Кювье, он предсказал, что обнаружит их, если очистит окаменелость получше. Научная элита Парижа по приглашению ученого собралась посмотреть, как тот орудует над окаменелостью тонкой иглой. И вуаля – кости обнаружились! (Слепок ископаемого сумчатого выставлен в палеонтологическом зале парижского музея, однако оригинал считается слишком ценным и укрыт в специальном хранилище.)
Подобное палеонтологическое шоу Кювье устроил и во время своей поездки в Нидерланды. В музее Харлема он изучал образец, состоявший из большого черепа серповидной формы, прикрепленного к участку позвоночника. Эти ископаемые остатки длиной в метр были найдены почти за сто лет до того. Несмотря на странную форму черепа, почему-то считалось, что принадлежал он человеку (получившему даже научное название Homo diluvii testis, то есть “человек, видевший Всемирный потоп”). Чтобы опровергнуть это, Кювье прежде всего раздобыл скелет обычной саламандры. Затем, с одобрения директора харлемского музея, начал аккуратно откалывать кусочки камня вокруг позвоночника “потопного человека”. Когда он очистил передние конечности ископаемого животного, все увидели, что они, как и предсказывал Кювье, такой же формы, как у саламандры17. Это существо оказалось не допотопным человеком, а кое-чем еще более таинственным: гигантской амфибией.
Чем больше вымерших видов открывал Кювье, тем сильнее менялись они по своей природе. Пещерные медведи, гигантские ленивцы, даже исполинские саламандры – все они имели какое-то отношение к еще живущим видам. Однако кому принадлежали диковинные остатки, найденные в известняковых отложениях Баварии? Кювье получил гравюру с изображением этих остатков от одного из своих многочисленных корреспондентов. На ней можно было увидеть переплетение костей, напоминавших невероятно длинные передние лапы, тощие пальцы и узкий клюв. Первый натуралист, изучавший эти кости, предположил, что они принадлежали морскому животному, которое использовало свои удлиненные конечности, чтобы грести. Кювье же на основании выгравированного изображения пришел к шокирующему выводу: это животное было летающей рептилией. Он назвал его ptero-dactyle, птеродактилем, что означало “крыло-палое”.
Сделанное Кювье открытие вымирания – “мира, существовавшего до нашего” – стало сенсацией, весть о которой быстро пересекла Атлантику. Когда в Ньюбурге, штат Нью-Йорк, фермеры выкопали почти целый гигантский скелет, находка была тут же признана чрезвычайно важной. Томас Джефферсон, занимавший в то время пост вице-президента, сделал несколько попыток прибрать к рукам эти кости, но безуспешно. Однако это удалось его еще более настойчивому другу, художнику Чарльзу Уилсону Пилу, который незадолго до того основал в Филадельфии первый в стране музей естественной истории.
Пил, пожалуй, еще более искусный шоумен, чем Кювье, провел многие месяцы, пригоняя друг к другу кости из Ньюбурга. Недостающие части он мастерил из дерева и папье-маше. Скелет был представлен публике в сочельник 1801 года. Чтобы распространить весть о выставке, Пил приказал своему черному слуге Мозесу Уильямсу надеть индейский головной убор и ездить по улицам Филадельфии на белом коне20. Реконструкция получилась несколько преувеличенной – скелет возвышался на три и одну треть метра в высоту на уровне плеч и имел более пяти метров от бивней до хвоста. За просмотр каждый зритель должен был заплатить пятьдесят центов – довольно значительную сумму для того времени. У существа – американского мастодонта – все еще не было общепринятого названия, и его называли то incognitum, то животным из Огайо, то и вовсе почему-то мамонтом. Экспозиция стала первой сенсационной выставкой в мире и запустила волну “мамонтовой лихорадки”. В городе Чешир, штат Массачусетс, стали производить “мамонтовый” сыр массой 558 килограммов; филадельфийский булочник стал выпекать “мамонтовый” хлеб; газеты писали о “мамонтовом” пастернаке, “мамонтовом” персиковом дереве и даже о “мамонтовом” едоке, “заглотившем сорок два яйца за десять минут”21.
Пилу также удалось собрать по кусочкам второго мастодонта – из других костей, найденных в Ньюбурге и близлежащих городах в долине Гудзона. После праздничного ужина, организованного под обширной грудной клеткой животного, Пил отправил второй скелет в Европу в сопровождении двух своих сыновей. Несколько месяцев экспонат выставлялся в Лондоне, и за это время молодые Пилы решили, что бивни животного должны быть направлены вниз, как у моржа. Они планировали перевезти скелет в Париж и продать Кювье. Но пока братья были в Лондоне, между Британией и Францией разразилась война, сделавшая путешествия из одной страны в другую невозможными.
Кювье наконец дал мастодонту его название в статье, опубликованной в Париже в 1806 году. Это своеобразное имя происходит от греческих слов, означающих “грудь” и “зуб”: очевидно, бугорчатые выпуклости на молярах животного напоминали ученому соски. (К тому времени животное уже имело научное название благодаря одному немецкому натуралисту; к сожалению, это название – Mammut americanum – увековечило путаницу между мастодонтами и мамонтами[12].)
Несмотря на продолжающуюся англо-французскую войну Кювье удалось получить детальные зарисовки скелета, привезенного сыновьями Пила в Лондон, что позволило ему лучше понять анатомию животного. Он понял, что мастодонт отстоит намного дальше от современных слонов, чем мамонт, и приписал его к новому роду (позже мастодонты удостоились не только отдельного рода, но и семейства). Помимо американского ученый выделил еще четыре вида мастодонтов, “одинаково чуждых сегодня для нашей земли”.
Пил не знал о новом названии животного, данном Кювье, до 1809 года, но, узнав, сразу за него ухватился. Он написал Джефферсону письмо с предложением “окрестить” скелет мастодонта в филадельфийском музее21. Джефферсон равнодушно отнесся к имени, которое придумал Кювье: он фыркнул, что оно “ничуть не лучше любого другого”, и не соизволил откликнуться на идею “крещения”21.
В 1812 году Кювье опубликовал четырехтомный сборник своих работ по ископаемым животным – Recherches sur les ossemens fossiles de quadrupèdes (“Исследование ископаемых костей четвероногих”). До того как он начал исследования, было известно лишь об одном вымершем позвоночном (или считалось, что их вообще нет, – в зависимости от того, кто производил подсчет). Благодаря главным образом его собственным усилиям их стало сорок девять.
По мере пополнения этого списка росла и известность Кювье. Мало кто из натуралистов осмеливался публично заявлять о своих открытиях без его проверки и одобрения. “Разве Кювье не величайший поэт нашего века?” – вопрошал Оноре де Бальзак22. “Наш бессмертный естествоиспытатель воссоздал миры при помощи выбеленных временем костей; подобно Кадму, он отстроил города при помощи зубов”[13]. Сам Наполеон воздал почести Кювье, а когда наполеоновские войны наконец завершились, ученый был приглашен в Британию и представлен ко двору.
Англичане горячо приняли идеи Кювье. В первые годы XIX столетия коллекционирование окаменелостей стало настолько популярным у представителей высшего класса, что появилась даже новая профессия – специалист по окаменелостям (fossilist), то есть человек, зарабатывающий на жизнь поиском ископаемых образцов для богатых клиентов. В тот же год, когда Кювье опубликовал Recherches, один такой специалист – молодая девушка по имени Мэри Эннинг[14] – обнаружила особенно диковинный образец. Череп существа, обнаруженный в известняковых скалах Дорсета, был больше метра длиной, а его челюсти напоминали плоскогубцы-утконосы. Невероятно большие глазницы были покрыты костяными пластинами.
Первые обнаруженные ископаемые остатки ихтиозавра выставлялись в Египетском зале в Лондоне
В конце концов ископаемое оказалось в лондонском Египетском зале – частном музее, напоминавшем музей Пила. Вначале оно выставлялось в качестве рыбы, затем как родственник утконоса, пока не было признано, что это новый вид рептилий – ихтиозавр, или “рыба-ящер”. Через несколько лет другие собранные Эннинг образцы частично воссоздали еще более невероятное существо, названное плезиозавром, или “почти-ящером”. Первый оксфордский профессор геологии, преподобный Уильям Баклэнд, описывал плезиозавра как существо с “головой ящера”, прикрепленной к шее, “напоминающей тело змея”, с “ребрами хамелеона и плавниками кита”. Узнав о находке, Кювье счел описание плезиозавра столь невероятным, что даже задался вопросом, не были ли образцы подделкой. Когда Эннинг нашла еще один, почти целый скелет плезиозавра, Кювье быстро проведал об этом и тут уж вынужден был признать, что ошибался. “Вряд ли можно ожидать, что удастся найти нечто еще более монструозное”, – написал он одному из своих британских коллег23. Во время визита в Англию Кювье посетил и Оксфорд, где Баклэнд показал ему еще одну потрясающую окаменелость: огромную челюсть с одним изогнутым зубом, торчавшим вверх подобно кривой турецкой сабле. Кювье также отнес это животное к какому-то типу ящеров. Через несколько десятилетий ученые определят, что челюсть принадлежала динозавру.
В те времена изучение стратиграфии находилось еще в зачаточном состоянии, однако уже было понятно, что различные слои горных пород формировались в различные периоды времени. Плезиозавр, ихтиозавр и еще не получивший имени динозавр были найдены в известняковых отложениях, которые относятся к эпохе, называвшейся в то время вторичной эрой, а сейчас известной как мезозойская. В отложениях того же времени были найдены ptero-dactyle и маастрихтское животное. Эта идея привела Кювье к очередной удивительной догадке об истории жизни – у нее есть направленность. Исчезнувшие виды, остатки которых можно обнаружить близ поверхности Земли, к примеру мастодонты и пещерные медведи, подобны существам, живущим и ныне. Но стоит копнуть поглубже – как появляются существа вроде животного с Монмартра, у которых нет явных современных аналогов. А если копать еще глубже – млекопитающие вообще исчезают из палеонтологической летописи. В конце концов можно добраться не только до мира, который предшествовал нашему, но и до еще более раннего, где царствовали гигантские рептилии.
Маастрихтское животное до сих пор выставляется в Париже
Идеи Кювье относительно истории жизни – что она была долгой, изменчивой и полной фантастических существ, которых больше не существует, – казалось, естественным образом делают из него сторонника концепции эволюции. Однако ученый не принимал концепцию эволюции, или transformisme, как называли ее тогда в Париже, и пытался – в целом, по-видимому, успешно – унизить любого коллегу, продвигающего эту теорию. Любопытно, что те же самые качества, благодаря которым он сумел открыть вымирание, заставили его считать эволюцию чем-то абсурдным, настолько же невероятным, как левитация.
Кювье любил повторять, что всецело верит в анатомию; именно она помогла ему отличить кости мамонта от слоновьих и распознать исполинскую саламандру в остатках, принимаемых другими за человеческие. В основе его понимания анатомии лежал принцип, названный им “корреляция частей”. Под корреляцией он подразумевал, что все части животного подходят друг к другу и сконструированы оптимально для его конкретного образа жизни: к примеру, пищеварительная система хищника будет идеально подходить для переваривания сырого мяса. При этом его челюсти будут
устроены так, чтобы пожирать добычу; когти – чтобы хватать ее и рвать; зубы – чтобы взрезывать и разделывать плоть; вся система двигательных органов – чтобы преследовать и ловить; а органы чувств – чтобы чуять добычу издалека18.
Напротив, животное с копытами обязательно должно быть травоядным, поскольку у него нет “приспособлений для поимки добычи”. У него будут “зубы с плоской поверхностью, чтобы перетирать семена и траву”, и челюсти, осуществляющие движение зубами в поперечном направлении. Изменение любой части тела привело бы к нарушению функциональной целостности всего организма. Животное, родившееся, к примеру, с зубами или органами чувств, которые как-то отличаются от родительских, не сумело бы выжить, не говоря уже о том, чтобы дать начало совершенно новому типу существ.
Во времена Кювье самым видным сторонником идеи transformisme был его старший коллега по Национальному музею естественной истории Жан-Батист Ламарк. Согласно Ламарку, существовала некая сила – “сила жизни”, – которая заставляла организмы постоянно усложняться. Вместе с тем животным и растениям часто приходилось подстраиваться под изменения окружающей среды. И они подстраивались, приспосабливая свое поведение, а новые особенности, в свою очередь, приводили к физическим изменениям, которые затем передавались потомству. Птицы, выискивавшие добычу в озерах, расправляли в стороны пальцы, когда отталкивали воду, и так со временем у них сформировались перепончатые лапы, – эти птицы стали утками. Кроты, поселившись под землей, перестали использовать зрение – и через много поколений их глаза стали маленькими и слабыми.
Ламарк жестко критиковал теорию Кювье о вымирании; он не мог представить себе процесс, который был бы способен стереть с лица земли какой-либо организм (интересно, что единственным исключением он считал человечество, которое, допускал Ламарк, как раз в состоянии истребить некоторые виды крупных и медленно размножающихся животных). То, что Кювье считал espèces perdues (исчезнувшими видами), Ламарк полагал просто видами, полностью изменившимися до неузнаваемости.
Предположение, будто животные могут изменять свое телосложение, когда им это удобно, Кювье считал абсурдным. Он высмеивал идею, будто “утки благодаря нырянию становились щуками; щуки, случайно натолкнувшиеся на сушу, превращались в уток; куры, которые искали пищу у кромки воды и старались не намочить голени, настолько преуспели в удлинении своих ног, что превратились в цапель или аистов”24. Он обнаружил то, что однозначно, по крайней мере с его точки зрения, свидетельствовало против трансформизма, в коллекции мумий.
Когда Наполеон вторгся в Египет, французы, по своему обыкновению, захватили все, что их заинтересовало. Среди отправленных в Париж ящиков с награбленным был и ящик с забальзамированной кошкой18. Кювье исследовал мумию в поисках признаков трансформации. Но не нашел их. С анатомической точки зрения древнеегипетская кошка была неотличима от парижской уличной. Это служило доказательством постоянства видов. Ламарк возражал, что несколько тысяч лет, прошедших с момента бальзамирования египетской кошки, представляли собой “бесконечно малый срок” по сравнению с безграничностью времени17.
“Я знаю, что некоторые натуралисты сильно полагаются на сотни тысячелетий, которые нагромождают одним росчерком пера”, – презрительно отвечал Кювье18. В конце концов Кювье доведется писать надгробную речь на смерть Ламарка – и она будет скорее высмеивающая, чем восхваляющая. Ламарк, согласно Кювье, был фантазером. Его теории, словно “заколдованные дворцы из наших старых романов”25, выстраивались на “выдуманных основаниях”, и если и могли “поразить воображение поэта”, то “ни на секунду не выдерживали критики человека, который скрупулезно исследовал руку, внутренний орган или даже птичье перо”.
Развенчав transformisme, Кювье остался с зияющим пробелом в теории. Он не представлял, каким образом могли возникать новые организмы, и у него не было объяснения, как могло получиться, что в различные периоды времени мир населяли различные группы животных. Однако его это, кажется, не беспокоило. Все-таки он интересовался не происхождением видов, а их исчезновением.
В самый первый раз публично выступая на тему вымирания, Кювье дал понять, что знает, какая движущая сила стоит за этим, и понимает чуть ли не точный механизм явления. В своей лекции о “видах слонов, как живущих, так и ископаемых” он предположил, что мастодонт, мамонт и Megatherium были сметены с лица земли “какой-то катастрофой”. Кювье не решался строить догадки о точной природе этого бедствия. “Нам не следует погружаться в бескрайнюю область домыслов, которую вскрывают подобные вопросы”, – говорил он. Однако он, судя по всему, верил тогда, что достаточно было одного-единственного бедствия.
Позднее, по мере того как рос его список вымерших видов, точка зрения Кювье изменилась. Он пришел к выводу, что катаклизмов было много. “Жизнь на Земле часто нарушалась ужасными событиями”, – писал он. “Жертвами этих катастроф становились бесчисленные живые организмы”18.
Убеждение Кювье в том, что катаклизмы стирали с лица земли целые виды, как и его точка зрения на transformisme, согласовывалось с его знанием анатомии и даже, можно сказать, проистекало из него. Поскольку животные были функциональными единицами, идеально приспособленными к своим условиям жизни, при обычном ходе вещей не было никакой причины, по которой они должны были бы вымирать. Даже самых разрушительных событий, происходящих в современном мире, – скажем, извержений вулканов или лесных пожаров – совершенно недостаточно для объяснения вымирания. Сталкиваясь с переменами, вызванными подобными событиями, организмы просто перекочевывали куда-нибудь и выживали18. Следовательно, изменения, которые приводили к вымираниям, должны были иметь гораздо большую мощность – настолько, чтобы у животных не оставалось шансов справиться с ними. Тот факт, что ни сам Кювье, ни какой-либо другой натуралист никогда не наблюдали подобных экстремальных событий, был еще одним свидетельством изменчивости природы: в прошлом она вела себя иначе – намного активнее и свирепее, чем в настоящее время.
“Нарушена последовательность действий”, – писал Кювье. “Природа изменила свой курс, и ни одной действующей силы из тех, что она использует сейчас, не было бы достаточно для той работы, которую она совершала в прошлом”. Кювье провел несколько лет, изучая пласты горных пород вокруг Парижа – вместе со своим другом он создал первую стратиграфическую карту Парижского бассейна, – и там тоже увидел признаки катастрофических изменений. Анализ пород показал, что этот регион в определенные временны́е эпохи находился под водой. Переходы от одной среды к другой – от морской к наземной или от морской к пресноводной – были, по мнению Кювье, “отнюдь не медленными”, наоборот, они вызывались внезапными “переворотами на поверхности земного шара”. Последний такой переворот наверняка произошел сравнительно недавно, поскольку его следы все еще были повсюду ясно различимы. Это событие, решил Кювье, имело место незадолго до начала письменной истории; он заметил, что многие древние мифы и тексты, включая Ветхий Завет, упоминают некую катастрофу – обычно потоп, – которая предшествовала нынешнему порядку вещей.
Идеи Кювье о том, что земной шар периодически сотрясали катаклизмы, оказались почти столь же значимыми, как и его исходные открытия. Основной его труд на данную тему, впервые опубликованный на французском языке в 1812 году, тут же был переведен на английский и доставлен в Америку. Также вышли издания на немецком, шведском, итальянском, русском и чешском языках. Однако в переводе многое было потеряно или, во всяком случае, переврано. Текст Кювье был подчеркнуто нерелигиозным. Кювье цитировал Библию как один из множества древних (и не вполне надежных) источников, наряду с индуистскими Ведами и “Шу цзин”. Подобный экуменизм был неприемлем для англиканского духовенства, составлявшего значительную долю преподавателей в университетах вроде Оксфорда, поэтому, когда труд Кювье переводился на английский язык, Баклэнд и другие ученые интерпретировали его так, словно он предоставляет доказательства Всемирного потопа.
К настоящему времени эмпирические основания теории Кювье в значительной степени опровергнуты. Физические доказательства, которые убедили его в том, что непосредственно перед началом письменной истории произошла некая катастрофа (и которые трактовались англичанами как доказательства Всемирного потопа), оказались в действительности следами последней ледниковой эпохи[15]. Стратиграфия Парижского бассейна отражает не внезапные “разливы” воды, а постепенные изменения уровня моря и влияние движения тектонических плит. В этих вопросах, как мы теперь знаем, Кювье ошибался.
Зато некоторые из наиболее дико звучащих заявлений Кювье оказались на удивление точными. Жизнь на Земле действительно нарушалась “ужасными событиями”, и “бесчисленные живые организмы” становились их жертвами. Такие события нельзя объяснить существующими ныне “действующими силами”. Время от времени природа “меняет свой курс”, и в такие моменты словно бы нарушается “последовательность действий”.
Что же касается американского мастодонта, то Кювье оказался прав почти необъяснимым образом. Он заключил, что животное исчезло 5 или 6 тысяч лет назад, в ходе того же “переворота”, который уничтожил мамонта и Megatherium. На самом же деле американский мастодонт вымер около 13 тысяч лет назад. Его гибель была частью волны исчезновений, которая получила название “вымирание мегафауны”. Эта волна совпала с распространением современного человека, и считается, более того, что она стала результатом этого распространения. В этом смысле той катастрофой, которая, как верил Кювье, произошла непосредственно перед началом письменной истории, оказались мы сами.
Глава 3 Настоящий пингвин Pinguinus impennis
Слово “катастрофист” было введено в 1832 году Уильямом Уэвеллом, одним из первых президентов Лондонского геологического общества, который также обогатил английский язык словами “анод”, “катод”, “ион” и “ученый”. Хотя впоследствии этот термин станет вызывать негативные ассоциации, прицепившиеся к нему как репей, Уэвелл не придавал ему отрицательного оттенка. Предлагая данный термин23, Уэвелл четко дал понять, что считает себя “катастрофистом” и что большинство известных ему ученых тоже “катастрофисты”. И действительно, среди знакомых Уэвелла оказался всего один человек, которому не подходило такое определение – это был молодой, подающий надежды геолог по имени Чарльз Лайель[16]. Для Лайеля Уэвелл придумал другой неологизм – “униформист”.
Лайель вырос на юге Англии, в мире, хорошо знакомом любителям книг Джейн Остин26. Он поступил в Оксфорд, где учился на адвоката. Проблемы со зрением помешали ему заниматься юридической практикой, поэтому он обратился к естественным наукам. В молодости Лайель совершил несколько поездок в континентальную Европу и подружился с Кювье, в чьем доме нередко обедал. Он считал своего старшего товарища “очень любезным” – Кювье позволил ему сделать слепки с нескольких знаменитых окаменелостей, чтобы Лайель мог забрать их с собой в Англию, – однако находил точку зрения французского ученого на историю Земли абсолютно неубедительной27.
Когда Лайель смотрел (пусть и близорукими глазами) на обнажения горных пород в сельских районах Британии, толщи пластов в Парижском бассейне или вулканические острова в Неаполитанском заливе, он не видел никаких признаков катаклизмов. Собственно, он видел обратное: Лайель считал ненаучными (или, как говорил он сам, “нефилософскими”) представления о том, будто изменения в мире могли происходить по иным причинам или иными темпами, чем в наши дни. Согласно Лайелю, каждая особенность ландшафта была результатом постепенных, очень плавных процессов, происходящих многие тысячелетия, – процессов вроде отложения осадков, эрозии и вулканических явлений, которые продолжают происходить и сегодня. Для многих поколений студентов-геологов основная идея Лайеля сводилась к постулату “Настоящее – это ключ к прошлому”.
Что касается вымирания, то и оно, с точки зрения Лайеля, происходило очень медленно – настолько медленно, что было бы неудивительно, если бы оно вообще прошло незамеченным для любого периода времени и любого конкретного места. А ископаемые находки, которые, казалось, позволяют предположить, что различные виды в определенные периоды истории вымирали массово, показывают, что свидетельства ненадежны. Даже сама идея о том, что история жизни имела определенную направленность – сначала рептилии, потом млекопитающие, – была ошибочной, считал Лайель, еще одним неверным выводом, основанным на некорректных данных. Во все эпохи существовали все типы организмов, и те, которые вроде бы исчезли навеки, могли – при благоприятных условиях – возникнуть вновь. Таким образом, “птеродактиль снова стал бы носиться в воздухе, огромный игуанодон появился бы в лесах, а ихтиозауры еще раз зароились бы в море”28[17]. Лайель писал, что до сих пор “не открыто никакого закона прогрессивного развития, управляющего вымиранием и обновлением видов и заставляющего фавну и флору переходить из зачаточного в более совершенное состояние, от простой к более сложной организации”28.
Лайель опубликовал свои идеи в трех толстых томах под названием “Основы геологии: попытка объяснить перемены, происходившие на поверхности Земли, с точки зрения современных исследований”. Работа была рассчитана на широкую аудиторию, и ее приняли с большим энтузиазмом. Первый тираж в четыре с половиной тысячи экземпляров распродали быстро, и был заказан второй – девять тысяч экземпляров. (В письме своей невесте Лайель хвастался, что продал “как минимум вдесятеро” больше книг, чем когда-либо продал любой другой английский геолог29.) Лайель стал, можно сказать, знаменитостью, Стивеном Пинкером[18] своего поколения, а на его лекции в Бостоне пытались достать билеты более четырех тысяч человек30.
Для большей ясности (и живости повествования) Лайель излагал взгляды своих оппонентов в карикатурном виде, заставляя их звучать более “нефилософски”, чем на самом деле. И ему отвечали тем же. Британский геолог по имени Генри де ла Беш, умевший неплохо рисовать, высмеял идею Лайеля о вечной повторяемости. Он создал карикатуру, на которой Лайель изображен в виде подслеповатого ихтиозавра, указывающего на человеческий череп и читающего лекцию группе гигантских рептилий31. Подпись к картинке гласила: “Сразу понятно, – продолжал профессор Ихтиозавр, – что череп, который мы видим, принадлежал представителю какого-то из низших порядков животных; его зубы невелики, сила челюстей ничтожна, и вообще поразительно, как такое существо могло добывать себе пищу”. Де ла Беш назвал карикатуру “Ужасные изменения”.
Среди тех, кто обрел экземпляр “Основ геологии”, был Чарльз Дарвин. Практически сразу после окончания Кембриджа двадцатидвухлетнего Дарвина пригласил в экспедицию в качестве своего рода спутника для джентльмена Роберт Фицрой, капитан корабля “Бигль” флота Его Величества. Корабль направлялся к Южной Америке, чтобы обследовать береговую линию и исправить различные картографические ошибки, затрудняющие навигацию. (Адмиралтейство было особенно заинтересовано в поиске удобного подступа к Фолклендским островам, которые незадолго до этого британцы взяли под свой контроль.)
Предполагалось, что путешествие продлится пять лет, и Дарвин рассчитывал пройти на корабле от Плимута до Монтевидео, через Магелланов пролив до Галапагосских островов, через южную часть Тихого океана до Таити, затем до Новой Зеландии, Австралии и Тасмании, через Индийский океан до Маврикия, вокруг мыса Доброй Надежды – и обратно к Южной Америке. Принято считать, что Дарвин сформулировал идею естественного отбора во время этого путешествия, сталкиваясь с огромным разнообразием гигантских черепах, морских ящериц и вьюрков с клювами всевозможных форм и размеров. Но на самом деле он создал свою теорию только после возвращения, когда другие натуралисты разобрали груду образцов, которые он отправлял в Англию32.
Правильнее будет сказать, что во время путешествия на “Бигле” Дарвин открыл для себя Лайеля. Незадолго до отплытия корабля Фицрой подарил Дарвину первый том “Основ геологии”. Несмотря на сильнейшую морскую болезнь во время начального этапа путешествия (как, впрочем, и многих последующих), Дарвин писал, что внимательно изучал книгу Лайеля, по мере того как судно двигалось на юг. “Бигль” сделал первую остановку у Сант-Яго (ныне Сантьягу), одного из островов Зеленого Мыса, и Дарвин, жаждущий применить свои новые знания на практике, провел несколько дней за сбором образцов с каменистых скал. Одним из главных постулатов Лайеля было то, что некоторые участки Земли постепенно поднимались, тогда как другие постепенно оседали. (В дальнейшем Лайель утверждал, что эти явления всегда находятся в равновесии – “чтобы сохранять постоянство общего соотношения земли и моря”28.) В Сант-Яго это вроде бы подтверждалось. Остров был полностью вулканического происхождения, однако у него имелось несколько любопытных особенностей, в том числе полоска белого известняка, проходящая по темным скалам на середине их высоты. Дарвин пришел к выводу, что эти особенности можно объяснить единственно поднятием суши. В первой же местности, “где я проводил геологические исследования, я убедился в бесконечной правоте Лайеля”, – писал он позже. Первый том “Основ геологии” настолько захватил Дарвина, что он заказал второй том, который ему переслали в Монтевидео. Третий том, судя по всему, попал к нему в руки на Фолклендских островах33.
Пока “Бигль” шел вдоль западного побережья Южной Америки, Дарвин несколько месяцев изучал Чили. Как-то после обеда он отдыхал после очередной вылазки неподалеку от города Вальдивия, когда земля под ним начала трястись, словно желе. “…И этот миг порождает в нашем сознании какое-то необычное ощущение неуверенности, которого не могли бы вызвать целые часы размышлений”34[19], – писал он. Прибыв в Консепсьон через несколько дней после землетрясения, исследователь обнаружил, что весь город превратился в груду щебня. “Именно так, в городе не осталось ни одного дома, пригодного для жилья”, – сообщал он. Эта картина представляла собой “самое ужасное, но вместе с тем и самое интересное зрелище”34, которое ему когда-либо доводилось видеть. Ряд измерений, сделанных Фицроем в гавани Консепсьона, показал, что землетрясение подняло уровень берега более чем на два метра. И снова идеи Лайеля довольно впечатляюще подтвердились. При наличии достаточного времени, утверждал Лайель, повторяющиеся землетрясения могли бы поднять целую горную гряду на тысячи метров.
Чем больше Дарвин исследовал мир, тем сильнее тот казался соответствующим взглядам Лайеля. Неподалеку от порта Вальпараисо Дарвин обнаружил залежи морских ракушек, находившиеся намного выше уровня моря. Он посчитал это результатом множественных поднятий суши, одно из которых видел собственными глазами. “Я всегда считал, что огромная заслуга «Основ геологии» в том, что они полностью изменили способ мышления”, – напишет он позже. (Во время пребывания в Чили ученый также обнаружил новый и весьма примечательный вид лягушек, ставший известным как ринодерма Дарвина. Самцы этого вида вынашивают икру в своих горловых мешках. В ходе недавних поисков не удалось найти ни одной такой лягушки, и теперь этот вид считается вымершим35.)
Ближе к концу путешествия на “Бигле” Дарвин впервые исследовал коралловые рифы. Это натолкнуло его на ошеломляющую идею, которая поистине явилась интеллектуальным прорывом и облегчила ему вхождение в научные круги Лондона. Он осознал, что ключ к пониманию коралловых рифов – взаимосвязь биологических и геологических процессов. Если риф формировался вокруг острова или вдоль медленно опускающейся континентальной окраины, то кораллы, неспешно растущие вверх, могли сохранять свое положение относительно уровня воды. Постепенно, по мере того как земля опускалась, кораллы образовывали барьерный риф. Если суша в конце концов погружалась под воду полностью, риф образовывал атолл.
Версия Дарвина была полнее версии Лайеля и отчасти ей противоречила: маститый ученый полагал, что рифы вырастали из краев затопленных вулканических кратеров. Однако идеи Дарвина были по своей сути настолько “лайелевскими”, что, когда после своего возвращения в Англию Дарвин изложил их Лайелю36, тот был в восторге. По словам историка науки Мартина Радвика, Лайель “признал, что Дарвин оказался большим Лайелем, чем он сам”23.
Один биограф подытожил влияние Лайеля на Дарвина так: “Без Лайеля не было бы Дарвина”37. Сам Дарвин после публикации своего описания путешествия на “Бигле” и труда о коралловых рифах писал: “Я всегда ощущаю, будто мои книги наполовину вышли из головы Лайеля”.
Лайель, видя, как постоянно и повсеместно меняется окружающий мир, определил для жизни границы. Он считал немыслимым, будто какой-либо вид растения или животного может со временем привести к появлению нового вида. Ученый посвятил значительную часть второго тома “Основ геологии” нападкам на эту идею, приведя результаты исследования Кювье мумифицированной кошки в подтверждение своих возражений.
Упорное противодействие идее трансмутации, как это называли в Лондоне, у Лайеля было столь же необъяснимым, как и у Кювье. Лайель осознавал, что в палеонтологической летописи регулярно возникали новые виды. Однако вопросом, как они произошли, он никогда всерьез не задавался, ограничиваясь рассуждением, что, возможно, каждый из видов начался с “одной пары или с одной особи, когда одной особи было достаточно”38, плодился и таким образом распространялся. Этот процесс, который, казалось, зависел от божественного вмешательства или как минимум сверхъестественных сил, явно противоречил излагаемым им геологическим принципам. Действительно, как подметил один исследователь, процесс образования новых видов требовал “как раз чуда такого рода”, которое Лайель отвергал39.
Сформулировав свою теорию естественного отбора, Дарвин еще раз проявил себя “большим Лайелем”, чем сам Лайель. Дарвин понял, что как окружающий неорганический мир – дельты рек, долины и горные цепи – создавался благодаря постепенным изменениям, так и органический мир претерпевал постоянные изменения. Ихтиозавры и плезиозавры, птицы и рыбы, а также – что неутешительнее всего – люди возникли в результате процесса трансформации, происходившего на протяжении бесчисленного множества поколений. Согласно Дарвину, этот процесс, пусть и неуловимо медленно, все еще продолжается; в биологии, как и в геологии, настоящее – это ключ к прошлому. В одном из наиболее цитируемых отрывков “Происхождения видов” Дарвин писал:
Можно сказать, что естественный отбор ежедневно и ежечасно расследует по всему свету мельчайшие вариации, отбрасывая дурные, сохраняя и слагая хорошие, работая неслышно и незаметно, где бы и когда бы ни представился к тому случай40[20].
Естественный отбор устранил необходимость в каких бы то ни было чудесах творения. Имея достаточно времени для накопления всех “мельчайших вариаций”, из старых биологических видов могли появляться новые. На этот раз Лайель не торопился аплодировать своему протеже. Дарвиновскую теорию “происхождения посредством модификаций” он принял крайне неохотно – настолько, что такое его отношение, похоже, в конце концов разрушило их дружбу.
Теория Дарвина о происхождении видов одновременно была и теорией их исчезновения. Вымирание и эволюция представляли собой основу и уток для ткани жизни или, если угодно, две стороны одной медали. “Появление новых форм и исчезновение прежних” были, как писал Дарвин, “тесно связаны одно с другим”40. Ими двигала “борьба за существование”, вознаграждающая более приспособленные виды и уничтожающая менее приспособленные.
Теория естественного отбора основывается на том убеждении, что каждая новая разновидность и в конце концов каждый новый вид образуется и сохраняется благодаря какому-нибудь преимуществу над тем, с которым он вступает в конкуренцию; из этого почти неизбежно следует вымирание форм менее благоприятствуемых40.
Дарвин использовал аналогию с домашним скотом. Как только появлялась более жизнеспособная или производительная порода, она быстро вытесняла остальные. К примеру, указывал исследователь, “имеются исторические данные, что в Йоркшире водившийся в старину черный рогатый скот был вытеснен лонгорнами”, а те, в свою очередь, были “сметены шортгорнами… словно какой-нибудь моровой язвой”.
Дарвин подчеркивал простоту своей идеи. Естественный отбор был настолько мощной силой, что никакой иной не требовалось. Как без чудотворного происхождения, можно было обойтись и без всемирных катастроф. “Вымирание видов было окутано наиболее непостижимой тайной”, – писал он, поддразнивая Кювье.
Из постулатов Дарвина следовало важное предсказание. Если вымирание руководилось естественным отбором и только им, то оба эти процесса должны были протекать с примерно одинаковой скоростью. Пожалуй, вымирание должно было происходить более постепенно.
“…Полное вымирание какой-нибудь группы представляет обычно процесс более медленный, чем ее образование”, – заметил однажды ученый40.
Никто никогда не наблюдал возникновения нового вида, и, согласно Дарвину, этого и не стоило ожидать. Видообразование происходит настолько медленно, что при всем желании его невозможно наблюдать. “Мы не видим никаких из этих медленно происходящих изменений”, – писал он. Казалось вполне логичным предположить, что стать свидетелями вымирания было бы еще сложнее. Но это было не так. В те годы, что Дарвин проводил в уединении в своем поместье Даун-Хаус, развивая идеи об эволюции, исчезли последние представители одного из самых знаменитых биологических видов Европы – бескрылой гагарки. Более того, британские орнитологи методично описали это событие. В данном случае факты напрямую противоречили теории Дарвина и таили в себе глубокий смысл.
* * *
Исландский институт естественной истории располагается в недавно построенном среди пустынных холмов здании недалеко от Рейкьявика. Здание с наклонной стеклянной крышей и стеклянными стенами немного напоминает нос корабля. Оно было сооружено как научно-исследовательский центр, не для свободного доступа. Это означает, что для осмотра коллекции института нужно получить специальное разрешение. Получив его, я узнала, что коллекция включает в себя, в частности, чучело тигра, чучело кенгуру и шкаф, заполненный чучелами райских птиц.
Причина, по которой я решила посетить институт, – желание увидеть бескрылую гагарку. Исландия имеет сомнительную честь считаться последним местом обитания этой птицы, и особь, на которую я приехала посмотреть, была убита где-то в этих краях – точное место неизвестно – летом 1821 года. Тушка птицы была куплена датским графом Фредериком Кристианом Рабеном, приехавшим в Исландию специально для того, чтобы заполучить гагарку для своей коллекции (при этом он чуть не утонул). Граф увез экспонат в свой замок, где тот оставался в частном владении до 1971 года, пока не был выставлен на аукционе в Лондоне. Институт естественной истории объявил сбор пожертвований – и за три дня исландцы собрали эквивалент десяти тысяч фунтов стерлингов, чтобы выкупить гагарку обратно. (Одна женщина, с которой мне довелось разговаривать, вспоминала, что опустошила для этой цели свою детскую копилку, – в ту пору моей собеседнице было десять лет.) Авиакомпания Icelandair бесплатно предоставила два места на обратный путь – одно для директора института, а второе для птицы в коробке41.
Показать мне гагарку поручили Гудмундуру Гудмундссону, теперь он работает заместителем директора института. Гудмундссон – специалист по фораминиферам, крошечным морским существам с замысловатыми раковинами. По пути к месту назначения мы зашли в его офис, заполненный коробками с маленькими стеклянными трубочками. В них были образцы раковин, которые зашуршали, как обсыпка для кондитерских изделий, когда я взяла в руки одну из трубочек. Гудмундссон рассказал, что в свободное время занимается переводами. Несколько лет назад он завершил перевод для первого издания “Происхождения видов” на исландском языке. Он нашел стиль Дарвина достаточно сложным – “предложения внутри предложений внутри предложений”, – и книга, Uppruni Tegundanna, продавалась не очень хорошо, возможно, потому, что очень многие исландцы свободно владеют английским.
Наконец мы добрались до хранилища коллекции института. Казалось, что чучело тигра, обернутое в полиэтилен, готово броситься на чучело кенгуру. Бескрылая гагарка – Pinguinus impennis – была выставлена особняком в специально сделанной витрине из оргстекла. Она сидела на искусственной скале, рядом с муляжом яйца.
Как следует из английского названия птицы (great auk), бескрылая гагарка была крупной; взрослые особи достигали восьмидесяти сантиметров в высоту. Она не умела летать – была одной из немногих нелетающих птиц в Северном полушарии, а ее короткие крылья казались до смешного мелкими для такого туловища. У этой гагарки на спине были коричневые перья; возможно, они были черными при жизни птицы, но с тех пор выцвели. “Это все ультрафиолет, – мрачно сказал Гудмундссон. – Он портит оперение”. Грудные перья гагарки были белыми, и под каждым глазом белело по пятну. Чучело сделали так, что главный отличительный признак птицы – ее большой клюв с затейливыми бороздками – оказался немного приподнятым. Это придавало гагарке печально-надменный вид.
Гудмундссон рассказал, что бескрылая гагарка выставлялась в Рейкьявике до 2008 года, пока институт не был перестроен по распоряжению правительства Исландии. Птице должны были соорудить новый дом, однако возникло множество помех, в том числе финансовый кризис в стране. Именно поэтому гагарка графа Рабена сидит сейчас на искусственной скале в углу хранилища. На этой скале есть надпись, Гудмундссон мне ее перевел: “Выставленная здесь птица была убита в 1821 году. Это одна из немногих еще существующих бескрылых гагарок”.
В свою золотую пору, то есть до того как люди научились добираться до мест гнездования бескрылой гагарки, эта птица обитала на территории от Норвегии до Ньюфаундленда и от Италии до Флориды, а численность ее популяции, вероятно, достигала миллионов особей. Когда первые поселенцы прибыли в Исландию из Скандинавии, бескрылые гагарки были настолько обычными птицами, что их частенько ели на ужин, и их остатки были найдены среди отбросов X века.
Во время поездки в Рейкьявик я посетила музей, возведенный на том месте, где некогда стояло здание, считающееся одним из самых древних в Исландии, – длинный дом, сделанный из полос дерна[21]. Согласно информации на стенде в музее, бескрылая гагарка в Средние века была для жителей страны “легкой добычей”. Помимо пары костей гагарки, там можно было посмотреть видеофильм, воссоздающий ранние взаимоотношения человека и птицы. В фильме показывалось, как затененная фигура человека крадется по скалистому берегу к затененной фигуре гагарки. Подобравшись достаточно близко, человек достает палку и бьет птицу по голове. Гагарка отвечает криком, представляющим собой нечто среднее между автомобильным гудком и хрюканьем. Этот зловеще захватывающий фильм я посмотрела раз шесть. Крадущиеся шаги, удар, крик… Повтор.
Насколько мы можем судить, образ жизни бескрылых гагарок очень напоминал образ жизни пингвинов. На самом деле бескрылые гагарки и были настоящими “пингвинами”. Этимология слова “пингвин” неясна, возможно, оно происходит от латинского pinguis (“жирный”). Именно так этих птиц называли европейские моряки, встречавшие их в Северной Атлантике. Позднее, когда следующим поколениям моряков попались на глаза нелетающие птицы с аналогичной окраской в Южном полушарии, они использовали то же название. Это привело к большой путанице, поскольку гагарки и пингвины принадлежат к различным семействам. (Пингвины образуют свое собственное семейство, а гагарки относятся к тому же семейству[22], что тупики и кайры; генетический анализ показал, что гагарка – ближайший из ныне живущих родственников бескрылой гагарки42.)
Бескрылые гагарки были великолепными пловцами (этим же славятся и пингвины). Очевидцы писали, что птицы развивали “невероятную скорость” в воде – собственно, там они проводили значительную часть своей жизни43. Однако во время брачного сезона, в мае и июне, они толпами вперевалку ходили по берегу – и становились очень уязвимыми для нападения. На них однозначно охотились как коренные жители Америки (в одном древнем захоронении в Канаде было найдено более сотни клювов бескрылой гагарки), так и европейцы времен палеолита – кости птицы находят на археологических раскопках на территории, например, Дании, Швеции, Испании, Италии и Гибралтара43. К тому времени, как первые переселенцы добрались до Исландии, многие гнездовья бескрылой гагарки были уже разорены, а ее ареал наверняка значительно сузился. А затем началось массовое истребление.
Привлеченные перспективами богатого улова трески, европейцы начали совершать регулярные экспедиции к Ньюфаундленду в начале XVI века. На своем пути они встречали возвышающуюся над волнами плиту из розоватого гранита площадью около двадцати гектаров. Весной она была буквально покрыта птицами, стоявшими, образно говоря, плечом к плечу. Помимо олушей и кайр там было множество бескрылых гагарок. Эта плита, расположенная приблизительно в шестидесяти пяти километрах от северо-восточного побережья Ньюфаундленда, стала известна как Остров птиц, или, по некоторым источникам, Пингвиний остров; сейчас это остров Фанк. Когда длительное плавание через Атлантику заканчивалось и припасы подходили к концу, свежее мясо становилось особенно ценным, и вскоре моряки поняли, что сидящих на плите гагарок очень легко подстрелить. В своих записях 1534 года французский исследователь Жак Картье писал, что некоторые обитатели Острова птиц были “крупными, как гуси”.
Они всегда в воде, неспособны летать по воздуху, поскольку у них крайне маленькие крылья ‹…› с помощью которых ‹…› они перемещаются по воде так же быстро, как другие птицы летают по воздуху. Эти птицы настолько жирные, что просто не верится. Менее чем за полчаса мы наполнили ими две лодки, словно камнями. Тех, которых мы не съели свежими, засолили, и на каждом корабле оказалось по пять-шесть полных бочек мяса41.
Британская экспедиция, высадившаяся на острове несколько лет спустя, отметила, что он “полон крупной дичи”. Моряки переправили “огромное количество дичи” на свои корабли и заявили, что добыча весьма вкусна – “очень хорошее и питательное мясо”. В рапорте капитана Ричарда Уитборна 1622 года описывается, как моряки грузили бескрылых гагарок на лодки “сотнями, словно Господь сделал так, что наивность этих бедных созданий стала столь восхитительным инструментом для поддержания жизни человека”43.
В течение нескольких следующих десятилетий для бескрылых гагарок нашлись и другие применения помимо “поддержания жизни”. (Как заметил один историк, “бескрылые гагарки с острова Фанк использовались всеми способами, на которые хватало человеческой изобретательности”41.) Гагарок использовали в качестве наживки для рыбы, как источник пера для набивания матрасов и как топливо. На острове Фанк были построены каменные загоны – их руины можно увидеть и сегодня, – куда загоняли птиц, пока у кого-нибудь из моряков не находилось время, чтобы зарезать их. Птиц даже не всегда убивали. По словам английского моряка Аарона Томаса, плававшего на Ньюфаундленд на корабле “Бостон”,
если вам нужны их перья, не затрудняйте себя убийством птицы, а просто хватайте одну из них и выщипывайте самые лучшие. Затем оставьте бедного пингвина на произвол судьбы, с полуголой и содранной кожей, чтобы он спокойно погиб 41.
На острове Фанк нет деревьев, следовательно, нет и топлива. Это породило еще один прием, описанный Томасом:
Вы берете с собой котел, в который кладете одного-двух пингвинов, разжигаете под ним огонь, и топливом для костра служат сами же невезучие пингвины. Их тела, содержащие большое количество жира, скоро разгораются41.
По приблизительным оценкам, когда европейцы впервые попали на остров Фанк, там обитало не менее сотни тысяч пар бескрылых гагарок, способных отложить сотню тысяч яиц44 (скорее всего, бескрылые гагарки откладывали всего по одному яйцу в год; яйца, около двенадцати сантиметров длиной, были покрыты черно-коричневыми разводами в стиле Джексона Поллока). Безусловно, колония птиц на острове была достаточно большой для того, чтобы пережить более двух столетий жестокого истребления. Однако к концу 1700-х годов численность гагарок резко сократилась. Торговля пером стала настолько прибыльным делом, что целые группы охотников проводили на острове Фанк все лето, занимаясь ошпариванием и ощипыванием птиц. В 1785 году Джордж Картрайт, английский торговец и исследователь, видел эти группы: “Истребление, которое они производили, просто невообразимо”43. По его прогнозу, если не положить этому конец, то бескрылая гагарка вскоре “практически полностью исчезнет”.
Неизвестно, действительно ли охотникам удалось убить всех до единой гагарок на острове, или массовое истребление просто уменьшило численность колонии настолько, что та стала уязвима перед другими факторами вымирания. (Сокращение плотности популяции могло сделать менее вероятным выживание оставшихся особей, это явление известно под названием “эффект Олли”.) В любом случае, датой полного истребления бескрылой гагарки на территории Северной Америки принято считать 1800 год. Примерно через тридцать лет, работая над книгой “Птицы Америки”, Джон Джеймс Одюбон[23] отправился на Ньюфаундленд в поисках бескрылых гагарок, чтобы рисовать их с натуры. Он не смог найти ни одной птицы и для своих зарисовок вынужден был довольствоваться чучелом из Исландии, приобретенным лондонским торговцем. В своем описании бескрылой гагарки Одюбон упоминал, что она была “редкой и случайной на берегах Ньюфаундленда” и что, “по слухам, она выводит потомство на скале этого острова”43. Любопытное противоречие, поскольку ни одну птицу, высиживающую птенцов, нельзя назвать “случайной”.
Бескрылые гагарки откладывали всего по одному яйцу в год
После того как птицы с острова Фанк были вконец засолены, ощипаны и зажарены, в мире осталась лишь одна значительная колония бескрылых гагарок – на острове Гейрфюгласкер, или “утесе бескрылых гагарок”, расположенном примерно в пятидесяти километрах к юго-западу от исландского полуострова Рейкьянес. К несчастью для птиц, извержение вулкана в 1830 году разрушило Гейрфюгласкер. У них осталось одно-единственное пристанище – крошечный островок Эльдей. Но тут бескрылая гагарка столкнулась с новой угрозой: она стала редкостью. Шкурки и яйца жаждали заполучить джентльмены типа графа Рабена, чтобы пополнить свои коллекции. По милости таких вот энтузиастов последняя пара гагарок была убита на Эльдее в 1844 году.
Бескрылые гагарки, рисунок Одюбона
Перед отъездом в Исландию я решила, что хочу увидеть последнее место обитания гагарки. Островок Эльдей расположен всего километрах в пятнадцати от полуострова Рейкьянес, к югу от Рейкьявика. Однако договориться о поездке оказалось намного сложнее, чем я предполагала. Все, с кем я общалась в Исландии, говорили, что туда никто никогда не плавал. В итоге мой друг, уроженец Исландии, связался со своим отцом, рейкьявикским священником, а тот созвонился со своим другом Рейниром Свенссоном, который руководит исследовательским центром в крошечном городке Сандгерди. Тот, в свою очередь, нашел рыбака Хальдура Орманссона, который согласился отвезти меня к острову, но лишь в хорошую погоду. В случае дождя или сильного ветра поездка оказалась бы слишком опасной и могла вызвать морскую болезнь, поэтому он не хотел рисковать.
К счастью, погода в условленный день была просто прекрасной. Я встретилась со Свенссоном в исследовательском центре, часть постоянной экспозиции которого посвящена французскому исследователю Жан-Батисту Шарко (он погиб, когда его корабль, неудачно названный “Почему бы нет?”, затонул у Сандгерди в 1936 году). Мы прошлись пешком до гавани и увидели Орманссона, грузившего какой-то ящик на свой катер – “Стеллу”. Рыбак сказал, что в ящике дополнительная спасательная надувная лодка. “Таковы правила”, – добавил он, пожав плечами. Также Орманссон пригласил в плавание своего товарища по рыбалке и захватил портативный холодильник с газировкой и печеньем. Казалось, он предвкушает приятное плавание, в ходе которого не надо будет ловить треску.
Мы вышли из гавани и направились на юг, в обход полуострова Рейкьянес. Погода была достаточно ясной – и мы видели верхушку ледника Снайфедльсйёкюдль, примерно в сотне километров от нас (многие, вероятно, знакомы с этим местом по книге Жюля Верна “Путешествие к центру Земли” – именно здесь герой находит туннель сквозь земной шар). Эльдей, значительно более низкий, чем Снайфедльсйёкюдль, пока не был виден. Свенссон объяснил, что слово “эльдей” означает “огненный остров”. И сказал, что еще никогда к нему не плавал, хотя и провел в этих краях всю свою жизнь. Он взял с собой дорогую фотокамеру и почти всю дорогу делал снимки.
Пока Свенссон фотографировал, мы беседовали с Орманссоном в маленькой кабине “Стеллы”. Меня заворожили его глаза – совершенно разного цвета: голубой и карий. Он рассказал, что обычно ловит треску с помощью десятикилометровой лески, которая тащит двенадцать тысяч крючков. Насаживанием наживки на крючки занимается его отец, на это уходит почти два дня. Хороший улов может весить более семи тонн. Часто Орманссон ночует на “Стелле”, где есть микроволновка и две узкие койки.
Вскоре на горизонте появился Эльдей. Остров напоминал основание гигантской колонны или исполинский пьедестал, ожидающий еще более грандиозной статуи. Когда до него оставалось около километра, я увидела, что верхняя часть острова, которая издалека казалась плоской, на самом деле имеет уклон градусов в десять. Мы подходили со стороны более низкой части, так что видели всю поверхность. Она была белой и будто подернута рябью. Когда мы приблизились, “рябь” оказалась птицами, которых было так много, что они словно обволакивали остров; а когда мы подплыли еще ближе, я увидела, что этими птицами были северные олуши – изящные существа с длинными шеями, головами кремового цвета и коническими клювами. Свенссон объяснил, что Эльдей служит домом для одной из самых больших в мире колоний этих птиц – примерно для тридцати тысяч пар. Он указал на пирамидальную конструкцию на верхушке острова. Это была платформа для веб-камеры, установленная исландским обществом охраны природы. Предполагалось, что она будет вести прямую трансляцию событий из жизни олуш для любителей птиц, однако не работала должным образом.
“Птицам не нравится камера, – сказал Свенссон. – Поэтому они летают сверху и гадят на нее”. Из-за слоя гуано от тридцати тысяч пар олушей остров выглядит так, словно покрыт ванильной глазурью.
Из-за олушей и, возможно, еще из-за истории острова ступать на него без специального (и труднодобываемого) разрешения запрещено. Только узнав об этом, я сильно расстроилась, но, когда мы подплыли к острову вплотную и я увидела, как море неистово бьется о скалы, почувствовала облегчение.
Последними людьми, видевшими живых бескрылых гагарок, была группа исландцев, около дюжины, добравшихся до Эльдея на весельной лодке. Они отправились в плавание июньским вечером 1844 года, гребли всю ночь и к утру достигли острова. Не без труда троим из них удалось выбраться на берег в единственно пригодном для этого месте – на северо-востоке острова, где выступает каменистая отмель. (Четвертый мужчина, который должен был идти вместе с ними, отказался выходить на берег – посчитал это слишком опасным.) К тому времени популяция гагарок на острове, и до того, возможно, не особенно многочисленная, состояла, похоже, из единственной пары птиц и одного яйца. Увидев людей, гагарки попытались убежать, однако передвигались они слишком медленно. За считаные минуты исландцы поймали их и задушили. Яйцо оказалось треснутым, вероятно, в процессе преследования, так что его оставили. Двое мужчин сумели запрыгнуть обратно в лодку, а третьего пришлось подтаскивать на веревке по волнам.
Подробности последних минут жизни бескрылой гагарки, в том числе имена убивших птиц людей – Сигурдур Изельфссон, Кетил Кетилссон и Йон Брандссон, – известны потому, что четырнадцать лет спустя, летом 1858 года, два британских натуралиста отправились в Исландию в поисках гагарок. Старший, Джон Уолли, был врачом и заядлым коллекционером яиц, а младший, Альфред Ньютон, преподавал в Кембридже и вскоре стал первым профессором зоологии в этом университете. Они провели несколько недель на полуострове Рейкьянес, недалеко от того места, где сейчас находится международный аэропорт Исландии, и за это время переговорили практически со всеми, кто когда-либо видел гагарку или хотя бы слышал о ней, включая некоторых участников экспедиции 1844 года. Они узнали, что та пара убитых птиц была продана перекупщику за сумму, эквивалентную девяти британским фунтам. Внутренности гагарок были отправлены в один из музеев Копенгагена; что случилось со шкурками, сказать никто не мог. (В ходе дальнейших расследований выяснилось, что шкурка самки в настоящее время выставлена в Музее естественной истории Лос-Анджелеса41.)
Уолли и Ньютон надеялись и сами попасть на Эльдей, но им помешала скверная погода. “Лодки и люди были наняты, припасы заготовлены, но нам не представилось ни единого шанса высадиться”, – позднее писал Ньютон. “Мы с тяжелым сердцем провожали оканчивающийся сезон”45.
Уолли умер вскоре после того, как исследователи вернулись в Англию. Жизнь Ньютона путешествие перевернуло. Он пришел к выводу, что гагарка полностью исчезла: “Со всех позиций мы можем говорить о ней как о птице из прошлого”. У него даже сформировались взгляды, которые один биограф назвал “своеобразным пристрастием” к “вымершей и исчезающей фауне”46. Ньютон понял, что птицы, гнездящиеся вдоль длинной береговой линии Британии, также находятся под угрозой; он заметил, что их в огромных количествах отстреливают ради спортивного интереса.
“Каждая птица, которую мы убиваем, – родитель”, – заметил он в обращении к Британской ассоциации содействия развитию науки. “Мы используем самые священные инстинкты птицы, чтобы ее подстеречь, а лишая родителя жизни, обрекаем беспомощных птенцов на самую ужасную смерть – смерть от голода. Если это не жестокость, то что же тогда жестокость?” Ньютон выступал за запрет охоты в период размножения, и благодаря его активной позиции был принят один из первых законов в сфере, которая сейчас называется охраной дикой природы, – Закон об охране морских птиц.
Так случилось, что первая работа Дарвина на тему естественного отбора была опубликована в то самое время, когда Ньютон возвращался домой из Исландии. Статью в Journal of the Proceedings of the Linnean Society – при содействии Лайеля – спешно напечатали вскоре после того, как Дарвин узнал, что молодой натуралист по имени Альфред Рассел Уоллес работает над схожей идеей (статья Уоллеса вышла в том же номере журнала). Ньютон прочитал эссе Дарвина практически сразу после публикации, засидевшись до поздней ночи, и моментально стал его сторонником. “Это снизошло на меня как чистое откровение высших сил, – вспоминал он позже. – И я проснулся на следующее утро с сознанием того, что всем тайнам положен конец простыми словами «естественный отбор»”46. Он писал своему другу, что обнаружил в себе “чистого и абсолютного дарвиниста”46. Через несколько лет Ньютон и Дарвин начали переписываться – в какой-то момент Ньютон отправил Дарвину ногу куропатки[24], которая могла заинтересовать известного ученого, – и со временем у них сложились доброжелательные отношения.
Неизвестно, говорили ли они о бескрылой гагарке. Она не упоминается в дошедшей до нас переписке между Дарвином и Ньютоном[25]. Ни в каких записях и работах Дарвина также нет упоминаний об этой птице или ее недавнем исчезновении. Однако он наверняка знал о вымирании, вызванном человеком. Во время своего пребывания на Галапагосах он лично был свидетелем если не вымирания как такового, то чего-то очень близкого.
Дарвин посетил архипелаг осенью 1835 года, почти через четыре года после начала путешествия на “Бигле”. На острове Чарльз – ныне Санта-Мария – он познакомился с англичанином по имени Николас Лоусон, вице-губернатором Галапагосского архипелага и надзирателем в небольшой и довольно жалкой исправительной колонии. Лоусон был кладезем полезной информации. Среди прочего он сообщил Дарвину, что на каждом из Галапагосских островов панцири у черепах различной формы. Лоусон заявил, что может, глядя на панцирь, “определить, с какого именно острова привезена данная черепаха”47. Также он сказал Дарвину, что дни черепах сочтены.
На острова часто приходили китобойные суда, которые забирали с собой огромных черепах в качестве провианта. Всего несколькими годами ранее фрегат, посетивший остров Чарльз, увез в своих трюмах две сотни животных. В результате, как отметил Дарвин в своем дневнике, “их количество значительно уменьшилось”. К моменту прибытия “Бигля” черепахи на этом острове встречались настолько редко, что Дарвину, по-видимому, не довелось увидеть ни одной. Лоусон предсказал, что черепаха с острова Чарльз, известная в наши дни под научным названием Chelonoidis elephantopus, полностью исчезнет за двадцать лет. В реальности она, похоже, исчезла менее чем за десятилетие47. (Была ли Chelonoidis elephantopus отдельным видом или подвидом – до сих пор предмет споров.)
Осведомленность Дарвина о случаях вымирания, вызванного действиями человека, явствует и из “Происхождения видов”. В одном из многочисленных отрывков, где ученый насмехается над катастрофистами, он отмечает, что животные неизбежно становятся редкими перед тем, как полностью исчезнуть: “…И мы знаем, что то же самое распространяется на тех животных, которые истреблялись человеком, полностью или местами”[26]. Это скупое замечание, но, при всей своей краткости, весьма значительное. Дарвин предполагает, что его читатели знакомы с подобными “событиями” и уже привыкли к ним. Он и сам, судя по всему, не видит в этом ничего необычного или тревожного. Однако вымирание, вызванное людьми, безусловно тревожно по многим причинам, причем некоторые имеют отношение к его собственной теории. Удивительно, как он этого не заметил, будучи столь проницательным и самокритичным.
В “Происхождении видов” Дарвин не проводил различий между человеком и другими организмами. Как признавал он сам и многие его современники, эта равнозначность была самым радикальным положением в его работе. Люди, как и все остальные биологические виды, произошли, посредством модификаций, от более древних предков. Даже те качества, которые, казалось бы, отличают людей от остальных видов, – речь, здравый смысл, представление о том, что есть добро и зло, – развились таким же образом, как и другие адаптивные признаки, например более длинные клювы или более острые резцы. В основе теории Дарвина, как отмечал один из его биографов, лежало “отрицание особого статуса человека”48.
И то, что было верным для эволюции, должно было быть верным и для вымирания, поскольку, согласно Дарвину, второе – лишь побочный эффект первого. Виды исчезали, так же как и возникали, благодаря “медленному действию и теперь еще существующих причин”, то есть путем конкуренции и естественного отбора; ссылки на любой иной механизм были не более чем мистификацией. Но как тогда объяснить случаи с бескрылой гагаркой, черепахой с острова Чарльз или, продолжая список, птицей додо и стеллеровой коровой? Ведь очевидно, что этих животных сжили со свету не соперничающие виды, постепенно развивающие какие-то конкурентные преимущества. Все они были уничтожены одним и тем же биологическим видом, причем довольно быстро – в случае бескрылой гагарки и черепахи с острова Чарльз это произошло в течение жизни самого Дарвина. Ему следовало либо выделить в отдельную категорию вымирания, вызванные человеком, – тогда человек действительно заслуживал “особого статуса” как существо вне природы, – либо оставить в естественной истории Земли место для катаклизмов – и в этом случае признать, что Кювье был прав.
Глава 4 Фатальное преимущество аммонитов Discoscaphites jerseyensis
Городок Губбио, расположенный примерно в ста шестидесяти километрах к северу от Рима, можно смело назвать муниципальным ископаемым. Его улицы настолько узки, что на многих из них не удастся развернуться даже самому крошечному “фиату”, а небольшие площади, вымощенные серым камнем, выглядят точно так же, как во времена Данте. (Кстати, именно влиятельный уроженец Губбио, ставший мэром Флоренции, был инициатором изгнания Данте из этого города в 1302 году.) Если вы приедете в Губбио зимой, как это сделала я, – когда здесь нет туристов, все гостиницы закрыты, а дворец, похожий на картинку из книжки, пуст, – вам покажется, что городок спит волшебным сном и ждет, чтобы его разбудили.
На окраине города находится узкое ущелье под названием Гола-дель-Боттаччоне, ведущее на северо-восток. Его стены состоят из диагонально наклоненных пластов известняка. Задолго до того, как в этой области поселились люди, – даже задолго до того, как появилось человечество, – территория нынешнего Губбио лежала на дне чистого синего моря. Остатки крошечных морских существ оседали на дне этого моря год за годом, век за веком, тысячелетие за тысячелетием. В результате подъема земной коры, создавшего Апеннинские горы, известняк оказался на поверхности, наклоненный под углом 45°. Таким образом, прогулка по ущелью в наши дни напоминает путешествие сквозь время, слой за слоем. Пройдя нескольких сотен метров, можно охватить период почти в сотню миллионов лет.
В наши дни Гола-дель-Боттаччоне – самостоятельный туристический объект, хотя и для более специализированной аудитории. Именно здесь в конце 1970-х годов геолог Уолтер Альварес, приехавший изучать происхождение Апеннин, в итоге, довольно случайно, переписал всю историю жизни на Земле. В ущелье он впервые обнаружил следы падения гигантского астероида, который положил конец меловому периоду, вызвав, вероятно, самый худший день на нашей планете. К тому времени как пыль осела – выражаясь буквально, не только фигурально, – около трех четвертей всех биологических видов оказались стерты с лица земли.
Доказательства падения астероида заметны в тонком слое глины примерно в середине ущелья. Посетители могут припарковаться на обустроенной неподалеку площадке. Там же стоит небольшой информационный стенд, объясняющий на итальянском языке значительность этого места. Слой глины легко заметить – его ковыряли сотни пальцев. Это немножко напоминает мне, как стопы бронзовой статуи Святого Петра в Риме истерты поцелуями паломников. В тот день, когда я посетила ущелье, было пасмурно и ветрено, так что мне никто не мешал. Я гадала, что побуждает людей ковырять эту глину. Просто любопытство? Некая форма геологической оголтелости? Или же своего рода чуткость – желание почувствовать связь, пусть и слабую, с исчезнувшим миром? Я тоже, разумеется, должна была сунуть туда палец. Поковырявшись в глине, я отколупнула себе маленький кусочек. Он был цвета старого кирпича и по консистенции напоминал высохшую грязь. Я завернула его в обертку от конфеты и положила в карман – мой собственный кусочек планетарной катастрофы.
Слой глины в Губбио, помеченный конфетой
Уолтер Альварес продолжал династию заслуженных ученых. Его прадедушка и дедушка были известными врачами, а отец Луис занимался физикой в Калифорнийском университете в Беркли. Однако именно благодаря матери, которая брала его на долгие прогулки по холмам Беркли, Уолтер заинтересовался геологией. Он отучился в магистратуре в Принстоне, а затем пошел работать в нефтяную компанию (и жил в Ливии, когда Муаммар Каддафи захватил власть в стране в 1969 году). Через несколько лет Альварес получил место научного сотрудника в обсерватории Ламонта – Доэрти Колумбийского университета, расположенной прямо напротив Манхэттена – через Гудзон. В то время геологический научный мир захлестнула волна новых идей о тектонике плит, и все сотрудники обсерватории тоже ими увлеклись.
Альварес решил попытаться выяснить, основываясь на теории тектоники плит, как возник Апеннинский полуостров. Для проекта важнейшим элементом служил красноватый известняк, scaglia rosso, который можно найти, помимо других мест, в Гола-дель-Боттаччоне. Исследования то продвигались, то останавливались, то меняли направление. “В науке иногда лучше быть удачливым, чем умным”49, – говорил Уолтер позднее, вспоминая этот период. В конце концов он оказался в Губбио, где начал работать с итальянским геологом Изабеллой Премоли Сильвой, специалистом по фораминиферам.
Фораминиферы – это крошечные морские существа, создающие кальцитовые раковинки, которые оседают на дно океана, когда животное внутри них умирает. Раковины имеют своеобразные формы, различающиеся у разных видов; при увеличении видно, что некоторые напоминают пчелиные ульи, другие – плетеные жгуты, третьи – гроздья винограда. Фораминиферы широко распространены и отлично сохраняются, что делает их чрезвычайно ценными в качестве так называемых руководящих ископаемых: в зависимости от того, какие виды фораминифер находятся в том или ином слое породы, эксперты, например Сильва, могут определить его возраст. Работая в Гола-дель-Боттаччоне, Сильва указала Альваресу на любопытную последовательность. Известняк последнего яруса мелового периода состоял из многочисленных разнообразных и достаточно крупных раковин, многие достигали размеров песчинки. Прямо над ним находился слой глины толщиной около сантиметра без единой раковины. Выше пролегал слой известняка, где опять встречались фораминиферы, однако все они были очень мелкими, сильно отличались от тех крупных в нижележащих слоях и принадлежали к весьма незначительному числу видов.
Раковины фораминифер имеют различные, порой причудливые формы
Альварес, по его собственному выражению, получил образование “в духе жесткого униформизма”50[27]. Его научили верить, вслед за Лайелем и Дарвином, что исчезновение любой группы организмов должно быть постепенным процессом, при котором сначала медленно вымирает один вид, затем другой, третий и так далее. Однако, глядя на известняк в Губбио, он видел нечто иное. Многообразнейшие виды фораминифер в нижних слоях, казалось, пропали неожиданно и практически одновременно; позднее Альварес вспоминал, что весь этот процесс бесспорно представлялся “крайне внезапным”. Кроме того, возникала странная хронологическая согласованность. Похоже, крупные фораминиферы исчезли примерно в то же самое время, когда вымерли последние из динозавров. Альварес понял, что это не простое совпадение. Он задался целью выяснить, какой точно период времени охватывает этот сантиметр глины.
В 1977 году Альварес получил работу в университете в Беркли, где все еще работал его отец Луис, и привез с собой в Калифорнию образцы из Губбио. Пока Уолтер изучал тектонику плит, Луис получил Нобелевскую премию. Он также разработал первый линейный ускоритель протонов, несколько инновационных радарных систем, изобрел новый тип пузырьковой камеры и стал одним из первооткрывателей трития. В Беркли Луис был известен как “человек безумных идей”. Заинтригованный дискуссиями о том, существуют ли полные сокровищ потайные комнаты внутри второй по величине пирамиды в Египте, он разработал метод, для которого требовалось установить в пустыне мюонный детектор. (Использование детектора, кстати, показало, что никаких полостей в пирамиде нет.) В другой раз он заинтересовался убийством Кеннеди и провел эксперимент, в ходе которого обматывал мускусные дыни упаковочной лентой, а затем стрелял по ним из винтовки. (Эксперимент показал, что движение головы президента после выстрела соответствовало выводам Комиссии Уоррена[28].) Когда Уолтер рассказал отцу о загадке из Губбио, Луис пришел в восторг. Именно он предложил безумную идею определить возраст глины с помощью химического элемента иридия.
Иридий крайне редко встречается на поверхности Земли, зато в метеоритах – намного чаще. В виде микроскопических частиц космической пыли мелкие обломки метеоритов постоянно падают на нашу планету. Луис рассудил, что чем дольше формировался слой глины, тем больше космической пыли в нем накопилось, а значит, тем больше там будет иридия. Он связался с коллегой из Беркли Фрэнком Азаро, заведующим одной из немногих лабораторий, в которых имелось подходящее оборудование. Азаро согласился провести анализ десятка образцов, хотя и сомневался, что из этого что-то получится. Уолтер предоставил ему образцы известняка из слоев, расположенных выше и ниже слоя глины, а также образцы самой глины. И стал ждать. Спустя девять месяцев Азаро позвонил. С образцами глины что-то было не так – количество иридия в них зашкаливало.
Никто не мог понять, что это означало. Странную аномалию или что-то более значительное? Уолтер полетел в Данию, чтобы собрать образцы верхнемеловых отложений с известняковых скал, известных под названием Стевнс-Клинт. В тех местах отложения позднего мела представлены слоем черной как смоль глины, пахнущей дохлой рыбой. Когда вонючие образцы из Дании проанализировали, в них также обнаружилось невероятно высокое содержание иридия50. Третий набор образцов, с Южного острова Новой Зеландии, тоже показал “всплеск” иридия в самом конце мелового периода.
Луис, по словам своего коллеги, отреагировал на эти данные, “как акула – на запах крови”; он почуял возможность великого открытия51. Альваресы начали выдвигать различные теории. Однако все, что они могли предположить, либо не соответствовало имевшимся данным, либо опровергалось последующими исследованиями. В конце концов, примерно после года тупиковых попыток, они сформулировали гипотезу столкновения (так называемую импактную теорию). В какой-то самый обычный (в остальном) день 65 миллионов лет назад астероид диаметром десять километров столкнулся с Землей. Взрыв при столкновении привел к высвобождению энергии порядка сотни миллионов мегатонн в тротиловом эквиваленте (это аналогично взрыву более миллиона самых мощных водородных бомб). Осколки, содержащие иридий астероида, разлетелись по всему земному шару. День превратился в ночь, температура резко упала. Наступило массовое вымирание.
Альваресы описали результаты анализа глин из Губбио и Стевнс-Клинта и отправили их, вместе со свой трактовкой событий, в журнал Science. “Я помню, как трудился в поте лица, чтобы наши выводы звучали настолько убедительно, насколько это вообще возможно”, – рассказал мне Уолтер.
Работа Альваресов под названием “Внеземная причина мел-третичного[29] вымирания” была опубликована в июне 1980 года. Она вызвала большой переполох даже в кругах, далеких от палеонтологии. Журналы, посвященные самым разным областям – от клинической психологии до герпетологии, – писали о находках Альваресов, и вскоре идея об астероиде конца мелового периода была подхвачена журналами вроде Time и Newsweek. Как заметил один обозреватель, идея “связать динозавров, этих интересных, но тупых существ, с эффектным космическим событием” казалась “одной из тех сенсаций, которую мог бы состряпать хитрый издатель, чтобы обеспечить продажи”52. Вдохновленная импактной теорией, группа астрофизиков под руководством Карла Сагана решила попробовать смоделировать последствия широкомасштабной войны и выдвинула концепцию “ядерной зимы”. Это, в свою очередь, породило уже новый всплеск ажиотажа со стороны СМИ.
Но в профессиональных кругах палеонтологи резко критиковали идею Альваресов, а зачастую и их самих. “Кажущееся массовое вымирание – это артефакт статистики и плохого понимания таксономии”, – заявил один палеонтолог в интервью газете New York Times.
“Самонадеянность этих людей невероятна, – говорил другой. – Они почти ничего не знают о том, как развиваются, живут и вымирают реальные животные. Но, несмотря на свое неведение, эти геохимики думают, что нужно просто запустить какую-нибудь хитроумную идейку – и вот ты уже совершил революцию в науке”.
“Невиданные болиды, падающие в невиданные моря, – нет, эта идея не для меня”, – заявил третий.
“Меловое вымирание было постепенным, так что теория катастрофы – ошибочна”, – утверждал очередной палеонтолог53. Однако “упрощенные теории будут появляться и дальше, соблазняя некоторых ученых и оживляя обложки популярных журналов”. Любопытно, что редколлегия New York Times тоже решила высказаться по этому поводу. “Астрономам следует доверить поиск причин событий на Земле астрологам с их звездами”54, – советовалось в газете.
Чтобы понять причину столь бурной реакции, придется в очередной раз вернуться к Лайелю. В палеонтологической летописи массовые вымирания занимают особое место – настолько, что их отражает сам язык, используемый для описания истории Земли. В 1841 году Джон Филлипс, современник Лайеля, сменивший его на посту президента Лондонского геологического общества, разделил историю жизни на Земле на три этапа. Первый он назвал палеозоем, от греческих слов, означающих “древняя жизнь”, второй – мезозоем, что значит “средняя жизнь”, а третий – кайнозоем, или “новой жизнью”. Филлипс установил в качестве линии раздела между палеозоем и мезозоем событие, которое сейчас мы называем пермо-триасовым вымиранием, а между мезозоем и кайнозоем – мел-палеогеновое вымирание. (На языке геологии палеозой, мезозой и кайнозой – это эры, а каждая эра включает в себя несколько периодов; к примеру, мезозойская эра охватывает триасовый, юрский и меловой периоды.) Ископаемые трех эр настолько сильно отличались друг от друга, что Филлипс думал, они олицетворяют различные акты творения.
Этот схематический рисунок Джона Филлипса демонстрирует расширение и сокращение разнообразия жизни
Лайель прекрасно знал об этих переломных точках в палеонтологической летописи. В третьем томе “Основ геологии” он отметил разрыв между теми растениями и животными, которые были найдены в породах позднемелового периода, и теми, которых обнаружили прямо над ними – в породах начала третичного периода (сейчас это время называют началом палеогена) 55. Например, отложения позднего мела содержали остатки многочисленных видов белемнитов – существ, похожих на кальмаров и оставлявших после себя окаменелости, по форме напоминающие гильзы. Но ископаемых белемнитов никогда не находили в более поздних отложениях. Та же закономерность прослеживалась и для аммонитов, и для двустворчатых моллюсков рудистов, образовывавших огромные рифы (иногда их описывают как “устриц, притворяющихся коралловыми полипами”56). Для Лайеля было попросту невозможно, “нефилософично” представить, что этот разрыв означает именно то, чем кажется, то есть внезапное и кардинальное глобальное изменение. Поэтому он ошибочно заявил, что фаунистический пробел – это разрыв лишь в палеонтологической летописи. После того как Лайель сравнил формы жизни по обе стороны предполагаемого разрыва, он пришел к выводу, что этот странный интервал был длинным, примерно равным всему тому времени, которое прошло с возобновления палеонтологической летописи. Исходя из современных методов датировки, продолжительность этого пробела составляет около шестидесяти пяти миллионов лет.
Дарвин также прекрасно знал об этом разрыве в конце мелового периода. В “Происхождении видов” он заметил, что исчезновение аммонитов произошло “изумительно быстро”. И так же, как Лайель, он проигнорировал то, о чем это исчезновение говорило. Он писал:
Что касается меня… я смотрю на геологическую летопись как на историю мира, не вполне сохранившуюся и написанную на менявшемся языке, историю, из которой у нас имеется только один последний том, касающийся только двух или трех стран. От этого тома сохранилась лишь в некоторых местах краткая глава, и на каждой странице только местами уцелело по нескольку строчек40[30].
Фрагментарностью летописи, по мнению Дарвина, и объяснялась кажущаяся видимость резких изменений: “что касается внезапного, по видимости, истребления целых семейств или отрядов”, необходимо помнить, что “обширные промежутки времени”, вероятно, остались незафиксированными. Если бы свидетельства об этих интервалах не были утеряны, они показали бы “очень медленное истребление”. В этом отношении Дарвин вслед за Лайелем продолжал переворачивать геологические факты с ног на голову. “…Так глубоко наше невежество и так велика самонадеянность, что мы удивляемся, когда слышим о вымирании какого-нибудь органического существа и, не видя тому причины, взываем к катаклизмам, чтобы опустошить землю…” 40[31] – заявлял он.
Преемники Дарвина унаследовали модель “очень медленного истребления”. Униформизм заранее исключал возможность каких бы то ни было внезапных или масштабных изменений. Но чем глубже изучалась палеонтологическая летопись, тем сложнее становилось утверждать, что целая эпоха в десятки миллионов лет каким-то образом пропала без вести. Эта усиливающаяся напряженность привела к появлению целого ряда все более и более вымученных объяснений. Возможно, и был своего рода “кризис” в конце мелового периода, но он должен был быть очень затяжным. Вероятно, потери в конце того периода действительно составили “массовое вымирание”, но массовые вымирания не следует путать с “катастрофами”. В тот же год, когда Альваресы опубликовали свою работу в журнале Science, Джордж Гейлорд Симпсон – пожалуй, самый авторитетный палеонтолог того времени – написал, что “переворот” в конце мелового периода надо рассматривать как часть “длительного и фактически непрерывного процесса”57.
В контексте “жесткого униформизма” гипотеза столкновения была хуже, чем просто неверной. Альваресы претендовали на объяснение события, которого не было – и которого не могло быть. Это напоминало торговлю лицензированным лекарством от вымышленной болезни. Через несколько лет после того, как отец и сын обнародовали свою гипотезу, на собрании Общества палеонтологии позвоночных был проведен неформальный опрос. Большинство опрошенных согласились, что некое космическое столкновение действительно могло произойти. Но лишь один из двадцати полагал, что это имеет отношение к вымиранию динозавров. Один палеонтолог на собрании обозвал гипотезу Альваресов “бредом собачьим”53.
Тем временем доказательства истинности гипотезы продолжали накапливаться.
Первое независимое подтверждение пришло в виде крошечных песчинок минерала, известного под названием “шоковый кварц”. При сильном увеличении на его гранях видны как бы царапины – результат растрескивания под действием высокого давления, деформировавшего структуру кристалла. Шоковый кварц был впервые обнаружен в местах проведения ядерных испытаний, а затем найден в непосредственной близости от метеоритных кратеров. В 1984 году крупинки шокового кварца обнаружили в слое глины мел-третичной, или K-T, границы в восточной части Монтаны58. (Литера K используется для обозначения мелового периода, поскольку C уже занята под каменноугольный[32]; в наши дни мел-третичная граница называется мел-палеогеновой, или K-Pg.)
Следующее подтверждение появилось в Южном Техасе, в странном слое песчаника конца мелового периода – словно бы созданном гигантским цунами. Уолтер Альварес понял, что, если действительно произошло грандиозное, вызванное неким столкновением цунами, оно смыло бы береговую линию и оставило характерный след в осадочных породах. Он просмотрел отчеты о тысячах кернов осадочных пород, извлеченных из земной коры под океанами, и обнаружил такой след в кернах из Мексиканского залива. И наконец, у полуострова Юкатан был открыт (точнее, переоткрыт) кратер диаметром около ста пятидесяти километров. Погребенный под более молодыми отложениями толщиной в километр, кратер впервые обнаружили при геофизических исследованиях, проведенных в 1950-х годах мексиканской государственной нефтяной компанией. Геологи компании решили, что это следы подводного вулкана, а поскольку вулканы не дают нефть[33], о нем немедленно забыли. Когда Альваресы отправились искать керны, извлеченные компанией в том регионе, им сказали, что пробы погибли при пожаре; на самом деле они просто куда-то подевались. В конце концов керны были найдены в 1991 году. В них обнаружился слой стекла – образовавшегося, когда горные породы расплавились, а затем быстро остыли, – прямо на K-T границе. Для лагеря Альваресов это стало решающим доводом, которого также оказалось достаточно для того, чтобы многие ученые, до тех пор не присоединившиеся ни к одному лагерю, примкнули к сторонникам импактной теории. “Существование кратера подтверждает теорию вымирания”, – заявила Times. К тому времени Луис Альварес уже умер от осложнений, вызванных раком пищевода. Уолтер окрестил это геологическое образование Кратером судьбы, но широко известен тот стал как Чиксулуб – по названию близлежащего города.
“Те одиннадцать лет тянулись тогда очень долго, но, оглядываясь назад, я вижу, что они пролетели как один миг”, – рассказывал мне Уолтер. “Только задумайтесь на мгновенье! Был брошен вызов униформистским взглядам, согласно которым учили всех геологов и палеонтологов, как и их преподавателей, и преподавателей их преподавателей, и так далее до Лайеля. И что же? Люди смотрели на имеющиеся доказательства. И постепенно все же пришли к тому, чтобы изменить свое мнение”.
Кратер Чиксулуб у полуострова Юкатан погребен под километровой толщей осадочных отложений
Когда Альваресы обнародовали свою гипотезу, они знали только о трех местонахождениях, где был представлен богатый иридием слой: два из них – в Европе – Уолтер посетил лично, а образцы из третьего им прислали из Новой Зеландии. В последующие десятилетия были обнаружены еще десятки подобных мест, одно из которых оказалось неподалеку от нудистского пляжа в Биаррице, второе – в тунисской пустыне, а третье – в пригороде Нью-Джерси. Нил Лэндмен, палеонтолог, специализирующийся на аммонитах, часто ездит в это последнее место, и одним теплым осенним днем я решила поехать вместе с ним. Мы встретились у Американского музея естественной истории, на Манхэттене, где у Лэндмена офис в башне с видом на Центральный парк, и в сопровождении пары магистрантов направились на юг к туннелю Линкольна.
Проезжая по северной части Нью-Джерси, мы миновали ряд торговых центров и автосалонов, казалось, повторяющихся каждые несколько километров, как костяшки домино. Наконец в окрестностях Принстона мы остановились на парковке рядом с бейсбольным полем (Лэндмен просил, чтобы я не раскрывала точного местоположения, – из опасения, что это привлекло бы коллекционеров окаменелостей). На парковке мы встретились с геологом по имени Мэтт Гарб, преподавателем из Бруклинского колледжа. Гарб, Лэндмен и магистранты взвалили снаряжение на плечи. Мы обошли бейсбольное поле – пустое в разгар учебного дня – и углубились в подлесок. Вскоре мы подошли к неглубокому ручью, его русло было покрыто илом цвета ржавчины. Над водой нависали кусты ежевики, на которых колыхался всякий мусор: старые целлофановые пакеты, обрывки газет, пластиковые кольца от старомодных упаковок для пивных банок. “Как по мне, так это место лучше, чем Губбио”, – заявил Лэндмен.
Он объяснил мне, что в конце мелового периода парк, русло ручья и все на много километров вокруг оказалось бы под водой. Тогда было очень тепло – в Арктике росли пышные леса – и уровень моря был высоким. Значительная часть штата Нью-Джерси представляла собой часть континентального шельфа нынешнего восточного побережья Северной Америки. В те времена Атлантический океан был существенно уже, и Северная Америка географически находилась намного ближе к территории современной Европы. Лэндмен указал нам место в русле ручья примерно в восьми сантиметрах над уровнем воды. Там, как он сказал, находится слой, содержащий иридий. Хотя визуально он никак не выделялся, палеонтолог точно знал его расположение, потому что несколькими годами ранее провел анализ здешних образцов. Лэндмен, коренастый мужчина с широким лицом и седеющей бородой, в шортах цвета хаки и старых кроссовках, вошел в ручей, чтобы присоединиться к остальным, уже вовсю работающим кирками. Вскоре кому-то удалось найти окаменелый акулий зуб. Кто-то еще выкопал кусок аммонита – размером с клубнику, покрытый мелкими бугорками, наростами. Лэндмен определил, что тот относится к виду Discoscaphites iris.
Аммониты плавали по мировому океану больше трехсот миллионов лет, и их окаменелые раковины встречаются повсеместно. Плиний Старший (погибший при извержении вулкана, уничтожившем Помпеи) уже знал о них, хотя и считал драгоценными камнями. В своей “Естественной истории” он писал, что эти “камни”, как говорят, порождают вещие сны. В средневековой Англии аммониты были известны под названием “змеиные камни”, а в Германии их использовали для лечения заболевших коров. В Индии их почитали – и до определенной степени почитают и сейчас – как символы бога Вишну.
Подобно своим родственникам наутилусам, аммониты формировали спиральные раковины, разделенные на множество камер. Само животное занимало только последнюю и наибольшую камеру, остальные были заполнены воздухом – как если бы в многоэтажном доме обитаем был только пентхаус. Перегородки между камерами – септы – были невероятно сложными, с гофрированными краями, напоминающими по форме лучи снежинки (отдельные виды аммонитов можно определить по характерному узору этих краев). Такие структуры, сформировавшиеся в процессе эволюции, позволили аммонитам строить раковины одновременно легкие и прочные – способные выдерживать давление воды во много атмосфер. Большинство аммонитов уместились бы в руке человека, но некоторые вырастали до размеров детского надувного бассейна.
Исходя из количества элементов в радуле аммонитов (девяти), считается, что ближайшие ныне живущие их родственники – осьминоги[34]. Но поскольку мягкие части тел аммонитов не могли сохраниться в принципе, остается лишь предполагать, как именно выглядели эти животные и какой образ жизни вели. Вероятно, они перемещались, выбрасывая струи воды, а это означает, что они могли двигаться лишь задом наперед.
“Я помню, как в детстве увлекся палеонтологией и узнал, что птеродактили умели летать”, – рассказал мне Лэндмен. “Я тут же задался вопросом: а как высоко они летали? Но сложно узнать это в числах”.
“Я изучаю аммонитов уже сорок лет и до сих пор не знаю точно, что именно они любили”, – продолжал он. “Мне кажется, они предпочитали глубины в двадцать, тридцать, может, в сорок метров. Вели плавающий образ жизни, хотя плавали и не очень хорошо. Думаю, они вели скромное существование”. На рисунках аммониты обычно изображаются как кальмары, торчащие из раковин улиток. Однако Лэндмену не нравится этот образ. Он считает, что у аммонитов не было извивающихся щупалец, с которыми их зачастую изображают. На рисунке, который иллюстрирует его недавнюю статью в журнале Geobios, у аммонита нет никаких длинных выростов, а есть короткие рукоподобные отростки, расположенные по кругу и соединенные между собой перепонками59. У самцов один из отростков высовывается из перепонки чуть дальше, образуя аналог пениса у головоногих.
Ископаемые аммониты с гравюры XIX века
Лэндмен учился в магистратуре в Йельском университете в 1970-х годах. Его студенческая пора закончилась еще до появления теории Альваресов, а тогда студентов учили, что численность аммонитов постепенно уменьшалась в течение всего мелового периода, поэтому их окончательное исчезновение не должно слишком уж удивлять. “Воспринималось это так, что аммониты попросту медленно вымирали, и все тут”, – вспоминал он. Однако последующие открытия, многие из которых были сделаны самим Лэндменом, показали, что, напротив, у аммонитов все обстояло весьма неплохо.
“Существовало множество видов аммонитов, и за последние несколько лет мы собрали тысячи образцов”, – сказал мне Лэндмен под звяканье кирок. Действительно, в русле этого ручья Лэндмен недавно обнаружил два совершенно новых вида аммонитов. Один из них он назвал в честь своего коллеги – Discoscaphites minardi. Другой в честь местности – Discoscaphites jerseyensis. Возможно, Discoscaphites jerseyensis имел маленькие шипы, выступающие из раковины, которые, по предположению Лэндмена, помогали животному казаться более крупным и грозным, чем на самом деле.
В своей статье Альваресы предположили, что основной причиной массового мел-палеогенового вымирания стало не само столкновение с астероидом – или, если использовать более точный термин, болидом – и даже не прямые последствия этого события. Настоящей катастрофой стала пыль. За годы, прошедшие со времени публикации, этот вывод подвергся ряду уточнений (а дата самого столкновения отодвинулась еще дальше – до отметки в 66 миллионов лет назад). Несмотря на то что ученые все еще продолжают горячо спорить о многих деталях, одна из версий события выглядит следующим образом.
Болид летел с юго-востока, двигаясь под небольшим углом к Земле, – поэтому он появился не столько сверху, сколько сбоку, словно самолет, теряющий высоту. Когда он врезался в полуостров Юкатан, его скорость была около семидесяти тысяч километров в час, и из-за его траектории особенно серьезно пострадала Северная Америка. Необъятное облако раскаленного пара и различных обломков пронеслось над континентом, расширяясь в процессе движения и испепеляя все на своем пути. “У трицератопса, жившего где-нибудь в Альберте, было около двух минут до того, как испариться”, – вот как описал мне это один геолог[35].
Образуя гигантский кратер, астероид выбросил в воздух измельченные в порошок горные породы, общая масса которых более чем в пятьдесят раз превышала его собственную. По мере того как продукты выброса оседали, проходя через атмосферу, частицы накалялись, освещая одновременно все небо и выделяя столько тепла, что его оказалось достаточно, чтобы, по сути, поджарить поверхность планеты. Из-за химического состава пород полуострова Юкатан извергнутая пыль была богата серой. Сульфатные аэрозоли особенно эффективно блокируют солнечный свет, вот почему одно извержение вулкана вроде Кракатау способно понизить глобальную температуру на годы. После исходного резкого повышения температуры мир погрузился в многолетнюю “импактную зиму”. Леса были стерты с лица земли. Палинологи, изучающие древние споры и пыльцу, обнаружили, что разнообразные сообщества растений полностью сменились быстро разраставшимися папоротниками (это явление стало известно как “папоротниковый пик”). Морские экосистемы были практически уничтожены и оставались в таком состоянии как минимум полмиллиона лет, если не несколько миллионов (опустошенное постимпактное море прозвали “океаном Стрейнджлава”[36]).
Невозможно даже приблизительно подсчитать количество видов, родов, семейств и даже целых отрядов, исчезнувших с лица земли на K-T границе. Судя по всему, на суше вымерли все животные крупнее кошки. Самые знаменитые жертвы этого события – динозавры (точнее, нептичьи динозавры[37]) – исчезли полностью. Среди групп, просуществовавших, скорее всего, вплоть до конца мелового периода, были такие знакомые всем обитатели музейных витрин, как гадрозавры, анкилозавры, тираннозавры и трицератопсы. (На обложке книги Уолтера Альвареса T. Rex and the Crater of Doom, посвященной теме вымирания, изображен злобного вида тираннозавр, с ужасом наблюдающий столкновение с астероидом.) Птерозавры тоже исчезли. Птицы также сильно пострадали60, вымерло примерно три четверти всех семейств, возможно, и больше. Энанциорнисовые птицы, у которых еще сохранялись зубы, полностью исчезли, как и гесперорнисообразные, которые вели плавающий образ жизни и, как правило, летать не умели. То же касается ящериц и змей61, выжило не более пятой части всех их видов. Множество млекопитающих также было уничтожено62: на мел-палеогеновой границе исчезло около двух третей семейств млекопитающих, живших в конце мелового периода.
В море вымерли плезиозавры, которых Кювье счел невероятными, а потом назвал “монструозными”, – как и мозазавры, белемниты и, конечно, аммониты. Тяжелые потери понесли двустворчатые моллюски, знакомые нам сегодня по мидиям и устрицам, а также плеченогие (напоминающие двустворчатых моллюсков, но с совершенно иной анатомией) и мшанки (похожие на коралловые полипы, но опять же только внешне). Несколько групп морских микроорганизмов были в одном-двух микрометрах от полного уничтожения. Исчезло около 95 % видов планктонных фораминифер, в том числе Abathomphalus mayaroensis, чьи остатки обнаруживаются в последнем слое известняка мелового периода в Губбио. (Планктонные фораминиферы живут у поверхности океана, а бентосные – на дне.)
Вообще, чем больше становилось известно о K-T границе, тем очевиднее выявлялась ошибочность трактовки Лайелем палеонтологической летописи. Проблема с палеонтологической летописью не в том, что постепенные вымирания выглядят внезапными. А в том, что даже стремительные вымирания выглядят как происходившие продолжительное время.
Рассмотрим рисунок, изображенный ниже. У каждого вида шанс сохраниться в палеонтологической летописи – благодаря тому, что какой-то его представитель превратится в окаменелость, – свой. И зависит он среди прочего от численности вида животного, среды его обитания и особенностей строения (шанс сохраниться у морских организмов с толстыми раковинами существенно выше, чем, скажем, у птиц с их полыми костями).
Большие белые круги на этом рисунке обозначают виды, которые редко становятся окаменелостями, круги среднего размера – виды, сохраняющиеся чаще, а белые точки – виды, которые в изобилии встречаются в наши дни. Даже если бы все эти виды вымерли в один и тот же момент, выглядело бы все так, будто виды, обозначенные белыми кругами, исчезли значительно раньше – просто потому, что их остатки встречаются реже. Благодаря этому эффекту Синьора – Липпса (названному так по именам установивших его ученых) внезапные вымирания кажутся “размазанными” во времени, словно происходили очень долго.
После мел-палеогенового вымирания потребовались миллионы лет, чтобы жизнь восстановилась до прежнего уровня биоразнообразия. При этом представители многих выживших видов уменьшились в размерах. Это явление, заметное на примере крошечных фораминифер, появившихся над слоем глины с иридием в Губбио, называется эффектом лилипута.
Лэндмен, Гарб и магистранты все утро копались в русле ручья. Хотя мы находились в центре самого густонаселенного штата страны, ни один человек не прошел мимо, чтобы поинтересоваться, чем это мы тут занимаемся. Становилось все жарче, поэтому было приятно стоять по щиколотку в воде (хотя меня и смущал красноватый ил). Кто-то принес с собой пустую картонную коробку, и, поскольку у меня не было кирки, я помогала собирать и складывать найденные другими ископаемые. Удалось откопать еще несколько обломков аммонитов вида Discoscaphites iris, а также фрагменты аммонитов Eubaculites carinatus – их раковина была не спиральной, а длинной и тонкой, напоминающей копье. (Согласно одной из теорий гибели аммонитов, популярной в начале XX века, несвернутые раковины таких видов, как Eubaculites carinatus, якобы свидетельствуют о том, что биологическая группа исчерпала свои практические возможности и вошла в своего рода фазу декадентства, на манер Леди Гаги.) В какой-то момент ко мне подбежал взволнованный Гарб. В руках он держал глыбку донных отложений величиной с кулак и указывал в ней на что-то вроде крошечного ногтя. Это, сказал он, фрагмент челюсти аммонита. Челюсти аммонитов попадаются чаще, чем другие части их тел, но все равно крайне редки.
“Только ради этого стоило сюда поехать!” – воскликнул он.
Неизвестно, какое именно последствие столкновения – жара, темнота, холод, изменение химического состава воды – уничтожило аммонитов. Также не вполне ясно, почему уцелели некоторые из их головоногих родственников. К примеру, наутилусы, в отличие от аммонитов, пережили катастрофу: подавляющее большинство их видов перебралось из конца мелового периода в палеоген.
Одна из теорий, объясняющих это неравенство, начинается с яиц. Яйца аммонитов были крошечными, едва ли миллиметром в диаметре. Нововылупленные особи, или аммонителлы, еще никак не могли сами передвигаться, так что просто дрейфовали у поверхности воды, уносимые течением. Наутилусы же откладывают очень крупные яйца, одни из самых крупных среди всех беспозвоночных – свыше двух сантиметров в диаметре. Яйца созревают примерно год, и нововылупленные наутилусы представляют собой уже миниатюрных взрослых особей, поэтому тут же начинают активно плавать в поисках пищи на глубине. Можеть быть, вследствие столкновения с астероидом условия у поверхности океана стали настолько токсичными, что аммонителлы не могли выжить, тогда как поглубже ситуация была менее катастрофической, и поэтому молодым наутилусам удалось уцелеть.
Каким бы ни было объяснение, противоположные судьбы двух этих групп животных поднимают важный вопрос. Все ныне живущие организмы (и люди в том числе) произошли от организма, который каким-либо образом смог пережить столкновение. Однако из этого не следует, что они (или мы) лучше адаптированы. Во времена экстремальных стрессов вся концепция приспособляемости, по крайней мере в дарвиновском значении, лишается смысла: как может существо адаптироваться, неважно, хорошо или плохо, к условиям, в которые оно никогда раньше не попадало за всю свою эволюционную историю? В такие моменты резко меняются “правила игры на выживание”63 (это выражение Пола Тейлора, палеонтолога лондонского Музея естественной истории). Особенности, выигрышные на протяжении многих миллионов лет, внезапно становятся фатальными (хотя по прошествии многих миллионов лет и трудно узнать, какие именно это были особенности). И это справедливо не только в отношении аммонитов и наутилусов, но также и белемнитов и кальмаров, плезиозавров и черепах, динозавров и млекопитающих.
Причина, по которой эту книгу пишет волосатое двуногое животное, а не чешуйчатое, связана скорее с невезением динозавров, нежели с каким-то особым преимуществом млекопитающих.
“Аммониты все делали правильно”, – сказал мне Лэндмен, пока мы упаковывали последние окаменелости из ручья и готовились возвращаться в Нью-Йорк. “Их молодь вела образ жизни планктона, что было просто великолепно на протяжении всего времени их существования. Разве есть способ лучше, чтобы повсюду распространять свой вид? Однако же в конце концов именно это, возможно, и привело их к гибели”.
Глава 5 Добро пожаловать в антропоцен Dicranograptus ziczac
В 1949 году двое гарвардских психологов пригласили группу студентов для участия в несложном эксперименте на восприятие: студентам показывали игральные карты и просили сразу их называть. Большинство карт были самыми обычными, но некоторые оказались изменены: в колоде имелись красная шестерка пик и черная четверка червей. Когда испытуемым показывали карты в быстром темпе, они часто не замечали этих странностей – скажем, принимали красную шестерку пик за шестерку червей, а черную четверку червей за четверку пик. Когда же темп замедлялся, студенты пытались осмыслить то, что видят. Увидев карту красных пик, одни называли ее “фиолетовой”, “коричневой” или “рыжей”, другие же были в полном замешательстве64[38].
Один студент сказал, что символы “будто выглядят перевернутыми, или что-то вроде того”. “Я вообще не могу определить, что это за масть! – воскликнул другой. – Я не понимаю, какой это цвет и пики это или червы. Теперь я даже не уверен в том, как выглядят пики! О боже!”
Психологи подытожили свои результаты в статье под названием “О восприятии несоответствия: парадигма”. Среди тех, кто счел эту работу интересной, был Томас Кун. С точки зрения самого авторитетного историка науки XX века, эксперимент был действительно хрестоматийным: он наглядно показал, как люди обрабатывают информацию, нарушающую привычный порядок вещей. Их первый порыв – загнать информацию в привычные рамки: червы, пики, крести. Признаки несоответствия игнорируются как можно дольше – красные пики кажутся “коричневыми” или “рыжими”. В момент, когда отклонение от нормы становится слишком явным, бросающимся в глаза, наступает кризис, который психологи назвали “реакцией «О боже!»”.
Эта модель, как утверждает Кун в своей фундаментальной работе “Структура научных революций”, настолько базовая, что определяет не только индивидуальное восприятие, но и целые области исследования. Данные, которые не вписываются в общепринятые положения какой-либо дисциплины, либо отметаются, либо такому несоответствию находят какое-нибудь оправдание на как можно более длительное время. Чем больше противоречий накапливается, тем более изощренными становятся их логические обоснования. “В науке, как и в эксперименте с игральными картами, новшества всегда воспринимаются с трудом”, – писал Кун65[39]. Но затем, наконец, появляется тот, кто называет-таки красные пики красными пиками. Кризис приводит к прорыву, и старая теория уступает место новой. Вот как происходят великие научные открытия или, используем известный термин Куна, “смена парадигм”.
Всю историю изучения вымираний можно описать как ряд сменяющих друг друга парадигм. Вплоть до конца XVIII века не существовало даже самого понятия вымирания. Чем больше находили странных костей – мамонтов, мегатериев, мозазавров, – тем сильнее натуралистам приходилось выкручиваться, чтобы вписать новые открытия в привычные рамки. И натуралисты выкручивались. Гигантские кости якобы принадлежали слонам, которых вынесло водой на север, или гиппопотамам, которые зачем-то отправились на запад, или неведомым китам со злобным оскалом. Когда Кювье прибыл в Париж и увидел, что моляры мастодонта никак не вписываются в привычную картину мира, – тогда и сработала “реакция «О боже!»”, заставившая ученого совершенно по-новому взглянуть на имеющиеся факты. Кювье осознал, что жизнь на планете имеет свою историю – отмеченную потерями и событиями, слишком ужасными для человеческого воображения. “Хотя мир не изменяется с изменением парадигмы, ученый после этого изменения работает в ином мире”[40], – писал об этом Кун.
В своей работе Recherches sur les ossemens fossiles de quadrupèdes Кювье перечислил десятки espèces perdues[41], и он не сомневался, что впереди ждут новые открытия. В течение нескольких десятилетий было открыто так много вымерших существ, что гипотеза, предложенная Кювье, затрещала по швам. Чтобы поспевать за пополняющейся палеонтологической летописью, количество катастроф должно было расти. “Бог его знает, сколько катастроф” потребуется, насмехался Лайель, высмеивая все эти старания66. Сам же он предлагал вообще отказаться от всех катастроф. С его – а впоследствии и Дарвина – точки зрения, вымирания были единичными событиями. Каждый исчезнувший вид постепенно угасал в одиночку, пав жертвой “борьбы за жизнь” и своих собственных недостатков, – как “менее совершенная форма жизни”.
Подобное отношение к вымираниям – униформистский подход – сохранялось больше века. Затем, после открытия богатого иридием слоя, наука снова столкнулась с кризисом. (Согласно одному историку, работа Альваресов явилась “таким же взрывом для науки, как удар болида – для Земли”67.) Импактная теория описывала одно-единственное мгновение во времени – страшный, ужасный день в конце мелового периода. Но этого единственного мгновения было достаточно, чтобы концепция Лайеля и Дарвина дала трещину. Катастрофы действительно происходили.
Теория, которая когда-то получила название “неокатастрофизм”, а сейчас повсеместно принята в геологии, утверждает, что условия на Земле меняются всегда очень медленно – кроме тех моментов, когда происходит обратное. В этом смысле господствует не парадигма Кювье или парадигма Дарвина, а сочетание ключевых элементов обеих – “длинные периоды скуки, время от времени прерывающиеся паникой”. Эти моменты “паники”, хотя и редки, несоразмерно значимы. Они определяют сценарий вымираний, а значит, и сценарий жизни.
Тропинка взбегает на холм, в двух местах преодолевая быстрый ручей и проводя путников мимо овечьей туши, которая выглядит не просто мертвой, а какой-то сдувшейся, словно воздушный шар. Холм покрыт ярко-зеленой травой, но лишен деревьев. Многочисленные поколения пасшихся здесь овец не позволяли никакой растительности подниматься сильно выше уровня их морд. По моему мнению, идет дождь. Но здесь, на Южно-Шотландской возвышенности, как говорит один из моих попутчиков-геологов, это считается лишь моросью, а то и вообще сырым туманом.
Водопад в Добс-Линн
Наша цель – место под названием Добс-Линн, где, согласно древнему сказанию, сам дьявол был сброшен с обрыва благочестивым пастухом по имени Доб[42]. К тому времени, как мы добираемся до скалы, сырой туман словно бы становится еще сырее. Оттуда открывается вид на водопад, обрушивающийся в узкую долину. Несколькими метрами выше по тропинке расположено выщербленное обнажение скальных пород с вертикальными темными и светлыми полосами, будто свитер спортивного судьи. Ян Залашевич, геолог-стратиграф из Лестерского университета, ставит свой рюкзак на мокрую землю и поправляет красный дождевик. “Нехорошие вещи тут происходили”, – говорит он, указывая на одну из светлых полос.
Эти скалы возникли примерно 445 миллионов лет назад, в конце ордовикского периода. Тогда на планете наблюдалось “скопление” континентов: основная часть суши – включая территории современных Африки, Южной Америки, Австралии и Антарктиды – была объединена в один гигантский массив, суперконтинент Гондвану, простиравшийся от Южного полюса до экватора (и даже севернее). Англия находилась на ныне исчезнувшем континенте Авалония, а Добс-Линн лежал в Южном полушарии, на дне океана, известного как Япетус.
Ордовикский период следовал сразу за кембрийским, который известен – даже не слишком сведущим в геологии – тем, что тогда произошел “взрыв” новых форм жизни[43]. Ордовик тоже был периодом, когда жизнь бурно развивалась в новых направлениях – то было время так называемой Великой ордовикской радиации, – хотя и ограничивалась главным образом по-прежнему океаном. В ордовике количество семейств морских обитателей утроилось, и моря наполнились существами, которых мы могли бы в принципе узнать (предками современных морских звезд, морских ежей, улиток и наутилусов), а также множеством незнакомых нам существ (конодонтами, по-видимому, похожими на угрей, трилобитами, отчасти напоминавшими мечехвостов, и гигантскими морскими скорпионами, которые, насколько известно, выглядели как порождения ночного кошмара). Появились первые рифы, а предки сегодняшних двустворчатых моллюсков приняли привычную нам форму. Ближе к середине ордовика землю начали заселять первые растения. Это были древнейшие лишайники и печеночные мхи; они льнули к земле, словно не очень понимали, что же им делать в этой новой среде.
В конце ордовикского периода, примерно 444 миллиона лет назад, океаны опустели. Около 85 % морских видов вымерло4. Долгое время это событие воспринималось как одна из тех псевдокатастроф, что лишь показывали, как мало можно верить палеонтологической летописи. Сейчас данное событие считается первым из Большой пятерки вымираний и произошедшим в два коротких, но чрезвычайно смертоносных этапа. И хотя его жертвы далеко не столь харизматичны, как жертвы конца мелового периода, это вымирание также знаменует собой поворотный момент в истории жизни – момент, когда правила игры резко изменились, а последствия которого будут длиться вечно.
Животные и растения, которым удалось пережить ордовикское вымирание, по словам британского палеонтолога Ричарда Форти, “продолжили формировать современный мир”. “Если бы список выживших хоть на йоту оказался иным, другим был бы и наш мир сегодня”68, – заметил он.
Залашевич, мой проводник в Добс-Линн, – худощавый мужчина со светло-голубыми глазами, чуть взлохмаченными волосами и приятными манерами. Он специалист по граптолитам – когда-то многочисленному и крайне многообразному классу морских организмов, процветавших в ордовике, а затем практически исчезнувших в ходе массового вымирания. Если смотреть на них невооруженным глазом, окаменелости граптолитов выглядят как царапины, а иногда как крошечные наскальные изображения. (Слово “граптолит” пришло из греческого языка, оно означает “камень с надписью”; термин ввел Линней, принявший граптолиты за минеральные образования на камнях, пытающиеся выдать себя за остатки животных.) Под лупой обычно обнаруживаются их симпатичные, выразительные формы: один вид напоминает перо, другой – лиру, третий – лист папоротника. Граптолиты образовывали колонии; отдельные особи, называемые зооидами, выстраивали себе крошечные полые укрытия, или ячейки, которые соединялись с соседними. Таким образом, каждая окаменелость представляет собой целое сообщество граптолитов, которое дрейфовало или, что более вероятно, плавало как единый организм, питаясь еще более мелким планктоном. Никто не знает, как в точности выглядели зооиды, – подобно аммонитам, мягкие части их тел не могли сохраниться, – однако сейчас считается, что граптолиты родственны перистожаберным, классу ныне живущих морских организмов, представленному небольшим числом видов, представители которых имеют некоторое сходство с венериной мухоловкой.
Ископаемые граптолиты начала ордовикского периода
Граптолиты имели особенность – очень полезную с точки зрения стратиграфов – образовывать новые виды, распространять их и вымирать в течение относительно короткого периода времени. Залашевич сравнивает их с Наташей, нежной героиней “Войны и мира”. Они были, по его словам, “хрупкими, чувствительными и чутко воспринимающими среду вокруг”. Поэтому граптолиты – прекрасные руководящие ископаемые: сменяемость их видов можно использовать для определения последовательности отложений пород.
Найти граптолиты в Добс-Линн оказывается просто даже для коллекционеров-любителей. Темная порода в выщербленном обнажении – глинистый сланец. Достаточно один раз легонько стукнуть молотком, чтобы отбить кусочек. Следующий удар раскалывает кусок в длину. Тот раскрывается как книга, заложенная закладкой. Обычно на поверхности породы ничего нет, но порой на ней можно разглядеть одну или несколько еле заметных отметок – посланий мира ушедшего. Один из граптолитов, которые мне довелось обнаружить, сохранился с необыкновенной четкостью. Он напоминает набор накладных ресниц, но крошечных, как для куклы Барби. Залашевич говорит мне (явно преувеличивая), что это “образец музейного качества”. Я кладу его в карман.
Поскольку исследователь показывает мне, что именно надо искать, я тоже уже различаю следы вымирания. В темных сланцах спрятано множество различных граптолитов. Вскоре я набираю так много образцов, что карманы моей куртки оттягиваются. Многие ископаемые по виду напоминают букву V, с двумя лучами, выходящими из центральной точки. Другие похожи на застежку-молнию, третьи – на вилочковую кость. У некоторых одни лучи выходят из других, образуя как бы крошечное деревце.
Светлая порода, напротив, бесплодна: там едва ли удастся найти хоть один граптолит. Складывается впечатление, что переход от одного состояния к другому – от черного камня к серому, от изобилия граптолитов к почти полному их отсутствию – произошел внезапно. И это действительно произошло внезапно, подтверждает Залашевич.
“Переходом от черного к серому здесь отмечен, если угодно, переломный момент между обитаемым морским дном и необитаемым”, – говорит он. “И этот переход можно было бы пронаблюдать в течение одной человеческой жизни”, он определенно “в духе Кювье”.
В походе в Добс-Линн нас сопровождают двое коллег Залашевича – Дэн Кондон и Иэн Миллар из Геологической службы Великобритании. Будучи специалистами в области химии изотопов, они собирают образцы каждой полосы обнажения, надеясь, что те содержат крошечные кристаллы циркона. По возвращении в лабораторию исследователи растворят кристаллы и прогонят через масс-спектрометр, что позволит им узнать с точностью примерно до полумиллиона лет, когда сформировался каждый из слоев[44]. Миллар – шотландец, поэтому он заявляет, что моросящий дождь его не пугает. Однако вскоре даже он вынужден признать, что уже не моросит, а попросту льет. Ручейки грязи стекают по камням, и становится невозможно собирать чистые образцы. Решено продолжить на следующий день. Геологи упаковывают свое снаряжение, и мы хлюпаем по тропинке вниз к машине. Залашевич забронировал для нас номера в гостинице ближайшего городка Моффата; его главные достопримечательности, как я вычитала, – самый узкий в мире отель и бронзовая скульптура барана.
После того как все переоделись в сухую одежду, мы встречаемся в гостиной отеля, чтобы выпить чаю. Залашевич принес несколько своих недавних публикаций о граптолитах. Откинувшись на спинки кресел, Кондон и Миллар закатывают глаза. Не обращая на них внимания, Залашевич терпеливо объясняет мне суть своей последней монографии “Граптолиты в британской стратиграфии”, в которой шестьдесят шесть страниц, набранных мелким шрифтом, и подробные изображения более шестисот пятидесяти видов. В монографии процесс вымирания предстает более систематическим, но и менее наглядным, чем на мокром и скользком склоне. До конца ордовика доминировали V-образные граптолиты. К ним относились виды Dicranograptus ziczac (чьи крошечные ячейки располагались вдоль лучей, которые сначала изгибались в разные стороны, а затем сходились друг к другу, как бивни) и Adelograptus divergens (у представителей этого вида, в дополнение к двум основным лучам, по бокам выступали небольшие отростки, словно большие пальцы). Пережить вымирание смогла лишь жалкая горстка видов граптолитов; со временем, уже в силуре, они вновь заселили моря и частично восстановили свое многообразие. Однако у силурийских граптолитов тело было вытянутым, напоминало скорее палку, чем разветвленные лучи. V-образная форма исчезла навсегда. Отчасти это напоминает судьбу динозавров, мозазавров и аммонитов – когда-то очень успешных видов, канувших в Лету.
Изображение граптолита Dicranograptus ziczac, в несколько раз увеличенное по сравнению с реальным размером
* * *
Что же произошло 444 миллиона лет назад, почему почти исчезли граптолиты, не говоря уже о конодонтах, плеченогих, иглокожих и трилобитах?
В первые несколько лет после публикации гипотезы Альваресов предполагалось – во всяком случае, теми, кто не считал эту гипотезу “бредом собачьим”, – что единая теория массового вымирания уже на подходе. Если астероид вызвал один разрыв в палеонтологической летописи, то логично было предположить, что столкновения послужили причиной и всех остальных разрывов. Эта идея стала популярна в 1984 году, когда двое палеонтологов из Чикагского университета опубликовали обстоятельный анализ палеонтологической летописи морских ископаемых. Исследование выявило, что помимо пяти крупнейших массовых вымираний происходило множество менее масштабных. Когда все они были рассмотрены вместе, проявилась некая закономерность: похоже, массовые вымирания происходили через регулярные интервалы времени приблизительно в двадцать шесть миллионов лет. Иными словами, вымирания происходили периодическими вспышками, словно нашествия цикад, одновременно выползающих из-под земли. Эти палеонтологи – Дэвид Рауп и Джек Сепкоски – не знали точно, что вызывало эти вспышки, но их наилучшим предположением стала идея о некоем “астрономическом и астрофизическом цикле”, связанном с “прохождением нашей Солнечной системы через спиральные рукава Млечного Пути”69. Группа астрофизиков – по случайному совпадению, коллег Альваресов по Беркли – сделала следующий шаг в этих рассуждениях. Периодичность, по их мнению, можно объяснить тем, что у Солнца есть небольшая “звезда-компаньон”, которая каждые двадцать шесть миллионов лет проходит через облако Оорта[45], что и вызывает кометный дождь, сеющий на Земле разрушения. Тот факт, что никто никогда не видел этой звезды, названной “Немезида” (вполне в стиле фильмов ужасов), для группы из Беркли представлялся некоторой проблемой, однако отнюдь не непреодолимой: в космосе еще множество некаталогизированных маленьких звезд ждут своего часа.
В популярных СМИ теория под названием “дело Немезиды” вызвала почти столько же шума, сколько сама астероидная гипотеза56. (Некий репортер писал, что в этой истории есть все, кроме секса и королевской семьи.) Журнал Time опубликовал на эту тему статью, разместив иллюстрацию из нее на обложке номера; а вскоре последовала другая неодобрительная редакционная статья в газете New York Times70 (редколлегия высмеяла выражение “таинственная звезда смерти”). И на сей раз тон был выбран верный. Хотя группа из Беркли провела следующий год, разглядывая небо в поисках Немезиды, никакого проблеска “звезды смерти” не обнаружилось. Но что важнее, при более тщательном анализе сами доказательства периодичности начали разваливаться. “Если в чем-то и достигнуто согласие, так это в том, что то, что мы видели, было статистическим совпадением”, – сказал мне Дэвид Рауп.
Тем временем поиски иридия и других признаков столкновений с внеземными объектами шли на спад. Как и многие другие, Луис Альварес ввязался в эти поиски. Когда научное сотрудничество с китайцами было делом почти неслыханным, ему удалось заполучить образцы пород из Южного Китая, с пограничного слоя между пермью и триасом.
Вымирание конца пермского периода – пермо-триасовое – было самым массовым из Большой пятерки: оно чуть не привело к полному исчезновению многоклеточной жизни вообще. Луис с большим волнением обнаружил слой глины, располагающийся между пластами пород в образцах из Южного Китая, – как в Губбио. “Мы были уверены, что там будет много иридия”, – вспоминал он позднее71. Однако китайская глина с химической точки зрения оказалась ничуть не примечательной: иридия в ней содержалось ничтожно мало, и его даже невозможно было измерить. Концентрации иридия, превышающие нормальные, позже нашли в слоях конца ордовикского периода, в частности, в образцах пород из Добс-Линна. Однако никаких других характерных следов столкновения – таких как, скажем, шоковый кварц – в соответствующих пластах найдено не было, и поэтому ученые решили, что повышенный уровень иридия связан всего лишь с причудами процесса образования осадков.
Согласно принятой на сегодня теории, вымирание в конце ордовика было вызвано оледенением. Бóльшую часть периода преобладал так называемый парниковый климат – концентрация углекислого газа в воздухе была высокой, и такими же были температура и уровень моря. Однако как раз примерно в то же время, когда разразилась первая вспышка вымирания – та, которая нанесла серьезный ущерб граптолитам, – уровень CO2 снизился. Температура упала, и Гондвана оледенела. Доказательства ордовикского оледенения найдены на удаленных друг от друга остатках суперконтинента – территориях нынешних Саудовской Аравии с Иорданией и Бразилии. Резко снизился уровень моря, и многие морские местообитания были уничтожены, отчего пострадало множество морских организмов. Также изменился химический состав морской воды; в частности, холодная вода содержит больше кислорода. Никто не знает, что именно убило граптолитов – изменение температуры или какое-то из целого ряда последствий. Залашевич описал мне это так: “В библиотеке лежит мертвое тело, а полдюжины лакеев бродят вокруг с глупым видом”. Никто не знает, что вообще вызвало изменения. Согласно одной теории72, оледенение спровоцировали древние мхи, которые заселяли сушу и при этом поглощали углекислый газ из воздуха. Если это так, то первое массовое вымирание животных было вызвано растениями.
Вымирание конца пермского периода, вероятно, также было вызвано климатическими изменениями. Однако в этом случае изменения шли в противоположном направлении. Как раз во время вымирания, 252 миллиона лет назад, произошел выброс в атмосферу огромного количества углерода – настолько массовый выброс, что геологи даже не представляют, откуда могло взяться столько углерода. Температура подскочила73 – моря нагрелись на целых 10 °C, – и в химии океана все пошло наперекосяк, как в аквариуме, за которым никто не следит. Вода закислилась, а концентрация растворенного кислорода упала настолько, что многие организмы, по-видимому, в результате задохнулись. Разрушились рифы.
Пермо-триасовое вымирание произошло за время, конечно, не сравнимое с человеческой жизнью, но с геологической точки зрения почти так же быстро и внезапно. Согласно последним исследованиям китайских и американских ученых, все длилось не более двухсот тысяч лет74, а возможно, и менее ста тысяч лет. В итоге около 90 % всех биологических видов исчезло с лица земли. Однако даже значительного глобального потепления и закисления океана недостаточно, чтобы объяснить столь сокрушительные потери, поэтому до сих пор ищут иные, дополнительные факторы. По одной из гипотез, нагревание океанов благоприятствовало развитию бактерий, выделяющих сероводород – ядовитый для большинства остальных форм жизни75. По этому сценарию, сероводород накапливался в воде, убивая морских существ, а затем поступал в атмосферу, уничтожая почти все остальное. Сульфатвосстанавливающие бактерии изменили цвет океанов, а сероводород – цвет небес; популяризатор науки Карл Циммер описал мир в конце пермского периода как “поистине фантасмагорическое место”, где безжизненные фиолетовые моря испускали ядовитые пузыри, поднимавшиеся “в бледно-зеленое небо”76.
Если двадцать пять лет назад казалось, что все массовые вымирания происходили по одной и той же причине, то теперь справедливым видится противоположное. Перефразируя Льва Толстого, можно сказать, что каждое вымирание несчастливо – и гибельно – по-своему. Не исключено, что сама необычность тех событий делала их столь смертоносными: организмы совершенно внезапно оказывались в условиях, к которым эволюционно были абсолютно не готовы.
“Думаю, после того, как свидетельства в пользу некоего столкновения в конце мелового периода стали достаточно убедительны, те из нас, кто работал над этим вопросом, наивно полагали, что мы сейчас возьмем да и найдем доказательства столкновений, совпадавших по времени с другими вымираниями”, – рассказывал мне Уолтер Альварес. “Однако все оказалось намного сложнее. Прямо сейчас мы видим: массовое вымирание может быть вызвано людьми. Поэтому очевидно, что нет общей теории вымираний”.
Тем вечером в Моффате, когда всем уже надоели и чай, и граптолиты, мы отправились в паб на первом этаже самого узкого в мире отеля. После пары пинт пива разговор свернул на другую любимую тему Залашевича – гигантских крыс. Крысы следовали за людьми почти во все уголки земного шара, и профессиональное мнение Залашевича таково: когда-нибудь они захватят Землю.
“Некоторые из них, скорее всего, сохранят крысиные размеры и формы”, – говорил он. “Другие же могут сжаться или раздаться. Особенно если по Земле прокатится волна вымираний из-за смертельной эпидемии и экологические ниши освободятся, крысы наверняка сумеют этим воспользоваться. И мы знаем, что изменение размеров может происходить довольно быстро”. Я вспомнила, как однажды видела крысу, тащившую основу для пиццы вдоль рельсов на станции метро в Верхнем Вест-Сайде. И представила, как эта крыса идет вразвалочку по заброшенному туннелю, раздувшаяся до размеров добермана.
Хотя связь не слишком-то очевидна, интерес Залашевича к гигантским крысам представляет собой логическое продолжение его интереса к граптолитам. Он зачарован миром, который предшествовал человечеству, а также его все больше занимает мир, который человечество оставит после себя. Одна тема помогает понять другую. Изучая ордовик, он пытается реконструировать далекое прошлое по сохранившимся разрозненным подсказкам: по окаменелостям, изотопам углерода, слоям осадочных пород. Размышляя о будущем, он пытается представить, что сохранится от настоящего, когда от современного мира останутся одни обрывки: окаменелости, изотопы углерода и слои осадочных пород. Залашевич убежден, что даже посредственный геолог-стратиграф через сто миллионов лет смог бы определить, что нечто экстраординарное произошло в период времени, который мы с вами называем “сейчас”. Это действительно так, хотя через сто миллионов лет все, что мы считаем великими творениями человечества, – скульптуры и библиотеки, памятники и музеи, города и заводы – окажется спрессованным в слой осадочных пород толщиной не сильно больше папиросной бумаги77. “Мы уже оставили свой неизгладимый след”, – написал Залашевич в одной из своих книг77.
Одна из причин, по которой это произошло, – наша неугомонность. Иногда умышленно, иногда случайно люди всячески перегруппировывали биоту земли, перевозя флору и фауну Азии в Америку, Америки – в Европу, Европы – в Австралию. Крысы неизменно участвовали во всех этих перемещениях и оставили свои кости разбросанными повсюду, даже на самых удаленных островах, где люди никогда и не собирались селиться. Малая крыса, Rattus exulans, родом из Юго-Восточной Азии, вместе с полинезийскими мореплавателями добралась в том числе до Гавайев, Фиджи, Таити, Тонга, Самоа, острова Пасхи и Новой Зеландии. Поскольку в этих местах почти не водились хищники, безбилетники Rattus exulans размножились настолько, что, по выражению новозеландского палеонтолога Ричарда Холдэвея, стали “серым потоком”, который превращал “все годное в пищу в крысиный белок”78. (Недавние исследования пыльцы и остатков животных на острове Пасхи показали, что вовсе не люди обезлесили ландшафт79; скорее, это были заезжие крысы-попутчики, начавшие бесконтрольно размножаться. Местные пальмы давали семена недостаточно быстро, чтобы поспевать за аппетитами крыс.) Когда европейцы прибыли в Америку, а затем отправились дальше на запад к островам, заселенным полинезийцами, они привезли с собой вид, приспосабливающийся еще легче, – серую крысу, Rattus norvegicus. Во многих местах серые крысы (их еще называют норвежскими, хотя они на самом деле родом из Китая) вытеснили предыдущих захватчиков, малых крыс, да еще разорили не тронутые теми популяции птиц и рептилий. Таким образом, можно сказать, что крысы создали свою собственную “экологическую нишу”, в которой их потомки имеют хорошие шансы занять доминирующее положение. Потомки современных крыс, считает Залашевич, будут распространяться и заполнять ниши, которые Rattus exulans и Rattus norvegicus помогли освободить. Он полагает, что крысы будущего приобретут новое обличье и размеры: некоторые станут “меньше землеройки”, другие – большими, как слоны. “Мы можем, – написал он, – причислить к их сонму, интереса ради и не стесняя свое воображение, один-два вида крупных бесшерстных грызунов77, живущих в пещерах, обтесывающих камни для примитивных орудий и одетых в шкуры других млекопитающих, которых они убили и съели”.
Между тем, какая бы судьба ни ожидала крыс в будущем, вымирание, которому они сейчас способствуют, оставит свой собственный характерный след. Конечно, не настолько кардинальный, как те, что мы видим в глинистом сланце из Добс-Линн или в слое глины в Губбио, – но он тем не менее проявится в горных породах как переломный момент. Изменение климата – само по себе движущий фактор вымирания – тоже оставит геологические следы, как и выпадение радиоактивных осадков, изменение русла рек, выращивание монокультур и закисление океана.
По всем этим причинам Залашевич считает, что мы вступили в новую эпоху, не имеющую аналогов в истории Земли. “С геологической точки зрения, – заметил он, – это незаурядное событие”.
За прошедшие годы для новой эпохи, начало которой положено человеком, был придуман целый ряд названий. Известный биолог, специалист по сохранению биоразнообразия Майкл Суле считает, что нынешнюю эру следовало бы назвать не кайнозойской, а “катастрофозойской”. Майкл Сэмвейс, энтомолог из Стелленбосского университета в ЮАР, придумал термин “гомогеноцен”[46]. Даниэль Поли, канадский морской биолог, предложил “миксоцен”, от греческого слова, означающего “слизь”[47], а Эндрю Ревкин, американский журналист, – “антроцен”[48]. (Большинство этих терминов, хотя и косвенно, обязаны своим происхождением Лайелю, который еще в 1830-х годах придумал слова “эоцен”, “миоцен” и “плиоцен”.)
Слово “антропоцен” – изобретение Пауля Круцена, голландского химика, разделившего с еще двумя учеными Нобелевскую премию за исследования, посвященные воздействию озоноразрушающих веществ. Важность этого открытия трудно переоценить: не будь оно сделано – и продолжай химикаты широко использоваться, – озоновая “дыра”, которая появляется каждую весну[49] над Антарктикой, расширялась бы до тех пор, пока в конце концов не охватила бы всю Землю. (Говорят, один из нобелевских солауреатов Круцена однажды вечером вернулся из лаборатории домой и сказал жене: “Работа продвигается хорошо, но, похоже, скоро наступит конец света”.)
Круцен рассказал мне, что слово “антропоцен” пришло ему в голову, когда он сидел на каком-то заседании. Председатель заседания постоянно упоминал голоцен, “совсем недавнюю”[50] эпоху, которая началась по окончании последней ледниковой эпохи, 11 700 лет назад, и продолжается – по крайней мере, официально – по сей день.
Круцен вспоминал, как брякнул: “Ну хватит! Мы больше не в голоцене, мы в антропоцене!” На какое-то время в зале воцарилась тишина. Во время ближайшего перерыва на кофе антропоцен стал основной темой разговоров. Кто-то подошел к Круцену и посоветовал запатентовать это название.
Круцен сформулировал свою идею в короткой заметке “Геология человечества”, опубликованной в журнале Nature. “Мне кажется уместным присвоить термин «антропоцен» текущей геологической эпохе, в которой во многих отношениях доминирует человек”, – написал он. Помимо множества других геологических изменений, вызванных человеком, Круцен отметил следующие:
• Человеческая деятельность преобразовала от трети до половины всей площади суши на планете.
• Большинство крупнейших рек в мире перегорожены плотинами, или их русла изменены.
• Заводы по производству удобрений порождают азота больше, чем его способны связать все наземные экосистемы естественным образом.
• Для рыбного промысла изымается более трети первичной продукции[51] прибрежных вод в океанах.
• Люди используют более половины объема всей легко доступной пресной воды в мире.
Но самое главное, по мнению Круцена, то, что люди изменили состав атмосферы. Сжигание горючих полезных ископаемых в сочетании с вырубкой лесов привело к тому, что концентрация углекислого газа в воздухе за последние два столетия повысилась на 40 %, а концентрация метана, парникового газа еще мощнее, более чем удвоилась.
“Из-за этих антропогенных выбросов”, писал Круцен, глобальный климат с большой вероятностью может “на многие тысячелетия значительно отклониться от своего естественного состояния”80.
Круцен опубликовал заметку “Геология человечества” в 2002 году. Вскоре слово “антропоцен” начало перекочевывать в другие научные журналы.
“Глобальный анализ речных систем: от контроля системами Земли до синдромов антропоцена” – так называлась статья, опубликованная в 2003 году в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B.
Статья в Journal of Soils and Sediments 2004 года была озаглавлена “Почвы и отложения в антропоцене”.
Впервые встретив этот термин, Залашевич заинтересовался. Он заметил, что большинство тех, кто его использовал, не были профессиональными стратиграфами, и ему стало любопытно, что об этом думают его коллеги. В то время он возглавлял стратиграфический комитет Лондонского геологического общества, президентами которого когда-то были Лайель, Уильям Уэвелл и Джон Филлипс. На одном официальном обеде Залашевич спросил у своих коллег по комитету, что они думают об антропоцене. Двадцать один человек из двадцати двух согласился, что эта идея достойна внимания.
Группа единомышленников решила подойти к этому геологическому вопросу формально. Соответствует ли антропоцен критериям, используемым для обозначения новой эпохи? (В геологии эпоха представляет собой часть периода, который, в свою очередь, является частью эры: к примеру, голоцен – это эпоха четвертичного периода, относящегося к кайнозойской эре.) Ответом, к которому пришли участники исследования, длившегося целый год, было безоговорочное “да”. Они заключили, что перечисленные Круценом изменения оставят “глобальный стратиграфический след”, который будет заметен и через миллионы лет, – как, скажем, ордовикское оледенение оставило “стратиграфический след”, все еще считываемый и сегодня. В статье, посвященной результатам этого исследования, участники группы написали, что еще антропоцен будет характеризоваться уникальным “биостратиграфическим признаком” – последствиями, с одной стороны, нынешнего вымирания, а с другой – тяги человека перераспределять все живое по планете. Этот признак будет запечатлен навсегда, писали они, “поскольку материалом для дальнейшей эволюции послужат выжившие (и зачастую антропогенно перемещенные) популяции”81. Или, как сказал бы Залашевич, крысы.
Ко времени моей поездки в Шотландию Залашевич сумел поднять тему антропоцена на новый уровень. Международная комиссия по стратиграфии – вот та организация, которая ведет официальную хронологию истории Земли. Именно она разрешает такие вопросы, как “Когда в точности начался плейстоцен?”. (После бурных дебатов комиссия недавно передвинула начало этой эпохи в прошлое с отметки 1,8 до 2,6 миллиона лет назад.) Залашевич убедил Международную комиссию по стратиграфии рассмотреть вопрос об официальном признании антропоцена и, что вполне закономерно, лично возглавил эту работу. Как руководитель рабочей группы он надеется вынести вопрос на голосование комиссии в 2016 году. Если все пройдет удачно и антропоцен официально признают новой эпохой, все учебники по геологии в мире моментально устареют[52].
Глава 6 Море вокруг нас Patella caerulea
Кастелло Арагонезе – крошечный остров[53], возвышающийся над Тирренским морем наподобие орудийной башни. Он расположен примерно в тридцати километрах к западу от Неаполя, и добраться до него можно с соседнего, большего по размеру острова Искья по узкому, длинному каменному мосту. В конце моста находится кабинка, в которой за десять евро вы покупаете билет, позволяющий взобраться – или, еще лучше, подняться на лифте – к знаменитому Арагонскому замку. В строениях замка среди прочего размещены экспозиция средневековых пыточных инструментов, фешенебельная гостиница и уличное кафе. Летними вечерами очень уютно сидеть в этом кафе, потягивая кампари и размышляя об ужасах прошлого.
Как и многие другие небольшие образования, Кастелло Арагонезе представляет собой результат действия значительных сил – в данном случае дрейфа Африки в северном направлении, благодаря которому Триполи каждый год становится на несколько сантиметров ближе к Риму. Образуя сложную систему складок, Африканская литосферная плита вдавливается в Евразийскую, подобно тому как деформируется металл в плавильной печи. Время от времени этот процесс вызывает мощные извержения вулканов (одно из таких извержений, случившееся в 1302 году, заставило все население Искьи искать убежища на островке Кастелло Арагонезе). Но обычно он проявляется в том, что из фумарол на морском дне поднимаются струями пузыри газа – почти на 100 % углекислого.
Углекислый газ имеет множество интересных свойств, одно из которых состоит в том, что он растворяется в воде с образованием кислоты. Я приехала на остров Искья в конце января, в мертвый сезон, специально для того, чтобы поплавать в пузырящихся подкисленных водах залива. Морские биологи Джейсон Холл-Спенсер и Мария Кристина Буйя пообещали показать мне подводные фумаролы, если не будет ожидавшегося по прогнозу ливня.
В промозглый серый день мы отплываем на бывшем рыболовном судне, переделанном в исследовательское. Обходим Кастелло Арагонезе и бросаем якорь примерно в двадцати метрах от его каменистых берегов. С судна подводные трещины не видны, но заметны их признаки. Белая полоса усоногих ракообразных окружает основание острова – за исключением участков над фумаролами, где усоногих нет.
“Усоногие очень жизнестойки”, – замечает Холл-Спенсер, британец со светло-каштановыми волосами, торчащими во все стороны. На нем гидрокостюм сухого типа, то есть такой, который вообще не пропускает внутрь воду, поэтому Холл-Спенсер выглядит так, будто готовится к космическому путешествию. Буйя – итальянка с рыжевато-коричневыми волосами до плеч. Она раздевается до купальника, а затем одним отработанным движением натягивает свой гидрокостюм. Я пытаюсь так же лихо надеть свой, взятый напрокат. Борясь с молнией, я понимаю, что он мал мне как минимум на полразмера. Мы все надеваем маски и ласты и погружаемся.
Вода очень холодная. Холл-Спенсер взял с собой нож, он поддевает с камня нескольких морских ежей и протягивает мне. Их иглы чернильно-черного цвета. Мы плывем дальше, двигаясь вдоль южного берега острова в сторону фумарол. Холл-Спенсер и Буйя время от времени останавливаются, чтобы собрать образцы – коралловых полипов, улиток, водорослей и мидий, – которые помещают в сетчатые мешки, болтающиеся за ними в воде. Когда мы уже достаточно близко от фумарол, я замечаю пузыри, поднимающиеся с морского дна и напоминающие шарики ртути. Под нами колышется ковер водорослей необычно яркого зеленого цвета. Как я позже узнала, это объясняется нехваткой крошечных организмов, которые обычно покрывают водоросли и приглушают их натуральный цвет. Чем ближе мы подплываем к фумаролам, тем меньше образцов удается найти. Исчезают и морские ежи, и мидии, и усоногие. Буйя находит несколько жалких морских блюдечек, прикрепленных к скале. Их раковины истончились почти до прозрачного состояния. Мимо нас проскальзывает стайка медуз по цвету лишь немногим светлее воды.
“Осторожно, – предостерегает Холл-Спенсер. – Они жалят”.
С начала промышленной революции люди сожгли столько ископаемого топлива – угля, нефти и природного газа, – что в атмосферу поступило около 365 миллиардов тонн углерода. Уничтожение лесов добавило еще 180 миллиардов тонн. Каждый год мы выбрасываем в атмосферу еще примерно 9 миллиардов тонн, и это число ежегодно увеличивается почти на 6 %. В результате концентрация углекислого газа в воздухе в наши дни – немногим более 400 частей на миллион – выше, чем когда-либо за последние восемьсот тысяч лет. Вполне вероятно, что даже за последние несколько миллионов лет. Если так пойдет и дальше, то к 2050 году концентрация CO2 превысит 500 частей на миллион, что примерно вдвое больше уровня доиндустриальной эпохи. Предполагается, что такое увеличение приведет к повышению среднемировой температуры на 2–4 °C, а это, в свою очередь, запустит цепочку событий, которые изменят наш мир, включая исчезновение большинства оставшихся ледников, затопление низколежащих островов и прибрежных городов, а также таяние арктической ледяной шапки. Однако это лишь половина истории.
Океан покрывает 70 % поверхности Земли, и везде, где вода контактирует с воздухом, между ними происходит обмен. Газы из атмосферы поглощаются океаном, а газы, растворенные в океане, высвобождаются в атмосферу. Когда система находится в равновесии, приблизительно одинаковое количество газа растворяется и выделяется. Но стоит изменить состав атмосферы – что мы уже сделали, – и обмен становится односторонним: в воду поступает больше углекислого газа, чем из нее уходит. Получается, человек постоянно добавляет CO2 в моря – примерно так же, как это делают подводные фумаролы, только сверху, а не снизу, причем в глобальном масштабе. Только за этот[54] год океаны абсорбируют 2,5 миллиарда тонн углерода, а в следующем предположительно поглотят еще столько же. Фактически каждый американец ежедневно закачивает в море три килограмма углерода.
Из-за этих излишков CO2 среднее значение pH (водородного показателя) поверхностных вод океана уже упало с 8,2 до 8,1. Подобно рихтеровской, шкала pH логарифмическая, поэтому даже столь малая численная разница отражает очень большие реальные изменения. Снижение pH на 0,1 означает, что кислотность океанов теперь на 30 % выше, чем в 1800 году. Если люди будут и дальше сжигать ископаемое топливо, океаны продолжат поглощать углекислый газ, а значит, будут становиться все более закисленными. Если так будет продолжаться и дальше и прежнее количество выбросов углерода сохранится, pH поверхностных вод океана к середине этого века снизится до 8,0, а к концу века – до 7,8. А значит, океаны окажутся на 150 % более закисленными, чем в начале промышленной революции[55].
Вследствие выбросов CO2 из подводных фумарол воды вокруг Кастелло Арагонезе довольно точно демонстрируют, какими океаны станут в будущем. Вот почему я плыву вокруг острова в январе, постепенно коченея от холода. Здесь есть возможность уже сегодня искупаться – и даже утонуть, думаю я в минуту паники, – в морях завтрашнего дня.
К тому времени как мы добираемся до гавани острова Искья, поднимается ветер. На палубе нашего судна в беспорядке валяются пустые баллоны для воздуха, мокрые гидрокостюмы и ящики с образцами. После разгрузки мы должны будем оттащить их по узким улицам наверх – к местной морской биостанции, расположенной на крутом мысу с видом на море. Станция была основана в XIX веке немецким натуралистом Антоном Дорном. На одной из стен в вестибюле здания я замечаю копию письма, отправленного Чарльзом Дарвином Дорну в 1874 году. В нем Дарвин выражает обеспокоенность тем, что, по словам их общего друга, Дорн слишком много работает.
Кастелло Арагонезе
Животные, собранные Буйей и Холл-Спенсером вокруг Кастелло Арагонезе и помещенные в аквариумы в лаборатории, занимающей подвал здания, сначала выглядели вялыми – на мой нетренированный взгляд, пожалуй, даже неживыми. Однако немного погодя они начали шевелиться и искать пищу. Там была морская звезда без одного щупальца, кучка хилого вида коралловых полипов, а также несколько морских ежей, которые передвигались по аквариуму с помощью десятков тонких ножек-“трубочек” (каждая такая ножка работает по гидравлическому принципу, растягиваясь и сокращаясь в зависимости от давления воды). Кроме того, там был морской огурец длиной пятнадцать сантиметров, похожий на кровяную колбасу или, что еще хуже, на какашку. В холодной лаборатории разрушительное воздействие углекислых фумарол стало очевидно. Osilinus turbinatus – распространенная средиземноморская улитка с раковиной, покрытой перемежающимися черными и белыми пятнами, как на змеиной коже. Однако у Osilinus turbinatus в аквариуме не было рисунка: верхний рельефный слой раковины оказался разъеден и обнажил нижний – гладкий и белоснежный. Морское блюдечко Patella caerulea по форме напоминает китайскую соломенную шляпу. Раковины нескольких особей имели глубокие повреждения, через которые виднелись желтовато-серые тела их владельцев. Кажется, будто их окунули в кислоту, – в каком-то смысле так оно и есть.
“Поскольку это очень важно, организм человека прикладывает много усилий, чтобы обеспечить постоянство pH нашей крови, – говорит Холл-Спенсер, повышая голос, чтобы перекричать шум воды. – Однако у некоторых низших животных нет для этого физиологических возможностей. Они вынуждены сносить все происходящее вокруг – и достигают своего предела”.
Позднее, за пиццей, Холл-Спенсер рассказал мне о своей первой поездке к фумаролам. Это было летом 2002 года, он тогда работал на итальянском исследовательском судне “Урания”. В один жаркий день, когда “Урания” проходила мимо Искьи, экипаж решил бросить якорь и искупаться. Несколько итальянских ученых, кто знал о фумаролах, предложили Холл-Спенсеру посмотреть на них, просто забавы ради. Ему понравились необычные ощущения – плавание среди пузырей похоже на купание в шампанском, – но это заставило его и призадуматься.
В то время морские биологи только начинали осознавать опасности, сопряженные с закислением. Были произведены некоторые насторожившие расчеты и проведены предварительные эксперименты на лабораторных животных. Холл-Спенсер решил, что подводные фумаролы можно использовать для нового и более перспективного вида исследований. Они охватили бы не только несколько видов выведенных в аквариумах животных, но десятки видов, живущих и размножающихся в своей естественной (или, если угодно, естественно неестественной) среде.
В окрестностях Кастелло Арагонезе подводные фумаролы создают градиент pH. Воды у восточной оконечности острова почти не подверглись закислению. Эту зону можно считать современным Средиземным морем. Но по мере приближения к фумаролам кислотность воды повышается, а pH, соответственно, снижается. Холл-Спенсер понял, что распределение жизни вдоль этого градиента pH служит неплохой иллюстрацией того, что ждет Мировой океан в будущем. Словно появился доступ к подводной машине времени.
Холл-Спенсеру потребовалось два года, чтобы опять приехать на Искью. Его проект все еще не получил финансирования, а потому исследователю трудно было заставить кого-либо воспринять его затею всерьез. Не имея возможности снять комнату в гостинице, Холл-Спенсер разбил палатку на уступе скалы. Для сбора образцов он использовал выброшенные пластиковые бутылки из-под воды. “Это было немного в духе Робинзона Крузо”, – признался он мне.
В конце концов ему удалось убедить достаточно коллег, включая Буйю, в том, что он задумал нечто стоящее. Прежде всего необходимо было произвести детальные замеры уровней pH вокруг острова. Затем они провели учет всех видов, живущих в зонах с разной кислотностью. Для этого вдоль побережья были расставлены металлические рамы, благодаря которым регистрировалась каждая особь мидий, усоногих и морских блюдечек, прицепившаяся к прибрежным камням. Мало того – исследователям часами приходилось сидеть под водой, пересчитывая проплывающих рыб.
В водах далеко от фумарол Холл-Спенсер и его коллеги обнаружили вполне типичное сообщество средиземноморских видов. В том числе: губку Agelas oroides, напоминающую монтажную пену; рыбу Sarpa salpa, часто употребляемую в пищу и иногда вызывающую галлюцинации, и морского ежа Arbacia lixula сиреневого оттенка. Также в том районе обитали кустистая розоватая водоросль Amphiroa rigida и зеленая водоросль Halimeda tuna, растущая в виде соединенных друг с другом дисков. (Исследование было ограничено только достаточно крупными организмами, которые заметны невооруженным глазом.) В этой зоне, свободной от влияния фумарол, было зафиксировано 69 видов животных и 51 вид растений.
Когда же Холл-Спенсер и его команда приступили к зонам, расположенным ближе к фумаролам, результаты оказались совершенно иными82. Усоногое Balanus perforatus, напоминающее маленький сероватый вулкан, в изобилии встречается от Западной Африки до Уэльса. В зоне со значением pH 7,8, которое соответствует морям не слишком отдаленного будущего, этого вида не было. Черноморская мидия (Mytilus galloprovincialis) сине-черного цвета, обычная для Средиземноморья, настолько легко адаптируется к разным условиям, что прижилась во многих частях мира как инвазивный вид. Ее тоже не было. Также не удалось найти жесткие красноватые водоросли Corallina elongata и Corallina officinalis, червя серпулиду Pomatoceros triqueter, три вида коралловых полипов, несколько видов улиток и моллюска Arca noae, известного под названием “Ноев ковчег”. В целом в зоне со значением pH 7,8 полностью отсутствовала треть видов, обнаруженных в зоне без фумарол.
“Как ни печально, но критическое значение pH, при котором экосистема начинает разрушаться, равно в среднем 7,8, и мы полагаем, что оно будет достигнуто к 2100 году, – говорит мне Холл-Спенсер в своей сдержанной британской манере. – И это крайне тревожно”.
C тех пор как в 2008 году Холл-Спенсер опубликовал свою первую статью о подводных углекислых фумаролах, интерес к теме закисления и его последствий резко возрос. Международные исследовательские проекты с такими названиями, как BIOACID (Biological Impacts of Ocean Acidification – Биологические последствия закисления океанов) и EPOCA (European Project on Ocean Acidification – Европейский проект по проблеме закисления океанов), получили финансирование, что позволило провести сотни, а может, и тысячи экспериментов. Их проводили на судах, в лабораториях и в специальных резервуарах – “мезокосмах”, – которые можно погрузить в океан, воссоздавая условия, наиболее приближенные к реальным.
Раз за разом эксперименты подтверждали вред, причиняемый ростом концентрации CO2. Многие виды, несомненно, будут чувствовать себя нормально и даже процветать в закисленном океане, однако множество других – нет. Некоторые организмы, оказавшиеся уязвимыми, такие как рыба-клоун и тихоокеанские устрицы, знакомы нам по аквариуму или обеденному столу; другие менее харизматичны (или вкусны), но, вероятно, важнее для морских экосистем. К примеру, одноклеточные планктонные водоросли Emiliania huxleyi – кокколитофориды, – окружающие себя крошечными кальцитовыми пластинками. Под микроскопом эти водоросли выглядят как чья-то безумная поделка – футбольный мяч, покрытый пуговицами. В определенные месяцы года этот вид становится настолько многочисленным, что окрашивает большие участки морей в молочно-белый цвет, также он составляет начальное звено многих морских пищевых цепей. Или крылоногие моллюски Limacina helicina – улитки с “крыльями”, прозванные морскими бабочками. Они обитают в Арктике и являются важным источником пищи для многих более крупных животных, включая сельдь, лосося и китов. Оба эти вида оказались крайне чувствительными к закислению океана: в ходе одного эксперимента с мезокосмами Emiliania huxleyi полностью исчезла из резервуаров с повышенным уровнем CO2[56].
Кокколитофорида Emiliania huxleyi
Ульф Рибезелль – биолог-океанограф в центре изучения Мирового океана, входящем в Объединение немецких научно-исследовательских центров имени Гельмгольца (GEOMAR) и расположенном в немецком городе Киль. Рибезелль руководил несколькими крупными проектами по проблеме закисления океана у берегов Норвегии, Финляндии и Шпицбергена. Он обнаружил, что лучше всего в закисленной воде чувствуют себя планктонные организмы настолько крошечные – менее двух микрометров, – что они образуют свою собственную микроскопическую пищевую сеть. По мере увеличения численности особей этот пикопланктон[57], как его называют, потребляет все больше питательных веществ, отчего страдают более крупные организмы.
“Если вы спросите меня, что произойдет в будущем, я отвечу так: есть надежные доказательства того, что грядет снижение биоразнообразия”, – сказал мне Рибезелль. “Некоторые высокоустойчивые организмы станут более многочисленными, но общее разнообразие будет утрачено. Именно это и происходило всегда в результате крупных массовых вымираний”.
Закисление океана иногда называют “не менее злодейским близнецом” глобального потепления. Ирония здесь умышленная и вполне справедливая. Ни один механизм не объясняет полностью все массовые вымирания в палеонтологической летописи, и все же изменения в химическом составе океана кажутся довольно неплохим прогностическим параметром. Закисление океана сыграло свою роль как минимум в двух из Большой пятерки вымираний (в конце пермского и триасового периодов) и, вполне возможно, послужило основным фактором в третьем вымирании (в конце мелового периода). Имеются веские доказательства закисления океана во время вымирания, известного как плинсбах-тоарское83, произошедшего 183 миллиона лет назад – в начале юрского периода. Существуют подобные доказательства и относительно конца палеоцена, когда 55 миллионов лет назад несколько форм морской жизни претерпели значительный кризис.
“Да, закисление океана, – сказал мне Залашевич в Добс-Линн, – это крупная неприятность, которая уже валится нам на голову”.
Чем же закисление океана столь опасно? На этот вопрос сложно ответить только потому, что список причин очень уж длинный. В зависимости от того, насколько жестко регулируются внутренние химические процессы организмов, закисление способно повлиять на такие базовые процессы, как обмен веществ и ферментативная активность, и на функции белка. Поскольку закисление изменит состав микробных сообществ, оно изменит и степень доступности ключевых биогенных элементов, например железа и азота. По аналогичным причинам изменится количество света, проходящего сквозь воду, а по несколько иным причинам – то, как распространяется звук (в целом, предполагается, что океаны станут более шумными). Вероятно, закисление спровоцирует рост токсичных водорослей. Также оно повлияет на фотосинтез – многие виды растений способны извлечь пользу из повышенного уровня CO2 – и изменит химические соединения, образованные растворенными металлами, в некоторых случаях в сторону ядовитости.
Среди несметного числа возможных воздействий закисления, пожалуй, самое важное затрагивает группу существ, известных как “кальцифицирующие организмы” (так называют любые организмы, выстраивающие себе раковину или наружный скелет или, в случае растений, некий внутренний каркас из карбоната кальция). Морские кальцифицирующие организмы невероятно многообразны: это и иглокожие, в частности морские звезды и морские ежи, и моллюски, в том числе мидии и устрицы, и усоногие, которые относятся к ракообразным, и многие виды коралловых полипов (так они сооружают огромные структуры, образующие рифы). К кальцифицирующим организмам также относятся многие виды морских водорослей; зачастую они на ощупь жесткие или ломкие. Кораллиновые водоросли – мельчайшие организмы, растущие колониями, похожими на мазок розовой краски, – тоже кальцифицирующие организмы. Плеченогие, кокколитофориды, фораминиферы и многие виды крылоногих моллюсков… список можно продолжать еще долго. По некоторым оценкам, кальцификация возникала на протяжении всей истории жизни по меньшей мере двадцать раз независимо84, и вполне возможно, что реальное число еще больше.
С точки зрения человека, кальцификация напоминает одновременно и строительство, и алхимию. Для создания своих раковин, экзоскелетов или кальцитовых пластинок кальцифицирующие организмы должны соединить ионы кальция (Ca2+) и карбонат-ионы (CO32–), чтобы образовался карбонат кальция (CaCO3). Однако при тех концентрациях, в которых эти ионы присутствуют в обычной морской воде, они не могут провзаимодействовать. Следовательно, эти организмы должны по месту кальцификации изменить химический состав воды, чтобы, по сути, навязать свою собственную химию.
Закисление океана повышает затраты на кальцификацию – снижая количество доступных карбонат-ионов, необходимых для начала работы. Используем аналогию со строительством: представьте, что вы пытаетесь построить дом, а кто-то постоянно крадет у вас кирпичи. Чем выше кислотность воды, тем больше энергии требуется для завершения необходимых этапов. В определенный момент вода становится коррозионно-активной – и твердый карбонат кальция начинает растворяться. Вот почему у морских блюдечек, подобравшихся слишком близко к фумаролам у Кастелло Арагонезе, появляются дыры в раковинах.
В лабораторных экспериментах было показано, что кальцифицирующие организмы особенно сильно пострадают от снижения pH океанической воды, и это подтверждается списком исчезнувших у Кастелло Арагонезе видов. В зоне со значением pH 7,8 три четверти исчезнувших видов относятся к кальцифицирующим организмам82; среди них упоминавшиеся выше почти вездесущий вид усоногих Balanus perforatus, жизнестойкая мидия Mytilus galloprovincialis и червь серпулида Pomatoceros triqueter. Еще среди кальцифицирующих организмов там исчезли распространенный двустворчатый моллюск Lima lima, морская улитка шоколадного цвета Jujubinus striatus и морская улитка из семейства червячковых Serpulorbis arenarius. При этом полностью исчезли и кальцифицирующие водоросли.
По мнению геологов, работающих в этом районе, подводные фумаролы у Кастелло Арагонезе выпускали углекислый газ как минимум несколько сотен лет, возможно, и дольше. Любая мидия, усоногое или червь серпулида, способные адаптироваться к более низкому уровню pH, за прошедшие столетия, надо полагать, уже сделали бы это. “Им предоставлена возможность поколение за поколением учиться выживать в таких условиях, и все же их там нет”, – заметил Холл-Спенсер.
Чем сильнее снижается pH, тем хуже становится кальцифицирующим организмам. Холл-Спенсер обнаружил, что совсем рядом с фумаролами, где пузыри углекислого газа струятся вверх плотными рядами, нет вообще никаких кальцифицирующих организмов. Собственно, все, что осталось в этом районе – подводном аналоге пустыря, – это лишь кое-какие жизнестойкие виды местных водорослей и несколько видов инвазивных, по одному виду креветок и губок и два вида морских слизней.
“Вы не увидите никаких кальцифицирующих организмов в районе, где поднимаются пузыри”, – сказал мне Холл-Спенсер. “Знаете, как в загрязненной гавани обычно остается всего несколько видов, подобных водорослям и способных выносить сильно меняющиеся условия? Так вот именно это и происходит, когда повышается уровень углекислого газа”.
* * *
Приблизительно треть углекислого газа, который человечество уже успело закачать в воздух, была поглощена океанами – а это ошеломляющие 150 миллиардов тонн[58]! Впрочем, как и в случае с другими особенностями антропоцена, здесь важен не только масштаб, но и скорость процесса. Удобно провести сравнение с алкоголем (хотя и заведомо неточное). Подобно тому как для химического состава вашей крови имеет огромное значение, выпили ли вы упаковку пива за месяц или за час, для химического состава морской воды имеет огромное значение, поступает ли углекислый газ в течение миллиона лет или ста. Для океанов, как и для печени человека, скорость важна.
Если бы мы добавляли CO2 в атмосферу медленнее, то такие геологические процессы, как выветривание горных пород, сыграли бы свою роль в противодействии закислению. Но в сложившихся условиях все происходит слишком быстро, так что столь медленно действующим силам не поспеть. Как однажды заметила Рейчел Карсон[59], говоря о совершенно другой, но по сути похожей проблеме: “Время – главная составляющая, но в современном мире его нет”85.
Группа ученых под руководством Бэрбель Хёниш из обсерватории Ламонта – Доэрти Колумбийского университета недавно изучила данные об изменении уровней CO2 в геологическом прошлом и пришла к выводу, что, хотя в палеонтологической летописи значится несколько серьезных случаев закисления океана, “ни одно событие прошлого не идет в сравнение” с происходящим прямо сейчас из-за “беспрецедентно высокой скорости выбросов CO2”. Оказывается, существует совсем немного способов закачать миллиарды тонн углерода в атмосферу очень быстро. Лучшее объяснение, которое удалось придумать для вымирания в конце пермского периода, – мощный всплеск вулканической активности на территории нынешней Сибири. Однако даже это яркое событие86, благодаря которому возникли Сибирские траппы, по-видимому, высвободило, в пересчете на год, меньше углерода, чем наши автомобили, заводы и электростанции.
Сжигая уголь и нефть, люди возвращают в атмосферу углерод, который был от нее изолирован десятки – в основном даже сотни – миллионов лет. В этом процессе мы прокручиваем геологическую историю не просто вспять, но и с безумной скоростью.
“Именно скорость высвобождения CO2 делает текущий великий эксперимент столь необычным с геологической точки зрения и, скорее всего, беспрецедентным в истории Земли”, – написали геолог из Университета штата Пенсильвания Ли Камп и специалист по моделированию климата из Бристольского университета Энди Риджвелл в специальном выпуске журнала Oceanography, посвященном теме закисления87. Если и дальше идти тем же путем, считают ученые, то “антропоцен станет одним из самых значительных, а вполне возможно, и самых катастрофических эпизодов в истории нашей планеты”.
Глава 7 Изливая кислоту Acropora millepora
На другом конце света от Кастелло Арагонезе, у самой южной оконечности Большого Барьерного рифа, примерно в восьмидесяти километрах от побережья Австралии лежит остров Уан-Три[60]. На нем растет значительно больше одного дерева, что немало меня удивило – вероятно, я ожидала увидеть карикатурного вида пейзаж с одинокой пальмой, торчащей из белого песка. Оказалось, что песка на острове вообще нет. Остров целиком состоит из обломков кораллов размером от крошечных шариков до огромных глыб. Как и живые колонии коралловых полипов, частью которых они когда-то были, обломки представлены десятками различных форм. Одни короткие и пальцевидные, другие разветвляются подобно канделябрам. Некоторые напоминают оленьи рога, или обеденные тарелки, или кусочки мозга. Принято считать, что остров Уан-Три возник во время невероятно сильного шторма около 4 тысяч лет назад (как сказал мне один геолог, изучавший это место, “вам бы точно не захотелось оказаться там, когда это случилось”). Уан-Три все еще продолжает менять свою форму: шторм, пронесшийся над ним в марте 2009 года (вызванный циклоном Хэмиш), добавил острову кряж, протянувшийся вдоль восточного побережья.
Уан-Три можно было бы назвать необитаемым островом, если не считать крошечной исследовательской станции, которой заведует Сиднейский университет. Я попала туда точно так же, как и все остальные, – с другого, чуть большего острова в двадцати километрах от Уан-Три (он известен под названием Херон[61], что тоже сбивает с толку, так как на нем нет цапель). Когда мы причалили, а точнее, просто стали на якорь, поскольку на Уан-Три нет причала, на берег выползала головастая черепаха. В длину она была намного больше метра, а ее панцирь украшала широкая кайма, инкрустированная усоногими. Новости на почти необитаемом острове распространяются быстро, так что вскоре все население Уан-Три – двенадцать человек, включая меня, – наблюдало за черепахой.
Морские черепахи обычно откладывают яйца ночью, на песчаных пляжах; сейчас же это происходило средь бела дня, на иззубренных коралловых обломках. Черепаха попыталась выкопать ямку задними ластами. С большим трудом ей удалось проделать небольшое углубление, к тому времени одна ее ласта уже кровоточила. Черепаха переместилась чуть выше по берегу и предприняла еще одну попытку, но с тем же результатом. В том же состоянии все оставалось и через полтора часа, когда мне пришлось пойти на лекцию по безопасности, которую читал руководитель исследовательской станции Расселл Грейам. Он предупредил меня, чтобы я не ходила плавать во время прилива, потому что могу оказаться “унесенной на Фиджи” (я часто слышала эту фразу во время своего пребывания на острове, хотя не было единого мнения о том, куда движется течение – в сторону островов Фиджи или, наоборот, от них). Усвоив все наставления: укус синекольчатого осьминога обычно смертелен, а укол шипами бородавчатки – нет, зато настолько болезнен, что вы бы предпочли, чтобы он был-таки смертельным, – я вернулась, чтобы узнать, как дела у черепахи. Оказалось, она оставила свои попытки и уползла обратно в море.
Остров Уан-Три и окружающий его риф, вид с воздуха
Исследовательская станция острова Уан-Три очень незатейлива. Она состоит из двух полевых лабораторий, пары хижин и домика с биотуалетом. Хижины стоят прямо на коралловом щебне, почти безо всякого пола, поэтому даже внутри них вы чувствуете себя как снаружи. Группы ученых со всего мира резервируют места на станции, чтобы поработать там несколько недель или месяцев. Однажды кто-то, должно быть, решил, что каждой группе следует оставлять на стенах хижин запись о своем посещении. “ДОХОДИМ ДО СУТИ В 2004-М” – гласит одна из надписей, сделанная фломастером. В числе других есть такие:
крабовая бригада: клешни в дело – 2005
секс коралловых полипов – 2008
флуоресцентная команда – 2009
Американо-израильская группа, работавшая во время моего пребывания на острове, уже бывала там дважды. Сентенция с первого визита – “ИЗЛИВАЯ КИСЛОТУ НА КОРАЛЛЫ” – сопровождалась изображением шприца, из которого на земной шар падала капля, похожая на кровь. Последнее сообщение группы было посвящено месту ее исследований – участку кораллов, известному как DK-13. Он расположен на рифе настолько далеко от станции, что, с учетом местных средств сообщения, с тем же успехом мог бы находиться и на Луне.
Надпись на стене предупреждала: “DK-13: НИКТО НЕ УСЛЫШИТ ТВОИХ КРИКОВ”.
* * *
Первым европейцем, достигшим Большого Барьерного рифа, стал капитан Джеймс Кук. Весной 1770 года Кук плыл вдоль восточного побережья Австралии, когда его корабль “Индевор” налетел на участок рифа примерно в пятидесяти километрах к юго-востоку от места, которое сейчас неслучайно называется Куктауном. За борт отправилось все, что только можно было выбросить для облегчения веса (включая корабельную пушку), и “Индевору” с пробоиной удалось кое-как добраться до суши, где экипаж провел следующие два месяца, занимаясь починкой корпуса. Кука привело в замешательство то, что он описал как “стену из коралловых скал, поднимающуюся почти перпендикулярно из бездонного океана”88. Он понимал, что риф имел биологическое происхождение и был “сформирован в море животными”. Но каким образом, недоумевал позже Кук, риф оказался “поднятым на такую высоту”?88
Вопрос, как возникли коралловые рифы, оставался открытым и шестьдесят лет спустя, когда Лайель сел писать “Основы геологии”. Хотя сам Лайель никогда не видел рифов, он глубоко ими интересовался – и посвятил часть второго тома предположениям об их происхождении. Свою теорию – согласно которой рифы формировались вокруг кратеров потухших подводных вулканов – Лайель почти полностью позаимствовал у русского натуралиста по имени Иоганн Фридрих фон Эшшольц. (До того, как атолл Бикини получил такое название, он именовался куда менее соблазнительно – атоллом Эшшольца36[62].)
Когда пришла очередь Дарвина выдвинуть свою теорию о происхождении рифов, у него было определенное преимущество – на некоторых из них он побывал. В ноябре 1835 года “Бигль” причалил к берегам Таити. Дарвин поднялся на одну из самых высоких точек острова, откуда мог видеть соседний остров Муреа. Он заметил, что Муреа опоясан рифом, подобно тому как офорт в раме окружен подложкой.
“Я рад, что мы побывали на этих островах”, написал Дарвин в своем дневнике, поскольку коралловые рифы “занимают не последнее место среди изумительных явлений природы”. Глядя с высоты на Муреа и окружавший его риф, Дарвин представил себе возможное будущее острова: если бы он затонул, то его риф превратился бы в атолл. Когда Дарвин вернулся в Лондон и поделился своей теорией погружения с Лайелем, тот, хотя и был впечатлен, предвидел сопротивление в научных кругах. “Не обольщайтесь надеждой, будто вам кто-то поверит, пока вы не начнете лысеть, как я”, – предупредил он.
Фактически споры насчет теории Дарвина, которой он посвятил свою книгу 1842 года “Строение и распределение коралловых рифов”, продолжались до 1950-х годов, когда ВМС США прибыли на Маршалловы острова, чтобы уничтожить некоторые из них. Готовясь к испытаниям водородной бомбы, военные пробурили ряд скважин на атолле Эниветок. По словам одного из биографов Дарвина, результаты бурения подтвердили, что теория ученого оказалась, по крайней мере в общих чертах, “поразительно верной”36.
Данное Дарвином описание коралловых рифов как одного из “изумительных явлений природы” также до сих пор справедливо. Действительно, чем больше становится известно о рифах, тем более удивительными они кажутся. Рифы – органические парадоксы: жесткие бастионы, сокрушающие корабли, созданные крошечными студенистыми существами. Рифы – это отчасти животные, отчасти растения, а отчасти минералы. Кишащие жизнью и в то же время по большей части мертвые.
Подобно морским ежам, морским звездам, двустворчатым моллюскам и усоногим, рифообразующие коралловые полипы успешно освоили алхимию кальцификации. Однако от других кальцифицирующих организмов их отличает то, что они не работают в одиночку, создавая, скажем, раковину или кальцитовые пластинки, а участвуют в совместных масштабных строительных проектах, продолжающихся на протяжении жизней многих поколений. Каждая особь вносит свой вклад в коллективный экзоскелет колонии. На рифе миллиарды полипов, принадлежащих ста с лишним различным видам, все посвящают себя этой основной задаче. При наличии достаточного времени (и подходящих условий) результат оказывается еще одним парадоксом: живое сооружение. Большой Барьерный риф простирается, с некоторыми разрывами, более чем на 2600 километров, а в ряде мест его ширина достигает 150 метров. В масштабах рифов комплекс в Гизе – просто игрушечные пирамидки.
Коралловые полипы
То, как кораллы меняют мир – реализуя колоссальные строительные проекты, вовлекающие множество поколений, – отчасти похоже на то, как люди меняют мир, с одним существенным отличием. Кораллы не вытесняют других существ, а помогают им. Тысячи, а то и миллионы, видов сформировались в процессе эволюции зависимыми от коралловых рифов: напрямую, ища на рифе защиты или пропитания, или косвенно – охотясь на те виды, которые ищут защиты или пропитания. Такое коэволюционное объединение работало на протяжении многих геологических эпох. Сейчас исследователи считают, что антропоцен ему не пережить. “Возможно, рифы станут первой большой экосистемой современной эпохи, которая падет жертвой экологического вымирания[63]”, – заявили недавно трое британских ученых89. Некоторые считают, что рифы доживут до конца столетия, другие же отводят им еще меньше времени. В статье, опубликованной в журнале Nature, бывший руководитель исследовательской станции на острове Уан-Три Уве Хёх-Гульдберг предсказал, что если нынешние тенденции сохранятся, то примерно к 2050 году туристы, приезжающие на Большой Барьерный риф, увидят лишь “быстро рассыпающиеся груды обломков”90.
* * *
Можно сказать, что на Уан-Три я попала случайно. Изначально я планировала остаться на острове Херон, где располагается более крупная исследовательская станция, а также роскошный курорт. На Хероне я собиралась стать свидетельницей ежегодного массового полового размножения коралловых полипов[64], а также понаблюдать за тем, что в многочисленных разговорах по “Скайпу” мне описывали как эпохальный эксперимент по закислению океана. Ученые из Квинслендского университета строили хитроумный плексигласовый мезокосм, благодаря которому они смогли бы управлять уровнем CO2 на небольшом участке рифа, при этом позволяя различным существам, зависящим от рифа, вплывать туда и выплывать. Изменяя pH внутри мезокосма и наблюдая, что происходит с кораллами, исследователи хотели сделать соответствующие прогнозы о рифе в целом. Я прибыла на остров Херон как раз вовремя, чтобы увидеть размножение коралловых полипов – подробнее расскажу позже, – однако эксперимент сильно отставал от графика и мезокосм все еще был в разобранном состоянии. Вместо рифа будущего можно было лицезреть лишь кучку взволнованных аспирантов, склонившихся над паяльниками в лаборатории.
Размышляя, что же мне делать дальше, я услышала о другом эксперименте с кораллами и закислением океана, проводящемся на острове Уан-Три, который в масштабах Большого Барьерного рифа находится совсем близко. Спустя три дня – поскольку между островами нет регулярного сообщения – мне удалось найти судно и добраться до места.
Команду на острове Уан-Три возглавлял Кен Калдейра, специалист в области наук об атмосфере. Считается, что именно Калдейра, сотрудничающий со Стэнфордским университетом, ввел термин “закисление океана”. Он заинтересовался этой темой в конце 1990-х годов, когда его пригласили работать над неким проектом для министерства энергетики. Министерство хотело знать, каковы будут последствия, если собирать углекислый газ из дымовых труб и спускать глубоко в море. Почти никаких работ по моделированию того, как выбросы углерода влияют на океаны, тогда еще не проводилось. Калдейра решил рассчитать, насколько могло бы измениться значение pH океана в результате глубоководного выброса, а затем сравнить этот результат с текущим объемом закачивания CO2 в атмосферу с учетом его поглощения поверхностными водами. В 2003 году он представил итоги своей работы на рассмотрение редакционной коллегии журнала Nature. Та посоветовала ему опустить обсуждение глубоководных выбросов, поскольку результаты расчетов, касающихся обычного выброса CO2 в атмосферу, оказались просто ошеломляющими. Калдейра опубликовал первую часть своей статьи с подзаголовком “В ближайшие столетия океаны закислятся больше, чем за последние триста миллионов лет”91.
“Если ничего не изменится, к середине века все будет выглядеть довольно мрачно”, – сказал он спустя несколько часов после моего прибытия на Уан-Три. Мы сидели за видавшим виды деревянным столиком, глядя на поразительную синеву Кораллового моря. Откуда-то доносились крики большой и шумной стаи местных крачек. Калдейра помолчал. “Точнее, все уже выглядит мрачно”.
У Калдейры, которому сейчас за пятьдесят, курчавые каштановые волосы, мальчишеская улыбка и манера говорить, повышая интонацию к концу предложения, из-за чего часто кажется, что он задает вопрос, даже когда это не так. До того как посвятить себя исследованиям, он разрабатывал программное обеспечение на Уолл-стрит. Одним из его клиентов была Нью-Йоркская фондовая биржа, для которой он написал компьютерную программу для выявления инсайдерских сделок. Программа работала хорошо, однако через какое-то время Калдейра пришел к мысли, что биржа на самом деле не особенно заинтересована в поимке нечистых на руку инсайдеров, и решил сменить профессию.
В отличие от других специалистов в области наук об атмосфере, которые концентрируют свое внимание на каком-то одном аспекте системы, Калдейра всегда работает над четырьмя или пятью различными проектами. Особенно ему нравятся провокационные расчеты, приводящие к неожиданным результатам; к примеру, однажды он рассчитал, что, если вырубить все леса в мире и заменить их пастбищами, это приведет к небольшому похолоданию (пастбища светлее лесов, поэтому поглощают меньше солнечного света). Другие его расчеты показывают: чтобы поспевать за нынешним темпом изменения температуры, растения и животные были бы вынуждены мигрировать в направлении полюсов со скоростью примерно десять метров в день, или что одна молекула CO2, образующаяся при сгорании ископаемого топлива, сможет за время своей жизни в атмосфере поглотить в сотню тысяч раз больше тепла, чем высвободилось при ее образовании.
Жизнь на Уан-Три для Калдейры и его команды вращалась вокруг приливов и отливов. За час до первого отлива дня, а затем через час после него кто-то из ученых должен был отобрать образцы воды на участке DK-13, носящем такое название потому, что австралийский исследователь Дональд Кинзи, обнаруживший это место, обозначил его своими инициалами. Чуть больше чем через двенадцать часов процесс повторялся – и так от одного отлива до следующего. Эксперимент был довольно прост; идея состояла в том, чтобы измерить различные параметры воды, которые Кинзи измерил еще в 1970-х годах, затем сравнить оба набора данных и попытаться определить, как изменился уровень кальцификации на рифе за прошедшие десятилетия. При свете дня до участка DK-13 разрешалось ходить поодиночке. В темноте же, принимая во внимание тот факт, что “никто не услышит твоих криков”, предписывалось отправляться за образцами по двое.
В мой первый вечер на Уан-Три отлив наступил в 20:53. Идти отбирать пробы после отлива должен был Калдейра, и я вызвалась пойти с ним. Примерно в девять вечера, взяв полдюжины емкостей для образцов, пару фонариков и портативный GPS-навигатор, мы выдвинулись в путь.
От исследовательской станции до DK-13 около полутора километров пешего хода. Маршрут, уже записанный кем-то в память GPS-навигатора, вел вокруг южной оконечности острова, через гладкую полосу обломков пород, которую прозвали “водорослевой дорогой”, и затем выводил на сам риф.
Поскольку коралловые полипы любят свет, но не могут долго оставаться на воздухе, они стремятся вырасти вверх до уровня воды при отливе, а затем разрастаются вширь. В результате риф становится более или менее плоским – как ряд парт, расставленных так, что после уроков ученики могут перепрыгивать с одной на другую. Коричневатая поверхность рифа близ Уан-Три была хрупкой, и на исследовательской станции ее называли “корочкой пирога”. Она зловеще хрустела под ногами. Калдейра предостерег меня, что, если я провалюсь, несдобровать рифу, но пуще того – моим голеням. Я сразу вспомнила еще одну надпись на стене станции – “НЕ ВИДАТЬ ДОБРА ОТ КОРОЧКИ ПИРОГА”.
Ночь была нежной и за пределами лучей света от наших фонариков абсолютно непроглядной. Но даже в темноте было очевидно, что жизнь на рифе кипит. Мы прошли мимо нескольких головастых черепах, пережидавших отлив с явно скучающим видом. Видели ярко-синюю морскую звезду, зебровых акул, оказавшихся на мели в литоральных лужах, и красноватых осьминогов, изо всех сил старавшихся слиться с рифом. Почти через каждый метр нам приходилось перешагивать гигантских моллюсков[65], и казалось, что они поглядывают на нас, ухмыляясь ярко накрашенными губами (в складках мантии этих моллюсков обитают пестрые симбиотические водоросли). Полоски песка между группами кораллов были усеяны морскими огурцами, которые, несмотря на свое название, относятся к животным – они близкие родственники морских ежей. На Большом Барьерном рифе морские огурцы имеют размеры не огурца, а диванного валика. Из любопытства я решила поднять одного из них. Он был чернильно-черным, длиной около шестидесяти сантиметров. На ощупь – как бархат, покрытый слизью.
После нескольких неверных поворотов и ряда остановок, во время которых Калдейра пытался сфотографировать осьминогов своей водонепроницаемой камерой, мы наконец дошли до DK-13. Там не было ничего, кроме желтого буя и какого-то высокочувствительного оборудования, веревкой привязанного к рифу. Я посмотрела назад, где, по моим представлениям, должен был находиться остров, но никакого острова или хоть какой-нибудь земли не было видно. Мы сполоснули емкости для проб, наполнили их морской водой и пошли обратно. Темнота стала еще гуще. Звезды сияли так ярко, будто висели прямо над головой. На мгновение я почувствовала, что понимаю, каково было исследователю вроде Кука очутиться в таком месте, на самом краю мира.
Коралловые рифы растут на внушительной полосе, опоясывающей Землю вдоль экватора, – от 30° северной широты до 30° южной. Второй по величине риф после Большого Барьерного находится недалеко от побережья Белиза. Обширные коралловые рифы есть в тропической части Тихого океана, Индийском океане и Красном море, а множество рифов поменьше – на Карибах. Поэтому весьма любопытно, что первое доказательство разрушительной силы CO2, способной убить рифы, пришло из Аризоны – из замкнутого и предположительно самодостаточного мира, известного как “Биосфера-2”.
“Биосфера-2”, застекленное сооружение площадью один гектар, по форме напоминающее зиккурат, было построено в конце 1980-х годов одной частной компанией, щедро финансировавшейся миллиардером Эдвардом Бассом. Цель проекта состояла в том, чтобы показать, как жизнь на Земле – в “Биосфере-1” – может быть воссоздана, скажем, на Марсе. Сооружение включало в себя участки “тропический лес”, “пустыня”, “сельскохозяйственная зона” и искусственный “океан”. Первая группа обитателей “Биосферы-2”, четверо мужчин и четыре женщины, жили в этом замкнутом пространстве два года. Они сами выращивали себе всю пищу и дышали только рециркулирующим воздухом. Тем не менее проект был признан провалившимся. Биосферяне бóльшую часть времени испытывали голод и, что хуже, утратили контроль над своей искусственной атмосферой. Предполагалось, что в различных “экосистемах” проекта разложение, при котором поглощается кислород и выделяется углекислый газ, будет уравновешиваться фотосинтезом, характеризующимся обратными процессами. По причинам, связанным в основном со степенью обогащенности почвы, помещенной в “сельскохозяйственную зону”, процессы разложения взяли верх. Уровень кислорода внутри сооружения резко упал, и у биосферян развилось некое подобие горной болезни. В то же время стремительно выросла концентрация углекислого газа. В итоге она достигла 3000 частей на миллион – примерно в восемь раз выше значения снаружи.
Проект “Биосфера-2” официально свернули в 1995 году, и управление зданием перешло Колумбийскому университету. Зона “океан” – резервуар размером с олимпийский плавательный бассейн – к тому времени находилась в плачевном состоянии: почти вся рыба погибла, а коралловые полипы еле-еле держались. Морскому биологу Крису Лэнгдону было поручено придумать, какое полезное исследование можно провести с резервуаром. Для начала он задумал восстановить нормальный химический состав воды.
Как и следовало ожидать, учитывая высокое содержание CO2 в воздухе, pH “океана” был низким. Лэнгдон попытался исправить это, однако продолжали происходить какие-то странности. Желание разобраться, в чем дело, превратилось для биолога в своеобразную одержимость. Через некоторое время Лэнгдон продал свой дом в Нью-Йорке и переехал в Аризону, чтобы иметь возможность экспериментировать с “океаном” постоянно.
Хотя эффекты закисления обычно выражаются в терминах pH, существует и другой, не менее – а для многих организмов даже более – важный показатель того, что происходит: изменение такого параметра морской воды (с довольно громоздким названием), как уровень насыщения карбонатом кальция или уровень насыщения арагонитом. (Карбонат кальция в природе образует две модификации с разной кристаллической структурой – кальцит и арагонит[66]. Коралловые полипы производят преимущественно арагонит, он лучше растворим в воде.) Уровень насыщения определяется сложной химической формулой, но по сути – концентрацией ионов кальция и карбонат-ионов, плавающих вокруг. При растворении CO2 в воде образуется угольная кислота (H2CO3), которая оперативно “съедает” карбонат-ионы, тем самым понижая уровень насыщения.
Когда Лэнгдон приступил к работе в “Биосфере-2”, среди морских биологов преобладало мнение, будто для кораллов уровень насыщения не слишком важен, пока он остается выше 1 (если он оказывается ниже 1, вода становится “ненасыщенной” – и карбонат кальция растворяется). Однако Лэнгдон собственными глазами убеждался, что кораллам действительно важен уровень насыщения – и даже очень. Чтобы проверить свою гипотезу, он начал проводить незамысловатые, хотя и потребовавшие немало времени измерения. Он решил менять условия в “океане”, а небольшие колонии коралловых полипов, прикрепленные к маленьким плиткам, – периодически доставать из воды и взвешивать. Если колония набирала вес, это означало, что она растет – прибавляя в массе за счет кальцификации. Эксперимент занял больше трех лет и включал свыше тысячи измерений. Они показали более или менее линейную корреляцию между скоростью роста кораллов и уровнем насыщения воды. Кораллы росли быстрее всего при уровне насыщения арагонитом, равным 5, медленнее – при значении 4 и еще медленнее – при 3. При уровне 2 они практически прекращали строительную работу, словно бастующие рабочие. В искусственном мире “Биосферы-2” выводы, следующие из этого открытия, представляли определенный интерес. Но в реальном мире – в “Биосфере-1” – они вызывали немалое беспокойство.
До промышленной революции на всех основных рифах мира уровень насыщения воды арагонитом находился между 4 и 5. В наши дни на планете почти не осталось мест с уровнем выше 4, а если нынешний объем выбросов сохранится, к 2060 году не останется участков с уровнем выше 3,5, а к 2100 году – выше 3. По мере того как уровень насыщения снижается, количество энергии, требующейся для кальцификации, растет, а темпы самой кальцификации замедляются. В итоге уровень насыщения может упасть так низко, что коралловые полипы вообще перестанут кальцифицироваться, однако в беде они окажутся еще задолго до этого. Дело в том, что в реальном мире рифы постоянно поедаются и разрушаются рыбами, морскими ежами и роющими червями. Кроме того, их беспрерывно изнашивают волны и шторма, как тот, благодаря которому возник остров Уан-Три. Поэтому для того, чтобы выстоять, рифы вынуждены все время расти.
“Это как дерево с жучками, – сказал мне однажды Лэнгдон. – Оно должно расти очень быстро, просто чтобы восполнять разрушения”.
Лэнгдон опубликовал свои результаты в 2000 году. На тот момент многие морские биологи отнеслись к его выводам скептически – по-видимому, во многом из-за его связи с дискредитировавшим себя проектом “Биосфера-2”. Следующие два года Лэнгдон провел, переделывая свои эксперименты, на сей раз с еще более строгим контролем. Результаты были те же. Тем временем другие ученые начали проводить собственные изыскания. Их результаты подтвердили открытие Лэнгдона: рифообразующие коралловые полипы чувствительны к уровню насыщения. Сейчас это показано уже в десятках лабораторных исследований, а также на настоящем рифе. Недавно Лэнгдон с коллегами провел эксперимент на участке рифа рядом с вулканическими кратерами у берегов Папуа – Новой Гвинеи. В этом эксперименте, воспроизводящем работу Холл-Спенсера у Кастелло Арагонезе, естественным источником закисления также служили подводные фумаролы92. По мере того как уровень насыщения воды падал, снижалось разнообразие коралловых полипов. Кораллиновые водоросли исчезали даже еще резче – зловещий знак, поскольку они играют роль своеобразного клея для рифов, скрепляя структуру в единое целое. Между тем морские травы процветали.
“Несколько десятков лет назад я бы и сам счел нелепым предположение, будто рифы могут иметь ограниченный срок жизни”, – писал Джон Эдвард Норвуд Верон, бывший главный научный сотрудник Австралийского института морских наук93. “И вот теперь я, имевший честь провести самые продуктивные годы своей научной жизни среди богатств и чудес подводного мира, со всей ясностью понимаю, что им уже не смогут порадоваться дети наших детей”. Недавнее исследование, проведенное командой австралийских ученых, показало, что коралловое покрытие[67] Большого Барьерного рифа уменьшилось на 50 % всего лишь за последние тридцать лет94.
Незадолго до своей поездки на Уан-Три Калдейра и некоторые другие участники его команды опубликовали статью, где оценивалось будущее кораллов на основании как результатов компьютерного моделирования, так и данных, собранных в естественных условиях. Вывод гласил, что при сохранении нынешнего объема выбросов в течение следующих лет пятидесяти “все коралловые рифы прекратят расти и начнут растворяться”95.
В перерывах между походами на риф для сбора образцов ученые на Уан-Три часто плавали с маской. Их излюбленное место находилось примерно в километре от берега, на противоположной участку DK-13 стороне острова. Чтобы добраться туда, нужно было уговорить Грейама, руководителя станции, дать лодку, на что он шел крайне неохотно и не без ворчания.
Некоторые ученые, кто нырял всюду – на Филиппинах, в Индонезии, на Карибах и в южной части Тихого океана, – сказали мне, что нет большего удовольствия, чем плавать с маской близ Уан-Три. И этому легко поверить. Когда я впервые спрыгнула с лодки и посмотрела на бурную жизнь внизу, она показалась мне чем-то нереальным, словно я попала в подводный мир Жака Ива Кусто. За косяками маленьких рыбешек плыли косяки рыб побольше, а за теми следовали акулы. Парили огромные скаты, проплывали черепахи размером с ванну. Я пыталась запомнить все, что видела вокруг, но это походило на попытки зафиксировать сон. Каждый раз после плавания с маской я часами просматривала огромный том под названием “Рыбы Большого Барьерного рифа и Кораллового моря” (Fishes of the Great Barrier Reef and Coral Sea). Среди рыб, вроде бы опознанных мною, были: тигровые, желтые и темноперые серые акулы, однорогие рыбы-носороги, кузовки, яркие рыбы-ангелы, рыбы-клоуны, хромисы рифовые, рыбы-попугаи, угрюмые сладкогубы, сельди, желтоперые тунцы, большие корифены, прионуры, сиганы, талассомы и губанчики.
Рифы часто сравнивают с тропическими лесами, и в том, что касается разнообразия жизни, такое сравнение вполне уместно. Выберите почти любую группу живых существ – численность просто поражает! Австралийский исследователь однажды разломал кусок коралла размером с волейбольный мяч и обнаружил, что внутри него живет более тысячи четырехсот многощетинковых червей, принадлежащих ста трем различным видам. Совсем недавно американские исследователи вскрывали глыбы кораллов в поисках ракообразных; на одном квадратном метре кораллов, собранных около острова Херон96, они нашли представителей свыше ста видов, а в образце сходного размера из северной части Большого Барьерного рифа видов оказалось более ста двадцати. По разным оценкам, на коралловых рифах проводят хотя бы часть своей жизни от 0,5 до 9 миллионов различных видов.
Еще поразительнее это многообразие выглядит с учетом условий. В тропических водах мало таких биогенных элементов, как азот и фосфор, совершенно необходимых большинству форм жизни (это связано с так называемой термической структурой вод в океане, и именно поэтому тропические моря часто настолько прозрачны). Соответственно, моря в тропиках должны бы быть необитаемыми – водным эквивалентом пустынь. Получается, рифы – не просто подводные тропические леса, это тропические леса в морской Сахаре. Первым, кто озадачился этим несоответствием, стал Дарвин, и с тех пор оно известно как “парадокс Дарвина”. Парадокс этот так и не был полностью разрешен, однако один из ключей к разгадке может быть связан с рециркуляцией веществ. Рифы – а вообще-то рифовые обитатели – выработали невероятно эффективную систему, при которой питательные вещества передаются от одной группы организмов к другой, словно на гигантском базаре. Коралловые полипы – основные участники этой сложной системы обмена, и они же обеспечивают платформу, которая делает такой обмен возможным. Без них была бы лишь водяная пустыня.
“Коралловые полипы создают архитектуру экосистемы, – сказал мне Калдейра. – Понятно, что, если исчезнут они, исчезнет и вся экосистема”.
Один из израильских ученых, Джек Сильверман, сформулировал это так: “Если у вас нет здания, куда же деваться жильцам?”
В прошлом рифы возникали и исчезали несколько раз, и их остатки обнаруживаются в самых неожиданных местах. К примеру, рифовые руины триасового периода сейчас возвышаются на две тысячи метров над уровнем моря в Австрийских Альпах. Горы Гуадалупе в Западном Техасе – это то, что осталось от рифов пермского периода и поднялось в результате тектонических процессов, протекавших около 80 миллионов лет назад. Рифы силурийского периода можно увидеть в Северной Гренландии.
Все эти древние рифы состоят из известняка, однако существа, создавшие их, были совершенно разными. Среди организмов, которые строили рифы в меловом периоде, были гигантские двустворчатые моллюски – рудисты. В силуре рифы строились в том числе губкоподобными существами строматопорами. В девоне их создавали коралловые полипы: ругозы, напоминавшие по форме рог, а также табуляты, похожие на пчелиные соты. И ругозы, и табуляты – очень дальние родственники современных мадрепоровых коралловых полипов, и оба древних отряда исчезли в ходе великого вымирания конца пермского периода. То вымирание отмечено в геологической летописи в том числе как “рифовый разрыв” – период продолжительностью примерно десять миллионов лет, когда рифов не было вообще. Рифовые разрывы также возникали после вымираний в позднем девоне и позднем триасе, причем в каждом из этих случаев потребовались миллионы лет для того, чтобы строительство рифов возобновилось. Такая корреляция побудила некоторых ученых утверждать, что образование рифов, по-видимому, чрезвычайно чувствительно к изменениям окружающей среды. Еще один парадокс, ведь сооружение рифов – также один из древнейших видов деятельности на Земле.
Конечно, закисление океана – далеко не единственная угроза для рифов. В некоторых частях света они, вероятно, исчезнут раньше, чем их уничтожит закисление. Перечень опасностей включает в себя в том числе чрезмерный вылов рыбы, способствующий росту водорослей, конкурирующих с кораллами; сельскохозяйственные стоки, также стимулирующие рост водорослей; вырубку лесов, ведущую к отложению ила и снижению прозрачности воды; рыболовство с использованием динамита, разрушительный эффект которого очевиден сам по себе. Все эти стрессовые воздействия повышают уязвимость кораллов перед патогенами. Так называемая болезнь белых полос – это бактериальная инфекция, при которой (как подсказывает название) на коралле образуется полоса белой некротической ткани. От нее особенно страдают два вида карибских коралловых полипов – Acropora palmata (лосерогие кораллы) и Acropora cervicornis (оленерогие), до недавнего времени основные строители рифов в этом регионе. Болезнь оказала настолько разрушительное действие на оба вида, что Международный союз охраны природы уже причислил их к находящимся на грани исчезновения. В то же время коралловое покрытие в Карибском море за последние десятилетия сократилось почти на 80 %.
И наконец, самая, пожалуй, большая угроза кораллам – изменение климата, “не менее злодейский близнец” закисления океана.
Тропическим рифам необходимо тепло, однако, когда температура воды поднимается слишком высоко, начинаются проблемы. Причина в том, что рифообразующие коралловые полипы ведут двойную жизнь. Каждый полип – это животное и в то же время хозяин для микроскопических растений, известных как зооксантеллы. В процессе фотосинтеза они продуцируют углеводы, а полипы собирают эти углеводы, словно фермеры – урожай. Как только температура воды поднимается выше определенной отметки – она разная в зависимости от местоположения и от конкретного вида, – симбиотические отношения между кораллами и их “жильцами” разлаживаются. Зооксантеллы начинают производить опасные концентрации радикалов кислорода, а полипы отвечают, отчаянно и зачастую губительно для себя, изгнанием симбионтов. Без зооксантелл, которые придают коралловым полипам их фантастические цвета, те начинают белеть – это явление стали называть обесцвечиванием коралловых полипов. Обесцвеченные колонии перестают расти, а если урон достаточно серьезен – гибнут. Масштабное обесцвечивание происходило в 1998, 2005 и 2010 годах, и ожидается, что частота и интенсивность подобных событий будут увеличиваться по мере роста среднемировой температуры.
Исследование более восьмисот видов рифообразующих коралловых полипов, результаты которого были опубликованы в журнале Science в 2008 году, показало, что треть из них находится под угрозой вымирания – в основном из-за повышения температуры воды в океане. Так что мадрепоровые коралловые полипы стали одной из находящихся в наибольшей опасности групп на планете: в исследовании было отмечено, что доля видов коралловых полипов, причисленных к категории “под угрозой вымирания”, больше, чем доля таких видов для “большинства наземных групп животных, за исключением земноводных”97.
Острова – это миры в миниатюре или, как заметил писатель Дэвид Кваммен, “как бы пародия на все многообразие природы”. Исходя из такого определения, Уан-Три – это пародия на пародию. Размеры острова – всего-то около двухсот метров в длину и ста пятидесяти в ширину, однако на нем поработали сотни ученых, нередко привлекаемых именно его миниатюрностью. В 1970-е годы трое австралийских исследователей взялись провести полную биологическую перепись обитателей острова. Большую часть года на протяжении трех лет они жили в палатках и заносили в каталог каждый вид растений и животных, который им только удавалось найти, включая: деревья (3 вида), травы (4 вида), птиц (29 видов), двукрылых (90 видов) и клещей (102 вида). Ученые обнаружили, что на острове не водится никаких млекопитающих, конечно, если не считать самих ученых и свиньи, которую однажды привезли и держали в клетке, пока не зажарили. Монография с результатами этого исследования насчитывала четыре сотни страниц. Она начиналась со стихотворения, восхваляющего прелесть крошечного островка:
Остров дремлет, Объятый мерцаньем кольца Бирюзовой и синей воды. Охраняя сокровище от биения волн О кайму из кораллов 98.В мой последний день пребывания на Уан-Три плавания с маской не планировалось, поэтому я решила пройтись по острову, что должно было занять минут пятнадцать. Довольно скоро я встретила Грейама, руководителя станции. Мускулистый мужчина с ярко-голубыми глазами, рыжеватыми волосами и длинными свисающими усами, Грейам казался мне идеально подходящим на роль пирата. Дальше мы пошли, беседуя, вместе, и по мере нашего продвижения Грейам постоянно поднимал какой-то пластиковый мусор, принесенный волнами на Уан-Три: крышку от бутылки, обрывок изоляционной ленты, кусок трубы из поливинилхлорида. У Грейама была целая коллекция таких плавучих обломков, которую он выставлял в проволочной клетке. По его словам, цель выставки заключалась в том, чтобы продемонстрировать посетителям, “что творит наша раса”.
Грейам предложил показать мне, как работает их исследовательская станция, и мы, обойдя хижины и лаборатории, направились к центральной части острова. Был разгар брачного сезона, и повсюду расхаживали и кричали птицы: бурокрылые крачки, с черными верхушками голов и белыми грудками, бенгальские крачки, серые с черно-белыми головами, а также черные глупые крачки с белыми пятнами на головах. Я поняла, почему людям не составляло никакого труда убивать гнездящихся морских птиц: крачки, казалось, ничего не боялись и буквально путались под ногами, так что нам приходилось следить за тем, чтобы не наступить на них.
Грейам показал мне солнечные батареи, снабжающие исследовательскую станцию электричеством, и емкости для сбора дождевой воды. Емкости стояли на высокой платформе, и с нее мы могли видеть верхушки растущих на острове деревьев. По моим очень грубым расчетам, их было около пятисот. Казалось, будто они растут прямо из горной породы, как флагштоки. Грейам обратил мое внимание на бурокрылую крачку, которая долбила клювом птенца черной глупой крачки рядом с платформой. Вскоре птенец был мертв. “Она не станет его есть”, – сказал Грейам. И оказался прав: птица ушла, а очень скоро птенца унесла чайка. Грейам философски отнесся к этому происшествию, разные варианты которого он наверняка наблюдал уже множество раз. Такое поведение птиц позволяло сохранять баланс между их численностью и количеством пищи на острове.
Вечером того дня начиналось празднование Хануки. В честь праздника кто-то вырезал из ветви дерева менору и прикрепил к ней клейкой лентой две свечи. Зажженный на пляже самодельный семисвечник отбрасывал пляшущие тени на коралловый щебень. На ужин подали мясо кенгуру, показавшееся мне на удивление вкусным, но, как заметили израильтяне, определенно некошерное.
Позднее я отправилась на участок DK-13 с ученым по имени Кенни Шнайдер. К тому времени прилив продолжался уже более двух часов, и мы со Шнайдером должны были прибыть на место за несколько минут до полуночи. Шнайдер уже ходил на DK-13, однако все еще не вполне освоил работу с GPS-навигатором. Примерно на полпути мы поняли, что сбились с маршрута. Вскоре вода была нам уже по грудь. Идти стало гораздо тяжелее, а прилив все продолжался. Ворох тревожных мыслей проносился в моей голове. Сумеем ли мы доплыть обратно до станции? Поймем ли вообще, в каком направлении плыть? Или же наконец разрешим загадку “унесения на Фиджи”?
Намного позже, чем планировалось, мы со Шнайдером заметили желтый буй на участке DK-13. Мы наполнили емкости для проб и отправились в обратный путь. Меня вновь поразили необыкновенная яркость звезд и чернота небосвода. И снова, как уже несколько раз бывало на Уан-Три, я почувствовала абсурдность своего положения. Я приехала на Большой Барьерный риф, чтобы написать о масштабах воздействия человека на окружающую среду, а между тем мы со Шнайдером казались крайне незначительными в этой первозданной темноте.
Подобно евреям, коралловые полипы Большого Барьерного рифа следуют лунному календарю. Раз в год, после полнолуния в начале южнополушарного лета, они участвуют в массовом половом размножении – своего рода синхронизированном групповом сексе. Мне рассказывали, что это зрелище, которое никак нельзя пропустить, так что я планировала свою поездку в Австралию соответствующим образом.
В основном кораллы чрезвычайно целомудренны и воспроизводятся бесполым способом – почкованием. Так что ежегодное половое размножение – это редкая возможность перетасовать генетический материал. Большинство участников этого действа – гермафродиты, то есть один и тот же полип производит и яйцеклетки, и сперматозоиды, собранные вместе в небольшие удобные связки. Никто точно не знает, каким образом коралловые полипы синхронизируют выброс в воду половых клеток, но считается, что они реагируют на освещенность и температуру.
В эту знаменательную ночь – массовое половое размножение всегда происходит после заката – коралловые полипы начинают готовиться к выбросу гамет, что можно сравнить с подготовкой к родам. Связки яйцеклеток и спермиев начинают выпячиваться из полипов, и вся колония покрывается словно бы мурашками. Австралийские исследователи на острове Херон сконструировали своеобразный инкубатор, позволяющий изучать это явление. Они собрали колонии некоторых самых распространенных на рифе видов, включая Acropora millepora (один из ученых сказал мне, что этот вид – “подопытная крыса” в мире кораллов), и стали выращивать их в специальных резервуарах. Acropora millepora образует колонию, напоминающую скопление крошечных рождественских елок. Никому не позволялось приближаться к резервуарам с фонариками, поскольку их свет мог нарушить работу внутренних часов коралловых полипов. Вместо этого все ходили со специальными красными налобными фонарями. Одолжив такой фонарь, я смогла увидеть связки яйцеклеток и спермиев – розовые, похожие на стеклянные бусины, – сдавленные прозрачными тканями полипов.
Руководитель команды, исследовательница Селина Уорд из Квинслендского университета, суетилась вокруг резервуаров с коралловыми полипами, словно акушерка, готовящаяся принимать роды. Она сказала мне, что в каждой связке содержится примерно от двадцати до сорока яйцеклеток и тысячи сперматозоидов. Вскоре после выброса в воду связки разваливаются, высвобождая отдельные гаметы. Если гаметам удается найти партнеров, образуются крошечные розовые личинки. Сразу же после того, как связки гамет окажутся выпущенными в воду, Уорд планировала собрать их и подвергнуть закислению разной степени. Она исследовала влияние закисления на половое размножение коралловых полипов последние несколько лет, и ее результаты показали, что пониженный уровень насыщения морской воды отрицательно сказывается на процессе оплодотворения. Уровень насыщения также влияет на развитие личинок и их оседание, когда они опускаются в воде, прикрепляются к чему-нибудь твердому и начинают создавать новые колонии коралловых полипов.
Acropora millepora в процессе массового полового размножения коралловых полипов
“В целом все наши результаты пока неутешительны, – сказала мне Уорд. – Если мы продолжим в том же духе, немедленно и существенно не уменьшив объемы выбросов углекислого газа, то, думаю, в будущем столкнемся с ситуацией, когда останутся разве что разрозненные клочки коралловых полипов”.
Позднее той же ночью некоторые другие исследователи на острове Херон (включая аспирантов, пытавшихся спаять конструкции мезокосма, не сделанного в срок) узнали, что коралловые полипы Уорд готовятся к половому размножению, и организовали ночное плавание с масками. Это было гораздо тщательнее продуманное мероприятие, чем погружения на Уан-Три. Для него требовались гидрокостюмы и подводные фонари. Снаряжения для одновременного погружения всех желающих не хватило, поэтому мы разделились на две группы. Я оказалась в первой и вначале была разочарована, поскольку казалось, что в воде ничего не происходит. Однако через некоторое время я заметила несколько коралловых полипов, выпускавших связки гамет. И почти сразу то же стали проделывать бессчетное количество других полипов. Разворачивающаяся перед моими глазами картина напоминала снежную бурю в Альпах, только наоборот. Вода наполнилась потоками розовых бусинок, всплывающих к поверхности, словно снегом, падающим вверх. Вдруг появились какие-то радужные черви и стали поедать гаметы, переливаясь феерическими цветами, а на поверхности начала образовываться розовато-лиловая пленка. Когда мое время закончилось, я с сожалением выбралась из воды и передала свой фонарь следующей группе.
Глава 8 Лес и деревья Alzatea verticillata
“Деревья великолепны, – рассуждал Майлс Силман, – очень красивы. Правда, они требуют чуть больше понимания. Вы входите в лес и сначала просто отмечаете: «Какое огромное дерево!» или «Какое высокое дерево!», но, когда задумываетесь об истории их жизни, обо всем, что привело дерево именно в данное место, это действительно потрясает. Примерно как с вином: стоит вам начать в нем разбираться – и оно становится интереснее”. Мы стояли на вершине горы высотой 3600 метров в Андах восточной части Перу, где вообще-то не было никаких деревьев – лишь кустарник и, что довольно неожиданно, около дюжины коров, подозрительно на нас косившихся. Солнце садилось, а вместе с ним опускалась и температура, однако вид с горы в вечернем оранжевом зареве был необыкновенным. К востоку тянулась лента реки Альто-Мадре-де-Дьос, впадающей в реку Бени, которая, в свою очередь, впадает в реку Мадейру, а та, наконец, – в Амазонку. Перед нами простирался национальный парк “Манý”, одна из “горячих точек” мира по биоразнообразию.
“Здесь можно увидеть представителей одного из каждых девяти видов птиц, существующих на планете, – сказал мне Силман. – Только на наших участках растет более тысячи видов деревьев”.
Силман, я и несколько его перуанских студентов и аспирантов пару минут назад завершили подъем на вершину горы, отправившись в путь еще утром из города Куско. По прямой расстояние до пункта назначения составляет всего-то километров восемьдесят, однако поездка по серпантину грунтовых дорог заняла у нас целый день. Дороги вились мимо деревень с глинобитными хижинами, полей, расположенных под невероятными углами, и женщин в ярких юбках и коричневых фетровых шляпах, несущих детей в тряпичной перевязи за спиной. В самом крупном из городков мы остановились, чтобы перекусить и купить припасы для четырехдневного похода: хлеб, сыр и большой пакет листьев коки, которые обошлись Силману в пересчете на американские деньги примерно в два доллара.
Стоя на вершине горы, Силман сообщил, что тропой, которой мы будем спускаться завтра утром, часто ходят наверх торговцы кокой. Сocaleros носят листья из долин, где их выращивают, в высокогорные деревни в Андах (вроде тех, мимо которых мы проезжали), и тропа используется в этих целях еще со времен конкистадоров.
Силман преподает в Университете Уэйк-Форест и называет себя экологом леса, хотя откликается и на “эколога тропиков”, “эколога сообществ” и “специалиста по биологии охраны природы”. Свой профессиональный путь он начал с размышлений о том, каким образом возникают лесные сообщества и характерно ли для них сохранять стабильность во времени. Это привело Силмана к изучению того, как тропический климат менялся в прошлом, а затем, что вполне естественно, – как он может измениться в будущем. Полученные знания вдохновили его на то, чтобы выделить несколько лесных участков и начать следить, что на них происходит. Эти участки мы и планируем посетить. Их семнадцать, и все они находятся на разной высоте, а значит, на каждом своя среднегодовая температура. В невероятно разнообразном мире “Ману” это означает, что участки представляют собой как бы срезы кардинально отличающихся друг от друга лесных сообществ.
Участки Силмана расположены вдоль горного хребта. Участок 1 находится выше всех, на самом гребне, и поэтому имеет самую низкую среднегодовую температуру
В общепринятом представлении глобальное потепление – это в основном угроза холодолюбивым видам, что целесообразно. По мере того как мир теплеет, полюса меняются. В Арктике многолетние морские льды теперь покрывают лишь половину той площади, которую занимали тридцать лет назад, а еще через три десятилетия они вполне могут исчезнуть полностью. Очевидно, что любому животному, зависящему от льда, – скажем, кольчатым нерпам или полярным медведям – при его таянии приходится очень трудно.
Однако влияние глобального потепления окажется не менее серьезным – а согласно Силману, даже более значительным – в тропических широтах. Причины тут несколько запутаннее, однако связаны они с тем фактом, что в тропиках живет большинство биологических видов.
* * *
Представьте себе на минуту следующее (чисто гипотетическое) путешествие. Одним приятным весенним днем вы стоите на Северном полюсе (пока на нем все еще много льда, так что риска провалиться нет). Вы начинаете идти, лучше всего – на лыжах. Поскольку есть только одно направление, в котором можно двигаться с Северного полюса, – на юг, – вам придется так и поступить, но можно выбрать любой из трехсот шестидесяти меридианов. Допустим, вы, как и я, живете в округе Беркшир, штат Массачусетс, и направляетесь в Анды, поэтому решаете двигаться по 73-му меридиану западной долготы. Вы идете на лыжах все дальше и дальше и наконец, удалившись примерно на восемьсот километров от полюса, достигаете острова Элсмир. Разумеется, до сих пор вам не встретилось ни одного дерева или любого другого наземного растения, поскольку вы путешествуете через Северный Ледовитый океан. На Элсмире вы тоже еще не увидите деревьев, по крайней мере напоминающих дерево в обычном понимании. Единственное древесное растение, растущее на острове, – арктическая ива высотой примерно по щиколотку (писатель Барри Лопес отметил, как, если долгое время бродить по Арктике, однажды понимаешь, “что ходишь над лесом”)99.
Продолжая двигаться на юг, вы пересекаете пролив Нэрса – идти на лыжах становится сложнее, но оставим это за скобками, – затем западную оконечность Гренландии, море Баффина и добираетесь до Баффиновой Земли. Там тоже нет ничего, что можно было бы назвать деревьями, хотя можно найти несколько видов стелющихся по земле, растущих группами ив. Наконец – примерно через три тысячи километров от начала путешествия – вы достигаете полуострова Унгава на севере канадской провинции Квебек. Вы по-прежнему находитесь севернее лесов, но, если пройдете дальше еще километров четыреста, окажетесь у границы тайги. Тайга Канады огромна, она занимает больше 4 000 000 км2 – около четверти всех нетронутых лесов на Земле. Однако разнообразие в таком лесу низкое. На все эти миллионы квадратных километров канадской тайги вы найдете лишь видов двадцать деревьев, включая ель черную, березу бумажную и пихту бальзамическую.
Как только вы оказываетесь на территории США, разнообразие деревьев начинает постепенно возрастать. В Вермонте вы попадаете в так называемый Восточный лиственный лес, который когда-то покрывал почти половину страны, но сейчас сохранился лишь на разрозненных участках, в основном уже как вторичный лес. В Вермонте растет около пятидесяти видов местных деревьев, в Массачусетсе – около пятидесяти пяти100. В Северной Каролине (лежащей чуть к западу от вашего пути) – уже больше двухсот видов. Хотя 73-й меридиан и не проходит через Центральную Америку, стоит отметить, что в крошечном государстве Белиз, размером со штат Нью-Джерси, произрастает около семисот местных видов деревьев.
Наш 73-й меридиан проходит по территории Венесуэлы, пересекает экватор в Колумбии, немного прорезает Перу и Бразилию и вновь оказывается в Перу. Примерно на 13° южной широты он проходит западнее лесных участков Силмана. Эти участки, общая площадь которых сравнима с площадью парка Форт-Трайон на Манхэттене, поражают разнообразием видов. Там насчитали тысячу тридцать пять видов деревьев, что примерно в пятьдесят раз больше, чем во всей тайге Канады.
И то, что справедливо для деревьев, также справедливо для птиц, бабочек, лягушек, грибов и почти любой другой группы организмов, которая только придет вам в голову (за любопытным исключением в виде тли101). Как правило, разнообразие жизни наиболее скудное на полюсах и богатейшее на низких широтах. Эта закономерность в научной литературе называется широтным градиентом разнообразия, ее отметил еще немецкий натуралист Александр фон Гумбольдт, пораженный биологическим великолепием тропиков – “зрелищем настолько же ярким, как лазурный небосвод”102.
“Зеленый ковер, который пышно цветущая Флора расстелила на поверхности Земли, соткан неодинаковым”103, – писал Гумбольдт после возвращения из Южной Америки в 1804 году. “Органическое развитие и изобилие жизни постепенно увеличиваются от полюсов к экватору”. Почему – больше двух столетий спустя все еще непонятно, хотя было предложено свыше тридцати теорий, призванных объяснить это явление.
Согласно одной из них, в тропиках потому живет больше видов, что эволюционные часы там тикают быстрее104. Подобно тому как у фермеров, живущих в низких широтах, есть возможность собирать больше урожаев в год, так и у организмов в тех краях поколения сменяются чаще. Чем больше число поколений, тем выше вероятность появления генетических мутаций. Чем выше вероятность появления мутаций, тем выше шансы, что возникнут какие-то новые виды. (Другая теория, немного отличная от этой, предполагает, что более высокие температуры внутри и снаружи организмов сами по себе вызывают повышенную частоту мутаций.)
Вторая теория утверждает, что в тропиках живет больше биологических видов оттого, что тропические виды привередливы. Согласно данной логике, важно то, что в этих широтах температуры относительно стабильны. Поэтому тропические организмы обладают сравнительно узким диапазоном температурной устойчивости, и даже небольшие изменения климата при переходе, скажем, в горы или долины могут представлять для них непреодолимый барьер (знаменитая статья на эту тему была озаглавлена “Почему перевалы в тропиках выше”105). Следовательно, популяции довольно легко оказываются изолированными друг от друга – и происходит образование новых видов.
Еще одна теория особое значение придает истории. Согласно такой точке зрения, самый существенный фактор – древний возраст тропиков. Некая разновидность тропических лесов Амазонии существовала многие миллионы лет, еще до появления самой Амазонки. Таким образом, у тропиков было предостаточно времени для того, чтобы, если угодно, поднакопить биоразнообразие. Напротив, не далее как 20 тысяч лет назад почти вся Канада, как и бóльшая часть Новой Англии, была покрыта льдом полуторакилометровой толщины. Это означает, что каждый вид дерева, произрастающий сейчас в канадских провинциях Новая Шотландия или Онтарио или в американских штатах Вермонт или Нью-Гэмпшир, – мигрант, прибывший (или вернувшийся) сюда лишь в последние несколько тысяч лет. Теорию, согласно которой разнообразие представляет собой функцию времени, впервые выдвинул соперник Дарвина – или, если хотите, “сооткрыватель” дарвиновской теории – Альфред Рассел Уоллес, заметивший, что в тропиках “эволюция ничем не была стеснена”, тогда как в районах оледенения “ей нужно было бороться с бесчисленными препятствиями”106[68].
* * *
На следующее утро мы все вылезли из своих спальных мешков рано, чтобы увидеть рассвет. За ночь из бассейна Амазонки приплыли облака, и мы наблюдали сверху, как они становятся сначала розовыми, а затем пламенно-оранжевыми. Рассвет был холодным; мы упаковали снаряжение и направились вниз по тропе. “Сорвите себе лист какой-нибудь интересной формы”, – посоветовал мне Силман, как только мы спустились в туманный лес. “Вы сможете видеть такие на протяжении нескольких сотен метров, а затем они исчезнут. Вот так. Это вся область распространения дерева”.
Силман нес шестидесятисантиметровое мачете, которым разрубал заросли. Время от времени он взмахивал им, чтобы указать на что-нибудь интересное: веточку крошечных белых орхидей с цветами не больше рисового зернышка, растение семейства вересковых с ярко-красными ягодами, паразитный кустарник с ярко-оранжевыми цветами. Один из аспирантов Силмана, Уильям Фарфан Риос, протянул мне лист размером с обеденную тарелку.
“Это новый вид”, – сказал он. Вдоль тропы Силман и его студенты обнаружили тридцать новых видов деревьев, неизвестных науке. (Только в одной этой “роще открытий” новых видов насчитывается в полтора раза больше, чем во всей канадской тайге.) Они подозревают, что здесь есть еще около трехсот видов, которые могут оказаться новыми, но так и остались официально не классифицированными. Более того, команда Силмана открыла совершенно новый род деревьев.
“Это совсем не то, что найти еще какой-нибудь дуб или гикори, – заметил Силман. – Это все равно что открыть вообще «дуб» или «гикори»”. Листья деревьев нового рода были отправлены специалисту в Калифорнийский университет в Дейвисе, однако, к сожалению, тот умер до того, как выяснил, куда следует поместить новую ветвь на таксономическом древе.
Несмотря на то что в Андах стояла зима и разгар сухого сезона, тропа была илистой и скользкой. Ее протоптали очень глубоко в горном склоне, поэтому поверхность земли находилась на уровне наших глаз. Кое-где деревья росли поперек пространства над нашими головами – и тогда канал превращался в туннель. Первый туннель, в который мы зашли, был темным, сырым, со свисающими отовсюду мелкими корешками. Другие туннели оказались длиннее и еще темнее, и даже в середине дня нам приходилось включать налобные фонари. У меня не раз возникало ощущение, будто я попала в страшную сказку.
Мы прошли Участок 1 на высоте 3450 метров не останавливаясь. На Участке 2, высота 3200 метров, недавно сошел оползень, чему Силман очень обрадовался, поскольку ему интересно было посмотреть, какие виды деревьев там теперь заселятся.
Чем ниже мы спускались, тем гуще становился лес. Деревья перестали быть просто деревьями, а превратились в целые ботанические сады, будучи покрыты папоротниками, орхидеями, бромелиями и обвиты лианами. В некоторых местах растительность была настолько густой, что почвенный настил сформировался над землей, и на нем развивались собственные растения – леса, висящие в воздухе. Почти каждый доступный лучик света и кусочек пространства оказывался кем-то захвачен, так что борьба за ресурсы была очевидно жестокой, и казалось почти возможным наблюдать естественный отбор в действии, “ежедневно и ежечасно” отслеживая “мельчайшие вариации”. (Очередная теория о том, почему в тропиках богатое разнообразие, гласит, что огромная конкуренция вынудила биологические виды сильнее специализироваться, что позволило большему числу видов сосуществовать в единой области пространства.) Я слышала голоса птиц, но только изредка могла их увидеть; трудно было разглядеть животных из-за деревьев.
Неподалеку от Участка 3 на высоте 2950 метров Силман вытащил из рюкзака пакет листьев коки. Он сам и его студенты несли какое-то, на мой взгляд, абсурдное количество тяжелых вещей: сумку яблок, сумку апельсинов, семисотстраничную книгу о птицах, девятисотстраничную книгу о растениях, айпад, бутылки с бензолом, баллончик с аэрозольной краской, круг сыра и бутылку рома. Как объяснил мне Силман, кока уменьшает тяжесть ноши, утоляет голод, облегчает боль и помогает справиться с горной болезнью. Мне не дали нести почти ничего, кроме собственного снаряжения, и тем не менее все, что могло облегчить мой рюкзак, казалось мне хорошеей идеей. Я взяла пригоршню листьев и щепотку пищевой соды (сода – или что-нибудь еще щелочное – необходима, чтобы кока возымела свое фармакологическое действие). Листья были кожистыми и пахли старыми книгами. Вскоре мои губы онемели, а боль начала стихать. Через час или два я вернулась за добавкой. (Сколько раз с тех пор я мечтала вновь ощутить в руках тот пакет с листьями!)
Вид с Участка 4
Вскоре после полудня мы дошли до небольшой мокрой поляны, где, как мне сообщили, мы будем ночевать. Это была граница Участка 4 на высоте 2700 метров. Силман и его студенты часто разбивали там лагерь, иногда на несколько недель. Поляна была покрыта бромелиевыми растениями, прижатыми к земле и какими-то обкусанными. Силман определил, что здесь побывал очковый медведь, также называемый андским, – единственный выживший представитель медвежьих в Южной Америке. Очковый медведь черный или темно-бурый, с характерными бежевыми кольцами вокруг глаз, питается в основном растениями. Раньше я как-то не осознавала, что в Андах водятся медведи, и не могла не вспомнить медвежонка Паддингтона, приехавшего в Лондон из “дремучего Перу”.
* * *
Площадь каждого из семнадцати участков Силмана – около гектара, и все они расположены вдоль горного хребта наподобие пуговиц на пальто. Участки сбегают вниз с самого гребня до бассейна Амазонки, находящегося примерно на уровне моря. На всех участках кто-то – Силман или один из его аспирантов – промаркировал каждое дерево с диаметром ствола больше десяти сантиметров. Эти деревья обмерили, определили их вид и каждому присвоили номер. На Участке 4 растет семьсот семьдесят семь таких деревьев, и они принадлежат шестидесяти различным видам. Силман со студентами готовился провести повторную перепись деревьев на участках, что заняло бы несколько месяцев. Все ранее помеченные деревья нужно было заново обмерить, а новые или, наоборот, погибшие – добавить в список или вычеркнуть. Велись долгие, почти талмудические дискуссии частично по-английски, частично по-испански о том, каким именно образом проводить эту повторную перепись. Одно из немногих обсуждений, которое мне удалось понять, касалось асимметрии. Ствол дерева не идеально цилиндрический, поэтому вы получите разные значения диаметра в зависимости от того, как расположите мерную вилку. В итоге решено было располагать ее так, чтобы неподвижная ножка касалась ствола в красной точке, нанесенной на каждом дереве краской из баллончика.
На участках Силмана каждое дерево с диаметром ствола более десяти сантиметров промаркировано
Как уже было сказано, из-за разной высоты на всех участках Силмана разная среднегодовая температура. К примеру, на Участке 4 среднее значение составляет 11,6 °C. На Участке 3, расположенном на двести пятьдесят метров выше, это 10,5 °C, а на Участке 5, находящемся настолько же ниже, – 13,3 °C. Поскольку тропические виды приспособлены к узким температурным диапазонам, такие различия в температуре приводят к тому, что деревья, в изобилии растущие на одном участке, могут полностью отсутствовать на соседнем, ниже или выше.
“Некоторые из преобладающих видов имеют самый узкий высотный диапазон, – сказал мне Силман. – Получается, то, что позволяет им так успешно конкурировать в своем диапазоне, делает их слабыми за его пределами”. На Участке 4, например, 90 % видов деревьев отличаются от тех, что растут на Участке 1, расположенном всего на семьсот пятьдесят метров выше.
Впервые Силман разметил участки в 2003 году. Его идея состояла в том, чтобы возвращаться туда год за годом, десятилетие за десятилетием и смотреть, что происходит. Как деревья будут реагировать на изменение климата? Один из возможных вариантов – назовем его “сценарием Бирнамского леса[69]” – мог быть таким: деревья в каждой зоне начали бы перемещаться вверх по склону. Разумеется, деревья не могут двигаться, но они разбрасывают семена, прорастающие новыми деревьями. Согласно этому сценарию, виды, сейчас растущие на Участке 4, по мере потепления климата начнут появляться выше, на Участке 3, а деревья с Участка 3 окажутся на Участке 2 и так далее. Силман со своими студентами завершил первую повторную перепись в 2007 году. Он воспринимал это лишь как часть долгосрочного проекта и не думал, что через четыре года уже будут получены интересные результаты. Однако один из его молодых научных сотрудников, Кеннет Фили, настоял на том, чтобы на всякий случай проанализировать все данные. Благодаря его работе выяснилось, что лес уже находится во вполне заметном движении.
Существуют различные способы рассчитать скорость миграции: например, по количеству деревьев или же по их массе. Фили сгруппировал деревья по родам. Если не вдаваться в подробности, он обнаружил, что глобальное потепление в среднем загоняло род деревьев в гору со скоростью два с половиной метра в год. Также он обнаружил, что за усредненным показателем скрывался поразительный разброс значений. Подобно детворе на школьной перемене, разные деревья вели себя совершенно по-разному.
Взять, к примеру, деревья рода шефлера, который принадлежит семейству аралиевых. У шефлер пальчатосложные листья; листочки располагаются вокруг центральной точки, как пальцы вокруг ладони. (Одну представительницу этой группы, Schefflera arboricola, шефлеру древовидную, родом с Тайваня, более известную как карликовое зонтичное дерево, часто выращивают в качестве комнатного растения.) Деревья этого рода, как обнаружил Фили, были гиперактивны107 – они мчались вверх по склону хребта с ошеломительной скоростью почти тридцать метров в год!
Другую крайность демонстрировали деревья рода падуб. У них спирально расположенные листья, обычно блестящие, остроконечные, с зазубренными краями. (К этому роду относится Ilex aquifolium, падуб остролистный, из Европы, известный американцам как рождественский остролист.) Деревья рода падуб напоминали детей, которые проводят перемены, развалившись на скамейках. Пока шефлеры неслись вверх по склону, падубы просто стояли на месте, совершенно нерасторопные.
Если какой-либо вид (или группа видов) не в состоянии справляться с некоторыми изменениями температуры, нам нет нужды беспокоиться о судьбе этого вида (или группы) сейчас – поскольку он (или они) уже исчезли с лица земли. Температура колеблется повсюду на планете. Она меняется от дня к ночи и от сезона к сезону. Даже в тропиках, где отличие между зимой и летом минимально, температура может значительно различаться в сезон дождей и в сухой сезон. Живые организмы выработали великое множество способов, чтобы приспособиться к этим колебаниям. Они впадают в зимнюю спячку, летнюю спячку, мигрируют. Рассеивают тепло через учащенное дыхание или, напротив, сохраняют его, отращивая толстый слой меха. Пчелы согреваются, активно сокращая мышцы груди. Аисты клювачи охлаждаются, испражняясь на собственные ноги (в очень жаркую погоду они могут делать это ежеминутно).
На протяжении срока жизни конкретного вида (порядка миллиона лет) вступают в игру долгосрочные температурные изменения, климатические. Последние 40 миллионов лет или около того на Земле в общем и целом шло похолодание. Его причины не вполне ясны. Согласно одной из теорий, вздымание Гималаев привело к тому, что огромные пространства горных пород подверглись химическому выветриванию, из-за чего снизился уровень углекислого газа в атмосфере. В начале этой длинной фазы похолодания, в позднем эоцене, мир был настолько теплым, что на планете почти не было льда. Примерно к 35 миллионам лет назад глобальная температура снизилась достаточно для того, чтобы в Антарктике начали образовываться ледники. К 3 миллионам лет назад температура упала до такой степени, что Арктика тоже замерзла и сформировалась шапка вечного льда. Затем, около 2,5 миллиона лет назад, в начале эпохи плейстоцена, мир вступил в цикл периодических оледенений. Огромные ледяные пласты разрастались в Северном полушарии, чтобы снова растаять через какую-нибудь сотню тысяч лет.
Даже после того как теория ледниковых периодов стала общепризнанной – а предложил ее в 1830-х годах Луи Агассис, протеже Кювье, – оставалось совершенно неясно, как могли происходить столь невероятные процессы. В 1898 году Уоллес заметил, что “некоторые из самых острых и светлых умов наших дней размышляли” над этой проблемой, однако пока “абсолютно безрезультатно”108. Пройдет еще три четверти столетия, прежде чем ответ будет найден.
Сейчас принято считать, что причина ледниковых периодов кроется в небольших изменениях земной орбиты, вызванных в том числе гравитационным влиянием Юпитера и Сатурна. Из-за этих изменений меняется распределение солнечного света по разным широтам в разное время года. Когда количество света, падающего на самые северные широты в летний период, достигает минимума, снег там начинает накапливаться. Это запускает цикл обратной связи: уровень углекислого газа в атмосфере снижается – температура падает – образуется еще больше льда и так далее. Через некоторое время параметры земной орбиты снова меняются, и события в петле обратной связи происходят в противоположном направлении: лед начинает таять, растет глобальный уровень CO2 – и лед продолжает таять еще быстрее.
В эпоху плейстоцена сценарий замерзания-оттаивания повторялся раз двадцать, с последствиями, менявшими мир. Объем воды, закованной в лед, в каждом из эпизодов оледенения был так велик, что уровень моря снижался на несколько сотен метров, а вес ледяных плит был столь огромен, что вдавливал земную кору в мантию (к примеру, в Северной Британии и Швеции процесс восстановления после последнего оледенения продолжается до сих пор).
Как же растениям и животным эпохи плейстоцена удавалось выживать при таких температурных колебаниях? Согласно Дарвину – благодаря передвижениям. В “Происхождении видов” он описывает миграции континентальных масштабов:
По мере того как холод надвигается и лежащие одна за другой все более южные зоны становятся пригодными для обитателей севера, последние занимают места прежних обитателей умеренных областей… Когда снова начнется потепление, арктические формы должны будут отступить к северу, так сказать, по пятам преследуемые во время своего отступления организмами более умеренных стран40[70].
Версия Дарвина с тех пор получила множество подтверждений. К примеру, исследователи, изучавшие покровы тел древних жуков, обнаружили, что во время ледниковых эпох даже крошечные насекомые мигрировали на многие тысячи километров в поисках подходящего климата. (Скажем, небольшой тускло-коричневый жук Tachinus caelatus в наши дни живет в горах к западу от Улан-Батора в Монголии, а в последнюю ледниковую эпоху был распространен в Англии.)
По величине изменения температуры, прогнозируемые на ближайшее столетие, сопоставимы с температурными колебаниями ледниковых периодов. (Если нынешний объем выбросов сохранится, ожидается, что в Андах потеплеет на целых пять градусов109.) Но если по величине изменения и сопоставимы, то по скорости – нет, а ведь скорость, как мы помним, – ключевой параметр.
В наши дни потепление происходит как минимум в десять раз быстрее, чем в конце последнего оледенения и любого из ему предшествовавших. Чтобы выжить, организмам придется мигрировать или каким-то другим способом адаптироваться к изменениям тоже вдесятеро быстрее. На участках Силмана лишь наиболее “быстроногие” (или “быстрокорние”) деревья наподобие “гиперактивного” рода шефлера поспевают за повышением температуры. Вопрос, сколько всего видов сумеют перемещаться достаточно быстро, остается открытым, однако, как отметил Силман, в ближайшие десятилетия мы наверняка узнаем ответ, хотим мы того или нет.
Национальный парк “Ману”, где расположены участки Силмана, находится в самой юго-восточной части Перу, почти на границе с Боливией и Бразилией, и занимает площадь около пятнадцати тысяч квадратных километров. Согласно Программе ООН по окружающей среде, “Ману” – “природоохранная зона с самым высоким биоразнообразием в мире”. Многие виды можно найти только в этом парке и его ближайших окрестностях, в том числе древовидный папоротник Cyathea multisegmenta, птицу Poecilotriccus albifacies, известную как белощекий тоди-мухолов, грызуна Isothrix barbarabrownae и небольшую черную жабу Rhinella manu.
В первую же ночь нашего похода один из студентов Силмана, Руди Круз, настоял на том, чтобы все отправились на поиски Rhinella manu. Раньше он уже видел нескольких жаб в этом месте и был уверен, что, если постараемся, мы сумеем снова их найти. Незадолго до поездки я прочитала статью о распространении хитридиевых грибков в Перу110 – авторы утверждали, что те уже проникли и в “Ману”, – но решила об этом не упоминать. Возможно, жабы Rhinella manu все еще там обитали, а в таком случае я определенно хотела их увидеть.
Мы надели налобные фонари и двинулись в путь вниз по тропе, словно вереница шахтеров, спускающихся по штольне. Лес ночью превратился в сгусток непроглядной черноты. Круз возглавлял процессию, освещая фонарем стволы деревьев и вглядываясь в гущу бромелиевых. Остальные брали с него пример. Мы шли уже, вероятно, целый час, но отыскали лишь несколько коричневатых лягушек рода Pristimantis. Через некоторое время участникам экспедиции стало скучно, и они начали уходить обратно в лагерь. Но Круз не хотел сдаваться. Похоже, решив, что проблема в нас, его попутчиках, он пошел в другом направлении.
“Ты что-нибудь нашел?” – периодически кричал ему кто-нибудь в темноту.
“Нет, ничего”, – раз за разом отвечал он.
На следующий день, после очередных заумных дискуссий о том, как замерять деревья, мы паковали вещи, чтобы выдвигаться дальше вниз по хребту. Пока Силман ходил за водой, он обнаружил веточку с белыми ягодами, чередующимися с чем-то, напоминающим ярко-фиолетовые ленты. Он идентифицировал это как соцветие дерева семейства Brassicaceae (капустных, или крестоцветных), но, поскольку прежде не встречал ничего подобного, предположил, что находка может принадлежать очередному новому виду. Веточку завернули в газету для дальнейшего путешествия. Сознание того, что я, возможно, присутствовала при открытии нового вида (хотя и не имела к этому ни малейшего отношения), наполнило меня какой-то странной гордостью.
Мы снова вышли на тропу, и Силман начал прорубать путь своим мачете, часто останавливаясь, чтобы указать на очередную ботаническую диковину вроде кустарника, который крадет воду у соседей, выпуская игловидные корни. Силман говорит о растениях так, как другие люди – о кинозвездах. Одно дерево он назвал “харизматичным”. Еще были “забавные”, “чудаковатые”, “изящные”, “умные” и “потрясающие”.
Вскоре после полудня мы достигли возвышенности, откуда открывался вид на долину и соседний хребет. Деревья на том хребте тряслись. Это означало, что через лес движутся шерстистые обезьяны. Мы все остановились, пытаясь их разглядеть. Плавно перемещаясь с ветки на ветку, обезьяны издавали звуки, немного напоминающие пение сверчка. Силман достал пакет с кокой и пустил по кругу.
Вскоре мы дошли до Участка 6 на высоте 2225 метров, где ранее было обнаружено дерево, относящееся к новому роду. Силман указал на него взмахом мачете. Дерево выглядело вполне обычным, но я попробовала посмотреть на него глазами Силмана. Оно было выше большинства своих соседей – пожалуй, его можно описать как “статное” или “величавое”, – с гладкой красноватой корой и обыкновенными спирально расположенными листьями. Таксономически это представитель семейства Euphorbiaceae, или молочайных, как и пуансеттия. Силману очень хотелось узнать об этом дереве побольше, чтобы, как только удастся найти нового таксономиста вместо недавно скончавшегося профессора, сразу выслать ему все необходимые материалы. Силман и Фарфан отправились посмотреть, что там можно собрать. Они вернулись с несколькими семенными коробочками, толстыми и жесткими, как скорлупа лесного ореха, но имевшими изящную форму – как у цветущей лилии. Коробочки были темно-коричневого цвета снаружи и песочного внутри.
В тот вечер солнце село раньше, чем мы успели добраться до Участка 8, где предполагали разбить лагерь. Мы в темноте дошли до места ночлега, затем поставили палатки и приготовили ужин – тоже в темноте. Я залезла в спальный мешок около девяти вечера, но через пару часов меня разбудил яркий свет. Я подумала, что кто-то встал в туалет, и, повернувшись на другой бок, вновь заснула. Утром Силман в изумлении спросил, как это мне удалось спокойно спать во время ночной кутерьмы. Оказалось, что через наш лагерь проследовало шесть групп cocaleros. (Хотя в Перу продажа коки законна, все закупки должны производиться через государственное предприятие ENACO, а выращивающие коку делают все, чтобы обойти это предписание.) Каждая группа натыкалась на палатку Силмана. В итоге ему это настолько надоело, что он начал орать на cocaleros – не лучшая идея, по его собственному признанию.
* * *
В экологии трудно выводить какие-то закономерности. Одной из немногих общепризнанных стала взаимосвязь между количеством видов и площадью (SAR[71]) – в экологии это самое близкое, что есть, к периодической таблице Менделеева. В самой общей своей формулировке эта взаимосвязь кажется очень простой, почти очевидной. Чем больше изучаемый вами участок, тем большее число видов вы там встретите. Эта закономерность была отмечена еще в 1770-х годах Иоганном Рейнгольдом Форстером, натуралистом, который сопровождал капитана Кука в его втором плавании. В 1920-е годы ее выразил на математическом языке шведский ботаник Олоф Аррениус. (Между прочим, Олоф был сыном химика Сванте Аррениуса, который в 1890-е годы показал, что сжигание ископаемого топлива может привести к потеплению на планете.) Далее это правило уточнили и доработали в 1960-е годы Эдвард Осборн Уилсон[72] и его коллега Роберт Макартур.
Зависимость между количеством видов и площадью рассматриваемой области нелинейна. Она описывается кривой, наклон которой меняется предсказуемым образом. Обычно взаимосвязь выражается формулой S = cAz, где S – число видов, A – площадь участка, а c и z – константы, варьирующиеся в зависимости от региона и изучаемой таксономической группы (а следовательно, это не настоящие константы в привычном смысле слова). Эта формула считается законом, поскольку выполняется независимо от типа местности. Вы можете изучать цепь островов, тропический лес или соседний парк, но в любом случае количество видов будет меняться согласно одному и тому же уравнению: S = cAz (важно отметить, что значение z всегда меньше 1, обычно оно находится в пределах от 0,2 до 0,35).
Типичный пример кривой, демонстрирующей взаимосвязь между числом видов и площадью
Взаимосвязь между количеством видов и площадью – ключ к размышлениям о вымирании. Один (заведомо упрощенный) способ понять, что делают люди с окружающим миром, состоит в том, чтобы посмотреть на повсеместное изменение нами значения A. Представим, к примеру, луг, когда-то имевший площадь в тысячу квадратных миль. Предположим, на этом лугу жили сто видов птиц (или жуков, или змей). Если его половина была уничтожена – превращена в сельскохозяйственные угодья или использована под торговые центры, – то с помощью уравнения, описывающего зависимость числа видов от площади, можно рассчитать, сколько видов птиц (или жуков, или змей) исчезнет. Ответ: примерно 10 % (опять же важно помнить, что зависимость нелинейная). Поскольку системе требуется много времени, чтобы достичь нового равновесия, виды не исчезнут сразу, но можно не сомневаться, что процесс пойдет именно в этом направлении.
В 2004 году группа ученых решила использовать зависимость между количеством видов и площадью, чтобы провести первую оценку риска вымирания, вызванного глобальным потеплением. Прежде всего участники команды собрали актуальные данные об ареалах более чем тысячи видов растений и животных. Затем они скоррелировали эти данные с современными климатическими условиями. И наконец, смоделировали два противоположных сценария. В первом все виды решено было считать инертными, наподобие деревьев рода падуб на участках Силмана. По мере того как росла температура, они оставались на прежнем месте, и так чаще всего климатически пригодная площадь, доступная им, уменьшалась, во многих случаях – до нуля. Прогнозы, основанные на этом сценарии “без перемещения видов”, были мрачными. Согласно расчетам исследователей, если потепление удержится на минимальном уровне, то к 2050 году будут “обречены на вымирание” от 22 до 31 % видов. Если же потепление достигнет уровня, который тогда считался возможным максимумом – хотя сейчас он кажется слишком заниженным, – то к середине этого столетия суждено будет исчезнуть от 38 до 52 % видов.
“То же самое можно выразить иначе, – писал о результатах исследования Энтони Барноски, палеонтолог из Калифорнийского университета в Беркли111. – Оглянитесь вокруг. Убейте половину всего, что видите. Или, если считаете себя великодушным, убейте лишь четверть того, что видите. Вот о чем идет речь”.
Во втором, более оптимистичном, сценарии виды рассматривались как высокоподвижные. По мере роста температуры они могли обживать любые новые места, к климатическим условиям которых были приспособлены. Тем не менее многим видам оказалось некуда уйти. При потеплении привычные для них условия попросту исчезли (как выяснилось, климатические условия “исчезали” преимущественно в тропиках). У других видов область обитания сократилась, поскольку в поисках подходящего климата им пришлось подниматься в горы, а площадь у верхушки горы меньше, чем у основания.
Проанализировав сценарий “с неограниченным перемещением видов”, группа исследователей под руководством Криса Томаса, биолога из Йоркского университета, пришла к выводу, что при минимальном потеплении к 2050 году будут “обречены на вымирание” от 9 до 13 % всех видов. При максимальном же – от 21 до 32 %. Усреднив два сценария и считая, что потепление достигнет среднего размаха, группа вычислила, что вымрут 24 % всех биологических видов.
Статья была опубликована журналом Nature с иллюстрацией на обложке номера112. Масса численных значений, полученных исследователями, в популярной прессе сжалась до одного-единственного числа. “Изменение климата может привести к вымиранию миллиона видов!” – заявил канал “Би-би-си”. “К 2050 году потепление вызовет гибель миллиона видов!” – кричал заголовок в журнале National Geographic.
С тех пор это исследование подвергалось критике по целому ряду причин. В нем игнорировались взаимодействия между организмами. Не учитывалась возможность того, что растения и животные в состоянии выживать в более широком диапазоне климатических условий, чем тот, в котором они живут сейчас. Рассмотрение ограничивалось 2050 годом, тогда как при любом мало-мальски правдоподобном сценарии потепление будет продолжаться намного дольше. Кроме того, зависимость между количеством видов и площадью применялась в новой, а следовательно, неизученной совокупности условий.
Более свежие исследования опровергли результаты из статьи в Nature с обеих сторон. В одних доказывалось, что число видов, которые, возможно, вымрут из-за изменения климата, в статье завышено, в других – что занижено. Причем Томас признал, что многие возражения против той работы 2004 года справедливы. Однако указал, что все оценки, предложенные позже, по порядку величины такие же. Значит, заключил он, изменение климата убьет “около 10 % видов или больше, а не 1 или 0,01 %”.
В своей недавней статье Томас предположил, что полезно было бы поместить эти числа “в геологический контекст”113. Только изменение климата “вряд ли способно привести к массовому вымиранию масштаба Большой пятерки”, написал он. Однако существует “высокая вероятность того, что изменение климата само по себе может спровоцировать вымирание, не уступающее – а то и превосходящее – по масштабу чуть менее страшным вымираниям” прошлого.
“Возможные последствия, – подытожил Томас, – подтверждают идею о том, что недавно мы вступили в эпоху антропоцена”.
“Британцы любят размечать все пластиком, – сказал мне Силман. – А вот нам это кажется грубоватым”. Шел третий день нашего похода, и мы стояли на Участке 8, где наткнулись на полосу синего скотча, обозначающего границу участка. Силман заподозрил, что это дело рук его коллег из Оксфорда. Он проводит много времени в Перу – иногда по несколько месяцев подряд, – но значительную часть года его там нет, так что могут происходить всевозможные события, о которых он и не знает (и которые обычно его не заботят). К примеру, во время нашего путешествия Силман обнаружил несколько проволочных корзин, развешенных на его участках для сбора семян. Ясно, что их разместили там в исследовательских целях, однако никто его не оповестил и не спросил разрешения, так что корзины олицетворяли своего рода научное пиратство. Я тут же представила себе жуликоватых исследователей, тайком пробирающихся через лес на манер cocaleros.
На Участке 8 Силман показал мне еще одно “действительно интересное” дерево – Alzatea verticillata. Оно необычно тем, что является единственным видом в роде Alzatea, а еще необычнее то, что это единственный вид в своем семействе. У него ярко-зеленые продолговатые листья и, как сказал Силман, небольшие белые цветы, пахнущие жженым сахаром. Alzatea verticillata может вырастать очень высокой: на той высоте, где мы находимся (около 1800 метров), его крона возвышается над остальными. Это один из тех видов, что стоят, похоже, как вкопанные.
Участки Силмана дают очередной ответ Томасу – скорее практический, нежели теоретический. Деревья явно гораздо менее мобильны, чем, скажем, трогоны – обычные для “Ману” тропические птицы – или даже клещи. Однако во влажном горном тропическом лесу деревья формируют структуру экосистемы, подобно тому как коралловые полипы формируют структуру рифа. От определенных типов деревьев зависят определенные типы насекомых, а от этих насекомых зависят определенные типы птиц – и так далее, вверх по пищевой цепочке. Справедливо и обратное: животные необходимы для выживания лесов. Они опыляют растения и переносят семена, а птицы не позволяют насекомым слишком увеличивать свою численность. Работа Силмана дает основание утверждать, что глобальное потепление как минимум перекроит структуры экологических сообществ. Различные группы деревьев будут по-разному реагировать на потепление, так что ныне существующие связи нарушатся и начнут образовываться новые. В этой перестройке планетарного масштаба некоторые виды будут процветать. Многим растениям высокая концентрация углекислого газа вообще-то может оказаться благоприятна, поскольку им станет проще получать его для фотосинтеза. Другие же растения начнут чахнуть и в конце концов исчезнут.
Силман считает себя оптимистичным человеком. Это отражается – или, во всяком случае, отражалось – и на его работе. “В моей лаборатории словно всегда светит солнце”, – сказал он мне. Силман не раз выступал с публичными заявлениями, что если усилить контроль и грамотно расположить заповедники, то многие угрожающие биоразнообразию факторы – незаконные вырубку лесов, добычу полезных ископаемых и разведение скота – можно свести к минимуму.
“Даже в тропических регионах мы знаем, как прекратить этот беспредел, – сказал он. – Мы улучшаем систему регулирования”.
Однако в быстро теплеющем климате сама идея грамотного расположения заповедников если и не совсем лишается смысла, то уж точно становится куда более проблематичной. Климатические изменения – в отличие, скажем, от бригады лесорубов – невозможно заставить уважать границы. Условия жизни в “Ману” изменятся точно так же, как в Куско или Лиме. И при таком огромном количестве перемещающихся видов ни один стационарный заповедник не обойдется без потерь.
“Стрессовые ситуации, которым мы сейчас подвергаем биологические виды, качественно новые, – сказал мне Силман. – В иных случаях человеческого вмешательства всегда были места, где укрыться. Климат же влияет на все”. Как и закисление океана, изменение климата – глобальное явление, или, если процитировать Кювье, “переворот на поверхности земного шара”.
После полудня мы выбрались на грунтовую дорогу. Силман собрал множество растений, интересных ему для исследования в лаборатории, и прикрепил к своему гигантскому рюкзаку, так что стал напоминать легендарного садовода Джонни Эпплсида в тропическом лесу. Светило солнце, но совсем недавно прошел дождь – и стайки черных, красных и синих бабочек порхали над лужами. Время от времени мимо с грохотом проезжал грузовик с бревнами. Бабочки не успевали разлетаться по сторонам, поэтому дорога была усеяна оторванными крылышками.
Мы шли, пока не добрались до нескольких туристических хижин. Силман объяснил, что этот район знаменит в среде орнитологов, и действительно – прямо с дороги мы увидели радужное разнообразие пернатых: золотых танагр цвета лютика, голубых танагр светло-василькового цвета и синеголовых танагр, головки которых вспыхивали ослепительной бирюзой. Еще мы увидели пурпурную расписную танагру с ярко-красной грудкой и стаю андских скальных петушков, известных своим пышным алым оперением. У самцов скальных петушков на голове торчит дискообразный хохолок, а их резкие скрипучие крики напоминают вопли сумасшедших.
В различные периоды истории Земли существа, ныне ограниченные тропиками, имели намного более широкий ареал. К примеру, в середине мелового периода, 120–90 миллионов лет назад, хлебное дерево успешно произрастало на севере, вплоть до залива Аляска. В раннем эоцене, около 50 миллионов лет назад, в Антарктике росли пальмы, а крокодилы плескались в мелководных морях рядом с Англией. Теоретически нет причин считать, будто более теплый мир окажется менее разнообразным, чем более холодный; напротив, несколько возможных объяснений широтного градиента разнообразия позволяют предположить, что в долгосрочной перспективе более теплый мир, возможно, окажется более пестрым на виды. Однако в краткосрочной перспективе, то есть в любой период времени, актуальный для человечества, все обстоит совершенно иначе.
Можно сказать, что практически каждый из существующих ныне видов адаптирован к холоду. Золотые танагры и скальные петушки, не говоря уже о голубых сойках, кардиналах и деревенских ласточках, сумели пережить последнюю ледниковую эпоху. Также им самим либо их очень близким родственникам удалось уцелеть и в предыдущую ледниковую эпоху, и в ту, что была еще раньше, и так далее – до отметки в 2,5 миллиона лет назад. На протяжении большей части плейстоцена температуры были значительно ниже, чем сейчас, – цикл изменений параметров орбиты Земли таков, что ледниковые эпохи обычно длятся намного дольше межледниковья, – вследствие чего эволюционно поощрялось умение справляться с зимними условиями. Вместе с тем 2,5 миллиона лет способность справляться с жарой не давала ни малейшего преимущества, поскольку температуры никогда не поднимались сильно выше сегодняшних. На графике с перепадами температуры в плейстоцене мы сейчас находимся в самой верхней точке.
Чтобы найти в истории Земли более высокий, чем сейчас, уровень углекислого газа (а следовательно, и более высокую глобальную температуру), потребуется переместиться далеко в прошлое, возможно, в середину миоцена114, то есть на 15 миллионов лет назад. Вполне вероятно, что к концу этого века концентрация CO2 достигнет значения, невиданного со времен антарктических пальм эоцена, то есть последние пятьдесят миллионов лет. Сохранили ли нынешние виды те особенности, которые позволяли их предкам процветать в том древнем более теплом мире, пока сказать невозможно.
“Чтобы приспособиться к более высоким температурам, растения много чего могли сделать, – сказал Силман. – Они могли выработать специальные белки, изменить свой метаболизм и тому подобное. Но температурная устойчивость может быть очень затратной. А температур, какие ожидаются в будущем, не было уже миллионы лет. Поэтому вопрос вот в чем: не утратили ли растения и животные за столь огромный промежуток времени – многочисленнейшие и разнообразнейшие млекопитающие успели возникнуть и исчезнуть за этот период – эти затратные, скорее всего, особенности? Если нет, то нас ждет приятный сюрприз”. А если да? Что, если они не сохранили свои высокозатратные особенности, поскольку в течение стольких миллионов лет те не обеспечивали им никакого преимущества?
“Если эволюция продолжит работать так же, как и раньше, – сказал Силман, – то сценарий вымирания (а мы называем его не вымиранием, а «биотическим истощением» – миленький эвфемизм) начинает выглядеть апокалиптически”.
Глава 9 Острова на суше Eciton burchellii
Шоссе BR-174 тянется на север от города Манаус (в бразильском штате Амазонас) до самой границы с Венесуэлой. Раньше его обочины были захламлены поврежденными машинами, некогда свалившимися в кювет, однако после того, как лет двадцать назад дорогу заасфальтировали, по ней стало проще ездить, и теперь вместо выгоревших корпусов автомобилей время от времени встречаются маленькие кафе для путешественников. Но примерно через час после начала поездки кафе заканчиваются, а еще через час вбок уходит съезд на однополосную дорогу ZF-3, ведущую на восток.
Эта дорога остается незаасфальтированной и прорезает сельскую местность ярко-оранжевой полосой (цвета почвы в Амазонасе). Проехав по ZF-3 три четверти часа, вы увидите деревянные ворота, закрытые на цепь. За ними бродят несколько сонных коров, а подальше располагается так называемый Заповедник-1202.
Заповедник-1202 можно назвать островом в центре Амазонии. Я приехала туда жарким безоблачным днем в разгар сезона дождей. Уже в пятнадцати метрах от входа растительность оказалась настолько густой, что даже несмотря на солнце прямо над головой стало сумрачно, как в соборе. С ближайшего дерева доносились пронзительные крики, напоминающие звук полицейского свистка. Мне сказали, что эти трели издает небольшая неприметная птичка – крикливая сорокопутовая пиха. Она вскрикнула еще раз и затихла.
В отличие от настоящих островов Заповедник-1202 представляет собой почти идеальный квадрат – десять гектаров нетронутых тропических лесов, окруженных зарослями кустарника. На аэрофотоснимках он напоминает зеленый плот, покачивающийся на коричневых волнах.
Заповедник-1202 – это часть целого архипелага “островов” в Амазонии с одинаково безликими названиями: Заповедник-1112, Заповедник-1301, Заповедник-2107. Площадь некоторых даже меньше десяти гектаров, но есть и чуть побольше. Вместе эти заповедники представляют собой объекты одного из самых масштабных долгосрочных экспериментов в мире – проекта “Биологическая динамика лесных участков” (Biological Dynamics of Forest Fragments Project, BDFFP). Буквально каждый квадратный метр этих заповедников исследован специалистами – ботаниками, размечающими деревья, орнитологами, окольцовывающими птиц, энтомологами, считающими плодовых мушек. В Заповеднике-1202 я познакомилась с аспирантом из Португалии, изучавшим летучих мышей. Проснувшись незадолго до полудня, он ел макароны в хижине, служившей одновременно научно-исследовательской станцией и кухней. Пока мы беседовали, к нам подъехал тощий ковбой на чуть менее тощей лошаденке. На плече у него висело ружье. Не знаю, почему он решил нас навестить – то ли потому, что услышал звук грузовика, на котором я приехала, и хотел защитить студента от возможных захватчиков, то ли просто учуял запах макарон.
Проект BDFFP стал результатом неожиданного сотрудничества скотоводов и специалистов по охране природы. В 1970-е годы бразильское правительство решило стимулировать фермеров к заселению территорий к северу от Манауса, тогда почти не обжитых. Программа предлагала субсидирование вырубки леса: фермеры, согласившиеся переехать в тропический лес, чтобы рубить там деревья и разводить коров, получали пособие от правительства. В то же время согласно бразильским законам землевладельцы в Амазонии должны были оставлять нетронутой минимум половину леса в своих угодьях. Противоречие между этими двумя требованиями натолкнуло американского биолога Тома Лавджоя на интересную мысль. Что, если удастся убедить фермеров позволить ученым решать, какие деревья срубать, а какие оставлять?
“Моя идея укладывалась всего лишь в одно предложение, – сказал мне Лавджой. – Я подумал, а нельзя ли уговорить бразильцев выбирать те самые 50 % так, чтобы получился колоссальный эксперимент?” Тогда появилась бы возможность изучать в контролируемых условиях процесс, происходящий неконтролируемым образом в тропиках повсюду, а на самом деле и во всем мире.
Лавджой полетел в Манаус и представил свой план бразильским чиновникам. К его большому удивлению, план они одобрили. Проект развивается уже более тридцати лет. За эти годы такое огромное количество аспирантов поработало в заповедниках, что возникло даже специальное слово “фрагментолог”[73]115. Сам проект BDFFP был назван “важнейшим из когда-либо проводившихся экологических экспериментов”115.
В наши дни не покрыто льдом около 130 миллионов квадратных километров суши на планете, и этот базовый показатель используется для оценки антропогенного воздействия. Согласно результатам недавнего исследования, опубликованным Геологическим обществом Америки116, люди “полностью трансформировали” более половины этой площади (примерно 70 миллионов квадратных километров), преимущественно превратив земли в пашни и пастбища, а также построив города, торговые комплексы и водохранилища, вырубив леса, выкопав карьеры для добычи полезных ископаемых. Из оставшихся 60 миллионов квадратных километров примерно три пятых покрыты лесом – по словам авторов, “естественным, но не обязательно девственным”, – а остальное занято высокогорьем, тундрой и пустыней. Согласно другому недавнему исследованию117, проведенному Экологическим обществом Америки, даже столь драматические оценки не описывают всей степени нашего влияния на планету. Авторы этого исследования, Эрл Эллис из Мэрилендского университета и Навин Раманкутти из Университета Макгилла, полагают, что нет больше смысла оперировать понятиями биомов, определяемых климатом и растительностью, – таких как степи или, скажем, тайга. Вместо этого они поделили мир на “антромы”: например, “урбанистический”, занимающий больше 1,3 миллиона квадратных километров, антромы “орошаемых полей” (2,6 млн кв. км) и “населенного леса” (11,7 млн кв. км). Всего Эллис и Раманкутти насчитали восемнадцать антромов, в совокупности простирающихся более чем на 100 миллионов квадратных километров. Неохваченными остались примерно 30 миллионов квадратных километров. Эти области, где почти нет людей, включают в себя некоторые участки Амазонии, существенную часть Сибири и Северной Канады, а также значительные пространства Сахары, Гоби и Большой пустыни Виктория. Ученые назвали их “нетронутыми территориями”.
Участки леса к северу от Манауса, вид с воздуха
Однако в условиях антропоцена даже эти “нетронутые” земли вряд ли заслуживают такого названия. Тундра иссечена трубопроводами, а тайга – сейсмическими профилями. В дебри тропических лесов прорываются фермерские хозяйства, плантации и гидроэлектростанции. В Бразилии определенную схему вырубки леса называют “рыбьим скелетом”: когда все начинается со строительства одной большой дороги – “позвоночника”, – но постепенно от нее ответвляется (порой незаконно) множество небольших дорог – “ребер”. В итоге от леса остаются лишь длинные тонкие полосы.
Сегодня каждый участок “нетронутой” земли в той или иной степени изрезан и урезан. Именно поэтому эксперимент Лавджоя с фрагментами леса так важен. Несмотря на свою квадратную, абсолютно неестественную форму Заповедник-1202 все больше напоминает реальный мир.
Сотрудники проекта постоянно меняются, поэтому даже те, кто работает в нем много лет, никогда точно не знают, кого могут встретить. Я приехала в Заповедник-1202 с Марио Кон-Хафтом, американским орнитологом, который начал работать в проекте еще в качестве стажера в середине 1980-х годов. В итоге он женился на бразильянке и теперь имеет должность в Национальном институте исследования Амазонии в Манаусе. Это высокий худой человек с тонкими седыми волосами и печальными карими глазами. Те энтузиазм и любовь, которые Майлс Силман проявляет по отношению к тропическим деревьям, Кон-Хафт переносит на птиц. Как-то я спросила его, сколько видов амазонских птиц он может различить по голосам, и он недоуменно посмотрел на меня, словно не понимая, о чем я. Когда я переформулировала вопрос, он ответил: все. По официальным подсчетам, в Амазонии водится около тысячи трехсот видов птиц, однако Кон-Хафт полагает, что их намного больше, поскольку при подсчете птиц слишком большое значение придают таким особенностям, как размер и оперение, и не уделяют достаточно внимания звукам. Птицы, выглядящие почти одинаково, но поющие по-разному, объяснил Кон-Хафт, зачастую оказываются генетически различными. Во время нашей поездки Кон-Хафт готовил к публикации статью с описанием нескольких новых видов: он открыл их, внимательно вслушиваясь в птичьи голоса. Представитель одного из новооткрытых видов, ночная птица из семейства исполинских козодоев, издает унылый жутковатый крик, который местные жители иногда принимают за крик Курупиры, персонажа бразильского фольклора. У Курупиры мальчишеское лицо, густые волосы и развернутые назад стопы. Он охотится на браконьеров и вообще всех тех, кто забирает у леса слишком много.
Поскольку птиц лучше всего слушать на рассвете, мы с Кон-Хафтом отправились в Заповедник-1202 еще затемно, часа в четыре утра. Первую остановку сделали рядом с металлической вышкой, на которой установлена метеорологическая станция. С самого верха изрядно проржавевшей сорокаметровой вышки открывался панорамный вид на полог леса. Кон-Хафт закрепил на треножнике мощную подзорную трубу, которую взял с собой. Также он захватил айпод и миниатюрный, умещающийся в карман динамик. На айпод у него загружены записи сотен птичьих голосов. Когда Кон-Хафт слышал птицу, но не мог определить ее местоположение, он проигрывал соответствующий файл, надеясь, что та обнаружит себя.
“До конца дня можно услышать сто пятьдесят видов птиц, но увидеть лишь десять”, – сказал он мне. Время от времени что-то яркое мелькало на фоне лесной зелени, и благодаря этому мне краем глаза удалось увидеть птиц, идентифицированных Кон-Хафтом как златохохлый меланерпес, чернохвостая титира и краснокрылый тонкоклювый попугай. Кон-Хафт навел подзорную трубу на синее пятнышко, и оно оказалось самой красивой птицей из всех, что мне когда-либо довелось видеть, – бирюзовой танагрой-медососом с сапфировой грудкой, алыми лапками и яркой аквамариновой макушкой.
Солнце поднималось все выше, птичьи трели раздавались все реже, и мы снова пустились в путь. К тому времени, как день раскалился добела, мы, обливаясь потом, добрались до закрытых на цепь ворот при входе в Заповедник-1202. Кон-Хафт выбрал одну из тропинок, прорубленных вглубь территории, и мы поплелись в сторону того, что он считал центром квадрата. В какой-то момент Кон-Хафт остановился, чтобы прислушаться, но мало что было слышно.
“Прямо сейчас я слышу голоса всего двух видов птиц, – сказал он. – Один будто говорит «Упс, будет дождь», это свинцовый голубь, классический вид девственных лесов. Другой пропевает что-то вроде «чудл-чудл-пип»”. Кон-Хафт издал звук, похожий на какое-то разминочное упражнение для флейты. “А это краснобровый попугайный виреон, типичный вид для вторичного леса и опушек, его не услышать в девственном лесу”.
Кон-Хафт рассказал, что, когда он только начинал работать в Заповеднике-1202, его задача заключалась в том, чтобы ловить и окольцовывать птиц, а затем выпускать их – этот процесс прозвали “окольцуй и подбрось”. Птиц ловили в сети, натянутые по всему лесу от земли до двухметровой высоты. Перепись птиц проводили до того, как фрагменты леса были выделены, а затем после – чтобы результаты можно было сравнить. Во всех заповедниках – а их одиннадцать – Кон-Хафт с коллегами окольцевал почти двадцать пять тысяч птиц118.
“Первый результат, в общем-то всех удививший, хотя по большому счету вполне очевидный, можно назвать эффектом беженцев, – рассказывал он, пока мы стояли в тени. – Когда вырубают окружающий лес, количество пойманных птиц, а иногда и число их видов, в первый год увеличивается”. Очевидно, что птицы из опустошенных районов ищут спасения в лесных фрагментах. Однако постепенно и количество птиц, и их разнообразие на этих участках начинает снижаться.
“Иными словами, – сказал Кон-Хафт, – не было внезапно возникшего нового равновесия с меньшим количеством видов. Было равномерное уменьшение разнообразия со временем”. И то, что происходило с птицами, происходило и с другими группами животных.
Острова – сейчас мы говорим о реальных островах, а не об “островах” как зонах обитания – обычно небогаты по видовому разнообразию, или, говоря образно, истощаются. Это справедливо и для вулканических островов, расположенных в середине океана, и, как ни странно, для так называемых материковых островов, находящихся близко к берегу119. Исследователи материковых островов, возникающих при изменении уровня моря, раз за разом обнаруживали, что разнообразие видов там ниже, чем на континентах, частью которых эти острова когда-то были.
Почему это так? Почему разнообразие падает в условиях изоляции? В отношении некоторых видов ответ очевиден: им просто недостаточно места для жизни. Большая кошка, которой необходима площадь в сто квадратных километров, вряд ли долго просуществует на участке вдвое меньше. Крошечной лягушке, которая откладывает икру в пруду и кормится на склоне холма, для выживания необходимы и пруд, и склон холма.
Однако если бы отсутствие надлежащей зоны обитания было единственной проблемой, то жизнь на материковых островах довольно быстро должна была бы стабилизироваться на новом, более низком уровне разнообразия. Но этого не происходит. Число видов продолжает уменьшаться – этот процесс известен под неожиданно приятным названием “релаксация”. На некоторых материковых островах, возникших при подъеме уровня моря в конце плейстоцена, полная релаксация, по оценкам ученых, заняла тысячи лет; на других процесс продолжается до сих пор.
Экологи объясняют релаксацию, наблюдая за случайным характером развития жизни. На небольших площадях живут небольшие популяции, которые сильнее подвержены случайностям. Рассмотрим экстремальный случай: пусть на некоем острове гнездится единственная пара птиц вида X. В какой-то год ее гнездо сносит ураганом. На следующий год все птенцы оказываются самцами, а еще через год гнездо разоряет змея. Вид X движется к локальному вымиранию. Если на острове живут две гнездящиеся пары, то вероятность, что обе будут страдать от такого фатального невезения, ниже, а если остров служит приютом для двадцати пар – существенно ниже. Но низкая вероятность в течение продолжительного времени все же может оказаться смертельной. Этот процесс схож с подбрасыванием монеты. Маловероятно, что решка выпадет десять раз подряд при первых десяти (или двадцати, или ста) подбрасываниях. Однако если подбрасывать монету достаточно часто, может выпасть даже и маловероятная последовательность. Вероятностные законы настолько надежные, что эмпирическое доказательство риска, связанного с малочисленностью популяции, вряд ли требуется; тем не менее оно есть. В 1950-х и 1960-х годах любители птиц скрупулезнейше регистрировали каждую пару, выводящую птенцов на острове Бардси в Уэльсе, – от обычных домовых воробьев и куликов-сорок до значительно более редких ржанок и кроншнепов. В 1980-х эти данные проанализировал Джаред Даймонд, занимавшийся тогда орнитологией и специализировавшийся на птицах Новой Гвинеи. Даймонд обнаружил, что вероятность исчезновения какого-либо конкретного вида с острова экспоненциально уменьшается по мере увеличения числа пар. Таким образом, писал он, главный прогностический параметр локального вымирания – “малый размер популяции”120.
Небольшие популяции, конечно, не ограничиваются только островами. В пруду может жить небольшая популяция лягушек, а на лугу – полевок. При обычном ходе событий локальное вымирание происходит постоянно. Но когда оно становится следствием полосы неудач, эту территорию могут занять представители иной, более удачливой популяции, случайно забредя туда откуда-то еще. Что отличает острова – и объясняет феномен релаксации – так это то, что повторное заселение их затруднено, а зачастую фактически невозможно. (На материковом острове может сохраниться небольшая остаточная популяция, скажем, тигров, но, если она исчезнет, новые тигры, надо полагать, уже не приплывут.) То же справедливо для любого фрагмента среды обитания. Вероятность повторного заселения фрагмента, после того как популяция, обитавшая на нем, исчезла, зависит от того, чем он окружен. Исследователи из проекта BDFFP обнаружили121, что некоторые птицы, к примеру белоголовые пипры, охотно пересекают территории, расчищенные для прокладки дорог, а другие, скажем, чешуйчатые короткохвостые муравьянки, категорически отказываются это делать. Если повторного заселения не происходит, локальное вымирание способно превратиться в региональное, а затем, в конце концов, в глобальное.
* * *
Примерно в пятнадцати километрах от Заповедника-1202 грунтовая дорога пропадает и начинается полоса тропического леса, который по современным меркам считается девственным. Исследователи из проекта BDFFP разметили несколько участков этого леса в качестве контрольных, чтобы сравнивать происходящее во фрагментах с тем, что делается в непрерывном лесу. Недалеко от конца дороги разбит небольшой лагерь (Лагерь-41), где ученые спят, едят и пытаются укрыться от дождя. Я приехала туда с Кон-Хафтом после полудня, когда как раз пошел дождь. Мы бежали через лес, но это было бессмысленно – к тому времени, как мы добрались до Лагеря-41, вымокли до нитки.
Позже, когда ливень прекратился, мы отжали свои носки и направились в глубину леса. Небо все еще было пасмурным, и серый свет придавал зелени темный мрачноватый оттенок. Я подумала о Курупире, рыскающем среди деревьев на своих вывернутых ногах.
Эдвард Уилсон, дважды посещавший BDFFP, после одной из своих поездок писал: “Джунгли кишат жизнью, но так, что по большей части она проходит недосягаемо для человеческих органов чувств”122. Кон-Хафт сказал мне почти то же самое, но менее высокопарно: тропический лес “выглядит гораздо лучше по телевизору”. Сначала мне казалось, что вокруг нас нигде ничего не движется, но затем Кон-Хафт стал показывать мне признаки жизнедеятельности насекомых – и я начала замечать, сколько всего происходит, выражаясь словами Уилсона, “в маленьком скрытом мирке”. Палочник свесился с сухого листа, размахивая тонкими ножками. Паук притаился на колесовидной ловчей сети. Торчащая из лесной подстилки земляная трубочка фаллической формы оказалась домиком личинки цикады, а нечто на стволе дерева, напоминающее огромный вздутый живот, – гнездом, полным термитов. Кон-Хафт узнал растение, известное как меластома. Он перевернул один из листьев и постучал по полому стеблю. Наружу посыпались крошечные черные муравьи, выглядевшие так свирепо, как могут выглядеть только крошечные черные муравьи. Кон-Хафт объяснил, что муравьи защищают растение от других насекомых в обмен на бесплатное жилье.
Кон-Хафт вырос в Западном Массачусетсе, как выяснилось, недалеко от того места, где живу я. “В родных краях я считал себя натуралистом широкого профиля”, – сообщил он. Он мог назвать большинство деревьев и насекомых, встречавшихся на западе Новой Англии, а также всех птиц. Но в Амазонии невозможно было оставаться натуралистом широкого профиля – здесь попросту слишком богатое биоразнообразие. На участках проекта BDFFP насчитывается около тысячи четырехсот видов деревьев – даже больше, чем на участках Силмана, расположенных на полторы тысячи километров западнее.
“Это экосистемы с мегаразнообразием, где каждый вид крайне специализирован”, – сказал мне Кон-Хафт. “И в подобных экосистемах поощряется способность каждого вида делать именно то, что он делает”. Кон-Хафт выдвинул собственную теорию о том, почему жизнь в тропиках настолько пестрая: биоразнообразие обладает свойством самоподдержания. “Естественное следствие большого разнообразия видов – это низкая плотность популяций, а рецепт видообразования как раз и заключается в пространственной обособленности”. Но, добавил Кон-Хафт, это также означает уязвимость, поскольку небольшие изолированные популяции значительно сильнее подвержены вымиранию.
Солнце садилось, и в лесу стало сумрачно. Возвращаясь в Лагерь-41, мы увидели колонну муравьев, ползущих своей собственной тропой примерно в метре от нашей. Красновато-коричневые насекомые двигались почти по прямой линии; их путь пересекало большое (особенно для них) бревно. Они маршировали вверх по бревну, а затем снова вниз. Я попыталась увидеть конец или начало колонны, однако она все тянулась и тянулась, как на советском параде. По словам Кон-Хафта, ее составляли кочевые муравьи, принадлежащие виду Eciton burchellii.
Кочевой муравей Eciton burchellii
Кочевые муравьи – в тропиках их десятки видов – отличаются от большинства собратьев тем, что у них нет постоянного дома. Они проводят время либо в кочевой фазе, охотясь на других насекомых, пауков и иногда даже маленьких ящериц, либо в оседлой – во временных “бивуаках”. (Бивуаки у Eciton burchellii составляются самими муравьями, образующими вокруг матки жалящий, злобный шар.) Кочевые муравьи славятся своей прожорливостью: колония на марше способна потребить в день тридцать тысяч жертв – в основном личинок других насекомых. Однако при всей своей ненасытности они помогают множеству других видов. Существует целая группа птиц, известных как облигатные сопровождающие кочевых муравьев. Таких птиц почти всегда можно встретить вокруг муравьиных скоплений – они поедают насекомых, которых муравьи выгоняют из лесной подстилки. Другие птицы – оппортунистические сопровождающие – не прочь поклевать рядом с муравьями, если случайно с ними встретятся. Вслед за сопровождающими птицами тянется цепочка других существ, которые тоже отлично умеют “делать именно то, что они делают”. Есть бабочки, питающиеся пометом птиц, и мухи-паразиты, откладывающие яйца на телах сверчков и тараканов, которых спугнули муравьи123. Несколько видов клещей путешествуют на самих муравьях: представители одного вида прикрепляются к конечностям муравьев, другого – к их мандибулам. Американские натуралисты123 Карл и Мэриэн Реттенмейер, дольше пятидесяти лет изучавшие Eciton burchellii, составили список из более чем трехсот видов, взаимодействующих с муравьями.
Кон-Хафт не слышал никаких птичьих голосов, да и было уже поздно, так что мы продолжили идти к лагерю. Мы договорились, что вернемся на то же самое место завтра и постараемся поймать всю процессию из муравьев, птиц и бабочек.
В конце 1970-х годов энтомолог Терри Эрвин работал в Панаме и кто-то спросил его, как много видов насекомых можно обнаружить на одном гектаре тропического леса. До той поры Эрвин занимался в основном подсчетом жуков. Он распылял инсектицид по верхушкам деревьев, а затем собирал тельца насекомых, сыпавшиеся хрустким дождем с листьев. Заинтересовавшись более масштабным вопросом о том, сколько видов насекомых водится в тропиках в целом, он задумался, как бы использовать для расчета собственные данные. С одного-единственного вида дерева, Luehea seemannii, он собрал представителей более девятисот пятидесяти видов жуков. Оценив, что от этого вида дерева зависит примерно пятая их часть, что другие жуки точно так же зависят от других деревьев, что жуки представляют собой около 40 % всех видов насекомых и, наконец, что существует около пятидесяти тысяч видов тропических деревьев, Эрвин рассчитал, что тропики служат домом аж для тридцати миллионов видов членистоногих124 (помимо насекомых, к ним относятся, в частности, паукообразные и многоножки). Впоследствии он признавался, что и сам был потрясен собственным выводом.
С тех пор предпринималось множество попыток уточнить оценку Эрвина. В большинстве случаев ученые корректировали числа в сторону уменьшения (например, Эрвин, скорее всего, преувеличил долю насекомых, зависящих от единственного дерева-хозяина). И все же количество видов остается шокирующе высоким: согласно недавним оценкам, существует по меньшей мере два миллиона видов тропических насекомых, а возможно, и все семь125. Для сравнения – во всем мире всего около десяти тысяч видов птиц и лишь пять с половиной тысяч видов млекопитающих. Получается, на каждый вид с шерстью и молочными железами в одних только тропиках приходится как минимум триста видов с усиками и фасеточными глазами.
Богатство тропической фауны насекомых означает, что любая угроза тропикам обернется очень большим числом потенциальных жертв. Произведем расчет. Скорость уничтожения тропических лесов, как известно, сложно измерить, но допустим, что ежегодно вырубается один процент леса. Используя зависимость между количеством видов и площадью, S = cAz, и приняв z равным 0,25, можно вычислить, что потеря 1 % исходной площади влечет за собой потерю приблизительно 0,25 % исходных видов. Если предположить, что в тропических лесах, по самым скромным оценкам, живет два миллиона видов, это означает, что около пяти тысяч видов гибнет каждый год, то есть приблизительно четырнадцать видов в день, или один каждые сто минут.
Этот точный расчет был произведен Эдвардом Уилсоном в конце 1980-х годов вскоре после одной из его поездок в BDFFP126. Уилсон опубликовал результаты в журнале Scientific American, на их основании он пришел к выводу, что современные темпы вымирания “примерно в десять тысяч раз выше, чем естественная фоновая скорость”. Это, подчеркивал он далее, “уменьшает биологическое разнообразие до самого низкого уровня” со времен массового вымирания в конце мелового периода – хотя и не самого ужасного в истории, но “вне всяких сомнений самого известного, поскольку оно завершило эпоху динозавров, установило господство млекопитающих и в конечном итоге, к счастью или к сожалению, сделало возможным происхождение нашего собственного вида”.
Подсчеты Уилсона, как и Эрвина, поражали. А еще в них было легко разобраться (или по крайней мере повторить их), и они привлекли очень много внимания – не только в довольно узком кругу тропических биологов, но и в ведущих СМИ. “Дня не проходит без сообщения, что сведение тропических лесов уничтожает приблизительно один вид каждый час, а то и каждую минуту”, – сетовали двое британских экологов127. Однако сейчас, двадцать пять лет спустя, все единодушны во мнении, что подсчеты Уилсона – опять же как и Эрвина – не соответствуют наблюдениям, и этот факт должен послужить уроком для научных журналистов и популяризаторов науки даже больше, чем для ученых. Причины пока остаются предметом споров.
Одно возможное объяснение связано с тем, что вымирание происходит не моментально. В расчетах Уилсона предполагается, что, как только на некоем участке площади уничтожается лес, виды исчезают более или менее мгновенно. Однако для полной релаксации леса требуется некоторое время, и даже небольшие остаточные популяции могут продержаться долго – в зависимости от степени своей удачливости в игре на выживание. Это явление, когда существует разница между числом видов, которые оказались обречены на вымирание из-за каких-либо изменений в окружающей среде, и количеством видов, которые уже действительно успели исчезнуть, часто называют “отложенным вымиранием”. Этот термин означает, что между изменениями в среде и исчезновением видов есть определенная временнáя задержка – как при покупке в кредит.
Другое возможное объяснение заключается в том, что среда обитания, изчезающая при уничтожении лесов, на самом деле не совсем исчезает. Даже леса, вырубленные для заготовки древесины или сожженные под пастбища, могут вырасти – и вырастают – заново. Как ни странно, это отлично иллюстрирует зона вокруг BDFFP. Вскоре после того, как Лавджой убедил бразильских чиновников поддержать свой проект, в стране разразился парализующий долговой кризис, и к 1990 году уровень инфляции в годовом исчислении составил 30 000 %. Правительство отменило субсидии, обещанные фермерам, и сотни гектаров оказались заброшенными. Вокруг некоторых квадратных фрагментов BDFFP деревья начали расти снова так буйно, что могли бы полностью поглотить те участки, если бы Лавджой не распорядился опять изолировать их, вырубая и сжигая новую поросль. Хотя коренной лес в тропиках продолжает исчезать, вторичный в некоторых местах интенсивно растет.
Еще одно возможное объяснение того, почему наблюдения не соответствуют предсказаниям, состоит в том, что люди не слишком-то наблюдательны. Поскольку большинство видов в тропиках представлено насекомыми и другими беспозвоночными, они-то и станут основной массой предполагаемых жертв вымирания. Но так как мы не знаем, даже с точностью до миллиона, сколько существует видов тропических насекомых, то вряд ли заметим исчезновение одной, двух или даже десяти тысяч из них. В недавнем докладе Лондонского зоологического общества отмечается, что “природоохранный статус известен для менее чем 1 % всех описанных беспозвоночных” и что подавляющее большинство беспозвоночных, вероятно, еще даже не описано12. Беспозвоночные могут быть “крохами, которые правят миром”, как выразился Уилсон, однако крох легко проглядеть.
К тому времени как мы с Кон-Хафтом вернулись в Лагерь-41, туда прибыло еще несколько человек, в том числе жена Кон-Хафта, эколог Рита Мескита, и Том Лавджой – он был в Манаусе на заседании Фонда устойчивого развития штата Амазонас. Лавджою семьдесят с небольшим; ему ставят в заслугу то, что его стараниями термин “биологическое разнообразие” стал широко используемым и что он придумал идею “обмена долга на охрану природы”[74]. За свою карьеру он успел поработать со Всемирным фондом дикой природы, Смитсоновским институтом, Фондом ООН и Всемирным банком. В значительной степени благодаря его усилиям около половины тропических лесов Амазонии сейчас находятся под правовой защитой. Лавджой – один из тех редких людей, кому одинаково комфортно продираться через лес и выступать перед конгрессом США. Он везде ищет способы заручиться чьей-либо поддержкой ради сохранения Амазонии. Тем вечером он рассказал мне, что однажды привез в Лагерь-41 Тома Круза. Актер, похоже, неплохо провел время, но, к сожалению, так и не поддержал проект.
На сегодняшний день о деятельности BDFFP написано более пятисот научных статей и несколько книг. Когда я попросила Лавджоя резюмировать, чему успел научить нас этот проект, он ответил: тому, что нужно с большой осторожностью экстраполировать данные с части на целое. К примеру, недавнее исследование продемонстрировало, что изменения в землепользовании в Амазонии влияют также на циркуляцию атмосферного воздуха. Это означает, если брать шире, что сведение тропических лесов может привести не только к их исчезновению, но и к прекращению дождей.
“Предположим, в итоге вы остались с ландшафтом, изрезанным на фрагменты в сто гектаров, – сказал Лавджой. – Я думаю, проект показал, что фактически вы потеряли более половины видов фауны и флоры. Конечно же, как вы прекрасно знаете, в реальном мире всегда все сложнее”.
Бóльшая часть результатов работ по BDFFP действительно представляла собой вариации на тему потерь. В зоне проекта водится шесть видов приматов. Во фрагментах леса трех из них нет – краснолицей коаты, капуцина-фавна и красноспинного саки. Птицы вроде большого длиннохвостого древолаза и оливковоспинного лесного филидора, перемещающиеся в многовидовых стаях, почти исчезли из меньших фрагментов, а в крупных встречаются гораздо реже, чем прежде. Лягушки, использующие для размножения грязевые лужи пекари, исчезли вместе с самими пекари, создававшими эти лужи. Чем ближе к границам фрагментов, тем реже встречались представители многих видов, чувствительных даже к небольшим изменениям освещенности и температуры; правда, количество светолюбивых бабочек выросло.
Между тем – хотя это уже несколько за рамками проекта BDFFP – существует порочная синергия между фрагментацией лесов и глобальным потеплением, равно как и между глобальным потеплением и закислением океана, глобальным потеплением и инвазивными видами, инвазивными видами и фрагментацией. Вид, которому необходимо мигрировать, чтобы справляться с растущими температурами, но который угодил в ловушку лесного фрагмента – пусть даже очень большого, – вряд ли выживет. Одна из отличительных особенностей антропоцена состоит в следующем: мир меняется таким образом, что, с одной стороны, биологические виды вынуждены перемещаться, а с другой – воздвигаются барьеры (дороги, вырубки, города), препятствующие этому самому передвижению.
“С 1970-х годов я все время размышляю об изменении климата”, – сказал мне Лавджой. Он писал, что “под угрозой климатических изменений, пусть даже естественных, человеческая деятельность создала полосу препятствий для распространения биоразнообразия”, результатом чего может стать “один из величайших биотических кризисов в истории”128.
Той ночью все рано легли спать. После нескольких часов сна, пролетевших как пара минут, я проснулась от неимоверно странного шума. Казалось, звук исходит ниоткуда и отовсюду. Он то нарастал, то резко стихал, а как только я начинала проваливаться в сон, раздавался снова. Я знала, что это брачный зов какой-то лягушки, так что выбралась из гамака и взяла фонарик, чтобы осмотреться. Мне не удалось найти источник звука, зато я увидела насекомое с биолюминесцирующей полоской, которое с удовольствием положила бы в банку, если бы она у меня была. Утром Кон-Хафт продемонстрировал мне пару амазонских костноголовов, сцепившихся в амплексусе. Лягушки были оранжевато-коричневого цвета, с лопатообразными мордами. Самец, обхвативший спину самки, был вполовину меньше нее. Я вспомнила, как читала, что земноводным в долине Амазонки, похоже, удалось избежать заражения хитридиевым грибком, по крайней мере пока. Кон-Хафт, как и все остальные, вынужденно бодрствовавший из-за воплей, описал зов лягушки как “долгий стон, взрывающийся ревом и завершающийся гогочущим смехом”.
После нескольких чашек кофе мы отправились смотреть муравьиный парад. Лавджой планировал пойти с нами, но, когда он надевал рубашку, поселившийся в рукаве паук укусил его в руку. Паук выглядел вполне обычным, однако место укуса начало угрожающе краснеть, а рука у Лавджоя онемела. Было решено, что он останется в лагере.
“Идеальный метод – позволить муравьям огибать вас, – объяснял Кон-Хафт по пути. – Тогда у вас не будет никакого выхода, словно вы загнали себя в угол. А муравьи будут заползать на вас и кусать одежду. Вот вы и в центре событий”. Вдалеке Кон-Хафт услышал крик красногорлой пестрой муравьянки, нечто среднее между чириканьем и кудахтаньем. Муравьянки – облигатные сопровождающие муравьев (что очевидно по их названию), так что Кон-Хафт счел это хорошим знаком. Когда же мы через несколько минут добрались до места, где накануне видели бесконечную колонну насекомых, их там не оказалось. Кон-Хафт услышал откуда-то с деревьев голоса двух других любителей муравьев – пронзительный свист белобородой аракуры и оживленное чириканье белогорлого дятлового древолаза. Вероятно, они тоже искали муравьев.
Белобородая аракура (Pithys albifrons)
“Они так же обескуражены, как и мы”, – сказал Кон-Хафт. Он предположил, что муравьи перемещали свой бивуак и перешли в так называемую оседлую фазу своего существования. Во время этой фазы муравьи остаются более или менее на одном месте – чтобы вырастить новое поколение. Оседлая фаза может длиться до трех недель, и этот факт помог объяснить одно из озадачивающих открытий, сделанных благодаря проекту BDFFP: даже в тех фрагментах леса, которые достаточно обширны для выживания колоний кочевых муравьев, птицы из семейства полосатых муравьеловок в конце концов исчезают. Облигатным сопровождающим жизненно необходимы муравьи-фуражиры, чтобы их сопровождать, и по-видимому, во фрагментах леса колоний муравьев просто недостаточно для того, чтобы всегда хотя бы одна колония гарантированно была активной. Здесь снова, как объяснил мне Кон-Хафт, проявляется логика тропического леса. Полосатые муравьеловки настолько хорошо “делают именно то, что они делают”, что чрезвычайно чувствительны к любым изменениям, осложняющим их специфический образ жизни.
“Когда нечто зависит от чего-то другого, что, в свою очередь, зависит от чего-то еще, вся цепочка взаимодействий зиждется на постоянстве”, – сказал он. Я размышляла об этом, пока мы брели обратно в лагерь. Если Кон-Хафт прав, то в своей безумной, какой-то чуднóй многосложности парад муравьев, птиц и бабочек на самом деле служит символом стабильности Амазонии. Лишь в тех местах, где правила игры остаются неизменными, у бабочек есть время приспособиться к питанию пометом птиц, которые приспособились сопровождать муравьев. Да, мне было досадно, что мы не нашли муравьев. Но я понимала, что птицам намного хуже.
Глава 10 Новая Пангея Myotis lucifugus
Лучшее время для учета численности летучих мышей – глухая зима. Эти млекопитающие относятся к “истинно зимоспящим” животным. Когда температура воздуха понижается, они начинают искать место, где можно осесть – повиснуть вниз головой, ведь летучие мыши в спячке цепляются за что-нибудь пальцами задних конечностей. В северо-восточной части США первыми из летучих мышей в спячку обычно впадают малые бурые ночницы. В конце октября или начале ноября они ищут укрытие вроде пещеры или шахты, где условия не будут меняться. Вскоре к малым бурым ночницам присоединяются восточноамериканские нетопыри, а затем – большие бурые кожаны и малоногие ночницы. Температура тела летучей мыши в спячке падает на 25–30 °C, часто почти до нуля. Сердечный ритм замедляется, иммунная система сильно сбавляет обороты, и летучая мышь, повиснув вверх ногами, впадает в состояние, близкое к анабиозу. Для подсчета спящих летучих мышей требуются крепкая шея, хороший налобный фонарь и пара теплых носков.
В марте 2007 года несколько биологов – специалистов по дикой природе из Олбани, штат Нью-Йорк, отправились в пещеру на западе от города, чтобы провести перепись летучих мышей. Это была рутинная процедура, настолько обычная, что их руководитель Эл Хикс остался в офисе. Но как только биологи оказались в пещере, они схватились за мобильные телефоны.
Хикс, работающий в Департаменте охраны окружающей среды штата Нью-Йорк, вспоминал, как они взволнованно сообщили ему: “Боже правый, тут повсюду дохлые летучие мыши!” Хикс велел принести несколько трупиков в офис. Также он попросил биологов по мере возможности сфотографировать всех летучих мышей, оставшихся в живых. Изучая снимки, Хикс заметил, что животных будто обмакнули в порошок талька, начиная с носа. Ни с чем подобным он никогда раньше не сталкивался, поэтому разослал фотографии всем специалистам по летучим мышам, каких только мог вспомнить. Никто из них тоже прежде не видел ничего похожего. Некоторые коллеги Хикса из других штатов ответили в шутливом тоне: их интересовало, что же нюхают летучие мыши в Нью-Йорке.
Пришла весна. Летучие мыши штата Нью-Йорк и всей Новой Англии пробудились от спячки и разлетелись кто куда. Тайна белого порошка осталась нераскрытой. “Мы думали: черт возьми, пусть это просто пройдет и больше не повторится, – рассказывал мне Хикс. – Это было похоже на чаяния по поводу администрации Буша. Но, как и администрация Буша, оно никуда не делось”. Напротив – распространилось. Следующей зимой та же белая порошкообразная субстанция обнаружилась на летучих мышах уже в тридцати трех пещерах четырех различных штатов. А животные продолжали умирать. В некоторых местах зимней спячки их популяции сократились более чем на 90 %. В одной пещере в Вермонте тысячи трупиков попадали со свода, образовав нагромождения, похожие на сугробы.
Падеж летучих мышей продолжился и следующей зимой, охватив еще пять штатов, а потом и зимой следующего года – еще в трех новых штатах. И хотя во многих местах уже почти не осталось летучих мышей, вымирание продолжается до сих пор. Белый порошок, как теперь известно, – это холодолюбивый грибок (такие микроорганизмы называют психрофилами), случайно завезенный в США, возможно, из Европы. Когда его впервые выделили, этот гриб из рода Geomyces не имел видового названия. Из-за губительного влияния на летучих мышей он получил имя Geomyces destructans[75].
Малая бурая ночница (Myotis lucifugus) с синдромом белого носа
Для большинства видов перемещения на большие расстояния без участия человека сложны, практически невозможны. Этот факт, по Дарвину, был наиважнейшим. Его теория происхождения посредством модификаций требовала, чтобы каждый вид развивался только на территории своего зарождения. Чтобы расселиться куда-то еще, представители этого вида ползли, или плыли, или скакали, или шли, или разбрасывали свои семена по ветру. Если времени было достаточно, даже малоподвижный организм, скажем, гриб, мог, согласно Дарвину, стать широко распространенным. Но именно благодаря границам распространения и происходило все самое интересное, ведь это они создали такое богатство жизни и вместе с тем закономерности, различаемые в этом разнообразии. К примеру, преграды, воздвигнутые океанами, объясняют, почему обширные пространства Южной Америки, Африки и Австралии, хотя и, по словам Дарвина, “очень близкие” по климату и топографии, населены совершенно различными представителями флоры и фауны. Существа на каждом континенте развивались независимо друг от друга, и в этом смысле физическая изоляция превратилась в биологическую несходность. Аналогичным образом преграды, создаваемые сушей, объясняют, почему рыбы восточной части Тихого океана отличаются от рыб западной части Карибского моря, хотя эти две группы, как писал Дарвин, “разделены лишь узким, но непроходимым Панамским перешейком”. На более локальном уровне виды, встречающиеся по одну сторону горного хребта или крупной реки, часто отличаются от видов по другую, хотя обычно – что немаловажно – состоят в родстве. Так, например, Дарвин отмечал: “Равнины, расстилающиеся у Магелланова пролива, населены одним видом Rhea (американского страуса), а лежащие севернее равнины Ла-Платы – другим видом того же рода, но не настоящим страусом и не эму, сходными с теми, которые под той же широтой живут в Африке и Австралии”[76].
Границы распространения интересовали Дарвина и по другой причине, более труднообъяснимой. Как он видел собственными глазами, даже такие отдаленные вулканические острова, как Галапагосы, полны жизни. И действительно – там водилось множество самых поразительных существ в мире. Чтобы его теория эволюции оказалась верна, эти существа должны были быть потомками видов-колонизаторов. Но как прибыли на острова эти первые колонизаторы? Восемьсот километров открытой воды отделяют Галапагосы от берегов Южной Америки. Этот вопрос настолько мучил Дарвина, что он потратил больше года на попытки в саду своего дома в Кенте смоделировать пересечение океана. Он собирал семена и помещал их в емкости с соленой водой. Каждые несколько дней он вылавливал некоторые семена и высаживал их. Эта процедура отнимала много времени, поскольку, как Дарвин писал другу, “воду необходимо менять через день, иначе она начинает издавать ужасный запах”129. Однако результаты, как он считал, были многообещающими130: семена ячменя все еще прорастали после четырехнедельного вымачивания, кресс-салата – после шести недель, хотя при этом “производили удивительное количество слизи”. Если скорость океанического течения принять равной одной миле в час, то за шесть недель семена могло унести более чем на тысячу миль.
А что насчет животных? Здесь методы Дарвина стали еще изощреннее. Он отрезал лапы у утки и поместил их в емкость, заполненную молодью улиток. Через некоторое время он достал их и предложил своим детям посчитать, сколько молодых улиток прикрепилось к утиным конечностям. Дарвин обнаружил, что крошечные моллюски могли существовать без воды до двадцати часов – за это время, по его расчетам, утка (со своими ногами) в состоянии преодолеть шесть-семь сотен миль40. Он подметил, что отсутствие на многих отдаленных островах аборигенных млекопитающих помимо летучих мышей, умеющих летать, – не простое совпадение40.
Дарвиновские идеи относительно “географического распространения” имели значительные последствия, часть которых была осознана лишь спустя десятилетия после его смерти. В конце XIX века палеонтологи начали замечать много любопытных совпадений, демонстрируемых окаменелостями, найденными на разных континентах. Например, мезозавр – это жившая в пермском периоде тощая рептилия с торчащими наружу зубами. Остатки мезозавров находят как в Африке, так и за океаном – в Южной Америке. Глоссоптерис – папоротник с языковидными листьями, тоже из пермского периода. Его ископаемые остатки обнаруживаются в Африке, Южной Америке и Австралии. Поскольку сложно было представить, каким образом крупная рептилия могла пересечь Атлантический океан, а растение – и Атлантический, и Тихий, пришлось призвать на помощь гипотезу о неких гигантских перешейках длиной в тысячи километров. Почему и куда исчезли эти сухопутные мосты, соединяющие континенты, никто не знал; вероятно, погрузились под воду. В самом начале XX века немецкий метеоролог Альфред Вегенер выдвинул идею получше.
Он писал: “Континентальные глыбы должны были перемещаться в горизонтальном направлении…Южная Америка должна была располагаться возле Африки и составлять с нею единый континентальный блок, расколовшийся в меловом периоде на две части, которые затем, подобно кускам треснувшей в воде льдины, в течение миллионов лет все дальше отходили друг от друга”131[77]. Некогда, предположил Вегенер, все современные континенты образовывали единый гигантский суперконтинент – Пангею. Вегенеровская теория дрейфа материков, которую резко высмеивали при жизни ученого, естественно, в значительной степени была реабилитирована, когда появилась концепция тектоники литосферных плит.
Одна из ярких особенностей антропоцена состоит в том, что он скомкал все принципы географического распространения. Если шоссе, вырубки и плантации соевых бобов создают “острова” там, где раньше их не было, то международная торговля и путешествия по всему миру делают обратное – лишают обособленности даже самые отдаленные острова. Процесс перемешивания мировых флоры и фауны, который сначала шел медленно – он проходил вдоль маршрутов ранних миграций человека, – в последние десятилетия ускорился до такой степени, что в некоторых уголках мира количество неаборигенных видов растений сейчас превышает количество местных. По подсчетам, за любой двадцатичетырехчасовой период только лишь в балластных водах по миру перемещаются десять тысяч различных видов132. Таким образом, один-единственный супертанкер (да и вообще пассажирский лайнер) может свести на нет результаты миллионов лет географического разобщения. Энтони Риккарди из Университета Макгилла, специалист по интродуцированным видам, назвал современное перетасовывание биоты Земли “явлением массового вторжения”133, “беспрецедентным” в истории планеты.
Я живу к востоку от Олбани, как выяснилось – сравнительно недалеко от пещеры, где были впервые обнаружены груды мертвых летучих мышей. К тому времени как я узнала, что происходит, так называемый синдром белого носа уже распространился вплоть до Западной Вирджинии и уничтожил около миллиона летучих мышей. Я позвонила Элу Хиксу, и, поскольку как раз начался очередной период переписи летучих мышей, он предложил мне присоединиться к ближайшей вылазке. Холодным серым утром мы встретились на парковке возле офиса Хикса, а оттуда направились почти строго на север, к горному хребту Адирондак.
Примерно через два часа мы доехали до подножия горы неподалеку от озера Шамплейн. В XIX веке, а затем во Вторую мировую войну Адирондак служил основным источником железной руды, и в горах пробурили глубокие шахты. Когда руда закончилась, шахты забросили – и туда заселились летучие мыши. Мы собирались провести перепись в шахте Бартон-Хилл. Вход в нее находился примерно на середине склона горы, покрытого метровым слоем снега. Приплясывая от холода, у тропы стояло полтора десятка человек. Большинство из них, как и Хикс, работало на штат Нью-Йорк, но еще там было двое биологов из Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США (USFWS[78]) и местный писатель-романист, который собирал материал для своей книги, куда надеялся вплести сюжетную линию, связанную с синдромом белого носа.
Все надели снегоступы, кроме писателя, видно, пропустившего сообщение о том, что их следует прихватить с собой. Снег был покрыт ледяной коркой, приходилось идти медленно, так что нам потребовалось полчаса, чтобы пройти около километра. В ожидании отставшего писателя – ему нелегко было преодолевать сугробы метровой глубины – мы заговорили о потенциальных опасностях, что подстерегают желающих посетить заброшенную шахту. Там, как мне поведали, можно оказаться раздавленным падающими камнями, отравиться просачивающимся газом и свалиться с тридцатиметрового обрыва. Еще через полчаса мы дошли до входа в шахту – по сути, большой дыры, проделанной в горном склоне. Камни рядом со входом были белыми от птичьего помета, а на снегу виднелись следы лап. Судя по всему, вóроны и койоты обнаружили, что здесь легко можно добыть себе обед.
“Вот черт!” – воскликнул Хикс. Летучие мыши порхали из шахты и обратно, а некоторые ползали вокруг по снегу. Хикс решил поймать одну из них: она была настолько вялой, что ему удалось это с первой попытки. Он зажал мышь между большим и указательным пальцами, сломал ей шею и положил в пакет с застежкой. “Сегодня перепись будет короткой”, – констатировал он.
Мы отстегнули снегоступы, надели шлемы и налобные фонари и двинулись в шахту, вниз по длинному наклонному туннелю. Повсюду валялись сломанные балки, а из темноты на нас налетали летучие мыши. Хикс попросил всех сохранять бдительность. “Тут есть места, куда если зайдешь – обратно уже не выйдешь”, – предупредил он. Туннель петлял, иногда открывая нашему взору огромные пустоты размером с концертный зал, откуда вели боковые ходы. У части таких помещений были свои имена. Дойдя до мрачного перехода под названием “Секция Дона Томаса”, мы разделились на группы, чтобы начать перепись. Процесс заключался в том, чтобы сфотографировать как можно больше летучих мышей (потом, в Олбани, кто-то будет сидеть перед монитором компьютера и пересчитывать их по фотографиям). Я пошла с Хиксом и одним из биологов из USFWS, у первого была здоровенная камера, у второго – лазерная указка. Летучие мыши – высокосоциальные животные, поэтому в шахте они свисали с каменного потолка большими гроздьями. Больше всего было малых бурых ночниц – Myotis lucifugus, или просто lucis на жаргоне ведущих подсчет. Это преобладающий вид летучих мышей на северо-востоке США, и именно малых бурых ночниц чаще всего видят летними ночами. Как следует из их названия, они небольшие – длиной около двенадцати сантиметров и массой граммов шесть – и бурые, а на животе шерстка посветлее. (Поэт Рэндалл Джаррелл описал их цвет как “кофе со сливками”134.) Свисая с потолка со сложенными крыльями, зверьки напоминали подмоченные помпоны. Были там и малоногие ночницы (Myotis leibii), которых можно отличить по очень темным мордочкам, и индианские ночницы (Myotis sodalis), еще до появления синдрома белого носа числившиеся в списке вымирающих видов. Своими передвижениями мы нарушали покой летучих мышей, которые пищали и шебуршали, как полусонные дети.
Несмотря на свое название, синдром белого носа не ограничивается носами. Углубляясь в шахту, мы постоянно замечали летучих мышей с пятнами грибка на крыльях и ушах. Несколько таких животных – в исследовательских целях – были отправлены на тот свет с помощью большого и указательного пальцев. У каждой мертвой мыши определили пол (самцов можно отличить по крошечным пенисам) и положили ее в пакет с застежкой.
До сих пор не вполне понятно, как именно Pseudogymnoascus destructans убивает летучих мышей. Известно, что особи с синдромом белого носа часто выходят из спячки и летают днем. Существует гипотеза, что грибок, буквально разъедающий кожу летучих мышей, растревоживает их до такой степени, что они пробуждаются. Это, в свою очередь, вынуждает их растрачивать запасы отложенного на зиму жира. На грани истощения они вылетают на открытое пространство в поисках насекомых, которых, разумеется, найти в это время года невозможно. Также было выдвинуто предположение, что грибок вызывает у летучих мышей обезвоживание, поскольку через пораженную кожу они теряют влагу. Это заставляет их просыпаться и отправляться на поиски воды135. Опять же им приходится растрачивать ценные запасы энергии, из-за чего в конце концов, изможденные, они умирают.
Мы вошли в шахту Бартон-Хилл примерно в час дня, а к семи вечера почти вернулись в исходную точку своего путешествия у подножия склона, только теперь мы находились внутри горы. Подойдя к огромной ржавой лебедке, которая когда-то использовалась для подъема руды на поверхность, мы увидели, что проходившая под ней тропа исчезает в озере с черной, как река Стикс, водой. Дальше идти было некуда, так что мы начали взбираться наверх.
Перемещение видов по планете иногда сравнивают с русской рулеткой. Как и в игре с высокими ставками, при появлении нового организма в каком-то месте возможны два различных варианта. В первом, назовем его вариантом холостого выстрела, ничего не происходит. Потому ли, что климат непригоден, или существо не в состоянии найти достаточно пропитания, или его съедают другие, или в силу многих иных причин, новоприбывший организм не выживает (или по крайней мере не может размножаться). Большинство потенциальных вторжений остаются незафиксированными – а попросту и незамеченными, – поэтому сложно получить точные числа; впрочем, почти наверняка основная масса потенциальных вторженцев терпит поражение.
Во втором варианте новый организм не просто выживает сам, но и дает жизнь следующему поколению, которое, в свою очередь, тоже выживает и размножается. Ученые, специализирующиеся на инвазии чужеродных организмов, называют такой вид “обосновавшимся”. Опять же невозможно сказать наверняка, как часто такое происходит; многие обосновавшиеся виды, вероятно, продолжают обитать в том месте, куда они исходно попали, или же они настолько безобидны, что остаются незамеченными. Однако определенное количество видов делает третий шаг в процессе вторжения, а именно начинает “расселяться”. В 1916 году в питомнике растений близ Ривертона, штат Нью-Джерси, была обнаружена дюжина странных жуков136. За год насекомые, ныне известные как Popillia japonica, или хрущик японский, распространились во всех направлениях и встречались на площади уже около восьми квадратных километров. За следующий год их ареал расширился до восемнадцати квадратных километров, а еще год спустя достиг ста двадцати пяти квадратных километров. Жук продолжал стремительно расширять территорию своего обитания и через двадцать лет встречался повсеместно уже от Коннектикута до Мэриленда (с тех пор он успел расселиться на юг до Алабамы и на запад до Монтаны). Работающий в Массачусетском университете специалист по инвазивным видам Рой ван Дрише рассчитал, что из каждой сотни потенциальных вторженцев обосноваться удастся пяти – пятнадцати137. А из них лишь один – возвращаемся к аналогии с рулеткой – окажется тем, кто “выстрелит”.
Почему некоторые интродуцированные виды способны распространяться столь интенсивно – остается предметом споров. Возможно, для видов, как для бродяг, есть преимущества в том, чтобы находиться в постоянном движении. Виды, завезенные в новое место, особенно на новый материк, обошли многих конкурентов и хищников. Это избавление от недругов, а на самом деле избавление от эволюционной истории, называют “уходом от врагов”. Существует множество организмов, по-видимому, сумевших извлечь пользу из подобного освобождения, например дербенник иволистный, или плакун-трава, попавший в северо-восточную часть США из Европы в начале XIX века. В своей естественной среде обитания дербенник иволистный окружен массой специализированных врагов, включая два вида жуков из семейства листоедов (Galerucella calmariensis и Galerucella pusilla), долгоносика Hylobius transversovittatus и длиннотела Nanophyes marmoratus. Когда же растение оказалось в Северной Америке, вокруг этих жуков не было, что помогает объяснить, почему дербеннику иволистному удалось заполонить заболоченные участки от Западной Вирджинии до штата Вашингтон. Некоторые из этих специализированных хищников были сравнительно недавно завезены в США – чтобы контролировать распространение растения-захватчика.
Подобная стратегия использования одного инвазивного вида против другого дает неоднозначные результаты. В ряде случаев она оказывается крайне успешной, но иногда вырождается в экологическую катастрофу, как в истории с хищной улиткой Euglandina rosea, завезенной на Гавайи в конце 1950-х годов. Эту улитку родом из Центральной Америки привезли для того, чтобы она охотилась на ранее интродуцированный вид – ахатину гигантскую (Achatina fulica), ставшую сельскохозяйственным вредителем. Но Euglandina rosea довольно равнодушно отнеслась к Achatina fulica и сосредоточила свое внимание на небольших разноцветных местных улитках. Из более чем семисот видов эндемичных улиток, когда-то населявших острова, к настоящему времени вымерло около 90 %, и число оставшихся резко сокращается138.
Естественное следствие избавления от старых врагов заключается в том, чтобы найти новые незадачливые организмы и одержать над ними верх. Особенно знаменитый – и жуткий – пример продемонстрировала длинная и тонкая змея – коричневая бойга (Boiga irregularis). Весьма типичная для Папуа – Новой Гвинеи и Северной Австралии змея попала на Гуам в 1940-е годы, вероятно, ее случайно завезли с военным грузом. Единственным аборигенным видом змей на острове было слепое существо размером с червяка; таким образом, фауна Гуама была совершенно не готова к вторжению коричневой бойги с ее прожорливостью. Та съела почти всех местных птиц, включая гуамскую миагру (последний раз ее видели в 1984 году), гуамского пастушка (этот вид продолжает существовать только благодаря программе по его разведению в неволе) и марианского пестрого голубя (на Гуаме его больше нет, хотя вид сохраняется на нескольких других, меньших островах). До появления коричневой бойги на Гуаме водилось три аборигенных вида млекопитающих, все летучие мыши; сейчас остался лишь один – марианская летучая лисица, да и та находится на грани исчезновения. Тем временем змея, не имея естественных врагов, размножалась с безумной скоростью; плотность ее популяции на пике так называемой вспышки численности составляла около десяти особей на тысячу квадратных метров. Коричневая бойга настолько тщательно опустошала остров, что на нем практически не осталось местных животных, которых можно было бы поглощать; в наши дни она питается в основном другими вторженцами, например четырехпалым сцинком Carlia ailanpalai, ящерицей, также завезенной на Гуам из Папуа – Новой Гвинеи. Писатель Дэвид Кваммен предостерегает, что, хотя демонизировать коричневую бойгу легко, животное-то не злобное; оно просто лишено морали и оказалось не в том месте. По его словам, Boiga irregularis сделала на Гуаме “абсолютно то же самое, что Homo sapiens проделал со всей планетой: непомерно преуспел за счет других видов”139.
Ситуация с интродуцированными патогенами примерно такая же. Длительные взаимоотношения между ними и их хозяевами часто описываются в военных терминах: обе группы увязли в “эволюционной гонке вооружений”, для выживания в которой каждая сторона не должна позволить другой вырваться слишком далеко вперед. Возникновение абсолютно нового патогена – словно появление пистолета в драке на ножах. Новый хозяин, никогда прежде не сталкивавшийся с грибком (или вирусом, или бактерией), не имеет против него никакой защиты. Подобные ранее не существовавшие взаимодействия рискуют оказаться фатальными. В 1800-х годах каштан американский был господствующим лиственным деревом в лесах на востоке США; скажем, в Коннектикуте и похожих местностях он составлял около половины деревьев137. (Это дерево, у которого новые побеги могут прорастать от корней, чувствовало себя неплохо даже при массовых лесозаготовках; как написал однажды фитопатолог Джордж Хептинг, “из одного и того же каштана можно было сделать не только колыбельку для младенца140, но и гроб для старика, каким этот младенец со временем станет”.) Затем, на рубеже столетий, в США был ввезен, вероятно, из Японии, грибок Cryphonectria parasitica, вызывающий у каштана рак коры.
Азиатские каштаны, эволюционировавшие совместно с Cryphonectria parasitica, легко противостояли грибку, но для каштана американского летальность составила почти 100 %. К 1950-м годам грибок уничтожил практически все каштаны в США – около четырех миллиардов. Вместе с деревом исчезло и несколько видов зависевших от него мотыльков. Предположительно именно “необычность” также и хитридиевого грибка объясняет его смертоносность. Вот почему так внезапно исчезли золотые лягушки из Потока тысячи лягушек в Панаме, а амфибии в целом – класс, находящийся под наибольшей угрозой вымирания.
Еще до того, как был выявлен возбудитель синдрома белого носа, Эл Хикс и его коллеги заподозрили, что виновник – некий интродуцированный вид. Что бы ни убивало летучих мышей, по всей видимости, это было нечто, с чем они никогда прежде не сталкивались, раз уровень смертности настолько высок. Тем временем синдром распространялся из северной части штата Нью-Йорк по классической схеме концентрических кругов. Это указывало на то, что убийца осел где-то вблизи Олбани. Когда о вымирании летучих мышей стали говорить в национальных новостях, один спелеолог отправил Хиксу несколько фотографий, сделанных в шестидесяти пяти километрах к западу от города. На них были запечатлены летучие мыши с явными признаками синдрома белого носа, а датировались снимки 2006 годом, то есть были сделаны за год до того, как коллеги Хикса позвонили ему с возгласом “Боже правый!”. Спелеолог сделал фотографии в одном из гротов Пещеры Хоув, популярного туристического места, где помимо прочего проводятся туры с фонариками и подземные экскурсии на лодках.
“Любопытно, что первым документальным свидетельством о заболевании послужили фотографии из известной пещеры в Нью-Йорке, которую ежегодно посещают около двухсот тысяч человек”, – сказал мне Хикс.
Интродуцированные виды стали настолько неотъемлемой частью такого количества ландшафтов, что пару-тройку вы наверняка увидите, просто выглянув в окно. Скажем, сейчас из окна своего дома в Западном Массачусетсе я вижу траву, кем-то когда-то здесь посаженную, которая точно не является аборигенным видом Новой Англии (почти все виды трав на американских лужайках – включая мятлик луговой[79] – пришельцы). Поскольку моя лужайка не особенно ухоженная, на ней растет множество одуванчиков, прибывших из Европы и расселившихся практически повсюду, а еще чесночник лекарственный и подорожник большой – тоже вторженцы из Европы. (Подорожник большой, Plantago major, похоже, приплыл вместе с самыми первыми белыми поселенцами и считался настолько надежным признаком их присутствия, что индейцы назвали его “следы белого человека”.) Если я выйду из-за стола и прогуляюсь до края лужайки, вот что попадется мне на глаза: шиповник многоцветковый, колючее инвазивное растение из Азии; морковь дикая, прибывшая из Европы; лопух, тоже из Европы; древогубец круглолистный, завезенный из Азии. Согласно результатам изучения видов в гербариях Массачусетса, почти треть всех задокументированных видов растений штата –“натурализовавшиеся приезжие”141. Если я копну землю сантиметров на десять, то увижу земляных червей – тоже “приезжих”. До прибытия европейцев в Новой Англии не было своих земляных червей – их всех погубило последнее оледенение, и даже спустя десять тысяч лет относительного тепла местные для Северной Америки виды этих животных еще не заселили Новую Англию заново. Земляные черви поедают опавшую листву и тем самым существенно меняют состав лесной почвы. (Хотя садоводы и обожают земляных червей, результаты недавних исследований связали интродукцию этих животных с сокращением численности местных саламандр в северо-восточных штатах142.) Пока я пишу эти строки, по Массачусетсу распространяются несколько новых и потенциально опасных захватчиков. Помимо Pseudogymnoascus destructans к ним относятся азиатский усач, завезенный из Китая и питающийся различными лиственными деревьями; ясеневая изумрудная узкотелая златка, прибывшая тоже из Азии (личинки этого жука прогрызают кору ясеня, убивая дерево), и речная дрейссена, пресноводный моллюск из Восточной Европы, имеющий дурную привычку прикрепляться к любой доступной поверхности и поедать все подряд в водной толще.
“Останови водных автостопщиков”[80] – гласит знак, установленный у озера неподалеку от моего дома. “Очистите все снаряжение”. На знаке изображена лодка, полностью заросшая речными дрейссенами, словно кто-то по ошибке покрыл ее моллюсками вместо краски.
Где бы вы ни читали эти строки, ситуация везде будет схожей – и это относится не только к США, но и ко всему миру. База данных по инвазивным видам Европы включает в себя более двенадцати тысяч наименований. Базы данных по чужеродным видам Азиатско-Тихоокеанского региона, по лесным инвазивным видам Африки, по биоразнообразию и инвазивным видам островов и по неаборигенным морским и эстуарным видам США[81] содержат еще намного больше названий.
В Австралии эта проблема настолько серьезна, что к ее решению привлекают даже детей начиная с дошкольного возраста. Городской совет Таунсвилла, расположенного к северу от Брисбена, призывает детей устраивать “регулярную охоту” на жаб ага, которые были намеренно – но, как оказалось, с губительными последствиями – завезены в 1930-х годах для регулирования численности жуков из семейства пластинчатоусых, вредителей сахарного тростника (ага ядовиты, а доверчивые местные виды, такие как северная сумчатая куница, едят их – и погибают). Чтобы избавляться от жаб гуманным способом, городской совет просит детей “охлаждать жаб в холодильнике двенадцать часов”, а затем помещать “в морозилку еще на двенадцать часов”. Согласно результатам недавнего исследования, посещающие Антарктиду туристы и ученые за один летний сезон привозят с собой более семидесяти тысяч семян с других континентов143. Один вид травянистых растений из Европы, мятлик однолетний (Poa annua), уже сумел там обосноваться. Поскольку в Антарктиде всего два вида местных растений, получается, что теперь треть растений на материке – вторженцы.
С позиции мировой биоты путешествия по миру представляют собой кардинально новое явление – и в то же время повторение очень старого. Расхождение континентов, которое Вегенер вывел на основании палеонтологической летописи, теперь сменилось обратным процессом – это еще один пример того, как люди прокручивают геологическую историю вспять, причем с высокой скоростью. Представьте себе этот процесс как ускоренную версию движения литосферных плит, только без самих плит. Перемещая азиатские виды в Северную Америку, североамериканские – в Австралию, австралийские – в Африку, а европейские – в Антарктиду, мы, по сути, заново собираем мир в один гигантский суперконтинент. Биологи иногда называют его Новой Пангеей.
Пещера Эола, спрятавшаяся в лесистых холмах Дорсета, штат Вермонт, считается крупнейшим в Новой Англии местом зимней спячки летучих мышей. По оценкам специалистов, до появления синдрома белого носа туда прилетало на зимовку почти триста тысяч особей – даже из столь отдаленных мест, как Онтарио и Род-Айленд. Через несколько недель после того, как я побывала с Хиксом в шахте Бартон-Хилл, он пригласил меня поехать с ним в пещеру Эола. Данная поездка была организована Департаментом охраны рыбных ресурсов и диких животных штата Вермонт. На этот раз у подножия холма нам не пришлось надевать снегоступы – мы все уселись на снегоходы. Дорога взбегала вверх, петляя длинными крутыми разворотами. Температура (– 4 °C) была слишком низкой для проявления летучими мышами активности, однако, припарковавшись у входа в пещеру, мы сразу увидели порхавших вокруг зверьков. Самый главный из официальных лиц Вермонта, Скотт Дарлинг, объявил, что, прежде чем двинуться дальше, мы все должны надеть латексные перчатки и защитные комбинезоны. Поначалу я сочла это требование несколько параноидальным – словно действие из сюжетной линии с синдромом белого носа того писателя-романиста, – но вскоре поняла, что оно имело смысл.
Пещеру Эола водный поток создавал на протяжении многих тысяч лет. Чтобы туда не совались люди, местный комитет по охране природы, которому принадлежит пещера, перегородил вход огромными железными планками. С помощью ключа одна из горизонтальных планок сдвигается, что создает узкий проем, через который можно проползти (или проскользнуть) внутрь. Несмотря на холод, из пещеры шел тошнотворный запах, похожий на вонь птицефермы и мусорной свалки одновременно. Каменистая тропинка, ведущая ко входу, обледенела, так что идти по ней было сложно. Когда настала моя очередь, я протиснулась между планками и тут же поскользнулась, угодив во что-то мягкое и влажное. Поднимаясь, я поняла, что это груда мертвых летучих мышей.
Первый зал пещеры, известный как Гуано-Холл, у входа около десяти метров в ширину и шести в высоту, а к задней стенке он сужается и свод становится ниже. Отходящие от первого зала туннели доступны только спелеологам, а туннели, ответвляющиеся от тех туннелей, – только летучим мышам. Когда я вглядывалась в глубину Гуано-Холла, мне казалось, что я смотрю в гигантскую глотку. В полумраке зрелище открывалось ужасающее. С потолка свисали длинные сосульки, а с пола, словно полипы, поднимались огромные наросты льда. Дно пещеры покрывали мертвые летучие мыши; я заметила, что некоторые вмерзли в ледяные наросты. Были там зверьки и в состоянии спячки, висевшие на потолке, и бодрствовавшие, пролетавшие мимо, а иногда и врезавшиеся прямо в нас.
До сих пор непонятно, почему в одних местах трупики летучих мышей образуют целые кучи, а в других их съедают или они исчезают каким-то иным способом. Хикс предположил, что условия в пещере Эола настолько тяжелые, что летучие мыши даже не успевали выбраться из пещеры, прежде чем упасть замертво. Хикс с Дарлингом планировали произвести в Гуано-Холле подсчет, однако быстро отказались от этого плана, решив просто собрать образцы. Дарлинг объяснил, что образцы отправятся в Американский музей естественной истории, чтобы сохранилось хотя бы свидетельство о сотнях тысяч lucis, а также восточноамериканских нетопырей и ночниц Myotis septentrionalis, которые когда-то зимовали в пещере Эола. “Этот шанс может оказаться одним из последних”, – сказал он. В отличие от шахт, выкопанных не более нескольких столетий назад, пещера Эола существует уже много тысячелетий. Вполне возможно, что летучие мыши прилетали туда зимовать поколение за поколением – с тех пор как вход в пещеру открылся в конце последней ледниковой эпохи.
“Вот что делает данную ситуацию столь драматичной – она нарушает эволюционную цепочку”, – сказал Дарлинг. Они с Хиксом принялись подбирать тела погибших зверьков: сильно разложившиеся не трогали, а более или менее нетронутые помещали в двухлитровые пластиковые пакеты, определив предварительно пол особи. Я помогала ученым, держа в руках пакет для мертвых самок. Вскоре он наполнился, и мне дали второй. Когда количество трупиков достигло примерно пяти сотен, Дарлинг решил, что пора идти. Хикс задержался – он принес с собой свою огромную фотокамеру и сказал, что хочет сделать побольше снимков. За те часы, что мы, непрерывно поскальзываясь, перемещались по пещере, это место приобрело совершенно гротескный вид побоища: многие трупики животных были раздавлены, и из них сочилась кровь. Когда я пробиралась к выходу, Хикс крикнул мне вслед: “Не наступите на мертвую мышь!” Я даже не сразу поняла, что он шутит.
Сложно сказать, когда именно началось формирование Новой Пангеи. Если считать людей инвазивным видом (популяризатор науки Алан Бёрдик назвал Homo sapiens “пожалуй, самым успешным захватчиком во всей биологической истории”), то этот процесс стартовал около 120 тысяч лет назад, когда современные люди впервые мигрировали из Африки144. К тому времени, как люди добрались до Северной Америки, примерно 13 тысяч лет назад, они уже приручили собак, которых перевели с собой по Берингийскому перешейку145. Полинезийцев, заселивших Гавайи около полутора тысяч лет назад, сопровождали не только крысы (об этом говорилось раньше), но и вши, блохи и свиньи. “Открытие” Нового Света запустило масштабный биологический толкучий рынок – так называемый Колумбов обмен, – который поднял процесс на совершенно иной уровень. Даже когда Дарвин разрабатывал принципы географического распространения, их умышленно дискредитировали научные объединения, известные как общества акклиматизации. В год опубликования “Происхождения видов” один из членов мельбурнского общества акклиматизации выпустил в дикую природу Австралии первых кроликов. С тех самых пор они размножаются там с вошедшей в поговорку скоростью. В 1890 году аналогичное нью-йоркское общество, считавшее своей миссией “интродукцию и акклиматизацию тех иноземных представителей животного и растительного царств, которые могут оказаться полезными или интересными”, ввезло в США скворцов обыкновенных146 (предположительно руководитель группы хотел привезти в Америку всех птиц, упомянутых у Шекспира). Сотня скворцов, выпущенных в Центральном парке, к настоящему времени превратилась уже в более чем двести миллионов особей.
И даже сейчас американцы продолжают намеренно импортировать “иноземных представителей”, которые “могут оказаться полезными или интересными”. Каталоги для садоводов полнятся неместными видами растений, а аквариумные каталоги – неместными видами рыб. Согласно статье о домашних питомцах в “Энциклопедии биологических инвазий”, каждый год в США ввозится больше неаборигенных видов млекопитающих, птиц, земноводных, черепах, ящериц и змей, чем в стране существует местных видов147.
В то же время из-за возросших объемов и темпов общемировой торговли увеличились и масштабы неумышленного ввоза. Виды, которые не могли выжить, пересекая океаны на дне каноэ или в трюме китобойного судна, способны легко перенести то же самое путешествие в балластной цистерне современного грузового судна, отсеке самолета или чемодане туриста. Результаты недавнего исследования неместных видов в североамериканских прибрежных водах показало, что “количество зафиксированных инвазий за последние двести лет выросло экспоненциально”148. Авторы работы связали это с увеличением объемов транспортируемых товаров, а также с возросшей скоростью таких перемещений. По данным Центра изучения инвазивных видов в Калифорнийском университете в Риверсайде, новый инвазивный вид появляется в Калифорнии каждые шестьдесят дней. И это еще ничего по сравнению с Гавайями, где очередной захватчик возникает каждый месяц. (Сравнения ради стоит заметить, что до заселения Гавайев людьми новым видам удавалось обосноваться на архипелаге приблизительно раз в каждые десять тысяч лет137.)
Непосредственным результатом всей этой перегруппировки становится увеличение локального разнообразия. Возьмите любое место на Земле (Австралию, Антарктический полуостров или свой ближайший парк) – скорее всего, за последние несколько сотен лет количество встречающихся там видов выросло. До того как на Гавайях поселились люди, там в принципе не было многих групп организмов, причем не только грызунов, но и земноводных, наземных пресмыкающихся и копытных. На островах отсутствовали муравьи, тли и москиты. В этом смысле человек значительно обогатил Гавайи. Однако до появления людей на архипелаге водились тысячи видов, не существовавших больше нигде на планете, и многие из этих эндемиков уже исчезли или исчезают сейчас. Помимо нескольких сотен видов сухопутных улиток, вымерли десятки видов птиц и более сотни видов папоротников и цветковых растений. По тем же причинам, по которым, как правило, увеличивалось локальное разнообразие, разнообразие глобальное – общее число существующих во всем мире видов – уменьшалось.
Принято считать, что изучение инвазивных видов началось с Чарльза Элтона, британского биолога, в 1958 году опубликовавшего свой фундаментальный труд “Экология нашествий животных и растений”. Чтобы объяснить очевидно парадоксальные эффекты от перемещения видов, Элтон использовал аналогию с несколькими стеклянными емкостями. Представим себе, что емкости наполнены различными смесями химических веществ в растворе. Пусть каждая емкость соединена с остальными с помошью длинных узких трубок. Если краны, которыми снабжены трубки, открывать ежедневно всего на одну минуту, растворы начнут медленно перемешиваться. Вещества начнут вступать в химические реакции. Будут образовываться какие-то новые соединения, но при этом исчезнет часть исходных. “Могло бы потребоваться чрезвычайно много времени, чтобы вся система пришла к окончательному равновесию…” – писал Элтон136[82]. Тем не менее рано или поздно во всех емкостях окажется одинаковый раствор. Разнообразие исчезнет, чего и следовало ожидать от сталкивания растений и животных, длительное время изолированных друг от друга.
“Если говорить о достаточно далеком будущем, то биологический мир станет в конце концов не сложнее, а проще и беднее”, – заключил ученый.
Со времен Элтона экологи пытаются количественно оценить суммарный эффект глобальной гомогенизации с помощью одного мысленного эксперимента. Он начинается с воображаемого сжатия всей мировой суши в единый мегаконтинент. Затем используется зависимость между количеством видов и площадью, чтобы рассчитать, сколько разнообразных видов могло бы жить на этом мегаконтиненте. Разница между полученным числом и разнообразием реального мира отражает потери, вызываемые полной взаимосвязанностью различных участков суши. Для наземных млекопитающих разница составляет 66 %, это означает, что в моноконтинентальном мире водилась бы лишь треть из их ныне существующих видов149. Для обитающих на суше птиц разница получается менее 50 %, то есть в подобном мире существовала бы половина видов, живущих в настоящее время.
Если мы заглянем в будущее еще дальше, чем Элтон, – на миллионы лет вперед, – то биологический мир, надо полагать, вновь окажется более сложным. Исходя из того, что в конце концов путешествия и общемировая торговля приостановятся, Новая Пангея начнет, образно говоря, распадаться. Континенты снова обособятся, а острова опять станут изолированными. И по мере того как это будет происходить, от инвазивных видов, разнесенных по миру, начнут развиваться и распространяться новые виды. Кто знает, может, на Гавайях появятся гигантские крысы, а в Австралии – гигантские кролики.
Через год после моей поездки в пещеру Эола с Элом Хиксом и Скоттом Дарлингом я приехала туда снова с группой биологов – специалистов по дикой природе. На этот раз пещера выглядела иначе, но не менее жутко. За год груды мертвых окровавленных летучих мышей почти полностью разложились, и от них остался лишь ковер из хрупких костей, каждая не толще сосновой иголки.
На этот раз учет численности вели Райан Смит из Департамента охраны рыбных ресурсов и диких животных штата Вермонт и Сьюзи фон Эттинген из соответствующей службы США (USFWS). Они начали с группы летучих мышей, висевших в самой широкой части Гуано-Холла. При ближайшем рассмотрении Смит заметил, что большинство животных в группе уже мертвы, а их крошечные лапки просто зацепились за камни свода пещеры в трупном окоченении. Однако ему удалось разглядеть среди трупиков и несколько живых особей. Он назвал их число для фон Эттинген, взявшей с собой карандаш и карточки для записей.
“Две lucis”, – сказал Смит.
“Две lucis”, – повторила фон Эттинген, записывая.
Смит углубился в пещеру. Фон Эттинген подозвала меня и показала на расщелину в скале. В ней явно когда-то зимовали десятки летучих мышей. Сейчас там лежал только слой черной грязи, утыканный косточками размером с зубочистку. Фон Эттинген вспомнила, что в один из прошлых визитов в пещеру видела, как живая летучая мышь пыталась притулиться к группе мертвых. “Это выглядело душераздирающе”, – сказала она.
Социальность летучих мышей обернулась большой выгодой для Pseudogymnoascus destructans. Зимой, когда мыши собираются в тесные группы, инфицированные особи заражают грибком здоровых. Те, кто доживает до весны, разлетаются, унося грибок на себе. Так Pseudogymnoascus destructans передается от одной летучей мыши другой и переносится от пещеры к пещере.
Смиту и фон Эттинген потребовалось всего минут двадцать, чтобы подсчитать летучих мышей в почти пустом Гуано-Холле. Когда работа была закончена, фон Эттинген сложила числа на своих карточках: восемьдесят восемь lucis, одна ночница Myotis septentrionalis, три восточноамериканских нетопыря и двадцать летучих мышей неопределенного вида. Итого сто двенадцать, примерно одна тридцатая часть того количества особей, которое обычно насчитывалось в пещере. “Такую смертность просто невозможно компенсировать”, – сказала мне фон Эттинген, когда мы протиснулись наружу через проем в железных планках. Она заметила, что lucis воспроизводятся очень медленно – самки рожают всего по одному детенышу в год, – поэтому, даже если некоторые особи окажутся устойчивы к синдрому белого носа, сложно представить, каким образом популяции могли бы восстановиться.
Начиная с той зимы 2010 года, Pseudogymnoascus destructans стали обнаруживать и в Европе, где грибок, похоже, широко распространен. Там обитают свои виды летучих мышей, например большая ночница, которая встречается от Турции до Нидерландов. Эти летучие мыши разносят грибок, однако сами от него, по-видимому, не страдают. Это дает основание предполагать, что большие ночницы и грибок развивались совместно.
Между тем ситуация в Новой Англии остается печальной. Я вернулась в пещеру Эола для подсчета летучих мышей зимой 2011 года. В Гуано-Холле было лишь тридцать пять живых зверьков. Я снова приехала туда в 2012 году. После того, как мы преодолели весь путь наверх до входа, биолог, мой напарник, решил, что заходить внутрь будет ошибкой: риск потревожить летучих мышей, которые могли еще там остаться, перевешивал пользу от их подсчета. Зимой 2013 года я опять посетила пещеру. К тому времени, согласно данным Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, синдром белого носа распространился на двадцать два американских штата и на пять канадских провинций, уничтожив свыше шести миллионов летучих мышей. Когда я стояла перед железными планками, на меня налетела одна особь – хотя температура была минусовая. Я насчитала десять зверьков, свисающих с камней вокруг входа; большинство из них выглядели какими-то иссохшими, как маленькие мумии. Департамент охраны рыбных ресурсов и диких животных штата Вермонт повесил на двух деревьях у входа таблички с предупреждениями. Надпись на одной гласила: “Эта пещера закрыта до дальнейших распоряжений”. Другая информировала, что нарушителям грозит штраф до тысячи долларов “за каждую летучую мышь” (оставалось неясным, относится ли это к живым зверькам или к значительно большему числу мертвых).
Не так давно я позвонила Скотту Дарлингу, чтобы узнать новости. Он сообщил мне, что малая бурая ночница, когда-то очень распространенная в Вермонте, теперь официально причислена к вымирающим видам этого штата. То же с ночницей Myotis septentrionalis и восточноамериканским нетопырем. “Я стал часто использовать слово «отчаянный», – сказал Скотт. – Мы в отчаянном положении”.
“Кстати, – продолжил он, – вот что я прочитал в новостях пару дней назад. Вермонтский центр экологических исследований создал вебсайт, на котором люди могут размещать фотографии любых биологических видов Вермонта с координатами места съемки[83]. Если бы я прочитал об этом несколько лет назад, я бы рассмеялся. Сказал бы: «Вы что, хотите, чтобы люди выкладывали фотографии сосны?» А сейчас, после того, что случилось с малыми бурыми ночницами, я могу лишь сокрушаться, почему центр не сделал этого раньше”.
Один и тот же угол Гуано-Холла, сфотографированный (сверху вниз) зимой 2009 года (с летучими мышами в спячке), зимой 2010 года (с меньшим числом зверьков) и зимой 2011 года (никого)
Глава 11 УЗИ для носорога Dicerorhinus sumatrensis
Сучи я впервые увидела со стороны ее громадного зада – около метра в ширину, покрытого красноватыми жесткими волосами. Красновато-коричневая кожа походила на фактурный линолеум. Сучи, суматранский носорог, живет[84] в зоопарке Цинциннати, где она родилась в 2004 году. Когда я подошла к ней, вокруг ее внушительного зада уже выстроилось несколько человек. Они ласково его похлопывали, так что я тоже протянула руку и потерла шкуру Сучи. На ощупь та напоминала ствол дерева.
Доктор Терри Рот, высокая худая женщина с длинными каштановыми волосами, собранными в пучок, директор учрежденного при зоопарке Центра по сохранению и исследованию видов, находящихся под угрозой исчезновения, зашла в вольер к носорогу, облаченная в медицинский костюм. Она натянула чистую одноразовую перчатку на правую руку почти до плеча. Один из смотрителей, ухаживающих за Сучи, завернул хвост носорога во что-то вроде пищевой пленки и отодвинул в сторону. Другой смотритель взял ведро и встал у головы животного. Было трудно что-либо разглядеть за пышными формами Сучи, но мне сказали, что ее кормят нарезанными яблоками, и я действительно слышала хрумканье. Пока Сучи была увлечена едой, Рот натянула вторую перчатку поверх первой и взяла предмет, похожий на пульт для видеоигр. А затем засунула руку в задний проход носорога.
Из пяти существующих сейчас видов носорогов суматранские – Dicerorhinus sumatrensis – самые мелкие и, если можно так выразиться, самые древние. Род Dicerorhinus появился около 20 миллионов лет назад, то есть родословная суматранского носорога восходит (почти без изменений) к эпохе миоцена. Генетический анализ показал, что этот носорог – ближайший родственник из ныне живущих шерстистого носорога, во время последней ледниковой эпохи обитавшего на обширной территории от Шотландии до Южной Кореи150. Эдвард Осборн Уилсон, который однажды провел вечер с матерью Сучи в зоопарке Цинциннати и хранит клочок ее волос на своем столе, назвал суматранского носорога “живым ископаемым”151.
Суматранские носороги ведут скромный одиночный образ жизни, в дикой природе обитают в густом подлеске. У них два рога – большой на конце морды и поменьше над ним, – а также заостренная верхняя губа, помогающая захватывать листья и ветки. Их половая жизнь, по меньшей мере с человеческой точки зрения, крайне непредсказуема. У самок этого вида овуляция индуцированная, то есть они не дают яйцеклетке выйти из яичника до тех пор, пока не почувствуют, что поблизости есть подходящий самец. Для Сучи ближайший подходящий самец находится за пятнадцать тысяч километров, вот почему доктор Рот стояла около носорога, засунув руку с прибором в его прямую кишку.
Примерно за неделю до этого Сучи сделали инъекцию гормонов, чтобы стимулировать яичники. Через несколько дней Рот провела искусственное осеменение – через складки шейки матки Сучи ввели длинную тонкую трубочку, через которую закачали баночку размороженного семени. Судя по записям доктора Рот, процедуру Сучи “перенесла очень хорошо”. Теперь пришло время для УЗИ. На экране компьютера появилось зернистое изображение. Доктор Рот определила местонахождение мочевого пузыря, выглядевшего темным мешком, и двинулась дальше. Она надеялась, что яйцеклетка в правом яичнике Сучи, которую было видно во время осеменения, высвободилась. Если бы это произошло, появился бы шанс, что Сучи забеременеет. Однако яйцеклетка – черный круг в сером облаке – находилась там же, где Рот видела ее в последний раз.
“Овуляции у Сучи не произошло”, – объявила Рот полудюжине смотрителей зоопарка, окруживших ее, чтобы в случае надобности чем-то помочь. К тому моменту уже вся ее рука целиком исчезла внутри носорога. Помощники хором вздохнули. “Вот черт”, – сказал кто-то. Рот вытащила руку и сняла перчатки. Она была явно расстроена, но не выглядела удивленной таким исходом.
Когда-то суматранский носорог встречался и в предгорьях Гималаев, на территории нынешних Бутана и Северо-Восточной Индии, и в Мьянме, Таиланде, Камбодже, и на Малайском полуострове, и на островах Суматра и Борнео. В XIX веке этот вид все еще был настолько распространен, что считался сельскохозяйственным вредителем. По мере того как уничтожались леса Юго-Восточной Азии, ареал носорога уменьшался и фрагментировался. К началу 1980-х годов популяция сократилась до нескольких сотен особей, большинство – в труднодоступных районах Суматры, остальные в Малайзии. Казалось, что животных ждет неминуемое вымирание, – пока в 1984 году группа специалистов по охране природы не собралась в Сингапуре, чтобы попытаться выработать стратегию спасения. Разработанный план включал, помимо прочего, создание программы по разведению вида в неволе, чтобы уберечь его от полного исчезновения. Было поймано сорок носорогов, семь из которых отправили в зоопарки США.
Запуск программы ознаменовался провалом. Не прошло и трех недель, как пять носорогов в питомнике на Малайском полуострове скончались от трипаносомоза – болезни, вызываемой паразитами, которых переносят двукрылые. Десять животных были пойманы в Сабахе, малазийском штате в восточной части Борнео. Два из них умерли от травм, полученных во время отлова. Третий носорог из этих десяти погиб от столбняка, а четвертый угас по неизвестным причинам. К концу десятилетия ни одно животное не произвело потомства. В США уровень смертности носорогов был еще выше. В зоопарках животных кормили сеном, но оказалось, что суматранские носороги не могут питаться одним сеном, им необходимы свежие листья и ветки. Пока это поняли, из семи отправленных в Америку носорогов остались в живых только три, все в разных городах. В 1995 году журнал Conservation Biology опубликовал статью о программе разведения в неволе. Она называлась “Как помочь виду вымереть”.
В том же году зоопарки Бронкса и Лос-Анджелеса предприняли последнюю отчаянную попытку спасти носорогов – отправили своих оставшихся животных, двух самок, в Цинциннати, где содержался единственный выживший самец, Ипу. Доктор Терри Рот была приглашена, чтобы разобраться, как с ними быть. Поскольку эти животные ведут одиночный образ жизни, поселить их в одном вольере нельзя, однако очевидно, что, пока они не окажутся вместе, они не смогут спариваться. Рот активно занялась изучением физиологии носорогов, в том числе анализом образцов крови и мочи, а также измерением уровня гормонов. Чем больше она узнавала, тем яснее видела, как множатся предстоящие трудности.
“Это очень непростой вид”, – сказала мне Рот, когда мы пришли к ней в офис, где на полках расставлены деревянные, глиняные и плюшевые фигурки носорогов. Рапунцель, самка из Бронкса, оказалась слишком старой для размножения. Эми, самка из Лос-Анджелеса, была подходящего возраста, но овуляции у нее почему-то не происходило – загадка, на разрешение которой у Рот ушел почти год. Как только исследовательница поняла, в чем проблема – самке носорога нужно было почувствовать рядом самца, – она начала устраивать короткие, тщательно контролируемые “свидания” между Эми и Ипу. После нескольких месяцев таких взаимоотношений Эми забеременела. Затем у нее случился выкидыш. Она вновь забеременела, но с тем же результатом. Всего было пять выкидышей подряд. У Эми с Ипу возникли проблемы с глазами, которые, как в конце концов определила Рот, стали результатом слишком длительного пребывания на солнце (в дикой природе суматранские носороги живут в тени деревьев). Зоопарк Цинциннати вложил полмиллиона долларов в навесы, изготовленные по специальному заказу.
Эми вновь забеременела осенью 2000 года. На сей раз Рот начала давать ей гормональные добавки, которые самка носорога потребляла в виде ломтиков хлеба, пропитанных раствором прогестина. Наконец, после шестнадцатимесячной беременности Эми родила самца, которого назвали Андалас. За ним последовала Сучи – ее имя означает “святая” по-индонезийски, – а затем еще один самец, Харапан. В 2007 году Андалас был отправлен на Суматру, в питомник, расположенный в национальном парке “Вай-Камбас”. Там в 2012 году он стал отцом малыша Андату – внука Эми и Ипу.
Сучи в зоопарке Цинциннати
Безусловно, три носорога, рожденные в неволе в Цинциннати, и четвертый, появившийся на свет в парке на Суматре, не восполнят большое число животных, погибших за это время. Однако они оказались, в общем-то, единственными суматранскими носорогами, в принципе рожденными за последние три десятилетия. С середины 1980-х годов количество суматранских носорогов в дикой природе резко уменьшилось, до такой степени, что сейчас в мире их осталось, по-видимому, меньше сотни. Крайне иронично: люди так рьяно уничтожали этот вид, что теперь только их героические усилия могут его спасти. Если у Dicerorhinus sumatrensis есть будущее, то исключительно благодаря доктору Рот и горстке таких, как она, кто знает, как провести ультразвуковое исследование, засунув руку в прямую кишку носорога.
То, что происходит с Dicerorhinus sumatrensis, в той или иной степени относится ко всем носорогам. Яванский носорог, который когда-то обитал почти во всей Юго-Восточной Азии, теперь считается одним из самых редких животных на Земле – осталось, вероятно, меньше пятидесяти особей, все в яванском национальном парке (последнее животное из известных, жившее в другом месте, во Вьетнаме, было убито браконьером зимой 2010 года). Индийский носорог – самый крупный из пяти видов; его шкура выглядит так, словно он натер себе на ней большие складки, как написал в одной из своих сказок Редьярд Киплинг. Количество животных данного вида снизилось примерно до трех тысяч особей, живущих в основном в четырех парках индийского штата Ассам. Что касается черных носорогов, то численность их популяции сто лет назад в Африке достигла миллиона, но с тех пор снизилась до пяти тысяч особей. Белый носорог, также из Африки, – единственный вид носороговых, который в настоящее время не находится под угрозой вымирания. В XIX веке охотники почти полностью истребили белых носорогов, в XX их численность удивительным образом восстановилась, а теперь, в XXI веке, вид снова страдает от рук браконьеров, продающих рога носорогов на черном рынке по пятьдесять тысяч долларов США за килограмм. (Носорожьи рога, состоящие из кератина, как и наши ногти, долгое время использовались в традиционной китайской медицине, но в последние годы стали еще востребованнее в качестве дорогого клубного “наркотика” – в клубах Юго-Восточной Азии измельченный рог нюхают как кокаин152.)
Вместе с тем у носорогов, безусловно, есть много доброжелателей. Люди испытывают глубокую, почти мистическую привязанность к большим “харизматичным” млекопитающим, даже если те находятся за оградой. Именно поэтому зоопарки тратят так много ресурсов на то, чтобы показывать носорогов, панд и горилл. (Уилсон описывал вечер, проведенный в Цинциннати с Эми, как “одно из самых памятных событий” в его жизни.) Однако почти везде, где большие харизматичные млекопитающие не заперты за оградами, они находятся в опасности. Из восьми видов медведей, существующих в мире, шесть имеют охранный статус “уязвимый” либо “вымирающий”. Численность азиатских слонов снизилась на 50 % за последние три поколения. У африканских слонов дела обстоят получше, однако им, как и носорогам, все больше угрожают браконьеры. (Результаты недавнего исследования показали, что популяция африканских лесных слонов, которых многие ученые считают отдельным от саванных слонов видом, уменьшилась более чем на 60 % лишь за последние десять лет153.) Чуть ли не у всех больших кошек – львов, тигров, гепардов, ягуаров – также снижается численность. Не исключено, что через сто лет панды, тигры и носороги останутся лишь в зоопарках или, как сказал Том Лавджой, на столь небольших и строго охраняемых участках дикой природы, что их можно будет считать “квазизоопарками”154.
На следующий день после УЗИ Сучи я снова отправилась навестить ее. Стояло холодное зимнее утро, поэтому ее держали в так называемом амбаре – низком здании из шлакобетонных блоков, внутреннее пространство которого было разграничено словно под тюремные камеры.
Я приехала около 7:30 утра, во время кормления, поэтому застала Сучи жующей листья фикуса в одном из отсеков. Как сказал мне Пол Рейнхарт, главный смотритель, ухаживающий за носорогами, она ежедневно съедает около пятидесяти килограмм фикуса, который приходится специально доставлять из Сан-Диего самолетом (суммарная стоимость транспортировки составляет примерно сто тысяч долларов в год). Также в ее ежедневный рацион обычно входит несколько корзин фруктов; в то утро ей достались яблоки, виноград и бананы. Сучи, так мне показалось, ела с какой-то мрачной решимостью. Когда листья фикуса закончились, она принялась за ветки, причем разгрызала их так же легко, как мы разгрызаем сушку, хотя они были несколько сантиметров толщиной.
Рейнхарт описал мне Сучи как “хорошую помесь” ее матери Эми, умершей в 2009 году, и отца Ипу, до сих пор живущего[85] в зоопарке Цинциннати. “Если где-то можно было влезть в какую-нибудь неприятность, Эми в нее обязательно влезала”, – вспоминает он. “А Сучи очень игривая. Но при этом и более здравомыслящая – как ее отец”. Мимо нас прошел еще один смотритель, толкая перед собой большую тачку с красновато-коричневым навозом, от которого шел пар, – отходами жизнедеятельности Сучи и Ипу за прошедшую ночь.
Сучи настолько привыкла находиться среди людей – кто-то кормит ее лакомствами, кто-то засовывает руки в прямую кишку, – что Рейнхарт позволил мне немного побыть с ней наедине, пока сам ушел по другим делам. Я гладила ее волосатые бока, будто она была просто огромной собакой (на самом деле ближайшие родственники носорогов – лошади[86]). Хотя я не могу сказать, что Сучи произвела на меня впечатление игривого животного, она действительно показалась мне ласковой, а взглянув в ее чернющие глаза, я увидела в них – готова поклясться! – некий проблеск межвидового узнавания. Тогда же я вспомнила предостережение одного сотрудника зоопарка: если Сучи внезапно решит мотнуть своей громадной головой, то легко сломает мне руку. Вскоре пришло время взвешивать Сучи. На весы, встроенные в пол соседнего отсека, смотрители положили куски бананов. Когда Сучи медленно приблизилась к угощению, весы показали 684 килограмма.
Очень большие животные, разумеется, стали такими большими не просто так. Уже при рождении масса Сучи была тридцать два килограмма. Если бы она появилась на свет на Суматре, то могла бы пасть жертвой тигра (хотя сейчас и суматранские тигры на грани исчезновения). Однако, скорее всего, ее сумела бы защитить мать, а у взрослых носорогов нет естественных врагов среди хищников. То же относится и к другим так называемым мегатравоядным; взрослые слоны и гиппопотамы настолько велики, что ни одно животное не осмеливается их атаковать. Медведи и большие кошки также вне досягаемости для других хищников.
Преимущества громадности таковы – назовем их стратегией “слишком большой, чтобы кого-то бояться”, – что, казалось бы, с точки зрения эволюции это удачный ход. И действительно, в различные периоды на Земле жило множество исполинских существ. К примеру, ближе к концу мелового периода Tyrannosaurus были лишь одной из групп огромных динозавров; существовали также род Saltasaurus (чьи представители весили около семи тонн), Therizinosaurus (крупнейшие представители достигали десяти метров в длину) и Saurolophus (динозавры этого рода, вероятно, были еще больше).
Сравнительно недавно – на закате последней ледниковой эпохи – громадные животные обитали почти повсюду. Помимо шерстистых носорогов и пещерных медведей, в Европе водились туры[87], гигантские олени и крупные гиены. Среди североамериканских исполинов были мастодонты, мамонты и западные верблюды, массивные родственники современных. Также там жили бобры размером с современных гризли, саблезубые кошки смилодоны и гигантские ленивцы Megalonyx jeffersonii массой около тонны. В Южной Америке обитали свои гигантские ленивцы, а также токсодоны, млекопитающие с телом носорога и головой бегемота, и глиптодонты, родственники броненосцев, иногда выраставшие до размеров автомобиля Fiat 500s. Континентом с самой странной и разнообразной мегафауной была Австралия. Там водились дипротодоны, грузные сумчатые, похожие на вомбата размером с носорога, сумчатые львы (Thylacoleo carnifex), хищники размером с тигра, и гигантские короткомордые кенгуру, достигавшие трех метров в высоту.
Даже на многих относительно небольших островах были свои крупные животные. На Кипре водились карликовые слоны и карликовые бегемоты. Мадагаскар приютил три вида карликовых бегемотов, семейство исполинских нелетающих птиц, известных как эпиорнисовые, а также несколько видов гигантских лемуров. Мегафауна Новой Зеландии была примечательна тем, что состояла полностью из пернатых. Австралийский палеонтолог Тим Флэннери сравнил данный феномен со своего рода воплощением мысленного эксперимента в реальной жизни: “Это показывает нам, как мог бы выглядеть мир, если бы млекопитающие вымерли 65 миллионов лет назад вместе с динозаврами[88] и планету унаследовали бы птицы”155. В Новой Зеландии в ходе эволюции возникли различные виды моа, заполнившие экологические ниши, в иных местах занятые растительноядными млекопитающими вроде носорогов и оленей. Самые крупные моа – Dinornis novaezealandiae и Dinornis robustus – достигали почти трех с половиной метров в высоту. Интересно, что самки были почти вдвое больше самцов156 и что обязанность высиживания яиц предположительно ложилась именно на отцов. Также в Новой Зеландии водилась огромная хищная птица – орел Хааста, который охотился на моа и имел размах крыльев два с половиной метра.
Diprotodon optatum – самое крупное сумчатое, когда-либо существовавшее на Земле
Самые крупные моа достигали трех с половиной метров в высоту
Что же случилось со всеми этими бробдингнегскими животными? Кювье, первым обративший внимание на их исчезновение, считал, что они вымерли в результате последней катастрофы – “переворота на поверхности земного шара”, который произошел незадолго до начала письменной истории. Отвергнув катастрофизм Кювье, более поздние поколения натуралистов оказались в замешательстве. Почему исчезло так много крупных животных за столь сравнительно короткое время?
“Мы живем в зоологически обнищавшем мире, который недавно лишился всех самых крупных, самых свирепых и самых странных форм жизни157, – заметил Альфред Рассел Уоллес. – И для нас, несомненно, гораздо лучше жить в мире, где их уже нет. Но все же это безусловно удивительный факт, которому почти не уделяют достаточно внимания, – столь внезапное вымирание такого большого количества крупных млекопитающих, произошедшее не в одном каком-то месте, а на большей части земного шара”.
* * *
Зоопарк Цинциннати, как оказалось, находится всего в сорока минутах езды от национального парка “Биг-Боун-Лик”, территории, где когда-то Лонгёй нашел зубы мастодонта, вдохновившие Кювье на создание теории вымираний. Сейчас этот национальный парк позиционируется как “место зарождения американской палеонтологии позвоночных”, а на его веб-сайте можно прочитать стихотворение, воспевающее роль этого места в истории.
Однажды в “Биг-Боун-Лик” первопроходцы Нашли скелеты древние слонов, Шерстистых мамонтов нашли там ребра, бивни. ‹…› Казалось, кости те – обломки Крушений страшных из великих снов, Могильник древний золотых веков…[89]Как-то раз, навестив Сучи, я решила съездить в этот парк. Конечно, неизведанных земель времен Лонгёя там давно нет, и район постепенно поглощают пригороды Цинциннати. На выезде из города я миновала стандартный набор сетевых магазинов, а затем ряд новых поселков, в которых кое-где еще продолжалось строительство. Через какое-то время я оказалась в царстве лошадей. Сразу за фермой, называвшейся “Дерево шерстистого мамонта”, я свернула ко входу в парк. “Охота запрещена” – гласил первый из установленных там знаков. Другие указывали направление к кемпингу, озеру, магазину сувениров, площадке для мини-гольфа, музею и стаду бизонов.
В XVIII и начале XIX века из болот “Биг-Боун-Лик” вытаскивали тонны ископаемых образцов – бедренные кости мастодонтов, бивни мамонтов, гигантские черепа древних ленивцев. Некоторые были отправлены в Париж и Лондон, другие – в Нью-Йорк и Филадельфию. А часть оказалась утеряна. (Одна большая партия груза исчезла, когда на колониального торговца напали индейцы кикапу, другая затонула в Миссисипи.) Томас Джефферсон с гордостью выставлял кости из “Биг-Боун-Лик” в импровизированном музее, организованном им в Восточном зале Белого дома. Лайель посетил те места во время своей поездки в Америку в 1842 году и купил зубы детеныша мастодонта158.
К настоящему времени коллекционеры окаменелостей так тщательно подчистили “Биг-Боун-Лик”, что там едва ли остались большие кости. Палеонтологический музей в парке состоит из единственной, почти пустой комнаты. Фреска на одной стене изображает стадо меланхолично выглядящих мамонтов, бредущих по тундре, а у противоположной стены установлены несколько стеклянных стендов с россыпью позвонков гигантского ленивца и обломков бивней. Сувенирный магазин по соседству с музеем почти такого же размера. В нем продаются деревянные пятицентовики, сладости и футболки с надписью “Я не толстый – просто у меня широкая кость”[90]. Во время моего визита за кассой сидела жизнерадостная блондинка. Она сказала мне, что большинство посетителей не понимают “значимости парка” – приезжают лишь ради озера и площадки для мини-гольфа, к сожалению, зимой закрытой. Протягивая мне карту территории, блондинка рекомендовала пойти по какой-то особенной тропе. Я спросила, сможет ли она показать мне окрестности, но она ответила, что слишком занята. Насколько я могла судить, кроме нас с ней в парке никого больше не было.
Я пошла по тропе и сразу же за музеем увидела пластикового мастодонта в натуральную величину. Его голова была опущена, словно он готовился атаковать. Неподалеку находились трехметровый гигантский ленивец, тоже из пластика, угрожающе поднявшийся на задние лапы, и мамонт, похоже, в ужасе тонущий в болоте. Полуразложившиеся пластиковые бизон, гриф и какие-то разбросанные кости довершали жутковатую картину.
Затем я добралась до ручья Биг-Боун-Крик, покрытого льдом, под которым лениво текла вода. Далее тропинка привела меня к деревянным мосткам, выстроенным над болотом. Вода в этом месте не замерзла. Она пахла серой и была покрыта белесой пленкой. На информационной табличке у мостков объяснялось, что в ордовикском периоде в этой местности шумел океан. Именно соляные отложения с древнего морского дна притягивали животных на водопой в “Биг-Боун-Лик”[91]; зачастую звери там и умирали. На второй табличке сообщалось, что среди окаменелостей, найденных в этом районе, были остатки, “принадлежащие как минимум восьми видам, вымершим около 10 тысяч лет назад”. Идя по тропе дальше, я увидела еще таблички. На них приводилось объяснение – а точнее, два разных объяснения – того, почему в этом регионе исчезла мегафауна. Одна табличка предлагала следующую версию: “Переход от хвойных лесов к лиственным или, возможно, потепление климата, обусловившее этот переход, вызвали на всем континенте вымирание животных «Биг-Боун-Лик»”. Другая же табличка возлагала вину на иное: “Крупные млекопитающие исчезли в первую тысячу лет после прибытия человека. По-видимому, в их гибели палеоиндейцы сыграли определенную роль”.
Оба объяснения, почему вымерла мегафауна, были предложены еще в 1840-е годы. Лайель был сторонником первой версии, как он говорил – “существенного изменения климата”, произошедшего с наступлением ледникового периода159. Дарвин, по своему обыкновению, встал на сторону Лайеля, хотя в данном случае довольно неохотно. “Я не могу полностью принять идею о связи между ледниковым периодом и вымиранием крупных млекопитающих”, – писал он160. Что касается Уоллеса, то изначально он также склонялся к климатической версии. “Должна быть какая-то физическая причина для столь глубоких перемен, – подчеркивал он в 1876 году157. – Этой причиной служит недавнее значительное физическое изменение, известное как «ледниковая эпоха»”. Затем в его убеждениях произошел перелом. “Заново проанализировав проблему, – писал он в своей последней книге161, – я убедился, что скоротечность… вымирания столь большого числа огромных млекопитающих на самом деле – результат деятельности человека…” По его словам, все действительно “совершенно очевидно”.
Со времен Лайеля велось множество дискуссий на данную тему, ведь она затрагивает вопросы, выходящие далеко за пределы палеобиологии. Если изменение климата вызвало вымирание мегафауны – вот еще одна причина беспокоиться по поводу того, что мы сейчас делаем с глобальной температурой. Если же виноваты были люди – а все больше похоже, что это действительно так, – то вывод напрашивается едва ли не более тревожный. Это означает, что происходящее в наше время вымирание началось уже давно – в середине последней ледниковой эпохи. А еще – что человек был убийцей (и убивал массово) практически с самого начала.
Существует несколько доказательств, свидетельствующих в пользу – а на самом деле против – людей. Одно из них связано с временны́ми рамками события. Теперь уже понятно, что вымирание мегафауны произошло не одномоментно, как думали Лайель и Уоллес. Происходило оно отдельными вспышками. Первая, около 40 тысяч лет назад, уничтожила австралийских гигантов. Вторая ударила по Северной и Южной Америке примерно на двадцать пять тысяч лет позже. На Мадагаскаре гигантские лемуры, карликовые бегемоты и эпиорнисовые птицы смогли дожить до Средних веков, а моа Новой Зеландии – даже до эпохи Возрождения.
Тяжеловато представить, как такую последовательность событий можно увязать с произошедшим единожды изменением климата. А вот последовательность вспышек и маршрут расселения человека по планете согласуются почти идеально. Археологические находки свидетельствуют, что люди прибыли сначала в Австралию, около 50 тысяч лет назад. Лишь значительно позже они добрались до обеих Америк и только через много тысячелетий после этого достигли Мадагаскара и Новой Зеландии.
“Когда хронология вымираний аккуратно сопоставляется с хронологией человеческих миграций, – писал Пол Мартин из Аризонского университета в своей работе «Доисторическое чрезмерное уничтожение», – появление человека становится единственным разумным объяснением”162 исчезновения мегафауны.
В том же ключе высказывается и Джаред Даймонд:
Лично мне трудно представить, почему австралийские гиганты, которые пережили бессчетное число засух за десятки миллионов лет своего существования, выбрали для своего вымирания момент, который почти точно (если брать миллионолетнюю шкалу времени) и просто случайно совпал с появлением на их территории первых людей163[92].
Помимо хронологических, существуют веские вещественные доказательства, уличающие людей. Некоторые из них кроются в экскрементах.
Мегатравоядные производят мегакучи навоза, что понятно любому, кто хоть раз постоял позади носорога. Навоз обеспечивает существование копрофильных грибов рода Sporormiella. Споры этих грибов крайне малы – почти невидимы невооруженным глазом, – но чрезвычайно жизнестойки. Их все еще можно обнаружить в отложениях возрастом в десятки тысяч лет. Обилие спор свидетельствует о множестве крупных травоядных, исправно жующих и испражняющихся; небольшое количество спор или их отсутствие предполагают отсутствие и животных.
Пару лет назад группа ученых изучала пробу осадка из места в Северо-Восточной Австралии, называемого Кратером Линча. Они обнаружили, что 50 тысяч лет назад там было много грибов Sporormiella. Затем, довольно резко, примерно 41 тысячу лет назад, их количество упало почти до нуля164. После этого начались масштабные пожары (доказательством послужили крошечные крупицы угля). Затем растительность в регионе изменилась: растения, типичные для тропических лесов, сменились более приспособленными к сухому климату, такими как акация.
Если изменение климата стало причиной вымирания мегафауны, то смена растительности должна была предшествовать исчезновению Sporormiella: сначала поменялся бы ландшафт, а лишь затем исчезли бы животные, зависевшие от прежней растительности. Однако произошло обратное. Ученые пришли к выводу, что единственное объяснение, согласующееся с имеющимися данными, – “чрезмерное уничтожение”. Количество грибов Sporormiella снизилось раньше, чем изменился ландшафт, поскольку гибель мегафауны обусловила изменение ландшафта. Когда не осталось больше крупных травоядных, подъедающих лес, накопилось “топливо”, что привело к более частым и сильным пожарам. А это, в свою очередь, способствовало появлению пожароустойчивых видов растений.
Вымирание мегафауны в Австралии “не могло быть спровоцировано климатом”, сказал мне Крис Джонсон, эколог из Университета Тасмании, один из ведущих авторов описанного исследования, по телефону из своего офиса в Хобарте. “Думаю, мы можем утверждать это с полной уверенностью”.
Еще очевиднее доказательства из Новой Зеландии. Когда маори доплыли туда, примерно во времена Данте, они обнаружили девять видов моа, живущих на Северном и Южном островах. Прибывшие на острова в начале 1800-х годов европейские поселенцы ни единого моа уже не застали, а нашли лишь гигантские кучи костей, а также развалины громадных открытых печей – все, что осталось от барбекю из большущих птиц. Результаты недавнего исследования показали, что моа, скорее всего, были истреблены за считаные десятилетия. В языке маори до сих пор сохранилось выражение, косвенно напоминающее о той бойне: Kua ngaro i te ngaro o te moa (“исчез так, как исчез моа”).
Исследователи, продолжающие утверждать, что именно климатические изменения уничтожили мегафауну, считают, что доводы Мартина, Даймонда и Джонсона лишены оснований. По их мнению, не существует надежных доказательств произошедшего, а все описанное в предыдущих абзацах чрезмерно упрощено. Время вымираний известно неточно, с человеческими миграциями они согласуются неидеально, к тому же, в любом случае, корреляция не есть причинно-следственная связь. А главное, эти исследователи подвергают сомнению саму идею смертоносности древних людей. Это каким же образом небольшие группы примитивных с технологической точки зрения людей сумели уничтожить великое множество огромных, сильных и порой свирепых животных на территории размером с Австралию или Северную Америку?
Джон Элрой, американский палеобиолог, работающий сейчас в австралийском Университете Маккуори, потратил много времени на размышления об этой проблеме, которую он рассматривает как математическую. “Очень крупное млекопитающее всегда находится под угрозой с учетом своего темпа размножения, – сказал он мне. – К примеру, продолжительность беременности слонихи составляет двадцать два месяца. У слоних крайне редко может родиться двойня, и начинают размножаться они лишь в возрасте десяти – пятнадцати лет. Это накладывает существенные ограничения на скорость их воспроизводства, даже если все идет хорошо. А причина, по которой они вообще способны выживать, заключается в том, что, когда животные достигают определенного размера, они оказываются защищены от истребления хищниками. Они больше не подвергаются нападениям. Ужасная стратегия с позиции воспроизводства, но огромное преимущество с позиции избегания хищников. Однако это преимущество полностью исчезает, когда появляются люди. Поскольку, каким бы большим животное ни было, ограничений на то, чем мы можем питаться, у нас нет”. Это еще один пример того, как modus vivendi, действовавший в течение многих миллионов лет, может внезапно перестать работать. Подобно V-образным граптолитам, аммонитам или динозаврам, мегафауна не совершала никаких ошибок; просто, когда появились люди, “правила игры на выживание” изменились.
Элрой применил компьютерное моделирование, чтобы проверить гипотезу “чрезмерного уничтожения”165. Он обнаружил, что люди могли расправиться с мегафауной, прилагая весьма скромные усилия. “Если есть один вид, обеспечивающий устойчивую добычу, то другие виды вполне могут и вымирать – люди не начнут страдать от голода”, – заметил он. Например, в Северной Америке белохвостый олень размножается сравнительно быстро, а значит, возможно, этот вид оставался многочисленным в то время, когда количество мамонтов уменьшалось. “Мамонты превратились в деликатес, которым можно было полакомиться лишь изредка – как большим трюфелем”.
Проведя компьютерное моделирование для Северной Америки, Элрой обнаружил, что даже изначально очень маленькая популяция людей – около ста человек – могла за одно-два тысячелетия разрастись настолько, чтобы послужить причиной фактически всех известных вымираний того периода. Это происходило даже тогда, когда люди предположительно были весьма посредственными охотниками. Единственное, что им нужно было делать, – просто время от времени убивать мамонта или гигантского ленивца, когда представлялась такая возможность, и продолжать в том же духе на протяжении нескольких столетий. Этого было вполне достаточно, чтобы популяции медленно воспроизводящихся видов сначала постепенно уменьшались, а затем в конце концов исчезали. Когда Крис Джонсон провел аналогичное компьютерное моделирование для Австралии, он получил похожие результаты: если каждая группа из десяти охотников убивала всего по одному дипротодону в год, то примерно за семьсот лет все представители этого вида в радиусе нескольких сотен километров исчезали. (Джонсон подсчитал, что, поскольку различные части Австралии люди, вероятно, открывали для себя в разное время, вымирание на всем континенте заняло несколько тысяч лет.) В масштабах истории Земли несколько сотен или даже тысяч лет – практически мгновение. В масштабах же человеческой жизни это необозримый промежуток времени. Для людей, причастных к угасанию мегафауны, оно происходило очень медленно, почти незаметно. Они никак не могли знать, что несколькими столетиями ранее мамонты и дипротодоны были гораздо более распространенными. Элрой описал вымирание мегафауны как “геологически мгновенную экологическую катастрофу, слишком постепенную, чтобы быть осознанной людьми, которые ее вызвали”. Это показывает, написал он, что люди “способны привести к гибели практически любые виды крупных млекопитающих, даже несмотря на то, что способны также приложить все усилия, дабы гарантировать, будто это не так”166.
Обычно говорят, что антропоцен начался с промышленной революции или, пожалуй, даже позднее – с демографического взрыва после Второй мировой войны. Считается, что именно с внедрением современных технологий – турбин, железных дорог и цепных пил – люди стали силой, меняющей мир. Однако вымирание мегафауны свидетельствует об ином. До появления людей крупный размер и медленные темпы воспроизводства были крайне успешной стратегией – и огромные существа господствовали на планете. Затем в одно мгновение (с геологической точки зрения) эта стратегия стала проигрышной. И остается такой по сей день – вот почему слоны, медведи и большие кошки в такой беде, а Сучи оказалась одним из последних оставшихся в мире суматранских носорогов. Между тем уничтожение мегафауны не просто уничтожило мегафауну; по крайней мере в Австралии оно запустило экологический каскад событий, изменивший ландшафт. И хотя приятно воображать, будто были времена, когда человек жил в гармонии с природой, – весьма сомнительно, что это так.
Глава 12 Ген безумия Homo neanderthalensis
Долина Неандерталь, или по-немецки das Neandertal, лежит примерно в тридцати километрах к северу от Кельна, вдоль русла реки Дюссель, сонного притока Рейна. Почти все время своего существования долина была окружена известняковыми скалами, и именно в пещере одной из этих скал в 1856 году были обнаружены кости, благодаря которым мир узнал о неандертальцах. В наши дни в долине разбит своеобразный палеолитический тематический парк. Помимо Неандертальского музея, современного здания со стенами из зеленого стекла, в парке к услугам посетителей кафе, предлагающие пиво Neanderthal, сады, засаженные различными кустарниками, процветавшими еще в ледниковые эпохи, и туристические тропы, ведущие к месту находки, хотя ни костей, ни пещеры, ни даже скалы там не осталось (добытый известняк блоками был вывезен для строительных целей). В музее сразу у входа стоит фигура благожелательно улыбающегося пожилого неандертальца, опирающегося на палку. Чем-то он напоминает бейсболиста Йоги Берру, только обросшего. Рядом расположена одна из самых популярных “приманок” для туристов – небольшая будка под названием “Кабинка метаморфоз”. За три евро посетители могут сфотографироваться в профиль – и получить свой снимок, подвергшийся обработке: с уменьшенным подбородком, низким лбом и вытянутым назад черепом. Дети обожают смотреть, как они – а лучше их братья и сестры – превращаются в неандертальцев. Они находят это необыкновенно смешным.
Сразу после находки в долине Неандерталь кости неандертальцев начали обнаруживать по всей Европе и на Ближнем Востоке. Крайней северной точкой стал Уэльс, южной – Израиль, а восточной – Кавказ. Было найдено и множество неандертальских орудий труда: каменных рубил миндалевидной формы, острых как нож скребков и каменных наконечников, которые, вероятно, крепились к рукояти. Орудия использовались для разделки мяса, заточки деревянных предметов, а также, возможно, и для обработки шкур. Неандертальцы жили на территории Европы по меньшей мере сто тысяч лет. Бóльшую часть этого времени было холодно, а в некоторые периоды наступал сильный холод, когда Скандинавия скрывалась под ледяным покровом. Принято считать, хотя точно это неизвестно, что для защиты от холода и других опасностей неандертальцы выстраивали укрытия и создавали некое подобие одежды. И вдруг, примерно 30 тысяч лет назад, неандертальцы исчезли.
Чтобы объяснить их исчезновение, учеными было предложено множество разнообразных теорий. Чаще всего ссылаются на изменение климата – либо на его общую нестабильность, которая привела к тому, что в науках о Земле называют последним ледниковым максимумом, либо на вулканическую зиму, вызванную, как полагают, сильным извержением вулкана неподалеку от Искьи, в регионе, известном как Флегрейские поля. Иногда винят болезни или говорят, что неандертальцам просто не повезло. Впрочем, в последние десятилетия стало очевидно, что неандертальцы повторили судьбу мегатерия, американского мастодонта и многих других неудачливых представителей мегафауны. Иными словами, как выразился один исследователь, “их невезением стали мы”.
Современные люди пришли в Европу около 40 тысяч лет назад, и археологические находки раз за разом свидетельствуют о том, что, как только современные люди объявлялись там, где жили неандертальцы, те из этого региона исчезали. Возможно, современные люди активно преследовали неандертальцев или же просто вытеснили их, обойдя в конкурентной борьбе. В любом случае исчезновение неандертальцев укладывается в уже знакомую нам схему, но с одним важным (и тревожным) отличием. До того как современные люди окончательно сжили со свету неандертальцев, они с ними скрещивались. В результате большинство живущих сейчас людей – немножко, не более чем на 4 %, неандертальцы. Около “Кабинки метаморфоз” продаются футболки с самой оптимистичной надписью об этом наследовании, какая только возможна. На них большими печатными буквами выведено: ICH BIN STOLZ, EIN NEANDERTHALER ZU SEIN (“Я горд быть неандертальцем”). Мне так понравилась эта футболка, что я купила одну своему мужу, хотя недавно осознала, что он почему-то ее почти не носит.
Институт эволюционной антропологии Общества Макса Планка находится в Лейпциге, в четырехстах семидесяти километрах к востоку от долины Неандерталь. Он занимает новое здание, по форме немного напоминающее банан, и довольно сильно выделяется на фоне прочих построек района, до сих пор несущего на себе печать эпохи ГДР. Севернее института стоит комплекс жилых домов в советском стиле. Южнее сияет золотом шпиль огромного здания, ранее известного под названием “Советский павильон” (теперь пустующего). В холле института располагаются кафетерий и экспозиция, посвященная гоминидам. Телевизор в кафетерии передает прямую трансляцию из вольера орангутанов в Лейпцигском зоопарке.
Сванте Пэабо возглавляет отделение эволюционной генетики института. Это высокий худой человек с вытянутым лицом, узким подбородком и густыми бровями, которые он часто поднимает, подчеркивая ироничность своих высказываний. В кабинете Пэабо царствуют две фигуры. Первая – сам Пэабо, его исполинский портрет, подаренный ему на пятидесятилетие аспирантами (каждый из них нарисовал часть портрета, в целом на удивление неплохого, однако из-за неправильно подобранных цветов кажется, будто объект изображения страдает неким кожным заболеванием). Вторая фигура – неандерталец, модель его скелета в натуральную величину, закрепленная так, что ступни болтаются над полом.
Пэабо, шведа по национальности, иногда называют отцом палеогенетики. Можно сказать, что он “открыл” изучение древней ДНК. Одна из его первых работ, написанная еще в аспирантуре, посвящена попыткам извлечь генетическую информацию из плоти египетских мумий (Пэабо хотел знать, кто из фараонов кому приходился родственником). Позднее он сосредоточился на сумчатых волках и гигантских ленивцах. Выделял ДНК из костей мамонтов и моа. Все эти исследования в то время были невероятно новаторскими, однако, по сути, служили лишь разминкой перед главным проектом Пэабо, грандиозным и дерзким, – секвенированием полного генома неандертальца.
Ученый объявил о начале проекта в 2006 году, подгадав как раз к 150-летней годовщине открытия в долине Неандерталь. К тому времени уже была опубликована полная версия человеческого генома, а также версии геномов шимпанзе, мыши и крысы. Однако люди, шимпанзе, мыши и крысы – организмы живые. А вот работать с останками намного сложнее. Когда организм умирает, его генетический материал начинает распадаться, так что вместо длинных цепочек ДНК в лучшем случае остаются лишь их фрагменты. Попытки понять, как именно все эти фрагменты друг с другом соотносятся, можно сравнить с попытками заново собрать телефонный справочник Манхэттена из страниц, пропущенных через шредер, смешанных со вчерашним мусором и оставленных гнить на свалке.
По завершении проекта станет возможно сопоставить геномы современного человека и неандертальца нуклеотид за нуклеотидом и определить, где конкретно они разнятся. Неандертальцы были потрясающе похожи на современных людей; возможно, они были самыми близкими нашими родственниками. И все же очевидно, что людьми они не были[93]. Где-то в нашей ДНК кроется ключевая мутация (или, что более вероятно, ряд мутаций), разделившая нас с неандертальцами и превратившая в существ, способных сперва уничтожить своих ближайших родственников, а затем выкопать их кости и собрать их геном.
“Я хочу знать, что же изменилось у современных людей по сравнению с неандертальцами, обусловив такое различие, – объяснил Пэабо. – Что позволило нам сформировать неимоверные сообщества, разбрестись по всему миру и создать технологии – надеюсь, в этом никто не сомневается, – уникальные для нашего биологического вида? Для этого должны быть какие-то генетические основания, и они прячутся где-то в последовательности нуклеотидов”.
Кости из долины Неандерталь были обнаружены рабочими каменоломни, посчитавшими их простым мусором. Вполне вероятно, что они так и пропали бы, если бы владелец каменоломни не прослышал о находке и не настоял на том, чтобы останки – свод черепа, ключица, четыре кости руки, две бедренные кости, обломки пяти ребер и половина таза – были сохранены. Думая, что кости принадлежали пещерному медведю, он передал их местному учителю, Иоганну Карлу Фульроту, еще и специалисту по окаменелостям. Фульрот понял, что имеет дело с чем-то одновременно и более странным, и более знакомым, чем медведь. Он заявил, что останки принадлежат “примитивному представителю нашей расы”.
Это произошло примерно в то же время, когда Дарвин опубликовал “Происхождение видов”, и вскоре на кости стали ссылаться в дебатах о происхождении человека. Оппоненты теории эволюции отвергли заключение Фульрота. Кости, сказали они, принадлежали обычному человеку. Согласно одной из гипотез, то были кости какого-то казака, заблудившегося в тех краях в суматохе наполеоновских войн. Причина, по которой кости выглядели странно – бедра неандертальцев заметно искривлены, – заключалась якобы в том, что казак слишком много ездил верхом. По другой теории кости принадлежали человеку с рахитом. Он якобы так сильно страдал от своей болезни, что постоянно морщил лоб, в результате чего и образовались выступающие вперед надбровные дуги. (При этом никогда не объяснялось, зачем человеку с рахитом, испытывавшему постоянную боль, понадобилось лезть в гору и забираться в пещеру.)
В течение нескольких следующих десятилетий находили и другие кости, похожие на те из долины Неандерталь, – более толстые, чем у современных людей, – а также черепа диковинной формы. Разумеется, все эти находки нельзя было объяснить сказками о потерявшихся казаках или спелеологах, больных рахитом. Однако сторонников теории эволюции те кости тоже озадачили.
Черепа неандертальцев были очень большими – в среднем крупнее, чем у нас сегодня. Поэтому они не очень-то укладывались в концепцию, согласно которой все началось с обезьян с небольшим мозгом и постепенно привело к людям викторианской эпохи, мозг которых намного крупнее. В книге “Происхождение человека и половой отбор”, опубликованной в 1871 году, Дарвин упомянул неандертальцев лишь мимоходом. “…Должно допустить, что некоторые черепа весьма большой древности, например знаменитый неандертальский череп, были хорошо развиты и объемисты”, – отмечал он167[94].
Одновременно и люди и нет, неандертальцы являют собой очевидный контраст с нами, и многое из того, что было написано о них после “Происхождения человека и полового отбора”, отражает неуклюжесть этой взаимосвязи. В 1908 году в пещере у Ла-Шапель-о-Сен в Южной Франции был обнаружен почти полный скелет. Он попал к палеонтологу Марселлену Булю, в парижский Национальный музей естественной истории. В серии монографий Буль предложил некую, так сказать, карикатурную версию того, как могли выглядеть неандертальцы: сгорбившиеся, звероподобные, с согнутыми коленями168. Их кости, писал Буль, обнаруживают “явно обезьянье расположение”, а форма черепа демонстрирует “преобладание исключительно пассивных или животных черт”169. Согласно Булю, изобретательность, “художественная и религиозная чувствительность”, а также способность к абстрактному мышлению были явно недоступны таким насупленным созданиям. Выводы Буля были внимательно изучены, а затем повторены многими его современниками. К примеру, британский антрополог сэр Графтон Эллиот Смит описывал неандертальцев как “сгорбленных, неуклюжих” существ, передвигавшихся на “исключительно неловких ногах”. (Также Смит заявлял, что “непривлекательность” неандертальцев “усиливалась густой шерстью на большей части тела”, хотя в те времена не было – и до сих пор нет – никаких доказательств того, что они были столь мохнатыми.)
Неандерталец – каким его представляли в 1909 году
В 1950-е годы анатомы Уильям Страус и Александр Кейв решили вновь изучить скелет из Ла-Шапель-о-Сен. Вторая мировая война – не говоря уже о Первой – показала, до какой звероподобности могут дойти самые современные из современных людей, а значит, неандертальцы заслуживают некоторой переоценки. Страус и Кейв определили, что положение тела, которое Буль счел естественным для неандертальцев, могло быть вызвано артритом. Неандертальцы не ходили ссутулившись или на полусогнутых ногах. Напротив, писали исследователи, если бы неандертальца побрили и одели в пиджачную пару, он привлек бы в нью-йоркском метро не больше внимания, чем “некоторые нынешние пассажиры”170. Позднее наукой было подтверждено, что неандертальцы – если, конечно, у них не было необходимости тайно прокатиться в нью-йоркской подземке – определенно ходили выпрямившись, а их походка вполне соответствовала нашей собственной.
В 1960-е годы американский археолог Ральф Солецки откопал останки нескольких неандертальцев в одной из пещер Северного Ирака. Один из них, названный Шанидар I, или сокращенно Нанди, при жизни получил серьезную травму головы, из-за чего как минимум частично ослеп. Его раны были излечены, а значит, о нем заботились остальные члены группы. Другой неандерталец, Шанидар IV, явно был по-настоящему похоронен, и результаты анализа почвы из места захоронения убедили Солецки в том, что Шанидар IV был погребен с цветами. Ученый принял это за свидетельство глубокой духовности неандертальцев.
“Внезапно нам пришлось осознать, что человечность и любовь к красоте присущи не только нашему собственному виду”, – писал он о своем открытии в книге “Шанидар: первые «люди-цветы»” (Shanidar, The First Flower People)171. С тех пор некоторые из заключений Солецки были поставлены под сомнение – кажется более вероятным, что цветы принесли в пещеру роющие грызуны, а не скорбящие родственники, – однако его идеи оказали большое влияние, и это его душевные “почти-люди” предстают перед нами в музее в долине Неандерталь. В музейных диорамах показано, как неандертальцы живут в хижинах, носят что-то вроде кожаных лосин и вдумчиво всматриваются в мерзлый ландшафт. “Мужчина-неандерталец не был каким-то доисторическим Рэмбо, – гласит одна из надписей. – Он обладал довольно развитым интеллектом”.
Неандерталец, побритый и одетый в пиджачную пару
ДНК часто сравнивают с текстом, и это сравнение уместно, если под словом “текст” понимать набор букв, не имеющий никакого смысла. ДНК состоит из молекул, называющихся нуклеотидами, связанных вместе в форме лесенки – знаменитой двойной спирали. Каждый нуклеотид содержит одно из четырех оснований: аденин, тимин, гуанин и цитозин, обозначающихся буквами A, T, G и C. Таким образом, участок человеческой ДНК изображается, например, как ACCTCCTCTAATGTCA (это настоящая последовательность – 10-й хромосомы; аналогичная последовательность у слона имеет вид ACCTCCCCTAATGTCA). Человеческий геном состоит из трех миллиардов нуклеотидов – или, точнее, пар нуклеотидов. Насколько сейчас известно, львиная их доля ничего не кодирует.
Процесс, превращающий длинные цепочки ДНК организма во фрагменты – то есть “текст” во что-то, напоминающее конфетти, – начинается практически сразу после смерти организма. Значительная доля разрушений осуществляется в первые несколько часов – ферментами самого организма. Через некоторое время от ДНК остаются лишь обрывки, а еще позднее (насколько именно – зависит от условий разложения) и они распадаются. Когда это происходит, даже самому опытному палеогенетику оказывается больше не с чем работать. “Возможно, вечная мерзлота помогла бы нам вернуться на 500 тысяч лет назад, – сказал мне Пэабо. – Но уж точно не больше чем на миллион”. 500 тысяч лет назад динозавров не было уже около 65 миллионов лет, так что события “Парка юрского периода”, увы, лишь фантазия. Однако 500 тысяч лет назад современных людей еще не существовало.
Для своего геномного проекта Пэабо удалось заполучить двадцать одну неандертальскую кость: эти кости были найдены в одной из хорватских пещер. (Чтобы извлечь ДНК, Пэабо или любой другой палеогенетик должен нарезать кость на образцы, а затем растворить их – музеи и коллекционеры окаменелостей на такое обращение со своими экспонатами по вполне очевидным причинам соглашаются крайне неохотно.) Всего лишь из трех костей удалось выделить неандертальскую ДНК. Проблема усложнялась тем, что она была загрязнена ДНК микробов, пировавших на костях последние тридцать тысяч лет. Это означало, что преобладающая доля усилий по секвенированию пропадет даром. “Были времена, когда мы отчаивались, – признался Пэабо. – Не успевали мы разобраться с одной проблемой, как тут же возникала другая”. “То были эмоциональные американские горки”, – вспоминает Эд Грин, специалист по биомолекулярной инженерии из Калифорнийского университета в Санта-Крузе, несколько лет проработавший в этом проекте.
Работа начала наконец приносить результаты – длинные последовательности букв A, T, G и C, – когда один из участников команды Пэабо, Дэвид Райх, генетик из Гарвардской медицинской школы, заметил нечто странное. Как и ожидалось, нуклеотидные последовательности неандертальцев были очень похожи на человеческие. Однако сходство для одних живущих ныне людей оказалось больше, чем для других. Так, европейцы и азиаты[95] имели больше общей с неандертальцами ДНК, чем африканцы. “Мы пытались как-то отделаться от этого результата, – рассказывал мне Райх. – Подумали: «Должно быть, здесь какая-то ошибка»”.
Последние двадцать пять лет в исследовании человеческой эволюции господствовала теория, известная в популярной прессе под названием “из Африки”, а в научных кругах – как гипотеза моноцентризма, или гипотеза замещения. Согласно этой теории, все современные люди произошли от небольшой популяции, жившей в Африке около 200 тысяч лет назад. Примерно 120 тысяч лет назад часть этой популяции мигрировала на Ближний Восток, а оттуда более малочисленные группы со временем направились на северо-запад в Европу и на восток – в Азию и дальше до самой Австралии. Двигаясь на север и восток, современные люди встречались с неандертальцами и другими так называемыми архаичными людьми, которые уже жили в этих регионах. Современные люди “заместили” архаичных, то есть, если выразиться менее приятным образом, привели их к вымиранию. Такая модель миграций и “замещения” предполагает, что отношения между неандертальцами и современными людьми должны быть одинаковыми для всех ныне живущих людей, вне зависимости от их происхождения.
Многие участники команды Пэабо заподозрили, что евразийский уклон свидетельствует о контаминации исходного материала. На различных этапах работы образцы побывали в руках европейцев и азиатов; возможно, ДНК этих людей смешалась с ДНК неандертальцев. Чтобы проверить это, провели несколько тестов. Все результаты оказались отрицательными. “Мы наблюдали ту же закономерность и в следующих экспериментах, причем чем больше данных мы получали, тем более статистически значимой она становилась”, – рассказывал Райх. Постепенно и остальные члены команды убедились в достоверности этих результатов. В статье, опубликованной в журнале Science в мае 2010 года172, они представили то, что Пэабо позже назвал гипотезой “замещения с протечкой” (эта статья была признана лучшей публикацией журнала за год, и команда ученых получила премию в двадцать пять тысяч долларов). Перед тем как современные люди “заместили” неандертальцев, они с ними скрещивались. В результате появились потомки, которые и заселили Европу, Азию, а также Новый Свет.
Гипотеза замещения с протечкой – если на мгновение предположить, что она истинна, – предлагает самое надежное из всех возможных доказательств сходства неандертальцев и современных людей. Влюблялись они друг в друга или нет, неизвестно, но в половые отношения они вступали. Считали ли их гибридных детей какими-то выродками или нет, неизвестно, но кто-то – возможно, поначалу неандертальцы, возможно, люди – заботился о них. Некоторые из гибридов выжили и произвели на свет своих детей, которые тоже дали потомство, и так далее до настоящего времени. Даже сейчас – как минимум тридцать тысяч лет спустя – прослеживается эта связь: все неафриканцы, от жителей Новой Гвинеи до французов и китайской народности хань, имеют от 1 до 4 % неандертальской ДНК.
Одно из самых любимых слов Пэабо в английском языке – “круто”. Он рассказал мне, что когда в конце концов убедился в том, что неандертальцы передали некоторые свои гены современным людям, то “подумал, что это очень круто. Это означает, что они исчезли не окончательно – они продолжают жить немножко в нас”.
Лейпцигский зоопарк находится в противоположной от Института эволюционной антропологии части города, однако на его территории у института есть свое лабораторное здание, а также специально спроектированные помещения для проведения экспериментов в вольере человекообразных обезьян, известном как “Понголэнд”. Поскольку никто из самых близких родственников нашего вида не выжил (кроме как продолжая существовать немножко в нас), ученые вынуждены проводить исследования на следующих наших ближайших родственниках – шимпанзе, бонобо – и на чуть более дальних – гориллах и орангутанах (обычно те же самые или по крайней мере аналогичные эксперименты проводят и на маленьких детях, чтобы сравнивать результаты). Как-то утром я отправилась в зоопарк в надежде понаблюдать за проведением эксперимента. В тот день в “Понголэнде” находилась также съемочная группа телеканала “Би-би-си”, готовившая программу об интеллекте животных. Обезьяний вольер весь был усыпан чехлами от камер, подписанными “ЭЙНШТЕЙНЫ СРЕДИ ЖИВОТНЫХ”.
Специально для фильма испанский исследователь Эктор Марин Манрике повторял серию экспериментов, уже проведенную им ранее в более четких и контролируемых условиях. Самку орангутана по имени Докана завели в одно из лабораторных помещений. Как у большинства орангутанов, у нее была медно-красного цвета шерсть, а на морде застыло выражение некоторой усталости от жизни. В первом эксперименте с красным соком и тонкими пластиковыми трубочками Докана продемонстрировала, что способна отличить годную соломинку для питья от негодной. Во втором, с еще большим количеством красного сока и пластиковых трубочек, она доказала, что поняла общий принцип использования соломинки: догадалась вытащить из нее твердый стержень, а затем использовать получившуюся полую соломинку для питья. И наконец, продемонстрировав поистине высочайший уровень обезьяньей изобретательности, Докане удалось заполучить арахисовый орех, который Манрике поместил на дно высокого пластикового цилиндра (тот был прикреплен к стене, так что его нельзя было перевернуть). Обезьяна подошла к поилке, набрала в рот воды, вернулась обратно к цилиндру и выплюнула в него воду. Она повторяла эту процедуру до тех пор, пока арахис не всплыл настолько, что его можно было достать. Позже я видела, как команда телеканала проводила тот же эксперимент с пятилетними детьми, используя вместо арахиса небольшие пластиковые контейнеры с конфетами. И хотя рядом с цилиндром на видном месте стояла емкость с водой, лишь один ребенок – девочка – смог догадаться, что нужно сделать, да и то после множества подсказок (“Чем мне вода-то поможет?” – раздраженно спросил один из мальчиков прямо перед тем, как сдаться).
Один из способов попытаться ответить на вопрос “Что делает нас людьми?” – это задать иной вопрос: “Что отличает нас от других гоминид?” Сегодня почти все уже знают – и лишний раз это подтверждается экспериментами с Доканой, – что большие человекообразные обезьяны невероятно умны. Они способны делать выводы, решать сложные задачи и понимать, что могут (или не могут) знать другие обезьяны. Когда исследователи из Лейпцига провели ряд тестов с шимпанзе, орангутанами и детьми двух с половиной лет, то обнаружили, что шимпанзе, орангутаны и дети примерно одинаково справлялись с разнообразнейшими задачами, связанными с пониманием физического мира173. Например, если экспериментатор помещал награду в одну из трех чашек, а затем менял их местами, то обезьяны находили лакомство так же часто, как дети, причем шимпанзе даже чаще. Похоже, обезьяны распознают количество не хуже детей – они раз за разом выбирали тарелку с бóльшим числом лакомств, даже когда выбор предполагал использование того, что условно можно назвать арифметикой, – а также неплохо улавливают причинно-следственные связи (скажем, обезьяны понимали, что лакомство скорее содержит та чашка, которая громыхает, если ее потрясти, чем та, что не громыхает). И столь же умело, как и дети, обезьяны управлялись с простыми орудиями.
А вот неизменно хуже детей обезьяны справлялись с задачами, требующими считывания социальных сигналов. Когда детям намекали, где искать награду (кто-то указывал или смотрел на правильную коробку), они ее находили. Обезьяны же либо не понимали, что им предлагается помощь, либо не могли следовать подсказкам. Аналогичным образом, когда детям показывали, как получить награду (например, разрывая коробку), они легко схватывали суть и копировали нужные действия. А обезьяны опять-таки оказывались сбиты с толку. Надо признать, что дети имели большое преимущество в социальном смысле, поскольку экспериментаторы принадлежали к тому же виду. Однако в целом складывается впечатление, что обезьянам недостает побуждения к коллективному решению проблем, которое так важно для человеческого общества.
“Шимпанзе умеют делать массу фантастически толковых вещей, – сказал мне Майкл Томаселло, возглавляющий в институте отделение психологии развития и сравнительной психологии. – Однако наше главное отличие от них состоит в том, что мы способны «объединять умы». В зоопарке вам никогда не удастся увидеть, как два шимпанзе несут что-нибудь тяжелое вместе. У них просто нет подобной программы совместной деятельности”.
* * *
Пэабо обычно работает допоздна, поэтому чаще всего ужинает в институте, кафетерий которого работает до семи часов вечера. Однако как-то раз, закончив пораньше, он предложил мне пройтись по центру Лейпцига. Мы зашли в церковь, где упокоен прах Баха, а потом очутились в ресторане “Погреб Ауэрбаха”, в этот погребок Мефистофель приводит Фауста в пятой сцене одноименной трагедии Гёте (считается, что погребок был любимым местечком поэта в годы учебы в университете). Накануне я была в зоопарке, так что теперь попросила Пэабо поразмышлять о гипотетическом эксперименте. Что бы он сделал, если бы у него была возможность провести с неандертальцами те же эксперименты, которые я видела в “Понголэнде”? Как, по его мнению, они бы себя повели? Думает ли он, что они были бы способны говорить? Пэабо откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди.
“Так соблазнительно всегда пуститься в домыслы, – сказал он. – Поэтому я пытаюсь сопротивляться этому, отвергая вопросы вроде «Думаю ли я, что они умели говорить?». Ведь, если честно, я понятия не имею, так что в каком-то смысле ваши предположения на эту тему будут ничуть не хуже моих”.
Многие места, где нашли останки неандертальцев, позволяют нам представить, как они выглядели, – как минимум тем, кто склонен строить предположения. Неандертальцы были невероятно крепкими – об этом свидетельствует толщина их костей – и, возможно, могли сделать из современных людей отбивную. Они умело создавали каменные орудия, однако, похоже, десятки тысяч лет воспроизводили одно и то же. По меньшей мере в некоторых случаях неандертальцы хоронили умерших. Иногда они, по-видимому, убивали и съедали друг друга. На многих скелетах, не только у Нанди, есть следы заболеваний или каких-то физических изъянов. Судя по всему, тот неандерталец, чьи кости были найдены в одноименной долине, страдал от двух серьезных травм – головы и левой руки. А у неандертальца из Ла-Шапель-о-Сен в дополнение к артриту было сломано ребро и травмирована коленная чашечка. Такие повреждения, наверное, отражают суровость охоты с ограниченным арсеналом оружия; неандертальцы, похоже, так никогда и не придумали метательных средств для охоты, поэтому им приходилось вступать в непосредственный контакт со своей добычей, чтобы ее убить. Подобно Нанди, неандертальцы из долины Неандерталь и из Ла-Шапель-о-Сен восстановились после своих ранений, то есть за ними ухаживали соплеменники. А это, в свою очередь, означает, что неандертальцам не чужда была эмпатия. Из археологической летописи следует, что они возникли в Европе или Западной Азии и оттуда начали распространяться, останавливаясь, когда путь им преграждало водное или какое-то другое значительное препятствие. (Во время оледенений, когда уровень моря был значительно ниже современного, Ла-Манш препятствием не был.) Именно в этом и состоит одно из самых главных отличий современных людей от неандертальцев, а по мнению Пэабо, еще и одно из самых загадочных. Когда современные люди отправились в Австралию, даже несмотря на то, что стояла середина ледниковой эпохи, невозможно было добраться туда, не пересекая открытые воды.
Архаичные люди, например Homo erectus, “распространялись так же, как и многие другие млекопитающие в Старом Свете, – сказал мне Пэабо. – Они не добрались ни до Мадагаскара, ни до Австралии. Это не удалось и неандертальцам. Лишь современные люди осмелились выйти в открытый океан, где суши вообще нигде не видно. Разумеется, отчасти дело в технической составляющей: чтобы плыть, вам нужны какие-то суда. Однако еще, как я люблю говорить и думать, нужно некоторое безумие. Понимаете? Сколько людей сгинуло со своими кораблями в Тихом океане, прежде чем открыли остров Пасхи? Это ведь просто дико! И зачем это делать? Ради славы? Бессмертия? Из любопытства? А теперь мы собираемся на Марс. Мы никогда не остановимся”.
Но если подобная фаустовская неугомонность – одна из характерных особенностей современных людей, то, по мнению Пэабо, у них должен быть и своего рода фаустовский ген. Не раз он говорил мне, что уверен – возможно найти основу нашего “безумия”, сравнивая ДНК неандертальца и современного человека. “Если однажды мы поймем, что за странная мутация вызвала к жизни человеческое безрассудство и все, что связано с исследованием окружающего мира, то будет очень здорово знать, что вот это небольшое изменение такой-то хромосомы запустило всю дальнейшую историю человечества, привело к изменению всей экосистемы и сделало нас доминирующими над всем живым”, – сказал как-то Пэабо. В другой раз он высказался так: “В каком-то смысле мы безумны. Чем это вызвано? Вот что я хотел бы понять. Знать это было бы очень круто”.
Один и тот же участок 5-й хромосомы в геномах человека, неандертальца и шимпанзе
Как-то раз после обеда я зашла в кабинет Пэабо, и он показал мне фотографию черепного свода, который не так давно был найден одним коллекционером ископаемых, любителем, примерно в получасе езды от Лейпцига. По фотографии, полученной по электронной почте, Пэабо решил, что этот свод черепа довольно древний, принадлежавший раннему неандертальцу или даже Homo heidelbergensis, общему предку, как полагают некоторые ученые, современных людей и неандертальцев. Пэабо также решил, что необходимо заполучить эту находку. Она была обнаружена в карьере в яме с водой. Возможно, предположил Пэабо, такие условия позволили костям сохраниться в хорошем состоянии, так что, если быстро приняться за дело, удастся выделить сколько-нибудь ДНК. Однако находка уже была обещана профессору антропологии из Майнца. Как бы, думал Пэабо, убедить профессора поделиться частью материала для исследований?
Пэабо обзвонил всех своих знакомых, кто, по его мнению, мог знать ученого из Майнца. Он попросил свою секретаршу связаться с секретаршей профессора и узнать номер его мобильного телефона и даже шутил – а может, лишь наполовину шутил, – что готов переспать с профессором, если это поможет. Лихорадочные звонки по всей Германии продолжались около полутора часов, пока наконец Пэабо не поговорил с одним из исследователей в своей собственной лаборатории. Тот, как выяснилось, уже видел этот черепной свод и пришел к выводу, что он вовсе не очень древний. Пэабо тут же потерял к находке интерес.
Со старыми костями никогда точно неизвестно, удастся ли выделить из них генетический материал. Несколько лет назад Пэабо посчастливилось заполучить кусочек зуба одного из так называемых хоббитов, чьи скелеты были найдены на острове Флорес в Индонезии. Считается, что флоресские хоббиты, описанные лишь в 2004 году, – это низкорослые архаичные люди Homo floresiensis. Возраст зуба определили примерно в семнадцать тысяч лет, то есть зуб был вдвое менее древним, чем кости неандертальцев из Хорватии. Однако Пэабо не смог выделить из него ДНК.
Затем, примерно год спустя, он получил фрагмент фаланги пальца, выкопанный в пещере в Южной Сибири вместе со странным моляром, смутно напоминавшим человеческий. Этой фаланге – размером с ластик – было больше сорока тысяч лет. Пэабо заключил, что она принадлежала представителю либо современных людей, либо неандертальцев. Если бы верно оказалось второе, место находки стало бы самой восточной точкой, где когда-либо обнаруживали останки неандертальцев. В отличие от зуба хоббита, из фаланги пальца удалось извлечь на удивление много ДНК. Когда были получены первые результаты, Пэабо находился в США. Он позвонил в лабораторию, и один из коллег сказал ему: “Если ты сейчас не сидишь, лучше сядь”. Анализ ДНК показал, что палец не имел отношения ни к современным людям, ни к неандертальцам. Его владелец был представителем совершенно новой и ранее неизвестной группы гоминид. В статье, опубликованной в декабре 2010 года в журнале Nature, Пэабо назвал эту новую группу денисовцами – в честь Денисовой пещеры, где была найдена кость174. Один из газетных заголовков гласил: “Палец, грозящий нашим представлениям о доисторических временах”. Удивительно – хотя теперь уже вполне предсказуемо, – но современные люди скрещивались и с денисовцами, потому что сегодняшние жители Новой Гвинеи несут до 6 % ДНК денисовцев (не вполне понятно, почему это так для жителей Новой Гвинеи, но не для коренных сибиряков или азиатов; возможно, из-за особенностей человеческих миграций).
С открытием флоресских хоббитов и денисовцев современные люди приобрели двух новых родственников. Не исключено, что, когда будет проведен анализ ДНК из прочих древних костей, обнаружатся и другие родственники современных людей. Как сказал мне Крис Стрингер, знаменитый британский палеоантрополог: “Я уверен, что впереди нас ждет еще немало сюрпризов”.
На данный момент у нас нет никаких свидетельств, которые бы подсказывали, что именно уничтожило денисовцев или хоббитов, однако время их исчезновения и общие закономерности вымираний эпохи позднего плейстоцена дают нам одного очевидного подозреваемого. Разумно предположить, что у денисовцев и хоббитов, поскольку они наши близкие родственники, период беременности тоже был долгим, а следовательно, им был присущ основной фактор уязвимости мегафауны – низкие темпы воспроизводства. Поэтому для их исчезновения хватило бы просто постоянного негативного давления, приводящего к уменьшению числа половозрелых особей.
То же справедливо и для наших следующих по близости родственников. Вот почему все живущие сейчас гоминиды, за исключением людей, вымирают. Количество шимпанзе в дикой природе уменьшилось вполовину за последние пятьдесят лет. Примерно то же относится и к горным гориллам. Равнинные гориллы вымирают еще быстрее: их популяция сократилась на 60 % всего за два последних десятилетия. Это произошло из-за браконьерства, болезней и потери среды обитания; последний фактор усугубился несколькими войнами, в результате которых в ограниченный ареал горилл хлынули волны беженцев. Суматранские орангутаны имеют охранный статус “вида на грани исчезновения”, что означает “чрезвычайно высокий риск исчезновения в дикой природе”. В этом случае угроза связана скорее с миром, чем с войной; большинство оставшихся орангутанов живет в индонезийской провинции Ачех, где недавнее окончание десятилетий политической нестабильности привело к всплеску вырубки лесов, как законной, так и нет. Одно из множества непредвиденных последствий антропоцена заключается в том, что мы подрезаем собственное генеалогическое древо. Избавившись от сестринских видов – неандертальцев и денисовцев – много поколений назад, мы принялись за своих двоюродных и троюродных родственников. К тому времени, как мы закончим, на планете, вполне вероятно, не останется ни единого представителя гоминид, кроме нас.
Одно из крупнейших скоплений неандертальских костей из когда-либо найденных – останки семи особей – было обнаружено около ста лет назад в местечке Ла-Ферраси в юго-западной части Франции. Ла-Ферраси находится в департаменте Дордонь, недалеко от Ла-Шапель-о-Сен и в получасе езды от десятка других важных мест археологических раскопок, в том числе и от пещеры с наскальными рисунками в Ласко. Последние несколько летних полевых сезонов команда, включающая одного из коллег Пэабо, занималась раскопками в Ла-Ферраси, и я решила поехать туда и увидеть все своими глазами. Я прибыла в штаб-квартиру экспедиции – переоборудованный сарай, где раньше сушился табак, – как раз к обеду, состоявшему из говядины по-бургундски и сервированному на самодельных столах на улице.
На следующий день вместе с несколькими археологами я выехала в Ла-Ферраси. Этот скальный навес располагается в тихой сельской местности, совсем у дороги. Много тысяч лет назад то была огромная известняковая пещера, однако одна из ее стен с тех пор разрушилась, так что теперь пещера открыта с двух сторон. Массивный скальный выступ выдается метров на шесть над землей, подобно половине сводчатого потолка. Место раскопок огорожено проволочной сеткой и завешено брезентом, что вызывает ассоциации с местом преступления.
День выдался жарким и пыльным. Полдесятка студентов сидели на корточках в длинной канаве, ковыряя совками грязь. Идя вдоль канавы, я видела кусочки костей, торчавших из красноватой почвы.
Мне пояснили, что кости в более глубоких слоях были расшвыряны здесь неандертальцами, а те, что ближе к поверхности земли, – современными людьми, которые заняли пещеру после ухода предшественников. Скелеты неандертальцев из Ла-Ферраси давно вывезены, однако ученые надеялись найти еще какие-нибудь крошечные остатки, например зубы. Каждый выкопанный фрагмент кости, кремневый отщеп и вообще все, что могло представлять хоть малейший интерес, откладывалось в сторону. Затем все находки предполагалось отвезти в бывший сушильный сарай и снабдить бирками.
Понаблюдав, как студенты очищают находки, я удалилась в тенек. И попыталась представить, какой была жизнь неандертальцев в Ла-Ферраси. Сейчас эта местность лесистая, тогда же деревьев здесь не было. По долине бродили большерогие и северные олени, дикие быки и мамонты. Больше ничего мне в голову не приходило. Я задала свой вопрос археологам, вместе с которыми уезжала с раскопок.
“Холодно было”, – ответил Шэннон Макферрон из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка.
“И воняло”, – продолжил Деннис Сэндгет из канадского Университета имени Саймона Фрейзера.
“Наверное, голодно”, – отозвался Гарольд Диббл из Пенсильванского университета.
“Никто не доживал до глубокой старости”, – добавил Сэндгет.
Позже, вернувшись в сарай, я внимательно осмотрела все, что было выкопано за последние несколько дней. Там были сотни фрагментов костей животных, каждый из которых был очищен, пронумерован и помещен в отдельный полиэтиленовый пакетик. Кроме того, там были сотни кремневых отщепов. Большинство из них, по всей видимости, представляли собой обломки, образовавшиеся при изготовлении орудий (палеолитический аналог деревянной стружки), однако некоторые, насколько я поняла, сами были инструментами. Как только мне показали, на что обращать внимание, я смогла без труда находить камни со скошенными краями – результатом труда неандертальцев. Один инструмент особенно выделялся – кремень, обработанный в форме слезинки размером с ладонь. Археологи называют такие орудия ручными топорами, хотя они и не использовались как топоры в современном смысле слова. Камень-слеза лежал почти у дна канавы, поэтому его возраст мог доходить до семидесяти тысяч лет. Я вытащила его из пакетика и перевернула. Он был почти идеально симметричным и – по крайней мере, на взгляд современного человека – довольно красивым. Я сказала, что создавший его неандерталец, похоже, обладал хорошим чувством композиции. Макферрон возразил мне.
“Мы знаем конец истории”, – сказал он. “Знаем, как выглядит современная культура, и хотим объяснить, как к этому пришли. И нам свойственно додумывать прошлое, проецируя на него настоящее. Поэтому, когда вы видите красивый ручной топор и восклицаете: «Как мастерски он сделан, это же произведение искусства!» – вы тем самым транслируете сегодняшнее видение на прошлое. Однако нельзя принимать за данность то, что пытаешься доказать”.
Среди тысяч найденных неандертальских артефактов почти ничего нельзя явно отнести к произведениям искусства или украшениям. А те, что именно так и интерпретировали, – например, подвески из слоновой кости, найденные в пещере в центральной части Франции, – служат предметом бесконечных и порой невразумительных споров. (Некоторые археологи полагают, что неандертальцы сделали подвески после контакта с современными людьми в попытке подражать им. Другие же считают, что подвески были созданы современными людьми, занявшими пещеру после неандертальцев.) Отсутствие среди находок таких предметов заставило часть ученых предположить, что у неандертальцев не было способности к искусству или – что по сути то же самое – они им не интересовались. Нам ручной топор может казаться “красивым”, а для них он был просто полезным орудием. С генетической точки зрения им недоставало того, что можно назвать эстетической мутацией[96].
В последний день моего пребывания в Дордони я отправилась в расположенное совсем неподалеку место археологических раскопок (оно относится уже к современным людям) – Грот-де-Комбарель. Это очень узкая пещера, ломаной линией свыше двухсот метров длиной петляющая внутри известняковой скалы. С момента обнаружения – в самом начале XX века – пещера была расширена и освещена электрическим светом, что позволило передвигаться по ней если и не вполне комфортно, то хотя бы безопасно. Когда 12 или 13 тысяч лет назад современные люди впервые вошли в нее, все выглядело совсем иначе. Тогда свод был настолько низким, что передвигаться по пещере можно было только ползком, а увидеть что-то в кромешной тьме – только держа в руке факел. И тем не менее что-то – творческие способности, духовность, “безумие”? – толкало людей вперед. Глубоко внутри пещеры стены покрыты сотнями рисунков. На всех изображены животные, многие из которых уже вымерли: мамонты, туры, шерстистые носороги. Те, что прорисованы наиболее детально, выглядят поразительно живыми: дикая лошадь словно поднимает голову, а северный олень наклоняется вперед, к воде.
Многие считают, что люди, рисовавшие на стенах пещеры Грот-де-Комбарель, верили, будто эти изображения обладают магической силой. В каком-то смысле они были правы. Неандертальцы жили в Европе больше ста тысяч лет и за это время оказали на среду своего обитания не большее влияние, чем любое другое крупное позвоночное. Есть все основания полагать, что если бы не современные люди, то неандертальцы все еще жили бы там, вместе с дикими лошадьми и шерстистыми носорогами. Со способностью отображать мир с помощью знаков и символов приходит и способность менять его, а значит, как выясняется, и разрушать. Незначительный набор генетических различий отделяет нас от неандертальцев, однако он-то кардинально все и изменил.
Глава 13 Штучка с перьями[97] Homo sapiens
“Футурология никогда не была особенно уважаемой областью исследований”, – писал Джонатан Шелл175[98]. Помня об этом предупреждении, я поехала в Институт природоохранных исследований, относящийся к зоопарку Сан-Диего и расположенный в пятидесяти километрах к северу от города. По пути я миновала несколько полей для гольфа, винодельческое хозяйство и страусиную ферму. Когда я приехала, в институте царила почти больничная тишина. Марлис Хоук, исследовательница, занимающаяся культурами тканей, повела меня по длинному коридору в помещение без окон. Там она надела что-то вроде уплотненных рукавиц-прихваток и открыла крышку большого металлического контейнера. Оттуда вырвался призрачный пар.
На дне контейнера плещется жидкий азот температурой –195 °C. Над ним подвешены небольшие стеллажи с коробочками, в которых расставлены пластиковые пробирки. Коробочки располагаются в стеллаже одна над другой, а пробирки в них стоят вертикально, как колышки, каждая в своей собственной ячейке. Вытащив один стеллаж, Хоук находит нужную коробочку, вытаскивает из нее две пробирки и ставит передо мной на стол из нержавеющей стали со словами “Вот они”.
Внутри пробирок – практически все, что осталось от пооули, или чернолицей гавайской цветочницы, небольшой птицы с красивой головой и грудью кремового цвета, которая раньше жила на острове Мауи. Мне описывали пооули как “самую красивую из не особенно красивых птиц”. По всей видимости, она окончательно вымерла через год или два после того, как осенью 2004 года зоопарк Сан-Диего и Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США предприняли последнюю отчаянную попытку ее спасти. В то время было известно о существовании всего трех особей, и идея состояла в том, чтобы отловить их и попытаться вывести этот вид в неволе. Однако только одна птица позволила поймать себя в сеть. Поначалу ее считали самкой, но она оказалась самцом, и это заставило ученых подозревать, что в природе остались представители только одного пола. Когда пойманная птица умерла (сразу после Дня благодарения), ее трупик был немедленно отправлен в зоопарк Сан-Диего. Хоук помчалась в институт, чтобы заняться им. “Это наш последний шанс, – думала она тогда. – Как додо”. Хоук удалось культивировать некоторые клетки из птичьего глаза, и результаты этих усилий теперь наполняют криопробирки. Чтобы не повредить клетки, примерно через минуту она ставит пробирки обратно в коробочку и возвращает в контейнер с азотом.
Помещение без окон, в котором клетки пооули хранятся живыми (в некотором роде), называется “Замороженный зоопарк”. Название запатентовано: если его пытаются использовать другие учреждения, их предупреждают, что они нарушают закон. В помещении стоят шесть контейнеров наподобие того, что открывала при мне Хоук. Внутри них, в ледяных парах азота, хранятся клеточные линии почти тысячи биологических видов. (На самом деле это лишь половина “зоопарка”. Вторая половина контейнеров находится в другом здании, местонахождение которого намеренно держится в секрете. Каждая клеточная линия разделена между обоими хранилищами – на случай, если в одном из них вдруг отключится электричество.) В “Замороженном зоопарке” хранится крупнейшая в мире коллекция замороженных биологических видов, однако все больше других учреждений также оборудуют у себя зверинцы на жидком азоте, такие как “КриоБиоБанк” зоопарка Цинциннати и “Замороженный ковчег” Ноттингемского университета в Англии.
Пока почти у всех видов, пребывающих в глубокой заморозке в Сан-Диего, еще есть живые представители. Однако это легко может измениться, ведь все больше и больше растений и животных рискуют повторить судьбу пооули. В то время как Хоук закрывает контейнер, я думаю о сотнях трупиков летучих мышей, собранных в пещере Эола и отправленных в криоколлекцию Американского музея естественной истории. Я пытаюсь сосчитать, сколько маленьких пластиковых пробирок и чанов жидкого азота потребуется, чтобы сохранить клеточные культуры от всех лягушек, гибнущих от хитридиевого грибка; коралловых полипов, страдающих от закисления океана; носорогов и других толстокожих животных, уничтожаемых браконьерами; а также множества других видов, подталкиваемых к вымиранию глобальным потеплением, инвазивными видами и фрагментацией леса. Вскоре я сдаюсь – в моей голове не умещаются такие огромные числа.
Неужели все должно закончиться именно так? Неужели последняя надежда для самых великолепных – да и наименее великолепных – существ в мире действительно заключается в лужах жидкого азота? Узнав о том, как именно мы подвергаем риску другие биологические виды, разве нельзя что-то сделать для их защиты? И не в том ли весь смысл попыток вглядеться в будущее, чтобы, заметив грозящие опасности, попытаться их избежать?
Вне всякого сомнения, люди умеют быть разрушительными и недальновидными; но они также могут быть альтруистичными и предусмотрительными. Снова и снова люди показывают, что неравнодушны к “проблеме сосуществования на Земле с другими существами”, по выражению Рейчел Карсон, что готовы чем-то жертвовать ради этих существ85. Альфред Ньютон описал бойню, происходившую у берегов Британии, – и в результате был принят Закон об охране морских птиц. Джон Мьюр[99] написал о бедствиях в горах Калифорнии – и это привело к созданию национального парка “Йосемити”. В книге “Безмолвная весна” Рейчел Карсон раскрыла опасности применения синтетических пестицидов – и в течение следующих десяти лет большинство способов использования ДДТ были запрещены (тот факт, что в США до сих пор водятся белоголовые орланы, причем их популяция растет, – лишь одно из многих замечательных последствий тех изменений).
В 1974 году – через два года после введения запрета на использование ДДТ – конгресс США принял Закон об исчезающих видах. С тех пор люди приложили поистине титанические усилия ради защиты существ, перечисленных в документе. Вот лишь один из множества примеров: к середине 1980-х годов численность популяции калифорнийских кондоров снизилась до двадцати двух особей. Для спасения этого вида, крупнейшей наземной птицы в Северной Америке, биологи – специалисты по дикой природе выводили птенцов кондора, используя специальных кукол, имитирующих взрослую особь. Также они протянули фальшивые линии электропередач, чтобы учить птиц избегать ударов током; приучали их не питаться мусором, подведя к помойкам электроды, бьющие слабеньким током. Они вакцинировали каждого кондора – сейчас их уже около четырехсот – от вируса Западного Нила (стоит отметить, что вакцин для людей пока нет). Биологи постоянно проверяли птиц на отравление свинцом – кондоры, поедающие туши оленей, часто заглатывают и свинцовые пули – и многим из них проводили хелатирующую терапию (причем нескольким птицам – не один раз).
Усилия по спасению американского журавля потребовали еще больше человеко-часов, причем преимущественно добровольческих. Каждый год команда пилотов сверхлегких самолетов учит новое поколение выращенных в неволе журавлей, как мигрировать на зиму на юг – из Висконсина во Флориду. Путешествие длиной около двух тысяч километров может занимать до трех месяцев, оно предполагает десятки остановок на частных землях, владельцы которых охотно предоставляют их птицам. Миллионы американцев, не принимающих непосредственного участия в этой деятельности, поддерживают ее косвенно – вступая в многочисленные общественные организации, среди которых Всемирный фонд дикой природы, Национальная федерация дикой природы, “Защитники дикой природы”, Общество охраны дикой природы, Африканский фонд дикой природы, “Охрана природы”, Международное общество сохранения природы[100].
Не лучше ли было бы, с практической и этической точек зрения, сосредоточиться на том, что можно сделать и что делается для сохранения видов, а не строить мрачные предположения о будущем, в котором биосфера сведется к маленьким пластиковым пробиркам? Директор одной природоохранной организации на Аляске однажды сказал мне так: “Людям нужно иметь надежду. Мне нужно иметь надежду. Она поддерживает в нас жизнь”.
Рядом с Институтом природоохранных исследований стоит похожее здание палевого цвета, служащее ветеринарной клиникой. Большинство животных в клинике, которая также относится к зоопарку Сан-Диего, приходят и уходят, однако в здании есть и постоянный обитатель – гавайский ворон, или алала, по имени Кинохи. Он один из примерно сотни представителей этого вида, живущих в наши дни, причем все в неволе. Оказавшись в Сан-Диего, я навестила Кинохи в сопровождении заведующей отделом физиологии размножения Барбары Даррант – единственного человека, который, как мне сказали, действительно понимает этого ворона. По дороге к нему Даррант прихватила в специальном магазинчике его любимые лакомства: мучных червей, лысого новорожденного мышонка и заднюю часть туловища взрослой мыши, разрезанной пополам так, что с одной стороны свисала пара лапок, а с другой – клубок кишок.
Никто точно не знает, почему алала исчезли в дикой природе; возможно, как и в случае с пооули, на то есть несколько причин: утрата ареала, истребление инвазивными видами, например мангустами, и заболевания, передающиеся другими инвазивными видами, такими как москиты. Так или иначе, считается, что последний из живших в лесу алала умер в 2002 году. Кинохи родился в питомнике на Мауи более двадцати лет назад. Судя по тому, что все рассказывают, он очень странная птица. Выросший в изоляции, он не идентифицирует себя с другими алала. Но он не думает о себе и как о человеке. “Он живет в своем собственном мире, – сообщила мне Даррант. – Как-то он влюбился в колпицу”.
В 2009 году Кинохи отправили в Сан-Диего, поскольку он отказывался спариваться с какими-либо другими воронами из питомника; решено было попробовать что-то новое, чтобы убедить Кинохи внести свой вклад в ограниченный генофонд вида. И именно Даррант придумала, как завоевать сердце Кинохи, а точнее его семенники. Он довольно скоро начал благосклонно принимать знаки ее внимания – у воронов нет пениса, поэтому Даррант массировала область вокруг его клоаки, – однако во время моего визита он по-прежнему не сумел, выражаясь словами исследовательницы, выдать “эякулят высокого качества”. Приближался очередной брачный сезон, и Даррант намеревалась повторять попытки по три раза в неделю в течение пяти месяцев. Если дело рано или поздно увенчается успехом, она тут же метнется со спермой Кинохи на Мауи и попробует провести искусственное осеменение одной из самок в питомнике.
Мы подошли к клетке, где жил Кинохи. Она больше напоминала гостиничный номер – передняя комнатка была достаточно просторной, чтобы там могло уместиться несколько человек, задняя же была увешана веревками и другими интересными для воронов приспособлениями. Кинохи подскочил, чтобы поприветствовать нас. Он был черный как смоль, от головы до кончиков когтей. Мне показалось, что выглядит он как обычный американский ворон, однако Даррант объяснила, что у него гораздо толще клюв и лапы. Кинохи держал голову чуть наклоненной вперед, будто старался избежать визуального контакта. Интересно, подумалось мне, не появляется ли у него при виде Даррант птичьего эквивалента грязных мыслей? Исследовательница предложила ему принесенные лакомства – и он разразился хриплым карканьем, звучавшим пугающе знакомо. Вороны способны имитировать человеческую речь, и Даррант перевела мне его карканье как “Я знаю”.
“Я знаю, – повторил Кинохи. – Я знаю”.
Трагикомичная половая жизнь Кинохи предоставляет нам еще больше свидетельств – если еще какие-нибудь вообще нужны – того, насколько серьезно люди относятся к проблеме вымирания. Нам так больно видеть, как вымирает даже один вид, что мы готовы проводить ультразвуковые исследования носорогам и вызывать половое возбуждение у воронов. Разумеется, преданность своему делу людей, подобных Терри Рот и Барбаре Даррант, а также учреждений вроде зоопарков в Цинциннати и Сан-Диего можно было бы счесть поводом для оптимизма. И будь это другая книга, я бы так и сделала.
Хотя многие из предыдущих глав посвящены вымиранию (уже или почти произошедшему) отдельных организмов – панамской золотой лягушки, бескрылой гагарки, суматранского носорога, – главная тема книги, как я это задумывала, – общая схема, по которой все происходит. Я попыталась проследить событие вымирания – называйте его голоценовым вымиранием, или антропоценовым, или, если вам так больше нравится, Шестым вымиранием – и поместить его в более широкий контекст истории жизни. Истории не строго униформистской и не строго катастрофистской, а смеси того и другого. И со всеми своими подъемами и падениями эта история показывает нам, что жизнь чрезвычайно устойчива, но не до бесконечности. На нашей планете царили долгие, небогатые событиями периоды и очень редко происходили “перевороты на поверхности земного шара”.
Насколько нам известно, причины этих переворотов сильно разнились: оледенение в случае вымирания конца ордовикского периода, повышение среднемировой температуры и изменение химии океанов в конце пермского, падение астероида в последние секунды мелового. У нынешнего вымирания своя собственная, новая причина – не астероид или мощное извержение вулкана, а “один слабый биологический вид”. Как сказал мне Уолтер Альварес: “Прямо сейчас мы видим, что массовое вымирание может быть вызвано людьми”.
У этих в корне несхожих событий есть одно общее свойство – изменение, а точнее его скорость. Когда мир меняется быстрее, чем биологические виды могут адаптироваться, многие из них гибнут. Дело именно в этом, и неважно, падает ли причина с неба огненной полосой или едет на работу в “хонде”. Утверждение, что нынешнее вымирание можно было предотвратить, если бы люди больше беспокоились о происходящем и были готовы чем-то жертвовать, нельзя считать абсолютно неверным, однако при этом упускается из виду главное. Не так уж важно, беспокоятся люди или нет. Важно то, что люди меняют мир.
Разумеется, такая способность возникла у людей не сегодня, хотя наиболее полно она проявляется действительно в современное время. Более того, она неотделима от тех качеств, которые и сделали нас людьми: нашей неугомонности, изобретательности, умения сотрудничать для решения проблем и выполнения сложных задач. Как только люди научились использовать знаки и символы для отображения мира природы, они начали раздвигать его границы. “Человеческий язык во многом подобен генетическому коду, – написал британский палеонтолог Майкл Бентон176. – Информация хранится и передается, с некоторыми изменениями, следующим поколениям. Коммуникация скрепляет общества и позволяет людям уворачиваться от эволюции”. Будь люди попросту неразумными, или эгоистичными, или жестокими, не существовало бы никакого Института природоохранных исследований, да и потребности в нем не возникло бы. Если вы хотите поразмышлять, почему люди столь опасны для других видов, то представьте себе вооруженного автоматом AK-47 браконьера в Африке, замахивающегося топором лесоруба в Амазонии или, еще лучше, представьте самого себя с книгой на коленях.
В центре зала биоразнообразия Американского музея естественной истории в полу есть необычная инсталляция. Она выстроена вокруг центрального элемента – таблички, сообщающей, что с момента появления многоклеточных животных более 500 миллионов лет назад на планете произошло пять масштабных вымираний. Согласно надписи на табличке, ответственны за эти события “глобальные изменения климата и другие причины, возможно, включающие в себя столкновение Земли с космическими объектами”. А дальше идет вот что: “Прямо сейчас мы живем в разгар Шестого вымирания, на сей раз вызванного исключительно человечеством – его преобразованием экологического ландшафта”.
В стороны от центральной таблички отходят листы из толстого оргстекла, под которыми лежат ископаемые остатки нескольких вымерших видов. Оргстекло затерто обувью десятков тысяч музейных посетителей, кто прошел по нему, по большей части наверняка и не заметив, что под ногами. Однако стоит наклониться и присмотреться – и вы увидите, что рядом с каждой окаменелостью написано название вида, а также конкретное событие вымирания, положившее ему конец. Ископаемые остатки расположены в хронологическом порядке, так что самые древние – граптолиты ордовикского периода – располагаются близко к центру, а самые молодые – зубы Tyrannosaurus rex из позднего мела – подальше. Если вы встанете на краю инсталляции, по сути, в единственном месте, откуда на нее удобно смотреть, то окажетесь ровно там, где должны быть жертвы Шестого вымирания.
Что же произойдет с нами самими в эпоху вымирания, вызванного нашими собственными действиями? Один вариант – на который намекает инсталляция в зале биоразнообразия – заключается в том, что в конце концов мы тоже погубим себя “преобразованием экологического ландшафта”. Логика тут следующая: освободившись от ограничений эволюции, люди тем не менее остаются зависимыми от биологической и геохимической систем Земли. Разрушая их – вырубая тропические леса, меняя состав атмосферы, подвергая океаны закислению – мы ставим под угрозу наше собственное выживание. Среди многих уроков, которые можно извлечь из геологической летописи, самый отрезвляющий состоит в том, что в жизни, как и в деятельности инвестиционных фондов, прошлые показатели никак не гарантируют будущие результаты. Когда происходит массовое вымирание, оно выкашивает слабых, но также бьет и по сильным. V-образные граптолиты когда-то жили повсюду, а затем пропали. Аммониты плавали в океане сотни миллионов лет – и исчезли. Антрополог Ричард Лики предостерегает: “Homo sapiens может оказаться не только причиной Шестого вымирания, он также рискует стать одной из его жертв”177. В зале биоразнообразия есть табличка, на которой выбиты слова стэнфордского эколога Пола Эрлиха: “ПОДТАЛКИВАЯ ДРУГИЕ ВИДЫ К ВЫМИРАНИЮ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО РУБИТ СУК, НА КОТОРОМ СИДИТ”.
Другой вариант – кто-то считает его более оптимистичным – заключается в том, что человеческая изобретательность справится с любыми бедами, которые эта самая изобретательность и вызвала. Есть серьезные ученые, утверждающие, что, если, например, глобальное потепление станет слишком опасной угрозой, мы сможем противодействовать ему благодаря геоинженерии. В некоторых прожектах предлагается распылять сульфаты в стратосфере, чтобы они отражали солнечный свет обратно в космос; в других – разбрызгивать капли воды над Тихим океаном, чтобы увеличить отражающую способность облаков. Есть те, кто считает, что даже если ничего из этого не сработает и станет совсем плохо, то люди все равно будут в порядке – просто переселятся на другие планеты. В одной недавно вышедшей книге советуется строить города “на Марсе, Титане, Европе, Луне, астероидах и на любых других необитаемых глыбах материи, какие мы только сможем найти”.
“Не беспокойтесь, – говорит автор. – Пока мы продолжаем исследовать Вселенную, человечество будет жить”178.
Очевидно, что судьба нашего собственного вида заботит нас несоизмеримо сильно. Однако, рискуя показаться античеловечной – некоторые из моих лучших друзей относятся к людям! – я скажу, что в конечном счете это не то, о чем стоит больше всего беспокоиться. Прямо сейчас, в этот поразительный момент, для нас представляющий собой настоящее, мы решаем, не особенно это сознавая, какие эволюционные пути останутся открытыми, а какие навсегда закроются. Никакому другому существу никогда еще не доводилось управлять этим, и, к сожалению, это станет нашим извечным наследием. Шестое вымирание продолжит определять ход жизни еще долго после того, как все написанное, нарисованное и построенное людьми обратится в пыль, а гигантские крысы унаследуют – или не унаследуют – Землю.
Благодарности
Журналисту, пишущему книгу о массовых вымираниях, нужна немалая помощь. Множество умных, щедрых и терпеливых людей вложили в этот проект свое время и знания.
Я очень признательна Эдгардо Гриффиту, Хайди Росс, Полу Крампу, Вэнсу Вреденбургу, Дэвиду Уэйку, Карен Липс, Джо Мендельсону, Эрике Бри Розенблюм и Алану Пессье за то, что они помогли мне понять суть кризиса земноводных.
Я хочу поблагодарить Паскаля Тасси за неофициальную экскурсию по парижскому Национальному музею естественной истории. Спасибо Гудмундуру Гудмундссону, Рейниру Свенссону и Хальдуру Орманссону за то, что показали мне чучело бескрылой гагарки и места, где она обитала, а также Магнусу Бернхардссону, благодаря которому мое путешествие на остров Эльдей стало возможным. Нил Лэндмен великодушно показал мне интересные места около Нью-Джерси, относящиеся к меловому периоду, и свою невероятную коллекцию аммонитов. Спасибо Линди Элкинс-Тантон и Энди Ноллу за то, что поделились своими знаниями о пермо-триасовом вымирании, а Нику Лонгричу и Стиву Д’Ондту – о мел-палеогеновом.
Особую благодарность хочу выразить Яну Залашевичу, который не только взял меня с собой на поиски граптолитов в Шотландии, но и последние несколько лет отвечал на мои бесчисленные вопросы. Я также признательна Дэну Кондону и Иэну Миллару за незабываемую (хотя и мокрую) экспедицию, а Паулю Круцену – за разъяснение мне своей идеи антропоцена.
Закисление океана – сложная тема. Я никогда не сумела бы написать о нем без помощи Криса Лэнгдона, Ричарда Фили, Криса Сейбина, Джоани Клейпас, Виктории Фабри, Ульфа Рибезелля, Ли Кампа и Марка Пагани. Особенно я благодарна Джейсону Холл-Спенсеру, отправившемуся со мной на Кастелло Арагонезе в ужасающе холодную погоду, а затем терпеливо отвечавшему на мои многочисленные вопросы. Также огромное спасибо Марии Кристине Буйе за организацию путешествия.
Я обращалась к Кену Калдейре снова и снова – и он помогал мне разбираться с проблемами, связанными с климатологией и химией моря. Я глубоко признательна ему, его жене Лилиан и всей команде, с которой я познакомилась на острове Уан-Три: Джеку Сильверману, Кенни Шнайдеру, Тане Ривлин, Джен Рейффел и неподражаемому Расселлу Грейаму. Также большое спасибо Дэвиду Клину, Брэду Опдайку, Селине Уорд и Уве Хёх-Гульдбергу.
Майлс Силман стал для меня необыкновенным проводником в необыкновенную часть мира. Я бесконечно благодарна ему за то количество времени и знаний, которыми он со мной поделился. Также я хотела бы выразить свою признательность его аспирантам Уильяму Фарфану Риосу и Карине Гарсиа Кабрере. Большое спасибо и Крису Томасу.
Я даже и не приступила бы к этой книге, если бы не помощь Тома Лавджоя. Его отзывчивость и терпеливость поистине безграничны, и я глубоко благодарна ему за содействие и поддержку. Марио Кон-Хафт был для меня экспертом и удивительно благодушным гидом по амазонским дождевым лесам. Также я хочу поблагодарить Риту Мескиту, Хосе Луиса Камарго, Густаво Фонсеку и Вирджилио Виану.
Скотт Дарлинг и Эл Хикс одними из первых осознали серьезность синдрома белого носа. Они делились со мной всем, что сами узнавали по ходу работы, и оказали мне этим неоценимую помощь. Райан Смит, Сьюзи фон Эттинген и Алисса Беннетт были столь любезны, что разрешили мне поехать с ними в пещеру Эола. Джо Роман великодушно прочитал и прокомментировал раздел книги, посвященный инвазивным видам.
Терри Рот и Крис Джонсон помогли мне понять проблемы мегафауны, прошлой и нынешней. Моя особая благодарность – Джону Элрою за его расчеты темпов вымирания, а также огромное спасибо Энтони Барноски.
Сванте Пэабо потратил много часов, объясняя мне тонкости палеогенетики в целом и проекта по расшифровке генома неандертальца в частности. Хочу поблагодарить его, а также Шэннона Макферрона, любезно показавшего мне особенности Ла-Ферраси, и Эда Грина, который всегда был готов ответить на мой “самый последний” вопрос.
Марлис Хоук, Оливер Райдер, Барбара Даррант и Дженни Мелоу очень помогли мне, когда я ездила в Сан-Диего.
Я хотела бы поблагодарить библиографов-консультантов массачусетского Колледжа Уильямса, сумевших найти для меня книги и статьи, которые практически невозможно было отыскать, и Джея Пасачоффа, любезно предоставившего мне свои материалы о мел-палеогеновом вымирании.
В 2010 году мне посчастливилось получить стипендию Гуггенхайма – она позволила мне посетить такие места, куда я иначе не смогла бы поехать. Косвенная поддержка проекта пришла также со стороны Литературного фонда Ланнана и Фонда семьи Хайнц.
Фрагменты некоторых глав этой книги сначала появились на страницах еженедельника The New Yorker. Я глубоко признательна Дэвиду Ремнику и Дороти Викенден за советы, поддержку и терпение. Хочу также поблагодарить Джона Беннета за неизменно мудрые рекомендации. Части других глав были опубликованы в журнале National Geographic и на веб-сайте e360. Я выражаю искреннюю признательность Робу Кунзигу, Джейми Шриву и Роджеру Кону за помощь и идеи. Огромное спасибо Стивену Баркли и Элизе Фишер за неослабевающую поддержку.
Благодарю Лауру Висс, Мэрил Левайви, Кэролайн Зэнкан и Вики Хэйр за превращение моей растрепанной рукописи в книгу.
Джиллиан Блейк стала для меня лучшим редактором, о каком только можно мечтать при работе над подобной книгой: умным, дотошным и невозмутимым. Стоило повествованию отклониться в сторону, как она спокойно направляла его обратно в нужное русло. Кэти Роббинс была, как всегда, бесподобна. Ее советы и проницательность бесценны, как и ее неизменно хорошее настроение.
Множество друзей и родных помогали мне в этом долголетнем предприятии, причем некоторые – даже того не подозревая. Спасибо Джиму и Карен Шепард, Андреа Барретт, Сьюзен Гринфилд, Тодду Пардаму, Нэнси Пик, Лоренсу Дагласу и Стюарту Эделсону, а также Марлен, Джеральду и Дэну Колберт. Особая благодарность Барри Голдстейну. Ну и конечно же, Неду Клейнеру, помогавшему связать между собой самые последние кусочки этой книги, а также Аарону и Мэттью Клейнерам, которые никогда не порицали свою мать за то, что она не посещала их футбольные матчи.
И наконец, я хочу поблагодарить своего мужа Джона Клейнера, который снова помог мне гораздо больше, чем следовало. Я написала эту книгу вместе с ним и для него.
Список литературы
1 Musgrave R. A. Incredible Frog Hotel. National Geographic Kids, Sept. 2008, 16–19.
2 Wake D. B. and Vredenburg V. T. Colloquium Paper: Are We in the Midst of the Sixth Mass Extinction? A View from the World of Amphibians. Proc Natl Acad Sci 105 (2008): 11466–11473.
3 Crump M. L. In Search of the Golden Frog. Chicago: University of Chicago Press, 2000.
4 Hallam A. and Wignall P. B. Mass Extinctions and Their Aftermath. Oxford: Oxford University Press, 1997.
5 Jablonski D. Extinctions in the Fossil Record. In Lawton J. H. and May R. M. Extinction Rates. Oxford: Oxford University Press, 1995.
6 Benton M. J. When Life Nearly Died: The Greatest Mass Extinction of All Time. New York: Thames and Hudson, 2003.
7 Raup D. M. Extinction: Bad Genes or Bad Luck? New York: Norton, 1991.
8 Mendelson J. R. Shifted Baselines, Forensic Taxonomy, and Rabb’s Fringe-Limbed Treefrog: The Changing Role of Biologists in an Era of Amphibian Declines and Extinctions. Herpetol Rev 42 (2011): 21–25.
9 McCallum M. L. Amphibian Decline or Extinction? Current Declines Dwarf Background Extinction Rates. J Herpetol 41 (2007): 483–491.
10 Hoffmann M. et al. The Impact of Conservation on the Status of the World’s Vertebrates. Science 330 (2010): 1503–1509.
11 Collen B. et al. (eds.) Spineless: Status and Trends of the World’s Invertebrates. London: Zoological Society, 2012.
12 Semonin P. American Monster: How the Nation’s First Prehistoric Creature Became a Symbol of National Identity. New York: New York University Press, 2000.
13 Severance F. H. An Old Frontier of France: The Niagara Region and Adjacent Lakes under French Control. New York: Dodd, 1917.
14 Cohen C. The Fate of the Mammoth: Fossils, Myth, and History. Chicago: University of Chicago Press, 2002.
15 Jefferson T. Notes on the State of Virginia. Boston. 1832.
16 Outram D. Georges Cuvier: Vocation, Science and Authority in Post-Revolutionary France. Manchester, England: Manchester University Press, 1984.
17 Rudwick M. J. S. Bursting the Limits of Time: The Reconstruction of Geohistory in the Age of Revolution. Chicago: University of Chicago Press, 2005.
18 Cuvier G. and Rudwick M. J. S. Georges Cuvier, Fossil Bones, and Geological Catastrophes: New Translations and Interpretations of the Primary Texts. Chicago: University of Chicago Press, 1997.
19 Gould S. J. The Panda’s Thumb: More Reflections in Natural History. New York: Norton, 1980.
20 Sellers C. C. Mr. Peale’s Museum: Charles Willson Peale and the First Popular Museum of Natural Science and Art. New York: Norton, 1980.
21 Peale C. W. The Selected Papers of Charles Willson Peale and His Family. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1983–2000.
22 Appel T. A. The Cuvier-Geoffroy Debate: French Biology in the Decades Before Darwin. New York: Oxford University Press, 1987.
23 Rudwick M. J. S. Worlds Before Adam: The Reconstruction of Geohistory in the Age of Reform. Chicago: University of Chicago Press, 2008.
24 Burkhardt R. W. The Spirit of System: Lamarck and Evolutionary Biology. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1977.
25 Cuvier G. Elegy of Lamarck. Edinburgh New Phil J 20 (1836): 1–22.
26 Wilson L. G. Lyell: The Man and His Times. In Blundell D. J. and Scott A. C. (eds.) Lyell: The Past Is the Key to the Present. London: Geological Society, 1998.
27 Lyell C. Life, Letters and Journals of Sir Charles Lyell, edited by Mrs. Lyell. London: J. Murray, 1881.
28 Lyell C. Principles of Geology. Vol. 1. Chicago: University of Chicago Press, 1990.
29 Wilson L. G. Charles Lyell, the Years to 1841: The Revolution in Geology. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1972.
30 Hallam A. Great Geological Controversies. Oxford: Oxford University Press, 1983.
31 Rudwick M. J. S. Lyell and Darwin, Geologists: Studies in the Earth Sciences in the Age of Reform. Aldershot, England: Ashgate, 2005.
32 Sulloway F. J. Darwin and His Finches: The Evolution of a Legend. J Hist Biol 15 (1982): 1–53.
33 Herbert S. Charles Darwin, Geologist. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 2005.
34 Darwin C. The Works of Charles Darwin. Vol. 1. Diary of the Voyage of H. M. S. Beagle. New York: New York University Press, 1987.
35 Soto-Azat C. et al. The Population Decline and Extinction of Darwin’s Frogs. PLOS ONE 8 (2013): e66957.
36 Dobbs D. Reef Madness: Charles Darwin, Alexander Agassiz, and the Meaning of Coral. New York: Pantheon, 2005.
37 Browne J. Charles Darwin: Voyaging. New York: Knopf, 1995.
38 Lyell C. Principles of Geology. Vol. 2. Chicago: University of Chicago Press, 1990.
39 Mayr E. The Growth of Biological Thought: Diversity, Evolution, and Inheritance. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 1982.
40 Darwin C. On the Origin of Species: A Facsimile of the First Edition. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1964.
41 Fuller E. The Great Auk. New York: Abrams, 1999.
42 Moum T. et al. Mitochondrial DNA Sequence Evolution and Phylogeny of the Atlantic Alcidae, Including the Extinct Great Auk (Pinguinus Impennis). Mol Biol Evol 19 (2002): 1434–1439.
43 Gaskell J. Who Killed the Great Auk? Oxford: Oxford University Press, 2000.
44 Birkhead T. How Collectors Killed the Great Auk. New Scientist 142 (1994): 24–27.
45 Newton A. Abstract of Mr. J. Wolley’s Researches in Iceland Respecting the Gare-Fowl or Great Auk. Ibis 3 (1861): 374–399.
46 Wollaston A. F. R. Life of Alfred Newton. New York: E. P. Dutton, 1921.
47 Grant K. T. and Estes G. B. Darwin in Galápagos: Footsteps to a New World. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2009.
48 Quammen D. The Reluctant Mr. Darwin: An Intimate Portrait of Charles Darwin and the Making of His Theory of Evolution. New York: Atlas Books / Norton, 2006.
49 Alvarez W. Earth History in the Broadest Possible Context. 97th Annual Faculty Research Lecture. University of California, Berkeley, Apr. 29, 2010.
50 Alvarez W. T. rex and the Crater of Doom. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1997.
51 Muller R. Nemesis. New York: Weidenfeld and Nicolson, 1988.
52 Officer C. and Page J. The K-T Extinction. In Rhodes F. H. T. et al. Language of the Earth: A Literary Anthology. 2nd ed. Chichester, England: Wiley, 2009.
53 Browne M. W. Dinosaur Experts Resist Meteor Extinction Idea. New York Times, Oct. 29, 1985.
54 New York Times Editorial Board. Miscasting the Dinosaur’s Horoscope. New York Times, Apr. 2, 1985.
55 Lyell C. Principles of Geology. Vol. 3. Chicago: University of Chicago Press, 1991.
56 Raup D. M. The Nemesis Affair: A Story of the Death of Dinosaurs and the Ways of Science. New York: Norton, 1986.
57 Simpson G. G. Why and How: Some Problems and Methods in Historical Biology. Oxford: Pergamon Press, 1980.
58 Bohor B. F. et al. Mineralogic Evidence for an Impact Event at the Cretaceous-Tertiary Boundary. Science 224 (1984): 867–869.
59 Landman N. et al. Mode of Life and Habitat of Scaphitid Ammonites. Geobios 54 (2012): 87–98.
60 Longrich N. et al. Mass Extinction of Birds at the Cretaceous-Paleogene (K-Pg) Boundary. Proc Natl Acad Sci 108 (2011): 15253–15257.
61 Longrich N. et al. Mass Extinction of Lizards and Snakes at the Cretaceous-Paleogene Boundary. Proc Natl Acad Sci 109 (2012): 21396–21401.
62 Rose K. D. The Beginning of the Age of Mammals. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2006.
63 Taylor P. D. Extinctions in the History of Life. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
64 Bruner J. S. and Postman L. On the Perception of Incongruity: A Paradigm. J Pers 18 (1949): 206–223.
65 Kuhn T. S. The Structure of Scientific Revolutions. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, 1970.
66 Boylan P. J. William Buckland, 1784–1859: Scientific Institutions, Vertebrate Paleontology and Quaternary Geology. Ph.D. dissertation. University of Leicester, England, 1984.
67 Glen W. (ed.) The Mass-Extinction Debates: How Science Works in a Crisis. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1994.
68 Fortey R. A. Life: A Natural History of the First Four Billion Years of Life on Earth. New York: Vintage, 1999.
69 Raup D. M. and Sepkoski J. J. Jr. Periodicity of Extinctions in the Geologic Past. Proc Natl Acad Sci 81 (1984): 801–805.
70 New York Times Editorial Board. Nemesis of Nemesis. New York Times, July 7, 1985.
71 Alvarez L. W. Experimental Evidence That an Asteroid Impact Led to the Extinction of Many Species 65 Million Years Ago. Proc Natl Acad Sci 80 (1983): 627–642.
72 Lenton T. M. et al. First Plants Cooled the Ordovician. Nat Geosci 5 (2012): 86–89.
73 Kearsey T. et al. Isotope Excursions and Palaeotemperature Estimates from the Permian/Triassic Boundary in the Southern Alps (Italy). Palaeogeogr Palaeoclimatol Palaeoecol 279 (2009): 29–40.
74 Shen S-Z. et al. Calibrating the End-Permian Mass Extinction. Science 334 (2011): 1367–1372.
75 Kump L. et al. Massive Release of Hydrogen Sulfide to the Surface Ocean and Atmosphere during Intervals of Oceanic Anoxia. Geology 33 (2005): 397–400.
76 Zimmer C. Introduction to paperback edition of T. rex and the Crater of Doom, Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2008.
77 Zalasiewicz J. The Earth After Us: What Legacy Will Humans Leave in the Rocks? Oxford: Oxford University Press, 2008.
78 Stolzenburg W. Rat Island: Predators in Paradise and the World’s Greatest Wildlife Rescue. New York: Bloomsbury, 2011.
79 Hunt T. L. Rethinking Easter Island’s Ecological Catastrophe. J Archaeol Sci 34 (2007): 485–502.
8 °Crutzen P. J. Geology of Mankind. Nature 415 (2002): 23.
81 Zalasiewicz J. et al. Are We Now Living in the Anthropocene? GSA Today 18 (2008): 4–8.
82 Hall-Spencer J. M. et al. Volcanic Carbon Dioxide Vents Show Ecosystem Effects of Ocean Acidification. Nature 454 (2008): 96–99.
83 Kiessling W. and Simpson C. On the Potential for Ocean Acidification to Be a General Cause of Ancient Reef Crises. Global Change Biol 17 (2011): 56–67.
84 Knoll A. H. Biomineralization and Evolutionary History. Rev Mineral Geochem 54 (2003): 329–356.
85 Carson R. Silent Spring. 40th anniversary ed. Boston: Houghton Mifflin, 2002.
86 Chu J. Timeline of a Mass Extinction. MIT News Office, published online Nov. 18, 2011.
87 Kump L. et al. Ocean Acidification in Deep Time. Oceanography 22 (2009): 94–107.
88 Bowen J. and Bowen M. The Great Barrier Reef: History, Science, Heritage. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
89 Sheppard C. et al. The Biology of Coral Reefs. Oxford: Oxford University Press, 2009.
90 Hoegh-Guldberg O. et al. Coral Reefs under Rapid Climate Change and Ocean Acidification. Science 318 (2007): 1737–1742.
91 Caldeira K. and Wickett M. E. Anthropogenic Carbon and Ocean pH. Nature 425 (2003): 365.
92 Fabricius K. E. et al. Losers and Winners in Coral Reefs Acclimatized to Elevated Carbon Dioxide Concentrations. Nat Clim Change 1 (2011): 165–169.
93 Veron J. E. N. Is the End in Sight for the World’s Coral Reefs? e360, published online Dec. 6, 2010.
94 De’ath G. et al. The 27-Year Decline of Coral Cover on the Great Barrier Reef and Its Causes. Proc Natl Acad Sci 109 (2012): 17995–17999.
95 Silverman J. et al. Coral Reefs May Start Dissolving when Atmospheric CO2Doubles. Geophys Res Lett 36 (2009): L05606.
96 Plaisance L. et al. The Diversity of Coral Reefs: What Are We Missing? PLOS ONE 6 (2011): e25026.
97 Carpenter K. E. et al. One-Third of Reef-Building Corals Face Elevated Extinction Risk from Climate Change and Local Impacts. Science 321 (2008): 560–563.
98 Chilvers J. Reprinted in Heatwole H. et al. Community Ecology of a Coral Cay: A Study of One Tree Island, Great Barrier Reef, Australia. The Hague: W. Junk, 1981.
99 Lopez B. Arctic Dreams. (1986) Reprint. New York: Vintage, 2001.
100 DeWolf G. P. Native and Naturalized Trees of Massachusetts. Amherst: Cooperative Extension Service, University of Massachusetts, 1978.
101 Whitfield J. In the Beat of a Heart: Life, Energy, and the Unity of Nature. Washington, D. C.: National Academies Press, 2006.
102 Humboldt A. von and Bonpland A. Essay on the Geography of Plants. Chicago: University of Chicago Press, 2008.
103 Humboldt A. von. Views of Nature: Or Contemplations on the Sublime Phenomena of Creation; with Scientific Illustrations. London: H. G. Bohn, 1850.
104 Mittelbach G. G. et al. Evolution and the Latitudinal Diversity Gradient: Speciation, Extinction and Biogeography. Ecol Lett 10 (2007): 315–331.
105 Janzen D. H. Why Mountain Passes Are Higher in the Tropics. American Naturalist 101 (1967): 233–249.
106 Wallace A. R. Tropical Nature and Other Essays. London: Macmillan, 1878.
107 Feeley K. J. et al. Upslope Migration of Andean Trees. J Biogeogr 38 (2011): 783–791.
108 Wallace A. R. The Wonderful Century: Its Successes and Its Failures. New York: Dodd, Mead, 1898.
109 Urrutia R. and Vuille M. Climate Change Projections for the Tropical Andes Using a Regional Climate Model: Temperature and Precipitation Simulations for the End of the 21st Century. J Geophys Res 114 (2009): D02108.
11 °Catenazzi A. et al. Batrachochytrium Dendrobatidis and the Collapse of Anuran Species Richness and Abundance in the Upper Manú National Park, Southeastern Peru. Conserv Biol 25 (2011) 382–391.
111 Barnosky A. D. Heatstroke: Nature in an Age of Global Warming. Washington, D. C.: Island Press / Shearwater Books, 2009.
112 Thomas C. et al. Extinction Risk from Climate Change. Nature 427 (2004): 145–148.
113 Thomas C. First Estimates of Extinction Risk from Climate Change. In Hannah L. J. (ed.) Saving a Million Species: Extinction Risk from Climate Change. Washington, D. C.: Island Press, 2012.
114 Tripati A. K. et al. Coupling of CO2and Ice Sheet Stability over Major Climate Transitions of the Last 20 Million Years. Science 326 (2009): 1394–1397.
115 Tollefson J. Splinters of the Amazon. Nature 496 (2013): 286–289.
116 Hooke R. et al. Land Transformation by Humans: A Review. GSA Today 22 (2012): 4–10.
117 Ellis E. C. and Ramankutty N. Putting People in the Map: Anthropogenic Biomes of the World. Front Ecol Environ 6 (2008): 439–447.
118 Bierregaard R. O. et al. Lessons from Amazonia: The Ecology and Conservation of a Fragmented Forest. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2001.
119 Diamond J. The Island Dilemma: Lessons of Modern Biogeographic Studies for the Design of Natural Reserves. Biol Conserv 7 (1975): 129–146.
120 Diamond J. “Normal” Extinctions of Isolated Populations. In Nitecki M. H. (ed.) Extinctions. Chicago: University of Chicago Press, 1984.
121 Laurance S. G. W. et al. Effects of Road Clearings on Movement Patterns of Understory Rainforest Birds in Central Amazonia. Conserv Biol 18 (2004): 1099–1109.
122 Wilson E. O. The Diversity of Life. (1992) Reprint. New York: Norton, 1993.
123 Rettenmeyer C. W. et al. The Largest Animal Association Centered on One Species: The Army Ant Eciton Burchellii and Its More Than 300 Associates. Insect Soc 58 (2011): 281–292.
124 Erwin T. L. Tropical Forests: Their Richness in Coleoptera and Other Arthropod Species. Coleopts Bull 36 (1982): 74–75.
125 Hamilton A. J. et al. Quantifying Uncertainty in Estimation of Tropical Arthropod Species Richness. American Naturalist 176 (2010): 90–95.
126 Wilson E. O. Threats to Biodiversity. Sci Am 261 (1989): 108–116.
127 Lawton J. H. and May R. M. Extinction Rates. Oxford: Oxford University Press, 1995.
128 Lovejoy T. E. Biodiversity: What Is It? In Kudla M. L. et al. (eds.) Biodiversity II: Understanding and Protecting Our Biological Resources. Washington, D. C.: Joseph Henry Press, 1997.
129 Darwin С. Letter to J. D. Hooker, Apr. 19, 1855. Darwin Correspondence Project, Cambridge University.
130 Darwin С. Letter to Gardeners’ Chronicle, May 21, 1855. Darwin Correspondence Project, Cambridge University.
131 Wegener A. The Origin of Continents and Oceans. New York: Dover, 1966.
132 Davis M. A. Invasion Biology. Oxford: Oxford University Press, 2009.
133 Ricciardi A. Are Modern Biological Invasions an Unprecedented Form of Global Change? Conserv Biol 21 (2007): 329–336.
134 Jarrell R. and Sendak M. The Bat-Poet. (1964) Reprint. New York: HarperCollins, 1996.
135 Cryan P. M. et al. Wing Pathology of White-Nose Syndrome in Bats Suggests Life-Threatening Disruption of Physiology. BMC Biology 8 (2010): 135.
136 Elton C. S. The Ecology of Invasions by Animals and Plants. (1958) Reprint. Chicago: University of Chicago Press, 2000.
137 Driesche J. van and Driesche R. van. Nature out of Place: Biological Invasions in the Global Age. Washington, D. C.: Island Press, 2000.
138 Mitchell C. et al. Hawaii’s Comprehensive Wildlife Conservation Strategy. Honolulu: Department of Land and Natural Resources, 2005.
139 Quammen D. The Song of the Dodo: Island Biogeography in an Age of Extinctions. (1996) Reprint. New York: Scribner, 2004.
140 Hepting G. H. Death of the American Chestnut. Forest Conserv Hist 18 (1974): 60–67.
141 Somers P. The Invasive Plant Problem. -protection-and-management/invasive-plant-problem.pdf
142 Maerz J. C. et al. Declines in Woodland Salamander Abundance Associated with Non-Native Earthworm and Plant Invasions. Conserv Biol 23 (2009): 975–981.
143 Chown S. L. et al. Continent-Wide Risk Assessment for the Establishment of Nonindigenous Species in Antarctica. Proc Natl Acad Sci 109 (2012): 4938–4943.
144 Burdick A. Out of Eden: An Odyssey of Ecological Invasion. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2005.
145 Leonard J. A. et al. Ancient DNA Evidence for Old World Origin of New World Dogs. Science 298 (2002): 1613–1616.
146 Todd K. Tinkering with Eden: A Natural History of Exotics in America. New York: Norton, 2001.
147 Jenkins P. T. Pet Trade. In Simberloff D. and RejmÁnek M. (eds.) Encyclopedia of Biological Invasions. Berkeley: University of California Press, 2011.
148 Ruiz G. M. et al. Invasion of Coastal Marine Communities in North America: Apparent Patterns, Processes, and Biases. Annu Rev Ecol Syst 31 (2000): 481–531.
149 Brown J. H. Macroecology. Chicago: University of Chicago Press, 1995.
150 Orlando L. et al. Ancient DNA Analysis Reveals Woolly Rhino Evolutionary Relationships. Mol Phylogenet Evol 28 (2003): 485–499.
151 Wilson E. O. The Future of Life. (2002) Reprint. New York: Vintage, 2003.
152 Welz A. The Dirty War against Africa’s Remaining Rhinos. e360, published online Nov. 27, 2012.
153 Maisels F. et al. Devastating Decline of Forest Elephants in Central Africa. PLOS ONE 8 (2013): e59469.
154 Lovejoy T. A Tsunami of Extinction. Sci Am 308 (2013): 33–34.
155 Flannery T. F. The Future Eaters: An Ecological History of the Australasian Lands and People. New York: G. Braziller, 1995.
156 Olson V. A. and Turvey S. T. The Evolution of Sexual Dimorphism in New Zealand Giant Moa (Dinornis) and Other Ratites. Proc Biol Sci 280 (2013): 20130401.
157 Wallace A. R. The Geographical Distribution of Animals with a Study of the Relations of Living and Extinct Faunas as Elucidating the Past Changes of the Earth’s Surface. Vol. 1. New York: Harper and Brothers, 1876.
158 Lyell C. Travels in North America, Canada, and Nova Scotia with Geological Observations. 2nd ed. London: J. Murray, 1855.
159 Lyell C. Geological Evidences of the Antiquity of Man; with Remarks on Theories of the Origin of Species by Variation. 4th ed, revised. London: J. Murray, 1873.
160 Grayson D. K. Nineteenth Century Explanations. In Martin P. S. and Klein R. G. (eds.) Quaternary Extinctions: A Prehistoric Revolution. Tucson: University of Arizona Press, 1984.
161 Wallace A. R. The World of Life: A Manifestation of Creative Power, Directive Mind and Ultimate Purpose. New York: Moffat, Yard, 1911.
162 Martin P. S. Prehistoric Overkill. In Martin P. S. and Wright H. E. (eds.) Pleistocene Extinctions: The Search for a Cause. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1967.
163 Diamond J. Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies. New York: Norton, 2005.
164 Rule S. et al. The Aftermath of Megafaunal Extinction: Ecosystem Transformation in Pleistocene Australia. Science 335 (2012): 1483–1486.
165 Alroy J. A Multispecies Overkill Simulation of the End-Pleistocene Megafaunal Mass Extinction. Science 292 (2001): 1893–1896.
166 Alroy J. Putting North America’s End-Pleistocene Megafaunal Extinction in Context. In MacPhee R. D. E. (ed.) Extinctions in Near Time: Causes, Contexts, and Consequences. New York: Kluwer Academic / Plenum, 1999.
167 Darwin C. The Descent of Man. (1871) Reprint. New York: Penguin, 2004.
168 Shreeve J. The Neandertal Enigma: Solving the Mystery of Modern Human Origins. New York: William Morrow, 1995.
169 Boule M. Fossil Men: Elements of Human Palaeontology. Edinburgh: Oliver and Boyd, 1923.
170 Straus W. L. Jr. and Cave A. J. E. Pathology and the Posture of Neanderthal Man. Quart Rev Biol 32 (1957): 348–363.
171 Solecki R. Shanidar, the First Flower People. New York: Knopf, 1971.
172 Green R. E. et al. A Draft Sequence of the Neandertal Genome. Science 328 (2010): 710–722.
173 Herrmann E. et al. Humans Have Evolved Specialized Skills of Social Cognition: The Cultural Intelligence Hypothesis. Science 317 (2007): 1360–1366.
174 Reich D. et al. Genetic History of an Archaic Hominin Group from Denisova Cave in Siberia. Nature 468 (2010): 1053–1060.
175 Schell J. The Fate of the Earth. New York: Knopf, 1982.
176 Benton M. Paleontology and the History of Life. In Ruse M. and Travis J. (eds.) Evolution: The First Four Billion Years. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2009.
177 Leakey R. E. and Lewin R. The Sixth Extinction: Patterns of Life and the Future of Humankind. (1995) Reprint. New York: Anchor, 1996.
178 Newitz A. Scatter, Adapt, and Remember: How Humans Will Survive a Mass Extinction. New York: Doubleday, 2013.
Дополнительная литература
Alvarez L. W. et al. Extraterrestrial Cause for the Cretaceous-Tertiary Extinction. Science 208 (1980): 1095–1108.
Barnosky A. D. Megafauna Biomass Tradeoff As a Driver of Quaternary and Future Extinctions. Proc Natl Acad Sci 105 (2008): 11543–11548.
Browne J. Charles Darwin: The Power of Place. New York: Knopf, 2002.
Buckland W. Geology and Mineralogy Considered with Reference to Natural Theology. London: W. Pickering, 1836.
Carson R. The Sea Around Us. Reprint. New York: Signet, 1961.
Coleman W. Georges Cuvier, Zoologist: A Study in the History of Evolution Theory. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1964.
Collinge S. K. Ecology of Fragmented Landscapes. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2009.
Collins J. P. and Crump M. L. Extinctions in Our Times: Global Amphibian Decline. Oxford: Oxford University Press, 2009.
Darwin C. The Autobiography of Charles Darwin, 1809–1882: With Original Omissions Restored. New York: Norton, 1969.
Darwin C. The Structure and Distribution of Coral Reefs. 3rd ed. New York: D. Appleton, 1897.
Darwin C. The Works of Charles Darwin. Vol. 2. Journal of Researches. New York: New York University Press, 1987.
Darwin C. The Works of Charles Darwin. Vol. 3. Journal of Researches, Part 2. New York: New York University Press, 1987.
Erwin D. H. Extinction: How Life on Earth Nearly Ended 250 Million Years Ago. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2006.
Feeley K. J. and Silman M. R. Biotic Attrition from Tropical Forests Correcting for Truncated Temperature Niches. Global Change Biol 16 (2010): 1830–1836.
Gattuso J.-P. and Hansson L. (eds.) Ocean Acidification. Oxford: Oxford University Press, 2011.
Goodell J. How to Cool the Planet: Geoengineering and the Audacious Quest to Fix Earth’s Climate. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2010.
Grayson D. K. and Meltzer D. J. A Requiem for North American Overkill. J Archaeol Sci 30 (2003): 585–593.
Haynes G. (ed.) American Megafaunal Extinctions at the End of the Pleistocene. Dordrecht: Springer, 2009.
Hedeen S. Big Bone Lick: The Cradle of American Paleontology. Lexington: University Press of Kentucky, 2008.
Holdaway R. N. and Jacomb C. Rapid Extinction of the Moas (Aves: Dinornithiformes): Model, Test, and Implications. Science 287 (2000): 2250–2254.
Huggett R. J. Catastrophism: Systems of Earth History. London: E. Arnold, 1990.
Hutchings P. A. et al. (eds.) The Great Barrier Reef: Biology, Environment and Management. Collingwood, Australia: CSIRO, 2008.
Johnson C. Australia’s Mammal Extinctions: A 50,000 Year History. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
Lee R. Memoirs of Baron Cuvier. New York: J. and J. Harper, 1833.
Levy S. Once and Future Giants: What Ice Age Extinctions Tell Us about the Fate of Earth’s Largest Animals. Oxford: Oxford University Press, 2011.
Marvin U. B. Continental Drift: The Evolution of a Concept. Washington, D. C.: Smithsonian Institution Press, 1973.
McKibben B. The End of Nature. New York: Random House, 1989.
Mitchell A. Seasick: Ocean Change and the Extinction of Life on Earth. Chicago: University of Chicago Press, 2009.
Monks N. and Palmer P. Ammonites. Washington, D. C.: Smithsonian Institution Press, 2002.
Newman M. E. J. and Palmer R. G. Modeling Extinction. Oxford: Oxford University Press, 2003.
Novacek M. J. Terra: Our 100-Million-Year-Old Ecosystem – and the Threats That Now Put It at Risk. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2007.
Palmer T. Perilous Planet Earth: Catastrophes and Catastrophism through the Ages. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
Phillips J. Life on the Earth. Cambridge: Macmillan and Company, 1860.
Powell J. L. Night Comes to the Cretaceous: Dinosaur Extinction and the Transformation of Modern Geology. New York: W. H. Freeman, 1998.
Quammen D. Natural Acts: A Sidelong View of Science and Nature. Revised ed. New York: Norton, 2008.
Rabinowitz A. Helping a Species Go Extinct: The Sumatran Rhino in Borneo. Conserv Biol 9 (1995): 482–488.
Randall J. E. et al. Fishes of the Great Barrier Reef and Coral Sea. Honolulu: University of Hawaii Press, 1990.
Raup D. M. and Sepkoski J. J. Jr. Mass Extinctions in the Marine Fossil Record. Science 215 (1982): 1501–1503.
Rosenzweig M. L. Species Diversity in Space and Time. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
Rudwick M. J. S. The Meaning of Fossils: Episodes in the History of Palaeontology. 2nd revised ed. New York: Science History, 1976.
Shrenk F. and MÜller S. The Neanderthals. London: Routledge, 2009.
Stanley S. M. Extinction. New York: Scientific American Library, 1987.
Thomson K. S. The Legacy of the Mastodon: The Golden Age of Fossils in America. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2008.
Turvey S. Holocene Extinctions. Oxford: Oxford University Press, 2009.
Veron J. E. N. A Reef in Time: The Great Barrier Reef from Beginning to End. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2008.
Veron J. E. N. Is the End in Sight for the World’s Coral Reefs? e360, published online Dec. 6, 2010.
Wells K. D. The Ecology and Behavior of Amphibians. Chicago: University of Chicago Press, 2007.
Whitmore T. C. and Sayer J. (eds.) Tropical Deforestation and Species Extinction. London: Chapman and Hall, 1992.
Wilson L. G. Charles Lyell, the Years to 1841: The Revolution in Geology. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1972.
Worthy T. H. and Holdaway R. N. The Lost World of the Moa: Prehistoric Life of New Zealand. Bloomington: Indiana University Press, 2002.
Zalasiewicz J. et al. Graptolites in British Stratigraphy. Geol Mag 146 (2009): 785–850.
Источники фотографий / иллюстраций
© Vance Vredenburg
© Michael & Patricia Fogden / Minden Pictures
С изменениями из статьи David M. Raup and J. John Sepkoski Jr. / Science 215 (1982), 1502
Paul D. Stewart / Science Source
Воспроизводится с разрешения Rare Book Room, Buffalo and Erie County Public Library, Buffalo, New York
The Granger Collection, New York
© The British Library Board, 39.i.15 pl.1
Hulton Archive / Getty Images
Natural History Museum / Science Source
© Natural History Museum, London / Mary Evans Picture Library
Matthew Kleiner
Elizabeth Kolbert
© ER Degginger / Science Source
С изменениями из книги John Phillips Life on Earth
Detlev van Ravenswaay / Science Source
NASA / GSFC / DLR / ASU / Science Source
Использовано с разрешения Палеонтологического общества
John Scott / E+ / Getty Images
British and Irish Graptolite Group
EMR Wood / Palaeontolographical Society
John Kleiner
Steve Gschmeissner / Science Source
© Gary Bell / OceanwideImages.com
Nancy Sefton / Science Source
David Doubilet / National Geographic / Getty Images
© Miles R. Silman
© William Farfan Rios
© Miles Silman
The Biological Dynamics of Forest Fragments Project
© Konrad Wothe / Minden Pictures
© Philip C. Stouffer
U. S. Fish and Wildlife Service / Science Source
John Kleiner
Vermont Fish and Wildlife Department / Joel Flewelling
Tom Uhlman, Cincinnati Zoo
AFP / Getty Images / Newscom
© Natural History Museum, London / Mary Evans Picture Library
Neanderthal Museum
© Paul D. Stewart / NPL / Minden Pictures
Neanderthal Museum
Благодарю Эда Грина за предоставление изображения
San Diego Zoo
Поиск фотографий – Laura Wyss, Wyssphoto, Inc.
Изображения выполнены компанией Mapping Specialists
Сноски
1
Борхес Х. Л. Сад расходящихся тропок. М.: Амфора, 2007. – Прим. перев.
(обратно)2
Или ателоп Цетека (Atelopus zeteki). – Прим. науч. ред.
(обратно)3
Беатрис Поттер (1866–1943) – английская писательница и художница, автор множества сказок о животных. – Прим. перев.
(обратно)4
Действительно, сначала вид Batrachochytrium dendrobatidis был единственным в роде Batrachochytrium, однако позднее обнаружили еще один вид – Batrachochytrium salamandrivorans, представители которого вызывают гибель саламандр. – Прим. науч. ред.
(обратно)5
Например, скорость в одно вымирание на миллион видо-лет означает, что из миллиона видов каждый год вымирает по одному (или по-другому – что, будь на Земле один-единственный вид, он исчез бы через миллион лет). – Прим. науч. ред.
(обратно)6
Я глубоко признательна Джону Алрою за то, что он растолковал мне все сложности расчета темпов фонового вымирания. См. также его статью Alroy J. Speciation and Extinction in the Fossil Record of North American Mammals. In Butlin R. et al. (eds.) Speciation and Patterns of Diversity. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. – Прим. автора
(обратно)7
Джон Алрой, личное сообщение, 9 июня 2013 года. – Прим. автора
(обратно)8
Перевод с англ. Микушевича В. – Прим. перев.
(обратно)9
Джефферсон Т. Автобиография. Заметки о штате Виргиния. Л.: Наука, 1990. – Прим. ред.
(обратно)10
Речь идет о мозазавре. – Прим. науч. ред.
(обратно)11
Его официальное название – Галерея палеонтологии и сравнительной анатомии. – Прим. ред.
(обратно)12
Родовое название мамонтов – Mammuthus. – Прим. науч. ред.
(обратно)13
Бальзак О. де. Шагреневая кожа. Перевод с фр. Грифцова Б., Брюсовой И. – Прим. перев.
(обратно)14
Тогда ей было всего двенадцать лет, этот череп она нашла совместно со своим братом Джозефом. – Прим. ред.
(обратно)15
Существует немалая путаница между понятиями “ледниковый период” и “ледниковая эпоха”. В этой книге везде будем использовать геологическую терминологию. Приведем фрагмент словарной статьи из издания Геологический словарь. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2010–2012: “Ледниковый период – интервал времени продолжительностью несколько миллионов лет, в течение которого имеют место общее похолодание климата и неоднократные резкие разрастания оледенения материков и океанов – ледниковые эпохи. Последние чередуются с эпохами потепления и сокращения оледенения (межледниковьями)”. Итак, согласно строгой геологической терминологии то, что обычно называют последним ледниковым периодом, на самом деле было последней ледниковой эпохой в продолжающемся по сей день ледниковом периоде. – Прим. науч. ред.
(обратно)16
Правильное произношение фамилии Lyell – “Лайелл”, но, поскольку в отечественной литературе уже давно закрепилось написание “Лайель”, не будем нарушать традицию. – Прим. ред.
(обратно)17
Ляйэлль Ч. Основные начала геологии, или Новейшие изменения земли и ее обитателей. Кн. I. М.: А. И. Глазунов, 1866. – Прим. ред.
(обратно)18
Стивен Пинкер (род. 1954) – современный канадско-американский ученый и популяризатор науки. – Прим. ред.
(обратно)19
Дарвин Ч. Путешествие натуралиста вокруг света на корабле “Бигль”. М.: ГИЗЛ, 1953. – Прим. перев.
(обратно)20
Дарвин Ч. Происхождение видов. М.: Изд-во АН СССР, 1939. (Далее все цитаты из “Происхождения видов” приводятся по этому изданию.) – Прим. перев.
(обратно)21
В силу специфики страны (практически полное отсутствие лесов) для Исландии очень характерны дерновые дома. – Прим. ред.
(обратно)22
Семейство чистиковых. – Прим. ред.
(обратно)23
Джон Джеймс Одюбон (1785–1851) – американский натуралист, орнитолог и выдающийся художник-анималист. – Прим. ред.
(обратно)24
В тот период Чарльз Дарвин изучал возможность переноса и распространения семян растений птицами. Вот что он написал в “Происхождении видов”: “Так, проф. Ньютон (Newton) прислал мне ногу красной куропатки (Caccabis rufa), которая была ранена и не могла летать, с приставшим к ней комочком сухой земли весом в 6 1/2 унций. Эта земля сохранялась в продолжение трех лет, но когда затем была измельчена, размочена и помещена под стеклянный колокол, из нее проросло не менее 82 растений…” – Прим. ред.
(обратно)25
Многие (хотя и не все) письма Дарвина бесплатно доступны в интернете; благодарю Элизабет Смит из Darwin Correspondence Project за поиск данных по всей имеющейся базе. – Прим. автора
(обратно)26
Дарвин Ч. Происхождение видов. – Прим. перев.
(обратно)27
Униформизм – учение, основная идея которого сводится к тому, что Земля сформировалась под влиянием постоянных геологических факторов, действующих и в современную эпоху. – Прим. перев.
(обратно)28
Полное название – Комиссия Президента по расследованию убийства президента Кеннеди, создана в 1963 году по указу президента США Линдона Джонсона. – Прим. ред.
(обратно)29
У нас принято говорить “мел-палеогеновое вымирание”. – Прим. ред.
(обратно)30
Дарвин Ч. Происхождение видов. – Прим. перев.
(обратно)31
Дарвин Ч. Происхождение видов. – Прим. перев.
(обратно)32
Оба названия периодов начинаются на одну и ту же букву: Cretaceous (меловой) и Carboniferous (каменноугольный). – Прим. перев.
(обратно)33
Около пятнадцати лет назад на дне Мексиканского залива были обнаружены древние асфальтовые вулканы, извергавшие газ, нефть и смолы. – Прим. науч. ред.
(обратно)34
Подробнее см.: Kruta I. et al. The Role of Ammonites in the Mesozoic Marine Food Web Revealed by Jaw Preservation. Science 331 (2011): 70–72. – Прим. науч. ред.
(обратно)35
Стив Д’Ондт, личное сообщение, 5 января 2012 года. – Прим. автора
(обратно)36
Это выражение впервые было использовано в научной статье в 1985 году и означает состояние мирового океана, практически лишенного живых организмов. Такое название связано с именем безумного ученого, одержимого идеей ядерной войны, – персонажа известного фильма Стэнли Кубрика “Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу” (1963). – Прим. перев.
(обратно)37
Выражение “нептичьи динозавры” используется для обозначения всех динозавров, кроме птиц. Поскольку птицы тоже относятся к надотряду Dinosauria, утверждать, что вымерли все динозавры, некорректно. Часть из них – птицы – выжила и эволюционирует по сей день. – Прим. науч. ред.
(обратно)38
Я глубоко признательна Джеймсу Глику за то, что он обратил мое внимание на этот эксперимент: см. Gleick J. Chaos: Making a New Science. New York: Viking, 1987. – Прим. автора
(Издание этой книги на русском языке: Глейк Дж. Хаос: создание новой науки. СПб.: Амфора, 2001. – Прим. науч. ред.)
(обратно)39
Кун Т. Структура научных революций. С вводной статьей и дополнениями 1969 г. М.: Прогресс, 1977. – Прим. ред.
(обратно)40
Там же. – Прим. ред.
(обратно)41
Исчезнувших видов (фр.). – Прим. ред.
(обратно)42
Оригинальное название Dob's Linn означает “Ущелье Доба”. – Прим. науч. ред.
(обратно)43
Полезное мнемоническое правило для запоминания геологических периодов последнего полумиллиарда лет: Camels Often Sit Down Carefully, Perhaps Their Joints Creak (Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous, Permian, Triassic, Jurassic, Cretaceous). К сожалению, это мнемоническое правило не охватывает самые последние периоды: палеоген, неоген и текущий четвертичный. – Прим. автора
(Англоязычный вариант переводится как “Верблюды часто садятся осторожно, наверное, их суставы скрипят”. Русскоязычное мнемоническое правило полнее и звучит так: “Каждый отличный студент должен курить папиросы. Ты, Юра, мал, поэтому неси четвертинку” (кембрий, ордовик, силур, девон, карбон, пермь, триас, юра, мел, палеоген, неоген, четвертичный период. – Прим. перев.)
(обратно)44
Геологический возраст пород определяется по содержащемуся в минерале цирконе радиоактивному урану. – Прим. ред.
(обратно)45
Облако Оорта – гипотетическая сферическая область Солнечной системы, которая служит источником долгопериодических комет. – Прим. перев.
(обратно)46
Этот термин отражает тот прискорбный факт, что биоразнообразие Земли стремительно сокращается, все неуклонно стремится к гомогенности (одинаковости): биогеография и экосистемы по всему миру все больше и больше походят друг на друга. – Прим. науч. ред.
(обратно)47
Поли считает, что чрезмерный вылов рыбы приведет к тому, что в океане не останется годных в пищу существ. Человечество превращает океан снова в “микробный бульон”. – Прим. науч. ред.
(обратно)48
Родственное “антропоцену” слово с тем же смыслом – “созданный человеком”. – Прим. науч. ред.
(обратно)49
Антарктическую весну, южнополушарную, то есть с сентября по ноябрь. – Прим. науч. ред.
(обратно)50
На английском языке – wholly recent. Это буквальный перевод греческих слов, от которых и пошло название “голоцен”. – Прим. науч. ред.
(обратно)51
Понятие первичной продукции в экологии аналогично понятию ВВП в экономике – это вся биомасса, произведенная за единицу времени продуцентами. – Прим. науч. ред.
(обратно)52
Ни в 2016, ни в 2017, ни в 2018 году Международная комиссия по стратиграфии не утвердила антропоцен в качестве новой эпохи. “Антропоцен” по-прежнему остается неофициальным геохронологическим термином, обозначающим условную эпоху, о длительности которой постоянно ведутся дискуссии. – Прим. ред.
(обратно)53
В действительности островок, на котором расположен знаменитый Арагонский замок (ит. Castello Aragonese), не имеет названия. Однако автор везде в своем повествовании использует словосочетание “Кастелло Арагонезе” для обозначения именно островка. – Прим. перев.
(обратно)54
Речь идет о 2014 годе. – Прим. ред.
(обратно)55
Шкала pH градуирована от 0 до 14. Значение 7 соответствует нейтральной среде, значения больше 7 – щелочной, а меньше 7 – кислой. Морская вода исходно щелочная, так что процесс снижения pH, который обычно называют закислением океана, можно было бы именовать по-другому, хотя и не столь броско – снижением щелочности океана. – Прим. автора
(обратно)56
Ульф Рибезелль, личное сообщение, 6 августа 2012 года. – Прим. автора
(обратно)57
Это часть планктона, объединяющая организмы размером от 0,2 до 2 микрометров. Получается, что самые мелкие представители пикопланктона имеют размер около 200 нанометров (не пикометров!). Таким образом, в этом подразделении планктона на фракции (есть еще макро-, микро-, нанопланктон и не только) использование приставок Международной системы единиц неточно. Они отражают соотношения скорее объемов организмов, чем их линейных размеров. Так, например, размеры представителей пикопланктона и нанопланктона отличаются всего в десять раз, а вот объемы – как раз примерно в тысячу. – Прим. науч. ред.
(обратно)58
Благодарю Криса Сейбина из NOAA’s PMEL Carbon Dioxide Program за обновленные данные о выбросах углекислого газа в атмосферу и его поглощении океаном. – Прим. автора
(обратно)59
Рейчел Карсон (1907–1964) – американская писательница, биолог, эколог. Ее книга “Безмолвная весна” о последствиях загрязнения окружающей среды пестицидами переведена на русский язык (Карсон Р. Безмолвная весна. М.: Прогресс, 1965). – Прим. ред.
(обратно)60
One Tree Island (англ.) – в дословном переводе “Остров одного дерева”. – Прим. перев.
(обратно)61
Heron Island (англ.) – в дословном переводе “Остров цапли”. – Прим. перев.
(обратно)62
Лайель ошибочно приписал идею Адельберту фон Шамиссо, натуралисту, сопровождавшему в плавании Отто фон Коцебу. – Прим. автора
(обратно)63
Под экологическим вымиранием понимают снижение численности вида до такого низкого уровня, что этот вид хотя и продолжает присутствовать в сообществе, но больше почти не взаимодействует с другими видами. В случае с коралловыми рифами имеется в виду, что они перестанут существовать как экосистема. – Прим. науч. ред.
(обратно)64
На английском языке это называется mass coral spawning. Одно из самых зрелищных событий на Большом Барьерном рифе, когда коралловые полипы раз в год массово выпускают в воду яйцеклетки и сперматозоиды. – Прим. науч. ред.
(обратно)65
Имеются в виду крупные моллюски тридакны. – Прим. науч. ред.
(обратно)66
Встречается еще и третья форма карбоната кальция, самая редкая и наименее устойчивая, – ватерит. – Прим. науч. ред.
(обратно)67
Термином “коралловое покрытие” обозначают долю (в процентах) площади морского дна на рифе, занимаемую живыми мадрепоровыми коралловыми полипами, основными строителями, а не водорослями, губками и иными организмами. Это важный показатель жизнеспособности рифа. – Прим. науч. ред.
(обратно)68
Уоллес А. Р. Тропическая природа. М.: Мысль, 1975. – Прим. ред.
(обратно)69
Это образ движущегося леса. Автор отсылает читателя к сюжету “Макбета” Шекспира. Согласно пророчеству, Макбет должен был остаться несокрушимым, пока Бирнамский лес не двинется на Дунсинанский замок. Противники Макбета, окружив замок, использовали для маскировки срубленные ветви деревьев из Бирманского леса. Так пророчество исполнилось: лес наступал, Макбет потерпел поражение. – Прим. науч. ред.
(обратно)70
Дарвин Ч. Происхождение видов. – Прим. перев.
(обратно)71
Дарвин Ч. Происхождение видов. – Прим. перев.
(обратно)72
Эдвард Осборн Уилсон (род. 1929) – выдающийся американский биолог, эколог, писатель, дважды лауреат Пулитцеровской премии. – Прим. ред.
(обратно)73
В английском языке – fragmentologist, в русском такого устоявшегося термина пока нет. – Прим. науч. ред.
(обратно)74
Соглашение, при котором одна страна прощает часть внешнего долга другой стране в обмен на обязательство последней вложить соответствующую сумму в охрану своей природы. Концепция была впервые предложена Томасом Лавджоем в 1984 году для решения проблем развивающихся стран. – Прим. перев.
(обратно)75
Благодаря результатам научных исследований, показавшим, что этот гриб ближе к представителям рода Pseudogymnoascus, а не Geomyces, с 2013 года он именуется Pseudogymnoascus destructans. Далее в тексте везде приведено правильное латинское название. – Прим. науч. ред.
(обратно)76
Дарвин Ч. Происхождение видов. – Прим. перев.
(обратно)77
Вегенер А. Происхождение континентов и океанов. Л.: Наука, 1984. – Прим. ред.
(обратно)78
От англ. U. S. Fish and Wildlife Service. – Прим. перев.
(обратно)79
Автор выделяет это растение, поскольку его английское название – Kentucky bluegrass – звучит так, будто это местный вид. – Прим. ред.
(обратно)80
Stop Aquatic Hitchhikers – это кампания, призывающая всех, кто занимается какими-либо видами спорта или отдыха на воде в США и других странах, помочь остановить губительное распространение инвазивных водных видов. См.: . – Прим. науч. ред.
(обратно)81
В оригинале соответственно: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe (DAISIE), Asian-Pacific Alien Species Database (APASD), Forest Invasive Species Network for Africa (FISNA), Island Biodiversity and Invasive Species Database (IBIS) и National Exotic Marine and Estuarine Species Information System (NEMESIS). – Прим. перев.
(обратно)82
Элтон Ч. Экология нашествий животных и растений. М.: Издательство иностранной литературы, 1960. – Прим. ред.
(обратно)83
Ознакомиться с проектом можно здесь: -atlas-of-life. – Прим. науч. ред.
(обратно)84
Сучи умерла 30 марта 2014 года от гемохроматоза, уже после того, как была опубликована эта книга. – Прим. ред.
(обратно)85
Ипу умер 18 февраля 2013 года от рака щитовидной железы. – Прим. ред.
(обратно)86
Точнее, лошади и тапиры. Вместе три семейства – носороговые, лошадиные и тапировые – образуют отряд непарнокопытных. – Прим. науч. ред.
(обратно)87
Турам (Bos primigenius) удалось дожить до 1600-х годов. – Прим. науч. ред.
(обратно)88
Имеются в виду нептичьи динозавры. – Прим. науч. ред.
(обратно)89
Morgan R. Big Bone Lick. Стихотворение опубликовано в интернете, например, здесь: -bone-lick-big-talk-and-flush. – Прим. автора
(обратно)90
В оригинальной надписи на английском языке (I’m not fat – just big boned) обыгрывается название парка. – Прим. ред.
(обратно)91
Вот откуда взялось название Big Bone Lick – от английского слова lick (“лизать”). Дословный перевод звучал бы как “Лизунец Большие Кости”. – Прим. науч. ред.
(обратно)92
Даймонд Дж. Ружья, микробы и сталь. М.: АСТ; Corpus, 2010. – Прим. ред.
(обратно)93
Здесь слово “люди” используется в обычном смысле. Вообще же неандертальцы – тоже вид рода Homo (люди). – Прим. науч. ред.
(обратно)94
Дарвин Ч. Происхождение человека и половой отбор. М.: Изд-во АН СССР, 1953. – Прим. перев.
(обратно)95
И папуасы. – Прим. науч. ред.
(обратно)96
Уже появились убедительные свидетельства обратного. Недавно ученые датировали наскальные изображения в трех испанских пещерах – и выяснили, что созданы эти рисунки, по-видимому, неандертальцами. Все-таки неандертальцы были гораздо “утонченнее”, чем мы о них привыкли думать. Оригинальная статья: Hoffmann D. L. et al. U-Th Dating of Carbonate Crusts Reveals Neandertal Origin of Iberian Cave Art. Science 359 (2018): 912–915. – Прим. науч. ред.
(обратно)97
Аллюзия на стихотворение Эмили Дикинсон “Надежда”. Первая строка его гласит: “«Hope» is the thing with feathers” (“Надежда – штучка с перьями” в переводе Львова Б.). – Прим. ред.
(обратно)98
Джонатан Шелл (1943–2014) – знаменитый американский писатель. – Прим. ред.
(обратно)99
Джон Мьюр (1838–1914) – американский естествоиспытатель, защитник дикой природы. Написал целый ряд книг на эту тему. – Прим. ред.
(обратно)100
В оригинале соответственно: World Wildlife Fund, National Wildlife Federation, Defenders of Wildlife, Wildlife Conservation Society, African Wildlife Foundation, Nature Conservancy и Conservation International. – Прим. перев.
(обратно)
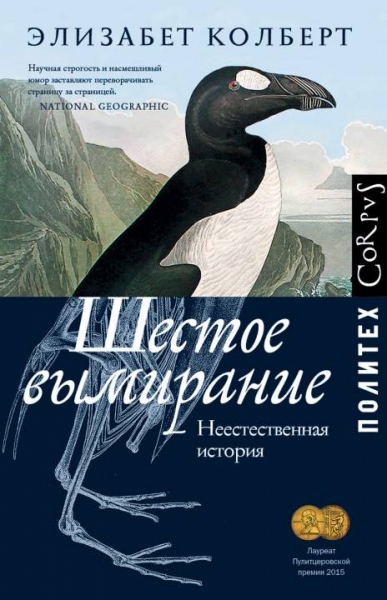



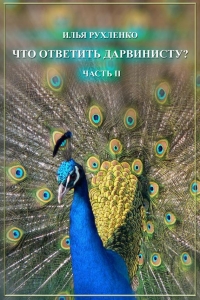
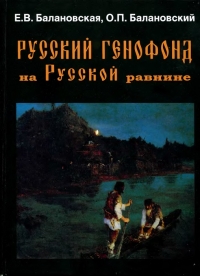


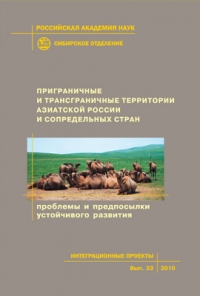

Комментарии к книге «Шестое вымирание. Неестественная история», Элизабет Колберт
Всего 0 комментариев