Роберт Сапольски Записки примата: Необычайная жизнь ученого среди павианов
Переводчики Ирина Майгурова, Мария Десятова
Научный редактор Валерий Чалян, д-р биол. наук
Редактор Роза Пискотина
Руководитель проекта И. Серёгина
Корректоры Е. Аксёнова, М. Савина
Компьютерная верстка А. Фоминов
Дизайн обложки Ю. Буга
Иллюстратор Р. Евсеев
© Robert M. Sapolsky, 2001
All Rights Reserved
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2018
© Электронное издание. ООО «Альпина Диджитал», 2018
Эта книга издана в рамках программы «Книжные проекты Дмитрия Зимина» и продолжает серию «Библиотека «Династия». Дмитрий Борисович Зимин — основатель компании «Вымпелком» (Beeline), фонда некоммерческих программ «Династия» и фонда «Московское время».
Программа «Книжные проекты Дмитрия Зимина» объединяет три проекта, хорошо знакомые читательской аудитории: издание научно-популярных переводных книг «Библиотека «Династия», издательское направление фонда «Московское время» и премию в области русскоязычной научно-популярной литературы «Просветитель». Подробную информацию о «Книжных проектах Дмитрия Зимина» вы найдете на сайте ziminbookprojects.ru.
Вениамину и Рахили
Благодарности
Эта книга — воспоминания о более чем двадцати годах моего знакомства с Восточной Африкой, куда я регулярно приезжал для работы в одном из заповедников. Все рассказанное происходило в действительности, однако сам жанр предполагает некоторые литературные условности, которые я здесь и оговариваю. История Уилсона Кипкои по большей части отражает подлинные факты, но имена и некоторые детали изменены ради сохранения инкогнито действующих лиц. Последняя глава, к сожалению, правдива во всех ее трагических подробностях, однако и в ней я изменил некоторые имена и обстоятельства. Хронологические рамки некоторых глав в ряде случаев расширены или, наоборот, сжаты. В нескольких местах изменен порядок событий; их последовательность в жизни павианов оставлена нетронутой. И наконец, некоторые люди и некоторые павианы являют собой собирательные образы из нескольких представителей соответствующего биологического вида. Это сделано ради сокращения списка действующих лиц; среди человеческих персонажей, например, егерь-смотритель[1] заповедника, или экскурсовод-британец, или официант туристской гостиницы могут совмещать в себе черты нескольких людей. Все главные павианы — реальные личности, как и главные человеческие персонажи. Ричард, Хадсон, Лоуренс Гиенский, (покойная) Рода, Самуэлли, Соирова, Джим Элс, Мбарак Сулеман, Росс Тарара и, конечно, Лиза — реальные люди. Сам я, насколько могу судить, тоже образ не собирательный.
Я благодарю всех, кто помогал мне с проверкой фактов, читая книгу целиком или частично — или слушая в изложении, как это делал не умеющий читать Соирова — и сверяя мои воспоминания с собственными. За это спасибо Джиму Элсу, Лоуренсу Франку, Ричарду Коунсу, Хадсону Ойаро и Соирове. Кроме того, я хочу поблагодарить Колина Уорнера за уточнение ряда официальных данных в библиотеке, а также Джона Маклохлина, Анну Майер, Миранду Ип и Мани Роя за помощь в вычитке рукописи. Спасибо Дэну Гринвуду и Кэрол Салем за рассказы об их собственных путешествиях по Восточной Африке. Джонатан Кобб, Лиз Земска и Патриция Гэдсби — благодарю вас за бесценные редакторские советы, которые вы давали, читая протоверсию этой книги.
Финансирование моей работы осуществляли «Клуб исследователей» (The Explorer's Club), Фонд Гарри Франка Гуггенхайма, Фонд Макартуров и Фонд Темплтона. Я благодарен им не только за щедрость, но и за беспримерно гибкое отношение к издержкам полевой работы: в частности, за одно только согласие принимать квитанции и бухгалтерскую отчетность в разбухших от сырости и побитых молью (в буквальном смысле) подшивках. Благодарю Институт приматологии при Национальном музее Кении за возможность быть его сотрудником и канцелярию президента Республики Кения за разрешение на проведение исследований в течение всех этих лет. Спасибо двум моим коллегам — Ширли Струм из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Джин Альтманн из Принстонского университета, разрешивших мне побывать на их полевых участках в рамках нашей совместной работы. Кроме того, я хотел бы поблагодарить тех, кто посвящал меня в тонкости полевых исследований и помогал собирать материалы в мои первые полевые сезоны, — это Дэви Брукс, Дениза Костич, Фрэнсис Ончири и Рид Сазерленд.
Спасибо моему агенту Катинке Матсон за огромную поддержку и профессионализм, благодаря которым эта книга появилась на свет; спасибо моему редактору Джиллиан Блейк и ее помощнице Рейчел Сассман — вы с беспримерным тактом устраняли в рукописи недочеты, от которых любой автор, кроме представителя ученой братии, избавляется еще на вводном курсе писательского мастерства. Было очень приятно с вами всеми работать.
И наконец, я хочу поблагодарить Лизу — любовь всей моей жизни, разделившую со мной значительную часть этих кенийских событий.
Последнее примечание: колониальные бесчинства и грабежи остались для Африки в прошлом. Однако Запад нередко по-прежнему эксплуатирует Африку гораздо менее очевидными способами, даже если побуждения у него самые благие. Я связан с Африкой уже больше половины жизни и питаю к ней и к моим африканским друзьям глубочайшее уважение, благодарность и теплые чувства. От всей души надеюсь, что не предстал в этих заметках как человек, имеющий хоть какое-то отношение к эксплуатации. Такого намерения у меня и в помине не было.
Часть I Юные годы. Первое знакомство со стадом
1. Павианы. Колена Израилевы
В стадо павианов я попал на двадцать первом году жизни. Быть степным павианом я никогда не думал: наоборот, все детство и юность я провел в уверенности, что стану горной гориллой. Ребенком в Нью-Йорке я правдами и неправдами постоянно тянул мать в Музей естественной истории, где часами разглядывал африканские диорамы и мечтал пожить там, внутри. Жизнь легконогой зебры, скачущей по травянистым равнинам, казалась мне весьма заманчивой, а иногда я мог задумать одолеть свою младенческую пухлость и возносился до мечты побыть жирафом. Одно время, наслушавшись от пожилых родственников-коммунистов утопических тирад о коллективном труде, я хотел стать общественным насекомым. Рабочим муравьем, разумеется. По недомыслию я включил этот пункт в школьное сочинение о жизненных планах, после чего мать получила из школы озабоченную записку от учителя.
И все же, бродя по африканским залам музея, я неминуемо возвращался к диораме с горными гориллами. Что-то в ней меня влекло с самого начала. Оба моих деда умерли задолго до моего рождения; для меня они были не более чем далеким мифом, я даже не различал их на фотографиях. Видимо, выставленное в витрине чучело матерого вожака-гориллы, способного защитить свою семью, воспринималось мной как некая замена, восполняющая этот пробел. Тропический лес в африканских горах и семья горилл стали казаться мне самым надежным убежищем, о каком только можно мечтать.
В двенадцать лет я забрасывал приматологов восторженными письмами. В четырнадцать читал учебники по специальности. В старших классах хитростью умудрился заполучить работу в приматологической лаборатории медицинского колледжа и добрался до Мекки своих мечтаний — попал волонтером в Музей естественной истории, в отдел приматов. Я даже добился у нашего заведующего лингвистическим отделением того, что тот нашел мне подходящий курс по суахили — для подготовки к работе в полевых условиях Африки. И наконец, я поступил в колледж и начал постигать приматологию под руководством одного из лучших специалистов. Мечта близилась к исполнению.
Однако в колледже мои исследовательские интересы слегка сместились, и меня стали занимать научные вопросы, ответы на которые нельзя найти среди горилл. Мне понадобились приматы, живущие в открытой саванне, имеющие иную социальную организацию и не находящиеся под угрозой исчезновения. Саванновые павианы, прежде ничем для меня не примечательные, стали закономерными кандидатами на изучение. Жизнь постоянно вынуждает нас идти на компромиссы — не может же каждый ребенок, когда вырастет, стать президентом, звездой бейсбола или горной гориллой. Поэтому я решил пожить среди павианов.
Я пришел в стадо в последний год царствования Соломона. Другими главными членами стада в те дни были Лия, Девора, Аарон, Исаак, Ноеминь и Рахиль. Я не планировал давать павианам имена из Ветхого Завета, все случилось само собой. К нам перешел один взрослый самец, покинувший стадо, в котором вырос, и первые несколько недель (пока было неясно, останется он или нет) я не давал ему имени, а лишь обозначал его в дневнике как «новый пришлый самец» — New Adult Transfer, или NAT. Позже аббревиатура трансформировалась в Nat, а к тому времени, когда он решил остаться, стала именем Nathaniel — Нафанаил. Адам поначалу обозначался как ATM, Adult Transfer Male — «взрослый пришлый самец». Юный детеныш — small kid — сокращался до SML и на глазах превратился в Самуила. Тогда я махнул рукой и принялся сыпать пророками, судьями и женами патриархов направо и налево. Иногда я все-таки давал чисто описательные имена: например, Десна или Хромой. И поскольку мне пока еще недоставало научной уверенности, при публикации профессиональных статей я не упоминал имен, а обозначал всех цифрами. В остальное же время библейские персонажи обильно шли в ход.
Ветхозаветные имена мне всегда нравились, но я бы поостерегся назвать собственных детей Авдием или Иезекиилем, так что шесть десятков павианов пришлись очень кстати. Вдобавок мне остро помнились те годы, когда я пачками таскал в школу популярные брошюры по эволюции и предъявлял их учителям иврита, которые приходили в ужас от такого святотатства и требовали убрать книги с глаз долой; сейчас я с наслаждением мстил им тем, что раздавал имена патриархов членам стада павианов в африканской саванне. А кроме того, несколько извращенное воображение — без которого, подозреваю, редко обходится работа приматологов — подзуживало меня дождаться того неминуемого дня, когда в полевой дневник можно будет записать что-нибудь вроде «Навуходоносор с Ноеминью самозабвенно спаривались в кустах».
Моей целью было исследовать болезни, вызываемые стрессом, и их связь с образом жизни и поведением. Шестьдесят лет назад ученый по имени Ганс Селье обнаружил, что эмоции могут влиять на здоровье. Практикующие врачи встретили эту теорию насмешками: к тому времени было общеизвестно, что причинами болезней могут быть вирусы, бактерии, канцерогены и прочее, но эмоции… Селье обнаружил, что, если негативно воздействовать на крыс чисто психологическими способами, они заболевают. У них начинается язва, рушится иммунная система, появляются проблемы с размножением, повышается кровяное давление. Теперь-то мы знаем истинную цену той находки: Селье открыл стрессогенные расстройства. Он показал, что несбалансированные эмоциональные и физические нагрузки вызывают стресс и, если такое состояние длится слишком долго, человек заболевает.
Этот последний пункт пришелся в самую точку: из-за стресса в организме начинаются разного рода сбои, и со времен Селье были документально зарегистрированы многочисленные болезни, усиливаемые стрессом. Сахарный диабет второго типа, мышечная атрофия, гипертония и атеросклероз, задержка роста, импотенция, аменорея, депрессия, декальцинация костей и многое другое. Кроме того, от стресса могут гибнуть клетки мозга: именно это я изучал в своих лабораторных исследованиях.
Мне казалось чудом, что человечество умудрилось не вымереть. Однако мы со всей очевидностью выжили. Я решил, что, помимо лабораторных исследований нейронов, мне нужно заняться и оптимистической стороной проблемы — попробовать выяснить, почему некоторые люди более других устойчивы к стрессу. Зависит ли это от положения в обществе? От обилия родственников, от возможности общаться с друзьями? От игр с детьми? От привычки страдать в одиночестве или от манеры срывать зло на других? Я решил проверить это на диких павианах.
Павианы подходили для этого как нельзя лучше. Они живут большими группами со сложно организованной системой отношений, а предполагавшаяся для моего изучения популяция жила и вовсе по-королевски. Серенгети — огромная экосистема. Трава, деревья, животные — все как из телепередач о богатстве природы. Павианы заняты добыванием еды около четырех часов в день, смертельной опасности от хищников практически нет, так что около двенадцати дневных часов им остается на то, чтобы портить друг другу нервы. Совсем как у людей: редко кто-то зарабатывает себе гипертонический криз физической нагрузкой, никто не горюет из-за стихийного голода, нашествия саранчи или предстоящей битвы на топорах с боссом на парковке в пять вечера. Жизнь у нас вполне благополучна, так что мы можем позволить себе роскошь гробить собственное здоровье чисто психологическим стрессом, зарабатывая его в общении с себе подобными. Точно так же, как эти павианы.
Теперь мне предстояло ехать и изучать поведение павианов — наблюдать, кто с кем контактирует, как и зачем: драки, свидания, дружба, союзы, ухаживания. Затем я должен был обездвиживать их специальным дротиком с анестезирующим веществом и смотреть на состояние организма: кровяное давление, уровень холестерина, скорость заживления ран, уровень гормонов стресса. Как индивидуальные особенности поведения и психологические паттерны связаны с индивидуальными особенностями работы организма? Я решил изучать только самцов: нельзя же делать анестезию самкам, когда они беременны или выкармливают детеныша — а ведь редкую самку застанешь вне этих двух состояний. Так что я решил остановиться на самцах и познакомиться с ними получше.
Шел 1978 год — весь мир поклонялся Джону Траволте, белые костюмы наводнили Америку, Соломону оставалось царствовать последний год. Соломон был добр, мудр и справедлив. На самом деле нет, конечно, просто я в то время был впечатлительным «молодым пришлым самцом». Тем не менее этот павиан и вправду был внушителен. В течение многих лет учебники антропологии взахлеб описывали саванновых павианов и главную фигуру в их стаде — альфа-самца. По книгам выходило, что павианы — это приматы со сложной общественной организацией, которые живут в саваннах, организованно охотятся, имеют иерархию ролей в стаде и группируются вокруг альфа-самца как центральной фигуры. Он приводит стадо в богатые пропитанием места, возглавляет охоту, защищает от хищников, строго следит за самками, вкручивает лампочки, чинит машину и все такое. «В точности как наши человеческие предки» — подразумевалось в книгах, а в некоторых даже говорилось открыто. Разумеется, по большей части все оказалось не так. Охоту никто не организует — еду добывают кто как хочет. Более того, альфа-самец не в состоянии отвести стадо в богатые пищей места в тяжелые времена: он их просто не знает. Самцы приходят в стадо совсем юными, зато самки всю жизнь остаются в одном стаде, так что именно старые самки могут помнить нужную оливковую рощу за четвертым холмом. При нападении хищников альфа-самец действительно способен броситься в самую гущу, защищая детеныша, но только если совершенно уверен, что враг вознамерился пообедать именно его отпрыском, в противном случае альфа будет наблюдать битву с самого высокого и безопасного места, какое только найдет. Вот и вся цена Роберту Ардри и антропологии 1960-х.
И все же в мелком, непритязательном, эгоистичном и бездумном мирке самцов-павианов быть альфой — это круто. Даже необязательно быть вожаком стада, ты просто совершаешь половину всех спариваний, нежишься в тени при жаре и получаешь лучший кусок без особых усилий, попросту отбирая его у других. Соломон во всем перечисленном был непревзойден. В стаде он был альфой уже три года — невиданно большой срок для пребывания в штатной должности самца. Студент-старшекурсник, работавший со стадом до меня, рассказал, что во времена свержения предыдущего альфа-самца Соломон был осмотрительным бойцом, беспощадно отвечавшим ударом на удар, однако, когда я приехал (и тайно нарек его Соломоном — штатный идентификационный номер, скучный и неинтересный, я никогда не разглашу), он уже вступил в пору «серебряного возраста» и почивал на лаврах, удерживая за собой статус исключительно психологическим давлением. Это ему удавалось блестяще. Крупных драк за ним не водилось уже год. Ему достаточно было взглянуть, подняться с царственного ложа и небрежно сделать несколько шагов, максимум шлепнуть покусившегося на его покой — и больше ничего не требовалось. Перед ним все трепетали. Однажды он ударил и меня, сбил с камня и вдребезги расколотил бинокль (подарок к отъезду в Африку!). Теперь я тоже перед ним трепетал и больше не строил планов проверки на прочность его статуса альфа-самца.
В основном он проводил дни с теми многочисленными детенышами, которых безоговорочно считал своими (то есть был уверен, что к самке в тот период цикла, когда она зачала, никто больше не приближался), не упускал случая присвоить себе выкопанные другими клубни или корни, давал себя обыскивать и спаривался с самками с выраженными признаками эструса в виде набухания половой кожи. В последнее время звездой стала Девора, дочь Лии, вероятно, старейшей в стаде альфа-самки. Мать была — тот еще крепкий орешек. Статус павианов-самцов с течением времени может меняться: один вступает в пору зрелости, другой ломает клык и остается не у дел. Самка же наследует статус от матери: она рангом ниже матери, младшая сестра еще одной ступенькой ниже и так далее до следующей семьи более низкого ранга. Лия сидела на самой верхушке этой горы как минимум четверть века. И всячески изводила Ноеминь — примерно свою ровесницу, родоначальницу семьи с несравнимо более низким рангом. Стоило старухе Ноеминь устроиться на полуденный отдых в уютной тени, тут же налетала Лия и выгоняла ее прочь. Невозмутимая Ноеминь находила другое место — Лия, не в силах побороть искушение, налетала вновь. Стойкости этих отношений, древних как мир, я не уставал дивиться. За годы до этого Джимми Картер бегал трусцой вокруг Белого дома, камешки Pet Rocks раскупались как горячие пирожки, любая женщина мечтала выглядеть как Фарра Фосетт — а стареющая Лия изводила Ноеминь. Еще раньше американцы обсуждали резню в Сонгми, щеголяли в малиновых брюках клеш и прыгали на кроватях с водяным матрацем — а заматеревшая к тому времени Лия добивалась того, чтобы Ноеминь ее обыскивала. Еще раньше Линдон Джонсон демонстрировал публике хирургический шов от операции на желчном пузыре — а юная Лия выслеживала Ноеминь во время полуденного отдыха и нападала на нее, как только та уснет. И еще-еще раньше, когда общественность протестовала против казни Розенбергов, а я сидел на коленях у бабушки в доме престарелых и нас снимали камерой «Брауни», едва научившаяся ходить Ноеминь покорно отдавала Лии веточку, которой только что играла сама. И сейчас они, две дряхлые старухи, по-прежнему устраивали в саванне игру в «музыкальные стулья».
Лия родила целую череду крепких, уверенных в себе сыновей. Среди общественных животных многих видов есть правило: примерно в период полового созревания самцы или самки переходят в другую общественную группу — это один из способов избежать инцеста. У павианов такая тяга к перемене мест одолевает самцов, и сыновья Лии теперь самоуправствовали в дальних и ближних стадах по всей северо-западной части Серенгети. Девора родилась далеко не сразу и была первой, а то и единственной дочерью. Сейчас она как раз вступала в пору зрелости, и Соломон сходил по ней с ума. По стандартам самцов-павианов Девора была желанной невестой: с ее упитанностью и общим здоровьем она была бы способна легко зачать и благополучно перенести беременность. А когда детеныш родится, на него никто не вздумает напасть, и он выживет. С точки зрения эволюционной теории — оставить побольше копий своих генов в будущих поколениях и все такое — Девора была очень перспективной юной обезьяной. Я, впрочем, не считал ее такой уж особенной (в противоположность Вирсавии, к которой питал истинную страсть и которая позже трагически погибла от клыков мерзавца Навуходоносора), однако уж чего-чего, а уверенности Деворе было не занимать. У самцов павианов есть обыкновение: когда они натыкаются на дружественного самца, то вместо всяких «добрый день, прекрасная погода, не правда ли?» они дергают друг друга за пенис. Для них это, видимо, что-то вроде способа сказать: «Мы друзья, в эту самую минуту я полностью тебе доверяю — настолько, что позволяю тебе меня подергать». Точно так же собаки откидываются на спину, открывая брюхо и позволяя другому псу обнюхать пах. Среди приматов-самцов такой жест означает доверие, и все самцы приветствовали своих приятелей именно так. Таким же образом приветствовали самцов и Лия с Деворой — единственные самки за все годы моего опыта. Девора на моих глазах провернула это с Навуходоносором в те времена, когда он едва успел присоединиться к стаду. Все утро он гонял других и теперь лениво куда-то брел, страшно довольный собой, а по пути встретил пожилую леди с дочерью — Лию и Девору, шедших навстречу. Он их, видимо, еще не знал, но вежливо приподнял шляпу, то есть сделал то, что у павианов служит этому заменой: повел бровями. И тут эта девица протягивает руку, довольно мощно дергает его за тестикулы и идет себе дальше вместе со старухой. Навуходоносор, провожая взглядом ее тыльную часть, буквально согнулся пополам, вероятно, в попытке убедиться, что она не самец, случайно проходивший мимо.
Итак, Девора переживала пубертат легко и свободно, не испытывая ничего похожего на комплексы от прыщей и прочее. Соломон всего лишь дожидался, когда запах от нее станет соблазнительнее, а внешние признаки заметнее — тогда начнется ухаживание. Не такова была участь бедняжки Руфи, которая тогда тоже вошла в пору созревания. Ее юность была более типичной. Руфь происходила из непонятно какого, явно низкого рода; она ни минуты не сидела спокойно, движения ее были нервными и дергаными — верный признак того, что ее вечно притесняют. Годы спустя, в среднем возрасте, она по-прежнему будет иметь тревожный вид существа, живущего на постоянных выбросах адреналина, и такое же впечатление нервного истощения будут производить ее многочисленные отпрыски. Пока же, в нынешнем году, главной бедой для нее был эстроген, доводивший ее до безумия. Настала пора созревания, кожа вокруг половых органов набухла, стероиды отравляли ей мозг — ни о чем, кроме самцов, она думать не могла. Однако на нее никто не обращал внимания. В первые полгода, когда начинаются циклы и появляется набухание половой кожи, у самок павианов еще нет полноценных овуляций: организм только разогревается. Почти наверняка для самцов это преобразуется в сигнал о том, что запах недостаточно соблазнителен, а тыльная часть недостаточно ярко полыхает в африканских сумерках.
Несчастная же Руфь варилась в гормональном аду и съезжала с катушек. Она вожделела всех взрослых самцов, однако на нее никто даже не взглянул. Соломон, выбравшись из зарослей, садился посреди открытого поля — и Руфь вскакивала, бросала все дела и, по обычаю всех павианьих самок в состоянии эструса, совала свой зад ему под нос в надежде, что самец не ограничится тем, что просто его понюхает. Тщетно. Или старина Аарон, тоже из взрослых самцов, вознамерится добрести до ближайшего фигового дерева, а Руфь не даст ему прохода: забежит на шаг-другой вперед, остановится и подставит ему зад; тот пройдет мимо — она снова вскочит и забежит с другой стороны. Больше всего мне запомнилась Руфь в летние месяцы 1978 года, когда она стояла и прихорашивалась, выставляла зад, выгибала спину так и эдак, взглядывала через плечо в попытке оценить эффект, принимала самую неотразимую позу и исходила восторгом от одного лишь присутствия Соломона, а этот амбал сидел и рассеянно ковырял в носу, совершенно ее не замечая.
В конце концов Руфь вынуждена была остановиться на Иисусе Навине — долговязом тощем юнце, пришедшем в стадо годом раньше. Тихий, безобидный, серьезный и невозмутимый, он то и дело мастурбировал в кустах. К октябрю 1978 года он воспылал страстью к Руфи, которую это вовсе не осчастливило. Два месяца он преследовал ее со всем пылом. Шагнет к ней — она убегает прочь с обычным своим нервным подергиванием. Он садится с ней рядом — она вскакивает. Он заботливо ее обыскивает, убирая с нее клещей, — она сбегает, стоит ему остановиться, и начинает ходить кругами вокруг самца покрасивее. Однажды, когда она прихорашивалась и подставляла зад Аарону, наблюдавший за ней Иисус Навин испытал эрекцию.
Такие проявления мужской преданности могут тронуть даже самых буйных из юных самок, и к декабрю Иисус Навин уже постоянно бывал с Руфью во время эструса. Обоим явно недоставало опыта, и даже годы спустя Руфь страшно нервничала при любых попытках самцов с ней сблизиться, что, вероятно, всерьез влияло на ее репродуктивную способность. Тем не менее в мае она родила Авдия.
Вид у него был своеобразный. Узкая голова, длинные жидкие волосы, свисающие сзади продолговатым хохолком, — он походил на рассеянного невротика из Вены эпохи декаданса. Руфь, обуреваемая материнскими чувствами, была на грани нервного срыва: не отпускала его от себя дальше, чем на два шага, резво утаскивая прочь при виде любой приближающейся самки. Зато Иисус Навин оказался превосходным заботливым отцом, что среди павианов бывает крайне редко. Для людей, знающих цену таким вещам, это показательно. Средняя самка — более популярная, чем Руфь, но не такая желанная, как Девора, — в начале периода набухания половой кожи в течение недели спаривается с пятью-шестью самцами. Самый захудалый из них приходит в первый день, когда овуляция еще не произошла. На следующий день его отгоняет более престижный самец и так далее, вплоть до павиана высокого ранга (возможно, альфа-самца), который спарится с ней в самый благоприятный день. И если через пять месяцев появляется детеныш, то самцу ничего не остается, как достать калькулятор и обнаружить, что вероятность отцовства составляет для него 38 %. В этом случае никакой помощи от него не будет. Зато Иисус Навин, бывший у Руфи единственным ухажером в те месяцы ее пылкого юного эструса, был уверен в своем отцовстве на все сто. Если говорить суровым языком социобиологов — тратить усилия на родительскую заботу было в его эволюционных интересах.
Он то таскал Авдия на руках, когда Руфь уставала, то помогал ему вскарабкиваться на деревья, то стоял настороже рядом при появлении львов. В какой-то степени его забота была чрезмерной; Иисус Навин совершенно не понимал детских игр. Временами, когда Авдий дурашливо боксировал с приятелями на радость себе и другим, Иисус Навин врывался в середину, защищая любимое дитя от страшных врагов, валил с ног остальных детенышей и раскидывал кого куда. Авдий в таких случаях смущался; человеческий ребенок в аналогичном случае мечтал бы провалиться на месте от стыда за родителя, сотворившего откровенную глупость. Остальные детеныши с визгом разбегались каждый к своей матери, и те ополчались против Иисуса Навина, порой даже пускались за ним в погоню. Однако понимания у него не прибавлялось. Спустя годы, будучи уже альфа-самцом, Иисус Навин с друзьями точно так же встревал в юношеские бойцовые матчи Авдия и его приятелей.
Примерно в одно время с Иисусом Навином, выросшим в восточных горах, в стаде появился Вениамин — его ровесник из местности, граничащей с Танзанией. Я тогда только-только разделался с собственными юношескими комплексами и едва удерживался от того, чтобы отождествлять себя с Вениамином и его странностями. Шерсть на нем росла как попало — торчала на голове пучками в разные стороны, на плечах лежала спутанными комками вместо величественной гривы, которая обычно призвана устрашать соперников. Он то и дело спотыкался на ходу, вечно садился на кусачих муравьев. С нижней челюстью ему тоже не повезло: после каждого зевка (а зевал он часто) ему приходилось поправлять ее руками, натягивая щеки и губы обратно на клыки. С самками ему, разумеется, ничего не светило, а если кто из собратьев впадал в дурное расположение духа из-за проигранной драки, то будьте уверены — Вениамин на него неминуемо натыкался, причем в самый неудачный момент. В один прекрасный день, в самом начале моего пребывания в стаде, я наблюдал за Вениамином. Объект для сбора поведенческих данных обычно выбирают случайным образом (чтобы не нарушать чистоту эксперимента, отдавая предпочтение тем, кто занят чем-то интересным) и ведут наблюдение в течение часа, записывая все детали поведения. Был полдень, через две минуты после начала отсчета Вениамин завалился спать под кустом. За этот час захватывающих наблюдений остальные павианы разбрелись — Вениамин, проснувшись, понятия не имел, куда делось все стадо, и я тоже. Мы оба не знали, куда идти. Взобравшись на крышу джипа, я оглядел окрестности в бинокль. Мы посмотрели друг на друга. Наконец мне удалось различить мелкие черные точки за несколько холмов от нас. Я медленно поехал, Вениамин побежал следом. Хеппи-энд. С тех пор повелось: если я работаю без машины — он сидит рядом, если я работаю, не выходя из джипа, — он сидит на капоте. Примерно в это время я назначил его своим фаворитом и благосклонно нарек любимым именем; все, что он делал в дальнейшем, только укрепляло мои чувства. Прошло много лет, его давно нет в живых, а я до сих пор храню его фотографию.
Еще моложе Иисуса Навина и Вениамина были Давид и Даниил. Они только что пришли в стадо и еще не до конца оправились от тягот первого в жизни перехода на новое место, когда месяцами ты никто, без друзей и семьи, среди агрессивных чужаков, на краю стада и без всякой защиты от хищников. Росли они в разных стадах, но по счастливой случайности оказались у нас одновременно и по не менее счастливой случайности обладали темпераментом, побуждавшим их не враждовать, а тянуться друг к другу. Эти два юнца, едва вышедшие из детского возраста, стали неразлучными и проводили время в играх и шутливых драках. Однажды во второй половине дня я обнаружил их в открытом поле у леса — они умудрились напугать целый выводок жирафьих детенышей и теперь гоняли их взад-вперед по саванне. Любой из жирафиков весил раз в пятьдесят больше Даниила или Давида и с легкостью бы их растоптал. Однако, сбитые с толку, жирафы стремительно разбегались от этих странных пушистых бесенят, тявкающих у них под ногами.
Еще один взрослый самец наверняка вырос в этом же стаде и никогда из него не уходил. Из сотен павианов, которых я знал за всю жизнь, Иову не повезло больше всего. Саванновые павианы — великолепные животные: мускулистые, хорошо сложенные и пушистые, как медведи. Иов же был худ, как щепка, с непропорционально большой головой, и чего только у него не было — и тремор, и спазмы, и парезы, и судороги. Периодически у бедолаги выпадала шерсть, в каждый сезон дождей все слизистые зарастали грибком. Руки и ноги — длинные и тощие, на хвосте чесотка. Насколько я мог судить, полового созревания он не достиг: яички не опустились, вторичные половые признаки (крупные клыки, грива, низкий голос, мускулы) не появлялись. При этом он был отнюдь не дурак и шел по жизни с той настороженной опасливой бдительностью, какая обычно развивается от постоянного страха. Насчет возможных причин у меня роились многочисленные гипотезы, почерпнутые тут и там из учебников по эндокринологии, где во множестве встречались иллюстрации к дисфункции желез — нагие люди под ростовыми отметками с черным прямоугольником на месте глаз: кретины с гипотиреозом, уродцы-акромегалы, жуткие типы с базедовой болезнью, гермафродиты с табличками. У Иова я подозревал синдром Клайнфельтера, но до конца выяснить это так и не удалось. Помимо того, что он был странным и неизменно печальным, он остался еще и недиагностированным.
Как и следовало ожидать, его изводили, преследовали, притесняли, били, хлестали, колошматили и терроризировали все самцы стада, кому хотелось отвести душу (и неоднократно Лия с Деворой). Новые пришлые самцы — едва вылупившийся молодняк — с недоверием и восторгом обнаруживали, что в стаде есть павиан еще более низкого ранга, чем они, новоприбывшие. За все годы моего знакомства с Иовом он ни разу не победил в ритуалах на доминирование. Единственным его прибежищем была семья Ноемини — старуха Ноеминь, ее дочь Рахиль и малолетняя внучка Сара. По человеческим меркам это была семья «достойных людей», и они вскоре стали моими любимцами. Сомневаться в их родстве или спутать их с другими было невозможно. У всех короткие ноги колесом, круглые крепкие торсы, шальные пушистые морды, из-за которых вся семья походила на стаю сипух. Ранг в стаде у них был средний, они со многими дружили и помогали друг другу. Помогали и Иову. Я стойко подозревал (хоть и не нашел тому доказательств), что Иов — сын Ноемини: беспокойный и больной, он не выжил бы при переходе в другое стадо, да и не было в нем для этого андрогенного импульса, заставляющего взрослого самца бросить все и пуститься на поиски счастья в далеком и прекрасном мире чужих павианов. Ноеминь над ним тряслась, Рахиль яростно защищала от нападок юных самцов, Сара обыскивала. Однажды утром Иов, бродивший на самом краю стада, оказался отрезан от остальных: его окружила стайка пасущихся самок импал — хрупких созданий, похожих на Бемби. Для павианов импалы совершенно безобидны — напротив, павианы на них охотятся! Иов же, оказавшись среди них, страшно перепугался и начал тревожно взлаивать. Тогда Ноеминь с Рахилью пробрались к нему между импалами и сидели с ним, пока импалы не разошлись и Иов не успокоился.
Наряду с матриархами вроде Ноемини в стаде были и старшие самцы вполне величественного вида. Например, Аарон — уже миновавший свою лучшую пору, но еще полный сил, — с которым приходилось считаться. Здравый и спокойный, он дружелюбно общался с самками и не избивал никого слишком уж активно. Только вот ходил он прихрамывая после одной встречи с судьбой. Несколькими годами раньше, когда юный Соломон был третьим в иерархии и явно нацеливался выше, вторым номером был Аарон, ближайший кандидат на лидерство, — он был в отличной физической форме и дышал в затылок тогдашнему альфе, в моих архивах помеченному лишь как «самец 203». В то памятное утро Аарон и 203 решили помериться силой и затеяли грандиозную схватку, которая с переменным успехом длилась несколько часов. В критический момент — демонстрируя блестящее стратегическое мышление, которое будет служить ему верой и правдой долгие годы, — в драку вступил Соломон и с легкостью одолел обоих противников, занятых лишь друг другом и изрядно изможденных. Итог: номер 203 мертв, Аарон тяжело ранен, Соломон восходит на царство.
В 1979 году стадо состояло из шестидесяти трех павианов, однако перечисленные были самыми заметными фигурами, вокруг которых все вертелось. Были, конечно, и другие. Например, Исаак — молодой самец, которому только через несколько лет предстояло войти в полную силу, но уже сейчас, обнаруживая хороший тон, он водил дружбу с семьей Рахили. Бедная встрепанная Мариам с бесконечной чередой детенышей, страдавших коликами. Юные сестры Бупси и Афган — настолько томные и гиперсексуальные, настолько похотливо подставлявшие зад самцам и задиравшие левую ногу им в самую морду, что я не мог переступить через себя и дать им имена библейских прародительниц.
Именно в первый мой год работы в стаде Соломон ощутил на себе власть времени, и неизбежная тень смерти, сгустившись, приняла форму Урии. Совсем молодой и огромный, как дом, Урия пришел в стадо той весной и без всякой оглядки на традиции, заслуги и искусную практику запугивания нацелился свергнуть Соломона. Я всегда подозревал, что Урии просто не хватало ума понять изящество Соломоновых угроз и оценить почти восточный минимализм той манеры, с какой Соломон рассылал вокруг себя волны нервных встрясок и контролировал количество съедобных клубней, спариваний и груминга. Урия легко отбросил с дороги Иисуса Навина и Вениамина, быстро одолел Аарона, Исаака и других взрослых самцов. В одно дерзкое утро, пока Соломон обхаживал эструальную Девору, Урия вклинился между ними и попытался совокупиться с ней. Соломон, принужденный драться впервые за несколько лет, разнес Урию в пух и прах, пропорол клыком плечо, разодрал ему верхнюю губу — и тот в страхе бежал, задрав хвост (для павианов это то же, что для других зажать хвост между ног). А на следующее утро Урия вновь напал на Соломона, и все повторилось.
Так продолжалось всю весну. Урия раз за разом терпел поражение, но, по всей видимости, его это ничему не учило, он приходил снова и снова. Угрожающе разевал пасть перед Соломоновой мордой, дрался с ним за очередную тушу, отгонял обыскивающих Соломона самок. Раз за разом получал трепку. И понемногу изматывал Соломона. Тот худел, с каждой стычкой его все больше шатало от ударов. В драке самцы-павианы бросаются друг на друга с открытой пастью, выставляя острые, как нож, клыки, которые длиннее клыков взрослого льва. Однажды утром Соломон при такой атаке подался назад — впервые за все время: раньше он не отшатывался ни на миг. И хотя схватку выиграл, уходил он с рассеченной мордой. Дальше следовали новые бои и жизнь с постоянной оглядкой. Для стареющих самцов молодняк вроде Урии бывает сущим кошмаром — этот юнец, полный сил, даже не знал, что такое усталость. Как-то днем, в перерыве между схватками с Урией, на Соломона напал другой самец высокого ранга, двумя месяцами ранее сжимавшийся от одного только Соломонова взгляда. Соломон победил, но ему пришлось бороться дольше обычного и долго не прекращать погоню, во время которой противник несколько раз оборачивался и вновь нападал. Дело шло к развязке.
На следующее утро Соломон сидел возле Деворы, в ту неделю к сексу никак не расположенную. Авдий как раз сделал первые несколько шагов; Рахиль сидела рядом с Иовом; Мариам на третьем месяце беременности обыскивала младшего детеныша, которому случилось закапризничать. Спокойное утро маленького городка. Появившийся Урия остановился в десятке шагов от Соломона, не сводя с него глаз. Городок не вмещал их двоих. И Соломон, как положено по сценарию, не глядя по сторонам, подошел к Урии, повернулся и лег брюхом на траву, выставив зад в знак подчинения. Передача власти совершилась.
В тот день Урия нежился в окружении Лии, Ноемини и других самок. Соломон без всякого повода налетел на Вениамина, несколько раз избил Иова, разогнал игравших Даниила и Давида, попытался гонять перепуганную Руфь с Авдием. Позже я понял, что таково типичное поведение самца павиана, решившего отыграться на других за собственные трудности. Соломон на этом не остановился и совершил нечто, аналог чему я видел впоследствии всего один раз, в такой же день низложения альфа-самца. Специалисты по поведению животных яростно спорят, уместно ли применять эмоционально окрашенные человеческие термины к поведению животных. Вправду ли у муравьев есть «касты» и «рабы», действительно ли шимпанзе ведут «войны»? Одни считают, что такие термины служат удобными сокращениями, заменяющими долгие описания. Другие видят в поведении животных прямые параллели с человеческим. Еще кто-то полагает, что разница тут принципиальная и утверждение, например, о наличии «рабства» у представителей всех биологических видов, по сути, тонкий намек на то, что это естественное и широко распространенное явление. Я в некоторой степени склоняюсь к мнению последних. Однако поступок Соломона в тот день вполне заслуживает эмоционально окрашенного слова, обычно применяемого для описания человеческой патологии. Соломон догнал Девору, схватил ее под акацией и изнасиловал. Под этим я подразумеваю, что она не проявляла инициативы к спариванию, не была в тот период психологически готова или физиологически фертильна — она убегала что было сил, отбивалась от него и кричала от боли в момент совокупления. И истекала кровью. Так закончилось царство Соломона.
2. Жареная зебра и преступная жизнь
Когда я впервые отправился в Африку пожить в стаде павианов, я располагал широчайшим набором умений и навыков, делавших меня готовым к любым испытаниям нового незнакомого мира. Я умел отлично ориентироваться в нью-йоркском метро и к тому же ровно за неделю до экспедиции получил водительские права. У меня был опыт поездок в несколько штатов средней части Атлантического побережья, а также в Новую Англию. Я много ходил в походы по горам Катскилл[2] в штате Нью-Йорк и однажды даже лежал затаившись, когда мимо моего спального мешка ковылял дикобраз. Как-то раз я даже сумел развести костер, чтобы расплавить сыр на крекерах, которые в остальных походах ел не разогревая. Более того, в ожидании новых вкусовых впечатлений, грозящих мне в экспедиции, я немыслимо расширил свой гастрономический опыт: выйдя за рамки пищевых запретов, наложенных ортодоксальным религиозным воспитанием, в последний год перед поездкой я впервые попробовал кусок пиццы, блюдо китайской кухни и образчик индийской еды (правда, должен признаться, что в последнем случае я съел только рис, сочтя остальное небезопасным для здоровья из-за обилия пряностей). И наконец, дабы покрыть возможный дефицит полезного опыта в еще не охваченных мной сферах, я начитался книг практически по всем темам, какие пришли мне на ум в связи с предстоящей экспедицией. Я был готов доблестно встретить любые испытания.
В аэропорт Найроби я прибыл на рассвете. Отмахнувшись от таксистов, поджидавших туристов, я сел в автобус, идущий в город. Стиснутый в толпе, я едва удерживал при себе битком набитый рюкзак и дорожную сумку и жадно глядел в окно, стараясь ничего не пропустить. Мимо меня проплывали дальние вулканические горы и открытые равнины с торчащими тут и там акациевыми деревьями, на полях работали мужчины, по краям дороги шли женщины, неся на головах корзины с едой. Я с трудом верил своим глазам: все люди — черные! Я в Африке! В самой что ни на есть Африке! Я на время забыл об автобусе и очнулся лишь оттого, что сидящий неподалеку мужчина средних лет упорно предлагал подержать мою сумку. Вернее, посреди толчеи и тряски на ухабах он тянул ее к себе, с загадочной настойчивостью повторяя по-английски: «Руки у меня сильные, белый человек, руки у меня сильные». Я неохотно отдал ему сумку, охваченный благодарностью пополам с недоверием. Когда ему пришла пора выходить, он извинился, что не может держать сумку дольше, передал ее мне, а затем, приподняв себя с помощью рук над автобусным сиденьем, плюхнулся на пол, упершись в него руками и коленями. Уже спускаясь на четвереньках по автобусным ступеням на столичную улицу, он обернулся и еще раз крикнул через плечо: «Руки у меня сильные!» — и радостно засмеялся. Так я увидел первого в своей жизни уличного нищего, изуродованного полиомиелитом.
В Найроби я провел неделю: нужно было оформить допуск и договориться о транспорте до заповедника, где мне предстояло работать. Почти сразу выяснилось, что я говорю не на том варианте суахили. Языку я выучился в нашем университете от танзанийского студента-юриста. В Танзании, где в рамках социалистического эксперимента постепенно искоренялся родоплеменной строй, всех учили богатому, сложному, изящному занзибарскому варианту суахили, который и стал там основным языком. В соседней же Кении преобладал хаотический племенной уклад; каждый с детства знал свой племенной язык, языки ближайших союзных племен и язык вражеского племени, до суахили очередь могла дойти лишь позже. Основная масса людей его худо-бедно знала, но по большей части на нем говорили отвратительно, особенно в Найроби, где утвердился ломаный язык, пестрящий городским жаргоном. Приехать сюда с тем вариантом суахили, какой я знал, было все равно что явиться в многонациональный бандитский Бронкс и заговорить там языком лондонских светских салонов. Я не понимал ни слова из речи местных, они не понимали меня.
Языковые трудности, впрочем, не помешали мне в первый же день получить опыт живого общения. Не успел я опомниться, как гостиничный клерк включил в мой счет несуществующий государственный налог, в ближайшей продуктовой лавке мне продали товар по завышенной цене и университетский студент из Уганды выманил у меня деньги. Он поведал мне, что его семья погибла от рук Иди Амина, а сам он стал беженцем и теперь собирает деньги на то, чтобы вернуться домой и делать революцию. Сидя в тени деревьев у национального музея, мы провели немало времени за обсуждением этой темы — о стремлении принести в родную страну идеалы западной демократии он говорил с большим жаром. Я вручил ему до смешного крупную сумму денег. В последующие годы я регулярно встречал его на территории музея: он все так же отлавливал туристов и выдавал себя за беженца из какой-нибудь африканской страны, политические беспорядки в которой хотя бы вскользь упоминались в западных новостях.
К концу того первого дня я был очень доволен собой. Я узнал об интересном государственном налоге на жилье, дал себе слово внимательнее смотреть на ценники в продуктовых лавках — ведь я, ошибочно рассчитывая на более низкие цены, вынудил беднягу торговца неловко напомнить мне, что я дал недостаточную сумму. И наконец — о радость! — я в меру сил посодействовал установлению двухпартийной системы в Уганде.
Так прошла моя первая неделя в Найроби. Жить в беспокойном городе третьего мира, где нет ни одной знакомой души, где любая еда, любое лицо, любой жест мне совершенно незнакомы и совершенно не похожи на все виденное в прежней жизни, — все это в других условиях стало бы головокружительным опытом, однако сейчас я ни на что не обращал внимания. Причина проста: во мне постоянно жила мысль, что где-то там (я даже не знал толком, где именно) кончаются и прекрасные новые небоскребы, и нищенские задворки, и по-британски безукоризненные колониальные особняки предместий и начинается покрытая кустарником равнина, бушленд. Остальное меня не интересовало: затаив дыхание, я ждал того мига, когда наконец окажусь в вожделенном месте, к встрече с которым готовился почти всю жизнь.
И долгожданный день настал. К тому времени я уже нашел офис организации по охране живой природы, где у меня был некий «контакт» — звучало это очень солидно, а в действительности секретаршу просто предупредили, что из Штатов явится юнец с моим именем, и попросили как-нибудь посодействовать. Я был вне себя от восторга. Уже сам факт, что в каком-то офисе существует бумага с моим именем и фамилией (пусть даже написанными не в том порядке и с чудовищными ошибками), наполнял меня трепетом и заставлял чувствовать себя бывалым покорителем Африки. Мне рассказали, когда и как отправляется самолет в заповедник, и сообщили имя пилота — теперь у меня в Африке было целых два контакта! В заповеднике мне предстояло встретиться с двумя студентами-старшекурсниками и работать с ними несколько месяцев, пока не освоюсь. Секретарша с некоторой долей убедительности пообещала связаться с ними по рации и предупредить, что где-нибудь в обозримом времени меня понадобится забрать с полевого аэродрома.
И вот я сидел в крошечном самолетике, который болтало грозой, бушующей над Восточно-Африканской рифтовой долиной. Низкие тучи закрывали обзор, не давая мне издалека разглядеть новый для меня мир. Из облаков мы вынырнули только в последние секунды перед приземлением; в неожиданно прояснившемся воздухе мелькнули кустистые равнины с зебрами и дикие звери, разбегающиеся с посадочной полосы прямо перед самолетом, и я очутился внутри диорамы.
Всю оставшуюся жизнь мне будет невыносимо больно от мысли, что мне уже никогда не вернуться в те первые недели и не пережить заново первое знакомство с павианами, первый день встреч с поселянами из соседней деревни, первое осознание того, что за каждым кустом и каждым деревом копошатся животные. Каждую ночь, возвращаясь в палатку, я в изнеможении падал, переполненный новыми впечатлениями, больше не в силах так интенсивно впитывать новые краски, звуки и запахи.
Первым и самым действенным уроком для меня стало то, что реальность совершенно не соответствовала ожиданиям. Годами я закалял себя мыслями об опасностях, которые неминуемо ждали меня в буше, и перед поездкой распрощался с близкими так, будто мог не вернуться. Я готовился столкнуться с хищниками, дикими буйволами и ядовитыми змеями, а на деле хуже всего были жуки, постоянно попадавшие в еду.
Из книг я знал о грозных аборигенах и о том, насколько устрашающим и опасным было воинственное племя масаи, знаменитое набегами и грабежами. Я не догадывался, что главной трудностью станут масайские женщины, которые каждый день после полудня будут сидеть вокруг лагеря. Личное пространство и границы дозволенного для них не существовали: они обсуждали каждое мое действие, хихикали, фыркали, с любопытством толпились вокруг, не давая прохода, и постоянно пытались растащить на сувениры мои вещи.
До поездки я смирился с мыслью, что мне могут грозить страшные тропические болезни, и был готов геройски вынести малярию, бильгарциоз или шистосомоз. Вместо этого проблемы со здоровьем вскоре приняли форму легкой, но постоянной диареи, длившейся круглый год, а вдобавок по ночам я нередко лежал часами без сна, расчесывая зудящие участки между пальцами ног, зараставшими грибком.
Кроме того, до поездки я обдумывал психологические проблемы, которые мне наверняка придется испытать вдали от привычной среды, — ведь я не знал никого в целой Африке, работа и быт предполагали одиночество и полную изоляцию от внешнего мира, за исключением разве что почты раз в несколько недель. Я прекрасно изучил феномен добровольцев миротворческих сил: большинство из них скатывались в депрессию примерно к десятому месяцу первого года — друзьям наскучивало писать письма, наступал сезон дождей, и тогда одиночество и чуждая обстановка становились почти невыносимы. Я был к этому готов. Однако я не думал, что в первый же месяц начну подозревать, что от одиночества у меня едет крыша.
А все из-за слонов. Знаете ли вы, что у слоних есть груди? Нет, не то, что вы представили, это не ряды мелких сосков и лежащая на боку мать-слониха, к которой по-поросячьи припадает сразу десяток слонят с не прорезавшимися еще глазками. А настоящие груди — два огромных, пышных, роскошных холма, разделенных ложбинкой. Бьюсь об заклад, что вы этого не знали. Как и я. В школе почему-то такому не учат. И вот в первый же месяц брожу я по зарослям, вооруженный биноклем, секундомером и блокнотом, целыми днями наблюдаю павианов, спаривающихся направо и налево. А тут вдруг мимо проходит толпа толстокожих, и у кого-то из слонов я вижу эти… в общем, груди. Разумеется, первая мысль: «Ну да, конечно, вот такой я жалкий похотливый юнец, сломался на первом же месяце одинокой жизни, мне у слонов мерещатся груди размером с "фольксваген"». Это ведь ужасно — получить нервный срыв прямо тут же, да еще в форме юношеской эротической обсессии, в сотню раз более стыдной, чем тяга к разглядыванию обнаженных тел в National Geographic. Позже я с великим облегчением узнал, что у слоних действительно есть груди и что увиденное мной не было плодом извращенной фантазии на тему учебника зоологии.
Вскоре после этого откровения об анатомии слонов я получил еще одно, куда более важное. Предыдущие студенты уже уехали, я остался в лагере наедине с красивейшими горами, возвышающимися над равниной, где жили павианы. День клонился к вечеру, я закончил дела и был весьма доволен собой: наконец-то мне стало удаваться различать павианов хоть с какой-то долей уверенности. Утром того дня агрессивный Навуходоносор, которого я уже недолюбливал, затеял драку против объединенных сил стареющего Аарона и молодого Иисуса Навина. Дрались упорно и без передышек, перевес получала то одна, то другая сторона, бурная грызня и рычание сменялись стремительными погонями через поле и заросли. Спустя несколько минут Иисус Навин и Аарон с минимальным перевесом одержали верх, я умудрился ничего не упустить и записать все в блокнот. Наблюдение и документирование начали казаться уже почти знакомым делом.
Я расслабленно сидел у палатки, лениво поглядывая на стайку импал, живущих в зарослях неподалеку, как вдруг из-за горного хребта вынырнул лендровер местных егерей-смотрителей и по грунтовой дороге направился прямо в лагерь. Я проходил мимо их ворот каждый день и всегда останавливался поболтать. Это было первое в моей жизни сообщество людей, давшее мне чисто африканский опыт общения — четверть часа обмениваться одними приветствиями и вежливостями. Как дела? Как спал? Как работа сегодня? Как думаешь, не похолодает к вечеру? А как там коровье стадо родителей мужа твоей сестры? И так далее.
Машина подъехала. На переднем сиденье теснились три егеря, сзади лежало что-то большое. Визитеры открыли задние двери — и моим глазам предстала туша зебры.
Главный егерь подошел ко мне с обычными приветствиями, еще один взял мачете и занялся тушей. «Это же мертвая зебра?» — выпалил я, не дослушав вопросов о здоровье моих родителей. — «Ага, кто же еще». — «Откуда вы ее взяли?» — «Застрелили». — «Застрелили?!..»
Охота в Кении запрещена, никаких исключений, Кения этим фактом страшно гордится, использует его для саморекламы и привлечения туристов в местные заповедники: в соседних странах такого запрета нет, а здесь это свидетельство заботы о защите дикой природы и сохранении ее в первозданном виде. Так почему же люди, поставленные хранить заповедник, убивают заповедных зверей?
Пока мы говорили, подошел второй из компании и кинул мне образчик своего искусства обращения с мачете — заднюю ногу зебры. Огромную, мускулистую, с прилипшими к копыту травинками. «Зебра была больная?» — спросил я в надежде: вдруг ее убили из чистой жалости, чтобы не мучилась. «Нет, конечно, — слегка высокомерно бросил егерь. — Стали бы мы предлагать мясо больного животного! Крупный был, здоровый самец».
Они уже садились в машину, наверняка раздосадованные тем, что я не выражал бурных благодарностей по поводу подарка. Уже под звуки заводящегося двигателя я выдавил: «А разве по закону можно стрелять зебр?» Главный взглянул невозмутимо. «Нам не платят несколько недель, управляющий забирает деньги себе. Надо же нам где-то брать мясо».
Я остался сидеть с куском туши в руках, весь во внутренних метаниях, совершенно не зная, что делать. Причин тому хватало. В тринадцать лет я по сумасбродной прихоти сделался вегетарианцем — отчасти для проверки силы воли, отчасти из желания позлить родителей. Оба мотива сработали великолепно, год от года я все строже следовал своему выбору и подкреплял его разумными доводами о страданиях животных, экологическом мышлении и здоровом образе жизни. Я заранее решил, что в Африке буду питаться всем, чем потребуется, ведь еда — тоже часть нового опыта, однако за первые несколько месяцев не съел ни куска настоящего мяса. Теперь же мне предстояло вернуться к мясоедению.
Другая трудность была чисто практической. Я понятия не имел, как это готовить. В последний раз я ел мясо еще до окончания школы — то ли сэндвич с копченой говядиной из магазина деликатесов, то ли матушкины мясные голубцы. В колледже я несколько лет провел в общежитии, питаясь жутким лиловым йогуртом — подачкой для вегетарианцев; на каникулах же, если оставался в общежитии, все попытки самостоятельно приготовить еду сводились к тому, чтобы выбраться в ближайший супермаркет за лиловым йогуртом. В заповеднике я жил на рисе, бобах и капусте, временами даже умудряясь сделать их более-менее съедобными. Что делать с ногой зебры — я не представлял даже отдаленно.
А мучительнее всего была моральная дилемма. Егери убили зебру просто потому, что им было нужно мясо. Они — браконьеры, и я тут сижу с частью их добычи. Донести на них главному управляющему? Но ведь он присваивает их жалованье. А кому доносить на управляющего? Мне что — идти разбираться сразу со всеми, увещевать их и говорить, что так делать нехорошо? А кто я такой, чтобы их судить? У меня еще молоко на губах не обсохло. А егеря привезли мне подарок. Но они убили зебру. А почему зебра должна быть ценнее тех коров, которых позволено убивать? Съесть подаренное мясо — безнравственно. А выбросить его в кусты — разве менее безнравственно?
Так я и сидел, не в силах двинуться, нравственные муки отчетливо разрастались до объема курсовой работы. Вдруг я заметил, что открытый срез мяса за это время облепили мухи. Не знаю, как так вышло, но в следующий миг я уже аккуратно снимал с подаренной ноги шкуру, орудуя складным швейцарским ножиком. Срезав с костей куски мяса, я покромсал их на мелкие кубики, кровь и ошметки летели во все стороны — в ту ночь гиенам предстояло вовсю пировать у самых стен моей палатки. А пока я принялся жарить мясо, оставив его на огне на долгие часы, пока оно не превратилось в тугие комки, похожие на ременную кожу и совершенно безвкусные: они ничуть не напоминали о зебре, которая еще утром скакала по саванне.
Есть эти комки — точнее, жевать их — было невозможно. Только начав, я настолько углубился в процесс, что до меня дошел истинный смысл школьного определения «пережевывания» у приматов: резцами откусываешь и отдираешь куски, а потом широкими коренными зубами усиленно перемалываешь несъедобную массу.
Пока я сидел и пережевывал первые несколько кусков нелегального мяса, которое станет моей пищей на ближайшие дни, на меня вдруг снизошло озарение. Я даже прекратил жевать и застыл с открытым ртом — частью из-за усталости от приматского пережевывания пищи, частью из-за внезапной масштабности открытия. В мозгу пронеслось: «Тот студент из Уганды… в музее… которому я дал кучу денег… он ведь не был угандийским студентом!» У меня словно пелена упала с глаз. До меня дошло, что и гостиничный клерк с его несуществующим правительственным налогом взял с меня лишние деньги, и продавец в продуктовой лавке, куда я ежедневно заглядывал, каждый раз меня грабил. В мгновение ока все вдруг стало ужасающе ясным, в мозгу билась мысль: «Что за страна, неужели здесь все мошенники?» Коль скоро не нашлось змея, который протянул бы мне яблоко с древа познания, я получил от егерей жареную зебру с древа житейской мудрости.
Я провел отвратительную ночь без сна — из-за моральных терзаний вкупе с одуряюще едкой изжогой от обугленных кусков зебры. На следующий день свершился переворот: я впервые солгал в Эдемском саду. В тот день я, как обычно, проезжал мимо администрации заповедника. Я почему-то взял за правило подвозить одного конкретного егеря, делая при этом изрядный крюк: доставлял его к деревне у дальней границы заповедника, он шел к жителям, после некоторого количества неясных выкриков молча возвращался, и я вез его обратно в административную часть. Со мной он держался довольно грубо и агрессивно, и все те несколько недель, пока я служил ему личным извозчиком, я время от времени напоминал себе, что нужно относиться к людям с пониманием, что грубость наверняка свойственна всем, кто живет в буше, что он не привык иметь дело с представителями другой культуры. Однако в ту бессонную ночь до меня дошло, что он просто-напросто мерзавец, который меня нагло использует, и что в деревне он наверняка трясет деньги с жителей, а я при этом радостно его сопровождаю. В то утро он, как обычно, сделал мне знак винтовкой и велел немедленно отвезти его в деревню — и тут я вдохнул поглубже и солгал. В тщательно отрепетированной ночью небрежной манере я бросил: «У меня срочное дело, сейчас вернусь» — и на полной скорости кружной тропой рванул в свой лагерь на горе, где просидел остаток утра в ослепительном осознании своего триумфа, выковыривая из зубов остатки зебры.
Обратного пути не было. Нет, не то чтобы я назавтра пошел грабить банки под чужой личиной, у меня даже обычный стиль поведения не слишком изменился. Просто ко мне начало приходить понимание, что здесь все устроено не так, как я привык. И я не мог взять в толк почему. Люди здесь обычно много дружелюбнее, чем в Америке, и даже самые небогатые щедро делятся с тобой тем немногим, что у них есть. Но при этом вся система завязана на умении ловчить. Обладатели формы и оружия держат в повиновении тех, у кого их нет. Владельцы магазинов обсчитывают тех, кто не видит цену или не умеет считать. На работу берут только представителей конкретного племени или тех, кто согласен отстегивать боссу часть зарплаты. Медики разворовывают деньги, предназначенные на вакцины, чиновники по выплате пособий присваивают продовольственные субсидии, невероятное количество зданий и дорог стоят недостроенными из-за того, что подрядчик исчез вместе с деньгами. Как я вскоре выяснил, не гнушались этим и белые. Приехав в Найроби за припасами в следующий раз, я остановился в гостевом доме г-жи Р. — пожилой переселенки из Польши. Дом кишел белыми автостопщиками и мигрантами, каждый похвалялся — кто контрабандой, кто взятками на границе, то и дело слышались советы, как толкнуть на черном рынке нелегальную валюту и где взять фальшивую визу. Тогда же я впервые стал свидетелем полицейских поборов: в городском автобусе, остановленном для проверки документов, полицейские методично продвигались по проходу, собирая деньги с пассажиров, и лишь в конце, заметив меня, ошеломленно взиравшего на все действо, они резко свернулись и разрешили нам ехать дальше. Через несколько дней мне довелось увидеть сцену, типичную для африканского или индийского города: толпа поймала вора и в порыве ликующей ярости избила его до бесчувствия.
Отчего в мире весьма добропорядочных людей процветают мошенничество, аферы, обман и вымогательство? Объяснений находилось немало. Отчаянная бедность, толкающая на отчаянные поступки. Примитивная племенная вражда, делящая мир на «наших» и «чужих» по критериям, которые я не мог нащупать даже отдаленно. Менталитет Дикого Запада, обывательская скука мелких городишек, бесконтрольный эгоистический капитализм без малейшего намека на законы и ограничения. Возможно, то же самое творилось и в моем собственном мире за пределами башни из слоновой кости, вне которой я ничего не знал. Возможно, то же творилось и в самой башне — просто мне не случилось прозреть, пока я в ней жил. Однако здесь, в мире вольно пасущихся животных, который я поначалу воспринимал как музейную диораму, меня такое открытие ошеломило. И отлично подготовило к тому скользкому пути, на который мне пришлось ступить несколькими месяцами позже.
Вышло так, что преподаватель, отправивший меня в Африку, забыл о моем существовании. Шел четвертый или пятый месяц моей командировки. Я приехал в Найроби, потратив на это изрядные средства, и позвонил ему в Штаты вежливо напомнить, что пора перечислить мне деньги. Ах да, виноват, забыл, деньги перечислю на неделе. Я вернулся в заповедник и впрягся обратно в работу. Неделя шла за неделей, деньги не приходили. Вновь поездка в Найроби, чуть более отчаянный звонок — ах да, черт, совсем вылетело из головы, отправлю деньги на днях. Вскоре я уже был совершенно на мели и не мог никуда двинуться из Найроби. Звонить в Штаты не хватало денег, а услуги «звонок за счет принимающего абонента» тогда в Африке не существовало. Просить денег у родителей я не стал бы ни за что на свете: моя независимость была мне дороже всего, и даже при стремительно тающем бюджете я специально отложил деньги на дежурные жизнерадостные открытки, которые слал домой каждую неделю. Посольство США мало заботилось об американцах в Найроби, если они не богатые бизнесмены. Зажиточных знакомых у меня в Кении не было. Собственно, знакомых в Кении у меня не было вовсе. От отчаяния я пустился в криминал и, как оказалось, успешно.
Первая афера, которую я задумал, была на удивление простой. В бывшей британской колонии, куда белые люди толпами едут в туры и отпуска, ни один кениец не поверит, будто белый может своровать обед, булочку или двадцать шиллингов. Не то чтобы белые считали кражу ниже своего достоинства — просто исторически они обычно присваивают себе куда более крупные объекты (например, землю твоих предков, твою страну).
Вначале нужно было разжиться деньгами. При въезде в Кению я случайно не задекларировал 50 долларов 10-долларовыми купюрами. Они лежали в рюкзаке, отдельно от запаса дорожных чеков, и я забыл включить их в таможенную декларацию. В следующие разы при въезде в страну я уже намеренно буду пускаться на хитрости, чтобы провезти незадекларированные доллары для возможного обмена на черном рынке, на всякий экстренный случай, а в тот первый приезд я действительно о них забыл. Обнаружив такую оплошность, я даже наведался в правительственный банк, чтобы заполнить нужные юридические документы и оформить валюту. Служащий не знал, что со мной делать. Вначале он без особого энтузиазма попытался деньги украсть, то есть предложил взять их на некое хранение, однако, поскольку я продолжал требовать с него несуществующий бланк для посттаможенного декларирования иностранной валюты, то он без дальнейших церемоний отправил меня восвояси.
Итак, я располагал незадекларированными наличными, которые решил мелкими порциями пустить на черный рынок. От мигрантов в гостевом доме я мало-помалу узнал, что обычно валюту сбывают осторожным, болезненно подозрительным индийским коммерсантам отвратительного вида — владельцам магазинов электроники в центральной части города, представителям индийского среднего класса в Восточной Африке. Они считались надежными дельцами, которые дают, скажем, по 10 шиллингов за доллар при официальном банковском курсе 7 шиллингов. Вместо этого я закидывал на спину рюкзак и шел прогуливаться по центру Найроби, глазея на местных как новичок. Ко мне мгновенно подкатывали уличные деляги и предлагали обменять доллары по невиданной цене: «Доллары меняем, доллары, 25 шиллингов за доллар». Я уже знал, что это обыкновенные воры, которые заводят жертву в проулок и в лучшем случае поднимают панический крик о полиции, которая якобы на подходе и сейчас всех повяжет, спасайся, беги, — и в суматохе ты остаешься без денег. Менее разборчивые ребята, заведя тебя в проулок, просто дают по голове и чистят карманы.
Однако на этот раз, вместо того чтобы послать мошенников подальше, я восклицаю: «О, как удачно, я только что приехал и мечтаю поменять деньги, 25 шиллингов, отличный курс, какая встреча». Говорю ему, что с собой у меня только 10 американских долларов, а в гостинице, где я остановился (тут назвать отель подороже), у меня 500 баксов для обмена. Давайте, вы сейчас обменяете мне 10 долларов, а я потом принесу 500?
«Ик», — говорит мошенник. Даже среди жуликов попадаются образованные, и он начинает считать в уме: если сейчас отдать 250 шиллингов за 10 долларов, то этот сопляк притащит еще 500, и вот тогда-то я и дам ему по голове. Деньги переходят из рук в руки, стороны клянутся в дружбе и верности, назначается следующая встреча. Главное теперь — обходить эту улицу стороной, а со следующей 10-долларовой купюрой идти на какую-нибудь другую.
Так мне удалось продержаться на плаву еще немного. Однако и эти деньги когда-то кончились. Я продал фотоаппарат и пленку за отчаянную цену. День за днем питался одним крахмалом, от голода кружилась голова, я плохо соображал. Из гостевого дома пришлось уйти, теперь я спал в городском парке и воровал туалетную бумагу в дорогой гостинице. Четырьмя годами раньше, еще первокурсником, однажды я предпринял дальнюю поездку ради малознакомой особы в надежде, что она позволит чмокнуть ее в щечку. Теперь я двое суток ехал автостопом к почти незнакомому исследователю в надежде, что тот меня хоть чем-нибудь накормит.
Спустя некоторое время я разработал еще одну аферу. Идешь на городской рынок, в лабиринт овощных прилавков. Продавцы громко предлагают купить у них капусту. Подходишь ближе — предлагают марихуану (если видят в тебе потенциального покупателя). Мне говорили, что некоторые ее и впрямь продают, а не просто забирают у тебя деньги или доносят на тебя в полицию, которая потом тебя шантажирует.
Становишься в очередь за овощами, на которые у тебя нет денег. Пронырливый торговец спрашивает, не нужна ли травка. О да, еще бы, как же без травки, почем продаете? Тебе называют смешную цену, ты соглашаешься и вслух превозносишь выгодность сделки. Обещаешь вернуться с деньгами, продавец навязывает тебе, дорогому другу, сколько-то овощей бесплатно. Прилавок, разумеется, ты потом обходишь десятой дорогой. Главное — начать с самого дальнего прилавка и каждый день сдвигаться чуть ближе к входу, чтобы не наткнуться на разочарованных дорогих друзей, которые теперь наверняка хотят перерезать тебе горло.
В конце концов, после нескольких дней без еды я решил банально красть. Войти в приличную гостиницу, сесть за столик в столовой, уверенно держаться колонизатором в завоеванной стране, а на вопрос, в каком номере живешь и куда подать счет, назвать произвольную цифру. Я был уверен, что ни один официант-кениец не посмеет заявить, что я лгу. Я нацелился на гостиницу Ассоциации молодых христиан (YMCA) и думал выдать себя за молодого христианина, уже оплатившего номер. И в тот самый день, когда я собрался привести в действие этот план, пришли деньги от преподавателя: он наконец вспомнил о моем существовании. В том бессильном голодном полубреду YMCA мне показалась как-то причастной к моему спасению, и я об этом не забыл. Годом позже, в самый разгар войны за свержение режима Иди Амина в Уганде, я ночевал в разбомбленной, оставшейся без крыши гостинице YMCA в мелком угандийском городке и оставил владельцу огромную, как ему показалось, сумму на восстановление крыши — во искупление моей преступной жизни.
3. Отмщение либералов
Я ангел смерти. Я сеятель ужаса, я казни египетские, я мор и чума, я тать в ночи, я шевалье де Тень, я воплощенная погибель. Я призрак с кошачьими глазами, затаившийся в шкафу у кровати ребенка в ожидании полуночи, я коварный, вкрадчивый, беззвучный, стремительный ужас павианов, я сборщик дани на службе у Вельзевула. Очередной павиан благополучно усыплен моим дротиком. Счастье. Сегодня я попал-таки в Десну, которого давно хотел заполучить. Хитрец знал наперечет все мои уловки — месяц шел за месяцем, а он все не давался в руки. Я уже почти не надеялся добыть от него кровь на анализ, как вдруг сегодня он сплоховал. Окружил себя самками и решил, будто я не подберусь: самки отгородят меня от цели, а в толпу стрелять я не стану. Не тут-то было! Все отвлеклись, он не рассчитал расстояния между близко растущими деревьями — и вот анестезирущий дротик летит из духовой трубки прямо ему в зад. Через четыре минуты павиан уже без сознания. Пьянящий запах победы, мощь чресел, первобытная наука. Я едва удерживался, чтобы не вгрызться клыками в его мягкое подбрюшье.
Шприц-дротики. Как я уже упоминал, в стадо я пришел главным образом, чтобы выяснить, как социальное поведение павианов, их социальный статус и эмоции соотносятся с их болезнями, особенно стрессогенными. Почему у одного павиана организм или психика восприимчивы к таким болезням больше, чем у другого? И вот ты носишься за павианами как сумасшедший и записываешь всю их мыльную оперу в блокнот, а потом запускаешь в кого-нибудь шприц-дротик с анестетиком из духовой трубки и снимаешь показатели состояния организма. В теории все очень просто: приблизиться к павиану, к которому в ходе наблюдения обычно подходишь десяток раз на дню, только в этот раз прогулочная трость оказывается духовой трубкой, и ты вгоняешь в павиана дротик. Сложность в том, что стрелять в каждого из них надо в одно и то же время суток, чтобы учитывать ежедневные колебания количества гормонов в крови. А если павиан в тот или иной день болен, ранен, с кем-то дрался или совокуплялся, то стрелять в него незачем: все перечисленное сбивает гормональный баланс. А главная сложность в том, что нельзя стрелять в павиана, когда он это видит. Если необходимо узнать уровень стрессовых гормонов в крови при отсутствии стресса, в нормальном состоянии отдыха, то надо застать павиана спокойным и ничего не подозревающим. К нему надо подкрадываться. Без свидетелей. Такая вот у меня работа — стрелять павианам в спину. А потом быстро-быстро брать кровь на первый анализ, пока стандартные показатели еще не сбиты стрессом, полученным от выстрела.
На самом деле работа в итоге сводится к тому, чтобы научиться вести себя с павианами обыденно, тогда они перестают тебя замечать и забывают о твоем существовании. А это не так просто даже для обладателя университетского диплома.
Просыпаешься в пять утра, натянутый как струна, собираешься в темноте. Анестетик, дротики, духовая трубка, шприцы, вакутейнеры, центрифуга, емкости с жидким азотом, иглы, флаконы, мешковина, чтобы прикрыть животное, быстрый лед, клетки, весы, медикаменты на случай травмы, автомобильный инвертор (чтобы приборы могли работать от двигателя джипа), пипетки, предметные стекла, пробирки и еще тысяча мелочей. К половине шестого обнаруживаешь павианов, спускающихся со скал или деревьев, на которых они спали. Выбираешь одного, начинаешь за ним следить и прикидывать: куда он помчится после укола? На скалы? Если да, то как его оттуда забрать, чтобы не рухнул вниз, когда отключится? А вдруг он на кого-нибудь нападет или нападут на него самого: кто-то, кто на него зол и вздумает порвать ему глотку, пока тот еле стоит на ногах и едва соображает? А вдруг подстреленный нападет на тебя же? Откуда сильнее ток воздуха, какую делать поправку на ветер? Черт, нельзя стрелять, какой-то юнец пялится прямо на тебя, надо зайти с другой стороны, или уже не смотрит, и никто другой не смотрит, можно стрелять, отлично-отлично, сейчас все получится, приготовились, желудок свело от напряжения, дыхание сбито так, что стрелять нельзя — ты либо втянешь в себя дротик на вдохе, либо он не пролетит и двух шагов из-за слишком слабого выдоха. Черт, черт, он опять сдвинулся, передислоцируемся, следим за дыханием, теперь он смотрит прямо на тебя, веди себя непринужденно, да только где взять непринужденность, когда на тебя уставился павиан? Вот сейчас он стоит идеально, но немного боком, засечет боковым зрением. Сжаться и ждать в напряжении, не шевельнуться, сейчас сведет все мышцы, идиотский жук кусает в лодыжку, а двигаться нельзя, держимся стойко-стойко-стойко, пока не обнаружим, что хочется заорать, ринуться на павиана и завалить его вручную. Чудесно, где-то драка, не может же павиан пропустить такое зрелище: он отворачивается, тянет шею посмотреть в другую сторону, вот четкий пухлый зад, бац! — и дротик вонзается в тело, павиан готов.
Паника, тяжелое дыхание, учащенное сердцебиение. У тебя, не у него. Он ковыляет прочь, думая, будто его всего лишь ужалила пчела. Вперед за ним, только не гнаться, но и не упустить из виду в зарослях. Одна минута, вторая — целая вечность; через три минуты его пошатывает, он слегка спотыкается, решает сесть и отдышаться. Лекарство уже действует: деревья акации для него наверняка подергиваются пурпурной дымкой и начинают вращаться, а зебры отплясывают нечто вроде танца из «Короля Льва». Он еще больше теряет ориентацию, все идет по плану, отличный выстрел, и вдруг откуда-то вылезает негодяй, решивший напасть на ослабленного соперника. Отгоняем наглеца как раз вовремя: бамс — и наш герой отрубается. Подбежать, накинуть мешок, скрытно и спешно взять образец крови — и вот он, всплеск адреналина, андрогенный триумф: ты попал выстрелом в дикого павиана! Выследил в зарослях и уложил! Отличный способ укрепить непрочное мужское самосознание, а главное — это ведь не осуждаемые занятия вроде охоты, ты действуешь во имя науки и сохранения природы! Стрелять по невинным блаженным павианам и при этом быть либералом. О блаженство!
Спешка и напряжение схлынули, павиана нужно забрать прочь. Джип в полукилометре отсюда, за хребтом, животное нужно унести скрытно: если в стаде заметят, то рассвирепеют и порвут тебя в клочки. Ты тащишь тридцать килограммов павиана, обернутого мешковиной, пробираешься сквозь самую гущу стада буквально на цыпочках; руки болят, ты изо всех сил стараешься не бежать, не хихикать и не рухнуть от нагрузки. Павиан похрапывает, ты пытаешься его унять. Переваливаешь через хребет, бредешь к джипу — сейчас точно сдохнешь, но цель близка. Начинаешь планировать остаток дня — сколько есть времени на последующие пробы крови, какие еще анализы надо сделать, через какое время павиан очнется и сможет нормально добраться до стада, кого из семерых павианов ты безупречно поразишь дротиком завтра. Усыпленный павиан все это время болтается у тебя на плече как мешок картошки, и вдруг он громко рыгает. «Как очаровательно с его стороны», — думаешь ты, слегка теряешь бдительность, и через десять секунд его рвет, густой лавообразный поток течет тебе на спину.
Вот так и происходит усыпление павианов дротиками. Обожаю этим заниматься. Я научился стрелять по павианам в общежитии на Манхэттене, когда впервые вернулся в Штаты после знакомства со стадом. Во мне бурлили идеи новых исследований; главной сложностью оставалось то, что подбираться к павианам для выстрела нужно пешком — и вообще работать на ногах так, чтобы при этом тебя не затоптал случайный буйвол. На соседней горе жил Лоуренс — исследователь из Беркли, изучавший гиен. Этот Лоуренс Гиенский где-то отхватил себе старые армейские инфракрасные очки ночного видения, в которых темной ночью разъезжал на машине и наблюдал за гиенами, не снимая с головы десятикилограммовый агрегат. Я счел, что мне тоже совершенно необходимо высокотехнологичное оборудование, и решил добыть у военных реактивный ранец, как у Флэша Гордона. Я знал, что они существуют и если привезти такой в Серенгети, то можно ничего не бояться. Вот идет на меня буйвол — а я усвистываю в воздух, и местное племя масаи почитает меня за божество. Я позвонил в Пентагон, меня поперекидывали из одного исследовательского отдела в другой, наконец какой-то полковник сказал, что идея потрясающая. Он подтвердил, что реактивные ранцы существуют, взялся навести справки, великодушно обещал перезвонить. Через неделю он сообщил мне неутешительную новость: к его большому сожалению, мне придется целить выше, чем вооруженные силы США, поскольку единственная в мире рабочая модель находится у компании Disney. Я туда позвонил; мне объяснили (совсем не так уважительно, как полковник), что реактивные ранцы весят 40 кг, в течение минуты разогреваются, требуют ношения асбестовых штанов и не выдаются каким-то там зоологам. От идеи пришлось отказаться, а в буше оставалось держать ухо востро и не попадаться под ноги буйволам.
Следующей задачей было выяснить, как стрелять в павианов анестетиком. Дальнобойные газовые винтовки для анестезии стоили целое состояние и по большей части стреляли слишком громко, при этом к ним требовались сменные цилиндры, а движущиеся части в полевых условиях неминуемо засорялись бы. Я присмотрелся к тазерам — пистолетам, которые выстреливают в жертву электрод на тонком проводе. Берешь противника, нажимаешь кнопку, его тело простреливается бешеным количеством вольт, и он обмякает, словно пучок вареного шпината. Замечательно, только полиция уже столкнулась с тем, что разряд тазера может привести к остановке сердца. Я придумывал способы подбрасывать павианам мясо, пропитанное анестетиком, делать усыпляющие ловушки, распылять над стадом специальный газ, затуманивающий сознание, и так далее. В итоге я наткнулся на небольшую фирму из южных штатов, которая торговала анестезирующими духовыми трубками для подразделений по отлову собак. На фотографиях в их брошюре красовалось начальство — «свои парни», жующие табак, в кепках фирмы John Deere. Они продавали духовые трубки, стреляющие шприцем на 1 мл с контактным взрывателем, — именно то, что нужно. Когда пришла посылка, я подпрыгивал от предвкушения, как во втором классе, когда книжный клуб присылал бандероли с книгами, пахнущие типографской краской. Духовое ружье оказалось узкой трубкой повышенной прочности с маленькими шприцами в виде дротиков, каждый с внушительной иглой и какой-то взрывчаткой, в которой я ничего не понимал. Я поставил коробку стирального порошка к дальней стене комнаты, зарядил трубку, выстрелил — и порошок разлетелся по книжной полке, засыпав ее целиком.
Тренировался я без устали. Стрелять под углом, стрелять вниз, вверх, с разворота, через плечо, при ветре (с вентилятором). Аллан — невозмутимый парень с низким центром тяжести, футбольный нападающий школьной команды в канзасской Фредонии — согласился послужить тренировочной моделью в роли пораженного дротиком павиана, чтобы я попрактиковался с ним в борьбе. Дело происходило в подвале общежития, рядом с клубом адептов генного клонирования.
Время шло, я совершенствовал навыки. Я мог попасть в павиана в любом углу своей комнаты — хоть в пижаме Граучо Маркса, хоть без[3]. Во время тренировок я лелеял две мечты. Во-первых, мечтал попасть дротиком во Фрица Липманна. Этот фантастически знаменитый биохимик, получивший Нобелевскую премию десятилетия назад, теперь был величественным восьмидесятилетним старцем и целыми днями фланировал по кампусу в кроссовках, то и дело мелькая в моем окне на первом этаже. Притаиться за учебниками биохимии (половина которых о нем же и повествовала), выбрать точку поражения — зад или плечо, прикинуть вес тела и подсчитать нужную дозу. Впрочем, стрелять по нему я в итоге раздумал. А второй мечтой было проскользнуть в центральный парк и поразить дротиком нескольких случайных прохожих. Пока они лежат — нарисовать им на животе какой-нибудь иероглиф индейцев майя и затем оставить их приходить в себя под скульптурой Алисы в Стране чудес. Я не сомневался, что после пары-тройки таких случаев газеты поднимут шум, ТВ-лекторы возьмутся рассказывать о майянских ритуалах с жертвоприношениями, Джимми Бреслин в очередном журналистском расследовании будет умолять меня сдаться в руки властей, озлобленные толпы станут стекаться к полицейским участкам, где безработные археологи с ученой степенью будут выдвигать шаткие алиби, пытаясь доказать, что Майянский Стрелок — это не они.
Пролетели месяцы, и настала пора возвращаться к полевой работе. Перед первой дротиковой «охотой» я не спал ночь, ворочался и страшно волновался. К рассвету меня подташнивало, я был на грани обморока — отличный предлог для отсиживания в лагере. В конце концов я все-таки вышел. В считаные минуты я набрел на душку Исаака, который разглядывал проходящих жирафов, подавил в себе желание спугнуть его криком — и выстрелил. Он отключился. Другие павианы ничего не заметили. От восторга я поцеловал его в лоб, а потом целый день, не в силах отделаться от чувства вины, не находил себе места и вскидывался каждый раз, случись ему застонать, пошевелиться или выпустить газы: сердечный приступ, аллергия, скопление газов из-за анестетика? В итоге все обошлось, мы оба перенесли этот опыт без вреда для здоровья.
Я поражал дротиком все больше павианов, думал как павианы, дышал как павианы и вскоре по уши окунулся в анализы крови, образцы фекалий, слепки зубов и прочие прелести. Однако, как я и ожидал, заниматься этим становилось все сложнее. Выстрелить в павиана — дело, как выяснилось, незатейливое: нацеливаешься павиану в зад и пускаешь дротик. А вот сделать это незаметно — куда сложнее. Павианы не сдавались и изобретали все новые хитрости. Я уже не мог просто подойти и пульнуть — приходилось подкрадываться: ведь павианы не должны меня видеть и испытывать стресс перед выстрелом. А они уже научились отличать духовую трубку от прогулочной трости, знали разницу между вдохом для чихания и вдохом для выстрела и в последнем случае давали деру. Приходилось стрелять из-за кустов. Тогда они шли по моим же следам, мы кружили вокруг дерева, жертва на шаг впереди. Они вычислили, на какое расстояние летит дротик, и уже знали, что при ветре дистанция меньше. Наверняка они чувствовали, когда я простужен и не могу глубоко вдохнуть. Уму непостижимо.
Работа все больше осложнялась. Я стрелял из машины — павианы начинали ее опознавать, я брал другую. Потом сажал за руль кого-то из приятелей, а сам прятался на заднем сиденье. Обманные двойники, дополнительные машины. Непроницаемо-черные очки, как у техасских шерифов, чтобы павианы не видели, куда направлен мой взгляд, и считали, что я смотрю вбок. Лыжные маски, карнавальная маска с Хэллоуина, в которой едва можно было стрелять. Сложные многоходовые операции, попытки прятаться за машинами приезжих туристов, многочасовые засады в надежде на то, что стадо пройдет здесь еще до темноты. В один памятный день я подобрался к Иисусу Навину, который сидел на вершине пригорка позади рощи. Как только я подогнал джип к ближнему краю рощи, павиан ушел в дальнюю часть. Я перегнал джип к дальней стороне — павиан переместился к ближней. Так продолжалось некоторое время. В конце концов меня осенило: я загнал джип к дальнему краю, павиан переместился вперед, я поставил джип на нейтральную передачу, незаметно выскочил и подтолкнул машину вперед. Джип поехал вперед и вниз по склону, Иисус Навин пришел прямиком ко мне, в подготовленную ловушку. И вот: пораженный дротиком павиан — и поцарапанный капот джипа, врезавшегося в дерево.
При такой жизни вдруг в какой-то момент обнаруживаешь, что ты, хомо сапиенс с приличным образованием и разносторонними интересами, день и ночь только и мечешься в лихорадочных думах о том, каким образом перехитрить этих тварей, как мыслить «по-павианьи», как соображать лучше их. По большей части тщетно. Мозг без устали изобретает все новые способы — дельтаплан, воздушный шар, манекены, спрятаться в детской коляске и пусть ее кто-нибудь катит по лесу… Впрочем, в эти непростые времена мне все же было чем гордиться: один из наиболее ценимых мной пунктов тогдашнего моего профессионализма состоял в том, что у меня не было случайных невинных жертв — я ни разу не усыпил не того павиана. Так что я на совесть отрабатывал деньги по своему контракту.
Как ни странно, меня стали нанимать на такую работу: приезжать на чью-то исследовательскую площадку и сотрудничать с учеными, пуская дротики в павианов. Конвейерная стрельба дротиками — тут не расслабишься. Вместо того чтобы лениво бродить среди павианов весь сезон, время от времени в кого-нибудь постреливая и просто собирая поведенческие данные, ты оказываешься на новом месте, не зная ни территории, ни ее обитателей, и тебе нужно усыпить дюжину за неделю. Получается большой комплексный проект с участием разных команд исследователей. Однажды мы отслеживали путь павианов от скал, где они спали, к равнине, куда они ежедневно уходили на поиски пропитания: часть команды, которую я обучил стрелять, вместе со мной шла за павианами по равнине, а наблюдатели со скал сигналили нам флажками, показывая, в какие участки зарослей ушли животные, пораженные дротиками. Портативные рации, семафорные коды — все удовольствия.
Так я шлифовал навыки, составляющие дело моей жизни. И именно в это время у меня случилось самое жуткое за всю жизнь усыпление.
Я идеально попал дротиком в Урию — незадолго до того, как он надумал подкапываться под Соломона. Урия дремал в лесу, спиной ко мне, отличный выстрел, я даже успел спрятать духовую трубку раньше, чем он обернулся. Вскочив, он пробежал десяток шагов и вновь сел. Отлично. И тут, совершенно неожиданно, двадцатью шагами правее Иисус Навин заваливает мелкую импалу, пасшуюся в лесу. Импала слишком велика, чтобы ее можно было умертвить просто прокусив шею. Нет, напавший обычно валит жертву наземь и так держит, поедая ее живьем, а остальные наседают со всех сторон в надежде получить лакомый кусочек, так что приходится отвлекаться от соотечественников, а прикончить импалу тебе некогда. И вот Иисус Навин заваливает импалу, Урия немедленно подскакивает и в драке отбирает добычу. Вот невезение! Он срывается и улепетывает в лес, а за ним гонятся четверо! Общая потасовка, я молюсь, чтобы он проиграл схватку и наконец освободился — тогда он уйдет и спокойно рухнет в бесчувствии вдали от всех. Вместо этого он вцепился в импалу, я в панике: когда анестетик подействует, при первых признаках слабости Урию раздерут в клочья — за добычу самцы дерутся неимоверно жестоко. Урия отбивается, уволакивает импалу, несется к излучине реки, где в колючих береговых зарослях есть прогалина — по сути, доступ в маленькую пещеру, где заросли колючего кустарника у са́мой земли образуют просвет сантиметров тридцать. Урия забивается внутрь, импала кричит как сумасшедшая, и стоит кому-то из самцов мелькнуть у входа — Урия тут же на них бросается. В нору можно только вползти на брюхе, что серьезно осложняет дело для осаждающих: Урия бросится на них сразу же, не дав даже подняться.
Моя задача не так проста. Нужно вытащить Урию из кустарниковой пещеры как можно скорее: если остальные самцы доберутся до него после того, как он впадет в полубеспамятство, ему не выжить. Но если я влезу в нору раньше, чем он впадет в полубеспамятство, то он меня загрызет — он сейчас бешено агрессивен. Самцы, возбужденно толпящиеся у входа в нору, угрожающе кидаются наперерез, стоит только двинуться в ту сторону. Импала по-прежнему визжит, не унимаясь, и я решаю, что если у нее есть на это силы — то Урия, должно быть, уже уснул, не успев ее прикончить. Я начинаю прыгать, орать и махать руками у входа, пытаясь отпугнуть остальных, а потом, зажав в руках шприцы и катетеры для взятия крови, набираюсь духу и потихоньку вползаю в пещеру на спине, каждый миг ожидая нападения. Забираюсь внутрь — высота около метра, Урия сладко спит, навалившись на живехонькую импалу, у которой разодрано брюхо.
Теперь я благополучно сижу в пещере под мерное посапывание Урии, и до меня доходит, что нам с ним отсюда не выбраться живыми — на выходе караулит толпа самцов, жаждущая сытного ужина, и им сначала надо скормить импалу. Главная роль в этой драме отведена, разумеется, мне, и пока я обдумываю моральные нюансы этой коллизии, шум снаружи вновь усиливается. Луч света, попадающий в пещеру, затеняется: кто-то лезет внутрь. Я громко улюлюкаю — тень исчезает. Скорее всего, ненадолго, так что нужно что-то делать. Посреди суматохи я вдруг вспоминаю, что неплохо бы довести эксперимент до конца и взять-таки образец крови, пока еще показатели не сбиты. Я уверенно и спокойно переворачиваю Урию, готовясь взять кровь, и совершенно упускаю из виду самое главное — импалу. В мгновение ока она вскакивает, начинает метаться и лягаться, острые копыта бьют воздух. Она врезает мне копытом по лбу, меня откидывает назад, на лбу огромная рана. Я едва верю случившемуся: как я мог забыть об импале? А теперь мало разъяренных павианов у входа, так еще меня собирается прикончить Бемби. Импала утробно ревет, самцы снаружи немедленно начинают вопить, я плюю на самообладание и тоже начинаю орать во весь голос. Импала пытается пробить выход на противоположной стороне — безуспешно — и вновь целит копытами мне в лицо. Я почти уверен, что она меня сейчас убьет; в таком тесном пространстве это не так уж невероятно. Я прыгаю на импалу и, видимо, окончательно ее придушиваю, по крайней мере точно помню, что колотил ее головой о землю. И вдруг меня окатывает холодом, и я четко понимаю, что мне нужно вытащить импалу наружу. Пытаюсь толкать ее по земле, мертвая туша тяжело цепляется за колючки, я медленно-медленно двигаю ее к входу и вдруг осознаю, что туша ползет быстрее, чем я ее толкаю: обезьянья рука вцепилась в плечо импалы и тащит ее через дыру на свет. Туша мгновенно исчезает, снаружи крики и шум потасовки: четверо самцов сошлись над тушей и теперь играют в «укради бекон». Я опасаюсь, как бы кто-нибудь из них не надумал спрятаться в пещере, но все они помнят, что в кустарниковой пещере творится что-то неладное, и внутрь не лезут. Я съеживаюсь внутри, собираюсь с мыслями и беру кровь у Урии. Полчаса снаружи длится суета, вопли и рычание, мимо входа носятся тени, я сижу на корточках рядом с мирно похрапывающим Урией. Наконец с тушей снаружи покончено, все расходятся. Мы с Урией уходим подремать в джипе.
Так закончился худший в моей жизни опыт c дротиками. Совершенно дурацкая трата времени. Но даже сейчас, почти через двадцать лет, стрельба дротиками остается у меня в крови. Как-то я был в кинотеатре и зацепил взглядом матрону, дефилировавшую мимо по проходу, в голове пронеслось: «85–90 кило, 9 кубиков анестетика. Стрелять в круп, повышенная мясистость. Когда упадет, муж кинется на защиту, но клыки у него короткие». Я по-прежнему рад тому, что у меня такая работа.
4. Масаи-фундаменталисты и мой дебют в общественной работе
При всех удовольствиях знакомства с павианами новый мир, в который я окунулся в тот первый год, был интересен и другими своими сторонами, и среди этого самым впечатляющим было соседство с племенем масаи. Бо́льшая часть Кении никогда не была излюбленной темой National Geographic, при этом многое в ней сейчас стремительно исчезает. Из сорока различных племен примерно тридцать занимаются земледелием, большинство принадлежит к народам банту. Это крестьяне, возделывающие землю на ступенчатых склонах перенаселенных гор и живущие скудным урожаем; в любой из семей, традиционно больших, непременно найдутся один-двое, кто отказывает себе во всем и копит деньги на первый велосипед, часы, джинсы или новую жестяную крышу вместо прежней соломенной. На внешний мир эти люди реагируют остро, и, когда их временами достигают его отблески, они лихорадочно пытаются урвать частичку для себя и своих детей.
Однако в дальних уголках страны есть немногочисленные племена, которые не стремятся к переменам и не стыдятся жить так, как живут. На побережье Индийского океана обитают мусульманские племена суахили, чье самоуважение, древняя история и культура сделали бы честь любой западной нации. В оставшихся зарослях густых тропических лесов еще ютятся последние охотники-собиратели, этнически родственные пигмеям и бушменам из других частей Африки: молчаливые, миниатюрные и изящные, они сохраняют образ жизни, существовавший до эпохи земледелия и до прихода племен банту.
А в тех областях, которые часто считаются голыми и пустынными, живут скотоводы-кочевники — бродячие племена, не признающие ни охоты, ни земледелия. Те, что ближе к северу, питаются кровью и молоком верблюдов и коз, а южане, населяющие более благодатные луга моих павианов, — кровью и молоком коров. Тот же принцип действует по всему континенту: у народа батутси в Руанде, у динка в Судане и у тех, кто чаще прочих украшает собой обложки красочных фотоальбомов, — моих соседей масаи. Все эти племена этнически и лингвистически родственны друг другу и принадлежат к кушитским или нило-хамитским народам. Рослые, худощавые, широкоплечие люди царственны, горделивы, привержены своим кланам, воинственны до предела: с незапамятных времен они совершали грабительские набеги на все земледельческие племена, какие только попадались им на пути. Мне всегда нравилась распространенная гипотеза о том, что два тысячелетия назад предки этих скотоводческих племен составляли гарнизон суданских солдат на южной границе разрушающейся Римской империи, — эта идея в некоторой степени подтверждается клановой и военной структурой этих племен, а также видом некоторых воинских регалий. По какой-то причине они двинулись к югу вдоль Нила, а оттуда, обнаружив, что с земледельческими племенами совладать проще простого, продолжали кочевать дальше и со временем распространились по всему континенту.
Масаи вполне вписываются в эту модель. В Кению они пришли в XIX веке из северных пустынь, на всем пути оставляя за собой хаос и разорение. К началу XX века они изрядно потеснили местных земледельцев кикуйю с центральнокенийских возвышенностей — самого плодородного участка аграрного региона. Сейчас, век спустя, реки и горы там по-прежнему носят названия, когда-то данные им на языке масаи.
К некоторой досаде англичан, масаи узурпировали земли кикуйю аккурат в то время, когда Британия разминала колониальные мускулы с прицелом на те же территории. Уводить землю у кикуйю англичанам было бы куда удобнее. С масаи же дело обстояло сложнее, без скандала бы не обошлось, однако на помощь англичанам поспешила пандемия — и британская мировая гегемония была спасена. В 1898 году произошла крупная вспышка чумы крупного рогатого скота, в результате которой погибло 80 % коров и, как следствие, изрядное количество масаи. Племя прославленных воинов вынужденно притихло и сделалось куда более покладистым в переговорах. В 1906 году британцы заключили с масаи соглашение: масаям предлагалось отказаться от плодородных центральных возвышенностей и взамен получить не одну, а целых две обетованные земли — засушливую степную полосу на севере и саванны моих павианов на юге плюс соединяющий их коридор для перегона скота. Роскошная сделка, предел мечтаний, масаи собирают пожитки. В последующие годы британцы присвоят себе северную территорию и ставший ненужным коридор, все племя будет вытеснено на южные травянистые равнины — обильно зараженные, как выяснится, возбудителями сонной болезни скота. И хотя масаи вплоть до нашего времени сохранят репутацию свирепого племени, совершающего грабительские набеги на соседей, им уже никогда не хватит дерзости покуситься на какую бы то ни было территорию, которую британцы пожелают объявить своей лужайкой для гольфа.
Вот так масаи зажили долго и счастливо. Они упорно старались не замечать наступления XX века, хотя основная масса прочего населения пустилась во все тяжкие, старательно запивая грехи кока-колой. Разумеется, кое-где на масайских землях не обошлось без перемен: в столице округа, всего в полусотне миль от моего заповедника, запросто можно было встретить компанию мужчин-масаи, которые непринужденно болтали о том о сем, — половина в костюмах-тройках и с портфелями, половина в тканевых покрывалах и с копьями. Однако в относительно уединенном уголке, где я поселился, цивилизация почти не ощущалась. Ближайшая школа находилась за тридцать миль, на суахили говорил в среднем один человек на деревню, для получения статуса воина требовалось убить копьем льва, браки по-прежнему были полигамными, а свадебное угощение не обходилось без огромных чаш коагулированной коровьей крови на десерт. Местный мир явно был не очень восприимчив к прогрессу.
Я обнаружил это со смущением во время того первого сезона пребывания в стаде. Однажды утром я провернул грандиозное — хотя, конечно, слегка жульническое — усыпление дротиком. Соломон впервые вел брачные игры с Деворой — юной дочерью Лии, самки с наивысшим статусом. Спаривались в кустах, спаривались на дереве, спаривались в чистом поле. Набухание половой кожи было максимальным: скорее всего, было время овуляции, и запах от Деворы, должно быть, шел одуряющий, так что старина Соломон не отходил от нее ни на шаг. Нет-нет, не подумайте дурно: я вовсе не собирался подкрадываться к Соломону и усыплять его во время совокупления, у меня все-таки есть профессиональные принципы. Я стрелял в Даниила. Этот неугомонный юнец подглядывал за парочкой целый день, не в силах отвести глаз: все утро он следовал за ними чуть ли не по пятам, пытаясь высмотреть подробности: вытягивая шею, впитывал каждую деталь, явно надеясь нахвататься от Соломона приемов обращения с дамами.
И пока Даниил предавался вуайеризму и, утеряв бдительность, отвлекся от меня, я вонзил ему в зад дротик. Отключился он быстро, все удалось легко и весело, я потащил его к джипу. Идти было около километра, Даниил весил не так уж много, и я нес его спящего на руках, чуть не приплясывая на ходу. Отличное утро.
И вот иду я со своей ношей через горы и долы — и натыкаюсь на двоих масаи в характерных красных туниках поверх голого тела: это воины из деревни чуть дальше той, в которой я уже начал заводить знакомства. Они проявляют явный интерес к павиану. Я кладу его на землю, пользуясь случаем передохнуть и заодно похвастаться: а вот глядите все, какой у меня павиан.
— Он мертвый? — спрашивает меня тот из масаи, кто (в отличие от огромного большинства здешнего народа) говорит не только на масайском, но и немного на суахили. На масайском я не говорил вовсе, а суахили хоть как-то годился в дело.
— Нет, просто спит.
— Почему спит?
— Я дал ему специальное лекарство для сна.
— А если то лекарство дать человеку, он уснет?
— Еще бы, — киваю я и добавляю банальную для меня истину: — У павиана и человека организмы очень схожие.
Обоих воинов эта мысль поражает как громом.
— Ну, нет, — заявляет второй масаи, слова которого переводит мне первый. — Человек — это человек, а павиан — дикое животное.
— Да, но мы очень похожи, почти как родственники.
— Нет, неправда, — уязвленно отвечает масаи.
— Когда-то и мы были почти такими же, как павианы, — не отступаюсь я. — У нас даже хвосты были, мы как родня.
— Не может быть.
— Да точно говорю! На севере, в пустыне, даже нашли кости людей, которые не совсем еще люди: они полулюди с головой как у павианов.
— Не может быть.
— Да ладно вам. В моей стране врачи могут вырезать сердце у человека и дать ему сердце павиана, и ничего, человек доживет до старости (ну ладно, тут я слегка приукрашиваю прогресс в медицине). Если я возьму твое сердце и заменю сердцем павиана, ты все равно будешь воином.
— Неправда. Не может быть! — уже чуть более запальчиво возражает собеседник. Второй, наклонившись, разглядывает Даниила и проводит рукой по шерсти, открывая на удивление белую кожу.
— Гляди, — тычу я в павианью кожу. — Совсем как у меня.
— Нет, ты красный человек. — Мне это безумно льстит, хотя я и понимаю, что он подразумевает европейца, поджаренного солнцем почти до меланомы, а не мое природное сходство с Чингачгуком.
— Нет, я белый человек. — Я отворачиваю шорты, демонстрируя незагорелую полоску кожи. — Гляди. Белый, совсем как павиан.
И тут на меня накатывает легкомысленное желание слегка встряхнуть этих товарищей. Я продолжаю:
— Павианы — действительно наша родня. Например, этот конкретный — мой кузен.
Тут я наклоняюсь и громко чмокаю Даниила в его внушительный нос.
Реакция масаи оказывается более бурной, чем я рассчитывал: миг — и они уже машут копьями прямо у меня под носом, совершенно всерьез. Один кричит: «Он тебе не кузен, не кузен! Павиан даже не умеет готовить угали!» (Угали — отвратительное блюдо из кукурузной муки, которым здесь питаются все поголовно. Я чуть не брякаю в ответ, что тоже не умею готовить эту гадость, но решаю проявить наконец хоть какое-то благоразумие.)
Все с тем же криком «Не кузен, не кузен!» масаи нацеливает копье прямо в меня, и я подчеркнуто медленно и ровно начинаю говорить: «Ладно-ладно, ты совершенно прав. Никакой он мне не кузен. И даже не родня. Я его вообще впервые вижу, я просто здесь работаю» и так далее. После долгой речи в таком духе оба масаи наконец притихают, убирают копья и на ломаном местном английском говорят мне, что они мне друг очень-очень.
Инцидент исчерпан, мы расходимся каждый своей дорогой, клянясь в вечной братской любви. Еще мне не хватало, чтобы фундаменталист без штанов тыкал в меня копьем.
Вскоре я получил еще одну иллюстрацию масайской готовности воспринимать новые идеи. К тому времени я успел потереться у ближайшей деревни и попробовать завести знакомства. Мне повезло, я с самого начала наткнулся на идеального посредника: моей приятельницей стала Рода — наполовину масаи, наполовину кикуйю, служившая для деревни агентом по связям с миром. Скорее всего, масаи захватили мать Роды в плен во время набега на деревню кикуйю и взяли в жены насильно. Она к тому времени, вероятно, была уже взрослой и знала многое об обычаях собственного племени и о внешнем мире, который как раз начинал вторгаться в местную жизнь, так что Рода выросла совершенно нетипичной: помимо языков масаи и кикуйю, она говорила на суахили и немного на английском, слегка умела читать и обращаться с деньгами, была способна преодолеть автостопом полсотни миль до столицы округа и там договориться о продаже деревенского скота и организовать закупку нужных припасов. Крохи западной цивилизации попадали в деревню ее единоличными усилиями, и поскольку она создала в деревне средний класс, то выходило, что в обществе «африканского социализма» учредила сам принцип классового деления.
Порой меня изумлял контраст между огромным количеством впечатлений большого мира, которые Рода успевала ухватить, и совершенно масайским типом мышления. Я с этим столкнулся в тот день, когда спросил ее, как по-масайски называется лев. Листая новенький масайский словарь, я наткнулся на то, что льва обозначают двумя разными словами. Одно из них, которому меня научила Рода, оказалось «обманкой». Его произносят открыто, оно не настоящее. Настоящее же произносится только дома и только ночью. В словаре это объясняли верованиями масаи: по их представлениям, если произнести настоящее имя льва за пределами жилища, зверь услышит, что его зовут, придет и тебя съест.
— Как же так, Рода, неужели правда?
— Конечно, правда, нельзя это слово произносить (Рода и вправду ощутимо дергается каждый раз, когда я его говорю).
— Да перестань, не придет сюда никакой лев.
— Нет, я много раз видела, он придет и тебя съест.
— Да ладно тебе.
— Ну-у, мне рассказывали, что так бывает.
Я не отступаюсь:
— Рода, ты говоришь, что лев услышит свое имя, но ты же знаешь, что львы не понимают речь, никто не придет.
— Придет.
— Лев понимает масайский язык?
В конце концов она выходит из себя и одной-единственной раздраженной фразой в точности обрисовывает оба своих мира и их соотношение в ее восприятии:
— Лев не понимает своего имени. Любой школьник знает, что львы не понимают человеческих слов. Но если произносить имя слишком много раз, то лев придет и тебя съест.
Таков был ее вердикт, тема для нее этим исчерпывалась.
Вскоре мне предстояло увидеть, как неразрывно переплетены у Роды понятия внешнего мира и масайские представления. В одно прекрасное утро у павианов все складывалось как нельзя более удачно — молодой безмятежный Иисус Навин проверял свое обаяние на пугливой Руфи, какой-то наглый юнец изводил Иова и получил справедливого тумака от Рахили, Вениамин сидел рядом со мной на бревне. Все шло отлично, так что я решил уехать и остаток дня провести в деревне, навещая Роду и ее семью. Рода на вид совершенная кикуйю: маленькая и пухлая среди долговязых астеников масаи и к тому же непоседливая хохотушка, по-матерински всех опекающая, что тоже отличает ее от прочих жителей деревни. Ее муж редко бывает дома: он работает егерем-смотрителем заповедника и обычно торчит на дальних кордонах, выслеживая браконьеров. Я за всю жизнь не видел масаи более длинного, тощего, хмурого и устрашающего, чем он, форма и автомат только добавляют ему внушительности. На самом же деле он необычайно добрый и мягкий, особенно когда рассказывает о новорожденном носороге, за которым присматривает, или заботливо наклоняется, буквально сгибаясь пополам, над маленькой, похожей на грушу Родой. Во всей округе они самая необычная на вид, но и самая милая пара. Их безмятежной нуклеарной семье добавляют замысловатости вторая и третья жена — обе изрядно младше Роды, она мягко ими помыкает. Каждый раз, когда муж Роды возвращается с вахты, он переодевается в масайскую тунику и начинает расхаживать по деревне с женами и толпой своих детей. Один из сыновей с ними никогда не ходит — насколько я мог выяснить, он переболел какой-то лихорадкой и энцефалитом во время первого же сезона дождей и остался уродцем-гидроцефалом с рефлексами новорожденного младенца. Рода с мужем, потратив многомесячное жалованье, купили для него дурацкую жалкую коляску образца чуть ли не 1940-х годов: она теперь стоит в их хижине, построенной из глины и коровьего навоза, из коляски торчит запеленутая пучеглазая голова и доносятся беспрерывные стоны.
Я останавливаюсь поздороваться, а Рода, ухватившись за возможность, узурпирует мою машину. Вскоре мы уже едем за три километра в факторию, куда Роде лень идти пешком. Во мне зреет знакомое по детству раздражение школьника, которого мать таскает за собой по магазинам. Мы заходим в лавку, которой служит такая же хижина из глины, навоза и прутьев. Здесь хозяйничает старая и седая приятельница Роды — единственная, кроме нее, полукровка в этой местности, тоже полумасаи и полукикуйю. Рода разглядывает все два десятка товаров, которыми торгует лавка: два вида одеял, электрические фонарики, батарейки, лампочки, лекарство от малярии, любимый местными масаи нюхательный табак. Затем начинается сравнение товаров, она велит мне растянуть два одеяла: посмотреть длину и прикинуть, какое из них укроет ее детей. Покупать она их не собирается, это чистейший случай «разглядывания витрин», тем более что одеяла здесь всегда одни и те же, других не бывает. После этого Рода перебирает мыло, вертит в руках лампочки для фонарика и наконец решает, что же сегодня купить: яйцо и две картофелины. Получасовой шопинг удался, она совершенно счастлива, мы возвращаемся в деревню, и Рода приглашает меня на чай.
Здесь-то и начинаются сложности. Серере, младший брат ее мужа, уже на месте и уже навеселе. Сам по себе Серере неплох, но, к несчастью, стремительно близится к состоянию, традиционному для многих старейшин масаи: половину времени ходить пьяным. В последующие годы, когда я в свободное время буду обильно колесить по Африке, мне станет ясно, что пьяницы здесь — одно из главных бедствий. Правда, только когда это дружелюбный пьяница, как Серере. Со злобными пьянчугами дело обстоит куда проще. Когда при путешествии автостопом я застреваю в какой-нибудь деревушке, ожидая попутную машину, то всегда происходит одно и то же: на меня налетает злобное пьяное существо с намерением нарваться на драку. Каждый раз этот буйный тип, еле ворочающий языком, пытается на смеси суахили и английского объявить мне, что он желает подраться, причем подраться конкретно со мной и что он тут — «самый крутой [идиома на суахили: bwana kubwa] Мухаммед Али по кунг-фу». Я обычно не выказываю страха — не потому, что в драке одолею кого-либо, кроме матери Терезы, а потому, что меня спасут, причем каждый раз одним и тем же способом. Я стою и идиотски улыбаюсь, вокруг нас собирается толпа, и вдруг из нее выскакивает безобидный дядька, всегда в белой рубашке и — неизменный признак — с торчащей из нагрудного кармана авторучкой. Это местный учитель, возмущенный таким оскорбительным обращением с путешественником — белым человеком, возможно, грамотным и потому высокопоставленным. Он с негодованием отчитывает Мухаммеда Али по кунг-фу, а поскольку почти в любом городке учитель только один, с незапамятных времен бессменный, то Мухаммед Али по кунг-фу, скорее всего, ходил у него в учениках и слово учителя по-прежнему имеет над ним магическую власть. Дальше разыгрывается сцена «школьный учитель приструнивает своего бывшего ученика, местного пьяницу», тот робко и невнятно извиняется, глядя себе под ноги, — все по закону жанра. Затем учитель ведет меня к себе попить чаю; он будет расспрашивать об американских президентах, рассуждать о господе нашем Иисусе Христе и вынудит меня оставить ему образец моей каллиграфии.
Стало быть, злобные пьянчуги — не проблема, особенно если вы помните, в какой очередности сменялись президенты. С дружелюбными же пьянчугами дело обстоит куда хуже. Лишь только он вас завидел — в тот же миг загорается желанием зарезать ради вас какую-нибудь живность. Когда мне случилось однажды гостить у приятеля на семейной ферме, его старший брат Джордж — пьяница, задира и негодяй, избивавший жену и отказывавшийся от собственных детей, — проникся ко мне симпатией и все четыре дня, что я провел в их семье, порывался забить в мою честь единственную в хозяйстве корову, потом козу и так далее. В последний день на прощальном ужине мы все, кроме Джорджа, которого где-то носит, сидим у огня и наслаждаемся едой. И вдруг он врывается в комнату, злобный и пьяно-сосредоточенный, в руках курица. Он подходит прямиком ко мне и в порыве алкогольного ораторского вдохновения выдает: «Ты… мой… друг!» — и кидает мне курицу. Связать ей ноги и крылья он спьяну не подумал, и курица начинает в ужасе метаться, перелетать с места на место, кудахтать и удобрять пометом и нас, и еду.
Вот и теперь его собрат Серере немедленно возжелал забить одну из немногих своих коз в мою честь (притом что в этой деревне я бываю регулярно). Я чем-то отговариваюсь, и он, недовольный, уходит в угол. Мы с Родой усаживаемся за чай. Наблюдать за тем, как в масайском доме умудряются что-то находить, — отдельное удовольствие. В хижинах, сделанных из глины и навоза, сразу от входа начинается лабиринт, так что солнце не проникает внутрь, кроме как через узкие отверстия в крыше, пропускающие лишь тонкие лучи света. Где-то в этих стенах постель из коровьих шкур, где-то козы, где-то старик-отец, спящий после пьянки с Серере, где-то коляска с уродцем-сыном.
Мы сидим с чувством выполненного долга, попивая чай. Рода ныряет в тайный закоулок за очередной порцией спрятанного там чая, и вдруг — о ужас! — обнаруживает, что кто-то утащил ее запас денег. Полукровка Рода, двигатель прогресса в своей деревне, была одной из первых среди масаи, кто начал пользоваться наличными деньгами; заработанное ею и мужем (одним из редких масаи, имеющих стабильную работу) она до последнего цента тратит на оплату школы для детей. Теперь деньги исчезли. Виновника она знает: Серере, вместо того чтобы пить домашнюю брагу, стащил деньги и пустил их на выпивку в местной столовой, обслуживающей персонал туристского лагеря. Гордец Серере, высокомерный воин-масаи из старейшин племени, сознается в преступлении, надменно и пренебрежительно пожимая плечами с видом «женщина, я имею право». Рода, взвыв, огревает его по спине поленом, приготовленным для очага.
И тут начинается. Серере пытается стоять на ногах потверже, Рода с проклятиями гоняет его по всей комнате. В какой-то миг он, покачиваясь, тянется за копьем, словно намереваясь ее прикончить, и Рода, разозленная такой наглостью, еще раз налетает на него с поленом. Крики и вопли продолжаются, в хижину мгновенно набивается возбужденная толпа соплеменников, желающих поглазеть на происходящее. Седые старейшины стекаются в угол, молодые мамаши стоят за спиной Роды, остальные лезут внутрь хижины, боясь пропустить представление.
Разворачивается сцена из спектакля о вреде пьянства, Рода и ее соратницы вопят и обвиняют. Пять лет назад правительство потребовало, чтобы в масайских землях один ребенок из каждого района шел в школу, и родители тогда взялись прятать несчастных крошек, спасая их от такой ужасной судьбы. С тех пор в каждой деревне женщины вроде Роды агитировали народ отправлять детей в школы, где нет учебников, письменных принадлежностей и часто учителей, расположенные миль за тридцать от дома, а за обучение в них нужно еще и платить. Самые прогрессивные из масаи ратуют за образование для детей, и больше всего — Рода и ее подруги. И теперь, в хижине Роды, они поднимают крик. Детям нужна школа! Они должны учиться! Нечего всякой пьяни пропивать деньги на обучение! Рода в этом хоре солирует: она умеет говорить внятно, у нее репутация радикалистки и феминистки, ратующей за прогресс, она наполовину кикуйю и тащит в масайскую деревню подозрительные идейки, но ее ценят за сообразительность, умение общаться с внешним миром, способность зарабатывать деньги для деревни. И все для чего? Чтобы какие-то вонючие старики-алкаши их пропивали? Обвинения разрастаются — обличают уже не только Серере (который, скорее всего, валяется бесчувственным на полу), но и всех старейшин-пьянчуг. По ходу дела мне переводят речи с масайского на суахили и английский, и разные люди в разные минуты перепалки оглядываются на меня с непонятным ожиданием. С некоторым ужасом я начинаю подозревать, что меня держат за арбитра.
Приятельницы Роды убеждены: нет ничего лучше, как потратить деньги на отправку детей в пустую школу, в которой нет учебников, тетрадей и карандашей, а через несколько лет привезти детей обратно и отправить пасти скот. «Хватит вам, старикам, пропивать школьные деньги, детям надо в школу и им нужна школьная форма!» Старики же отвечают, что обучение — ненужная трата времени, дурацкая прихоть, а мы, мол, трудимся в поте лица и имеем право напиваться до упада, когда захотим. (Стариком здесь называется любой масаи старше двадцати пяти лет, то есть вышедший из возраста воина; вполне возможно, такой «старик» недавно женился на тринадцатилетней девочке. Несмотря на все уверения стариков, им в деревне достается меньше всего работы: обычно трудятся — в порядке убывания — женщины, дети, собаки, ослы и только потом мужчины.) Между тем старики несгибаемы: «Ах, школа, какая дурь! Что в ней хорошего?» — вопрошают они.
Женщины в некотором смятении отступают. По правде говоря, из них одна только Рода знает, что такое школа — она туда ходила некоторое время. Женщины меняют диспозицию, совещаются и начинают кричать: «Хватит вам, старикам, пропивать деньги, детям на еду не хватает!» «Да ладно вам, — отвечают старики. — Мы масаи, еды у нас полно, вон коровы есть, сами поглядите, и коровья кровь для детей всегда найдется, и молоко, а вы все жалуетесь, с ума посходили, что ли» — и все в таком духе. Они посмеиваются над Родой и ее тающей на глазах свитой. «Да нет, дети-то чудесно себя чувствуют», — заключают старики (хотя на деле в пище не хватает белков, и свирепствуют малярия, туберкулез и все известные науке паразиты). Рода, встревоженная донельзя, вдруг требует моего мнения. Я тяну время, долго откашливаюсь и затем пытаюсь свести дело к компромиссу.
— Ну что же, если дети хорошо питаются и пойдут сейчас в школу — то они хорошо выучатся, устроятся потом на хорошую работу и будут получать такие деньги, что вам, старикам, можно будет пить день и ночь, причем отличную выпивку, какую продают белым людям в туристской гостинице.
В ответ слышится одобрение, но его тут же заглушают возгласы стариков, налетающих на Роду: «Да кто она такая? Подумаешь, полукровка-кикуйю! И рост не наш, и толстая, разве можно ей доверять?» — и прочее в том же духе.
Разъяренная Рода при виде стремительно тающей группы поддержки выдает пламенную тираду: «Мы — все женщины и Роберт тоже — считаем, что хватит вам, старикам, напиваться и тратить деньги, которые нужны для школы и еды детям! И вам, грязным масаям, надо глаза детишкам промывать, чтобы не было глазных болезней, вот у моих детей их нет! И вам, старикам, не мешало бы носить штаны и верить в господа нашего Иисуса Христа!»
Вот тебе раз. Христианско-кикуйская половина Роды вырвалась на волю, и Роду несет на привычных волнах двух тем, когда кенийские крестьяне упрекают масаи: избыток голых задов и недостаток веры в Христа. А меня привлекли как гипотетического члена партии «Прикрой свой зад во имя веры».
Собрание закончено — по толпе идет невнятный гул, гордые победой старики со смешками идут выпить в тени деревьев. Серере, валявшийся в пыли, не сразу находит силы подняться и в процессе успевает огласить желание забить козу в мою честь; на него никто не смотрит. Я поскорее смываюсь.
5. Дьявол кока-колы
В тот день двигатель джипа, нехорошо чихавший весь последний месяц, решил окончательно заглохнуть — вполне символично, поскольку именно в то утро я видел одно из последних деяний Исайи. Старейший самец в стаде, много старше остальных самцов, скрюченный артритом, дряхлый, изможденный, с безумными глазами, он олицетворял собой крайнюю ветхость, и это составляло его сущность. Он хромал, садился со стонами и оханьем, то и дело пересаживался, отгонял оплеухами детенышей и вовсе не походил на доброго сердечного деда, спокойно доживающего свой век. В то утро я наблюдал его совокупление — наверняка последнее. Юная Эсфирь, не сумевшая в период эструса добиться внимания солидных самцов, стала парой Исайе. Он как-то умудрялся не очень от нее отставать и даже вспомнил, что ее полагается оттеснять в сторону от мелькающих поблизости самцов-соперников (в его случае это были сущие юнцы). Наконец он взгромоздился на Эсфирь, а потом от пароксизма непривычного возбуждения его стошнило ей на голову. Так закончилось для него последнее (а для бедняжки Эсфири первое) событие любовной жизни. Вскоре после этого он исчез навсегда — должно быть, достался гиенам или львам.
И вот, запротоколировав в дневнике это свидание Исайи, я взялся приводить в чувство забарахливший джип. Не доехав полсотни метров до мастерской в административной части заповедника, он заглох, осмотревший его механик сказал, что надо менять какую-то деталь. В результате изнурительных многочасовых попыток связаться по рации с Найроби выяснилось, что нужной детали нет нигде в стране: достать ее можно лишь через несколько недель, когда закончится валютный кризис и будет разгружена партия запчастей, томящихся сейчас в доках Момбасы на побережье Индийского океана.
Это значило, что работа для меня на какое-то время останавливается, и я принял единственное разумное решение: взять рюкзак, доехать с какими-нибудь туристами до Найроби и отправиться путешествовать по Восточной Африке — по любым ее частям, куда можно добраться автостопом.
В Найроби я первым делом иду в промышленный район и отыскиваю автоцистерны с горючим — они ходят в дальнобойные рейсы через всю страну. Я торчу на стоянке весь день, наконец нахожу подходящий бензовоз, правдами и неправдами напрашиваюсь в попутчики. Старый разболтанный «Лейланд» с втиснутой в кабину узкой койкой весь забит бутылками воды и консервами, кучей приборов, механизмов, инструментов, ветоши, канистр с горючим — эта жестянка на колесах направляется в Уганду и каким-то чудом должна до нее доехать. Водители — два мусульманина с побережья: Махмуд и Исмаил — усталые, угрюмые, вечно жующие какую-то растительную дребедень с легким амфетаминоподобным эффектом. Бензовоз может давать не больше 15 миль в час, и под вечер мы ползком выдвигаемся из Найроби и направляемся на запад.
На рассвете мы по-прежнему ползем вверх вдоль 3000-метрового отвесного склона. Так странно — часами напролет ехать в грузовике со скоростью пешехода, сидя без дела и глядя на пейзаж. Наконец мы въезжаем на гору, и бензовоз, которому испытание оказалось не по силам, окончательно глохнет. Мы выскакиваем из кабины, наклоняемся над двигателем и понимаем, что ему не жить. Махмуд тормозит автобус, идущий в противоположную сторону, и едет в Найроби за механиком. Мы с Исмаилом остаемся рядом с грузовиком — как потом выяснится, на двое суток. Я начинаю все лучше понимать суахили по мере того, как тает угрюмость Исмаила. Задержка меня поначалу бесит, но потом я решаю махнуть рукой: переживать по этому поводу бессмысленно. Так и сидим. Исмаил вскоре ныряет куда-то в коробки, которыми заставлена кабина, и выныривает с молитвенным ковриком в руках. Придирчиво оглядывает небо, прикидывая, в какой стороне восток, и начинает молиться. Чуть погодя он уже рассказывает мне об арабских корнях суахили и радостно объявляет суахили простым диалектом арабского. Мои примеры сходства между арабским и ивритом приводят его в восторг, иврит он несколько рискованно тоже провозглашает арабским диалектом и, поскольку я не протестую, велит мне не морочиться насчет еды и объявляет, что будет сам меня кормить. К изрядному моему удивлению, он начинает готовить спагетти. Оказывается, Исмаил родился на той территории, которая раньше была Итальянским Сомали, и страстью к спагетти заразился от бывших колонизаторов. Спагетти он варит в большой кастрюле на керосиновой плитке, добавляет к трапезе сомнительное верблюжье молоко, которое всю дорогу вез в бурдюке, и мы принимаемся поглощать огромные количества спагетти прямо руками. Потом он устраивается на молитву, я от скуки достаю свою альтовую блок-флейту и начинаю играть. Для Исмаила это оказывается откровением, и вскоре он, забрав у меня флейту, уже осторожно на ней наигрывает. Мелодию ему, конечно, вести не удается, зато у него есть отличное сомалийско-арабское чувство ритма — и вот флейта подключается к молитве. Худощавый и аскетичный, он сидит на земле, импровизируя нечто состоящее из нетерпеливых ритмических всплесков; глаза его закрыты, он покачивается вперед-назад. И вдруг в определенный момент откладывает флейту и бросается лицом на молитвенный коврик. Так и проходит время — я мало-помалу становлюсь арабо-итальянцем, поедаю спагетти и слушаю Исмаиловы песнопения и рулады.
На второе утро мимо идет еще один бензовоз, и мы решаем, что дальше я отправлюсь с ним. Исмаил явно не прочь получить себе блок-флейту, но останавливает выбор на одном из моих свитеров: одет он легко для прибрежного климата и в прохладные здешние ночи изрядно мерзнет. Я забираюсь в новый бензовоз — рухлядь не лучше прежнего. Ведет его Джеремайя, грубоватый великан в летах: вышитая феска на щегольски выбритой голове, массивные солнечные очки с квадратной черной оправой, на верхнем переднем зубе — шикарная золотая коронка. Сильные и мощные руки впечатляют меня донельзя. Его напарник, тридцатилетний Джона, разительно с ним контрастирует: запавшие глаза, неопрятная бородка, явно недокормленный, одет в грязные лохмотья. Вроде бы безобидный, хотя и сильно пришибленный.
На обед останавливаемся в горной деревушке. Я лезу в рюкзак достать еду, но Джеремайя ведет меня к съестной лавке. Стандартная процедура — просмотреть меню, выведенное краской на стене, сделать заказ — явно не в стиле Джеремайи. С воинственностью, которая меня поначалу пугает, он стращает и терроризирует всех, кто попадается на глаза, и через считаные минуты весь персонал лавки загипнотизированно начинает непонятную пока деятельность. Одни бегут к соседнему торговцу за свежими помидорами и луком. Другие откуда-то добывают жгучий перец. В мясную лавку послан мальчишка — передать наказ спешно зажарить козу. Джеремайя по-хозяйски, как царь в собственном дворце, сметает все со стола, хватает нож и начинает резать, шинковать, рубить, крошить и выделывать прочие штуки, какие только можно делать ножом. Помидоры в одну миску, пряности отдельно. Жгучий перец куда-то отложен, принесенное мясо порезано. Я со своим жалким перочинным ножиком суюсь помочь, но меня отчитывают и водворяют обратно в толпу зрителей. Джеремайя по-прежнему выкрикивает указания и провозглашает приговор всякому новому продукту, доставляемому пред его очи. По поводу лука, которого принесли слишком мало, он разражается гневом, достойным олимпийских богов. Наконец все готово, всяк овощ должным образом нарезан и помещен в нужную миску. Стремительными движениями, исполненными величия, Джеремайя опрокидывает все миски прямо на стол, смешивает рукой, и мы всей толпой припадаем к еде — нас ждут щедрые ломти мяса, в которые полагается заворачивать помидоры и лук. Джеремайя возглавляет трапезу, в правой руке у него зажат стручок жгучего перца: откусив от него кусок, Джеремайя поскорее набивает рот прочей едой, чтобы заглушить остроту.
К концу пиршества он собирает часть еды со стола — для Джоны, оставшегося с грузовиком. Слегка спотыкаясь после обильного застолья, я спрашиваю: «Почему Джона с нами не пошел?» «Он любит машины», — получаю я ответ и даже не подозреваю, что это лишь ничтожная доля истины. Джона и вправду любит машины. Его дело — спать в бензовозе ночью на правах охраняющего и в остальном служить на подхвате. Неизвестно, что было первично: то ли изначальная любовь к машинам увенчалась такой идеальной для него должностью, то ли сама любовь появилась только с опытом — в любом случае жизнь Джоны теперь неотделима от бензовоза. Говоря коротко, Джона от него не отходил. Сколько я ни присматривался в следующие дни, я ни разу не видел, чтобы он вообще ступал на землю. Всякий раз, когда мы едим, Джона снует вокруг прицепов, проверяет бензиновые емкости, подтягивает бесчисленные замки и задвижки, придирчиво протирает капот и двери кабины — и все это не касаясь земли: он просто перескакивает с кабины на прицеп, оттуда обратно в кабину и дальше на бампер. Я заключил, что недокормленный вид он имеет из-за прежних водителей, с которыми работал: те, в отличие от Джеремайи, не носили ему еду в машину. От него веет скрытой внутренней страстью, ощущением особой судьбы, как если бы его определили к машинам по некоему божественному приговору. Ему не в диковину на полном ходу вылезти из кабины, добраться до хвоста второго прицепа и помочиться оттуда на дорогу — в том, как он это проделывает, видна изрядная натренированность.
Мы уезжаем. Джеремайя, совершенно довольный трапезой, вскоре начинает напевать что-то на родном кикуйском языке. Его не поддающийся описанию рокочущий бас наполняет нижнюю половину кабины. Песня заунывная, моментами перемежаемая синкопами, на которых Джеремайя ритмично постукивает по донышку своей фески.
В очередной день, ближе к вечеру, мы добираемся до западнокенийского города Элдорета, и бензовоз ломается. Нет, это не шутка. Я выхожу размять ноги, а по возвращении обнаруживаю, что меня уже передали Пиусу — водителю, направляющемуся в Руанду. Так я влип в самую жуткую передрягу за все время моих поездок по Африке. Все началось со странного, хотя и вполне невинного вечера. Пиус, родившийся в Элдорете, имеет при себе компанию подручных — самое крутое сборище парней по эту сторону Восточно-Африканской рифтовой долины. Он молод, высок, худощав, к этому добавить джинсы в облипку, расстегнутую до пояса спортивную рубаху, броскую спортивную куртку, темные очки и свисающую с губы сигарету, а главное — совершенно комичные ярко-красные башмаки на 15-сантиметровой платформе. Меня знакомят со всей компанией, остальные одеты примерно так же. Все непрестанно курят, из-за платформ рост у всех под два метра. Я почему-то представлен как Питер, имя тут же прирастает ко мне намертво, несмотря на мои протесты. Пиус и компания вышагивают с важным видом, и я плетусь за ними. Американским сленгом они владеют отлично.
— Питер, чувак, сегодня мы тебе покажем ночной Элдорет.
— Давай, Питер.
Мы не сбавляем шага. Заходим в первый бар, толпа рассасывается. Я начинаю ждать драки с другими посетителями из-за надуманного оскорбления.
— Мне пиво, слышь.
— Мне пиво, слышь.
— Мне пиво, слышь.
— Мне пиво, слышь.
— А мне содовую, пожалуйста. — Компания компанией, но есть же и границы.
Мы переходим в следующий бар. Ко мне почему-то относятся с некой душевностью, причин для которой я не вижу.
— Да, чувак, Питер молодец.
— Ага, Питер молодец.
— Ага.
Не то чтобы хождение по барам меня совершенно устраивало, но в рамках общего плана казалось приемлемым. Похожу с Пиусом, потом сядем в машину, он попрощается с компанией — и поедем в Кампалу. Я и помыслить не мог, что за кошмарный сон уготован мне. Даже сейчас, задним числом, я не вполне понимаю, то ли он маньяк, действовавший из чистой злобы, то ли дикий кениец из буша, очень своеобразно понимавший гостеприимство, то ли я стал подопытным в эксперименте по промывке мозгов.
Пиус будит меня на рассвете, свежий как огурчик, в новой спортивной куртке поверх вчерашнего прикида: «Сегодня в Кампалу, чувак, Питер, главное, от меня не отходи». Я радостно встаю, надеясь наконец ехать дальше. «Но сначала выпить». И мы идем. Я вялый и почти больной от недосыпания, поэтому вначале отказываюсь от кока-колы, которую он просит для меня в придачу к своему пиву, но потом выпиваю ее из вежливости, и он заказывает мне вторую, я ее тоже выпиваю. Мы переходим в другой бар. «А потом поедем». Затем в следующий. Перевалило за полдень; я голоден, поскольку любая попытка добраться до еды пресекается шутливыми криками Пиуса и компании, и вместо еды мне выдают колу. Я пытаюсь выяснить, едем мы или нет, и чувствую себя неблагодарным невежей, словно каким-то образом прозевал тот момент в беседе, где объяснялось, почему мы еще здесь. Пиус в ответ нависает надо мной угрожающе и требует одолжить ему 40 шиллингов. Я бездумно подчиняюсь, он возвращается с очередной порцией содовой и заставляет меня выпить. Мозг замутняется все больше. Пиус без устали переходит из заведения в заведение, он и компания держат меня при себе и не дают отойти; к сумеркам я осознаю, что эта толпа не выпускала меня из виду с самого рассвета. Я голоден, меня тошнит от газированного питья, которое мне приносят снова и снова. Пиус опекает меня по-братски, но под видимой заботой сквозит неконтролируемая жестокость. Еще несколько баров, еще кока-кола. Я начинаю прикидывать, как бы отсюда выбраться, но бензовоз Джеремайи по-прежнему не на ходу, капот поднят, механики копаются в двигателе, Джона сидит на прицепе и глазеет на процесс. От углекислоты на меня накатывает полубеспамятство, я начинаю ощущать себя в отрыве от себя самого — будто тело теперь почему-то принадлежит Питеру, а я торчу внутри него и не могу выбраться. Изнеможение. Опять содовая. Пиус берет взаймы еще денег, возвращает часть ранее взятых, начинает невнятно поговаривать о нашей с ним поездке в Заир и о контрабанде алмазов.
— Ага, Питер клевый чувак.
— Ага, Питер клевый чувак.
— Ага, Питер клевый чувак.
Все продолжается в том же духе, день переходит в ночь, ничем не отличающуюся от предыдущей. То ли никому, кроме меня, сон не нужен, то ли компания умудряется спать посменно; рядом со мной вечно торчат сколько-нибудь из них — держат меня без сна, не дают посидеть спокойно, снова и снова тащат мне колу. В четыре утра я наконец засыпаю в очередном баре.
Рассвет, два часа сна. Я вновь покупаюсь на обещания Пиуса, как будто не обманывался раньше. «Сегодня едем в Кампалу, Питер». Компания уже в баре, стоит мне заупрямиться — меня теребят и подталкивают. Опять газировка, опять полубеспамятство. Мне отсюда не выбраться, я сдохну в Элдорете.
Около полудня появляется спасительный Джеремайя, я кидаюсь к нему за помощью — он отмахивается, поскольку пришел готовить очередной свой обед. Он одет в комбинезон, из-за этого голова кажется еще огромнее, что поражает воображение даже самых видавших виды зрителей. Шарф, неизменная феска — Джеремайя, похоже, наряжался специально для приготовления трапезы. Пиус и компания к нему присоединяются, меня тоже ведут вслед за Джеремайей. Помидоры и лук он находит без большого труда, однако путешествие в поисках правильного мяса вполне может потягаться со странствиями Одиссея. Переходя из магазина в магазин, Джеремайя разглядывает коровьи туши, нюхает ломти мяса, здесь отмахивается от покупки, там отчитывает владельцев, соглашается лишь на самые отборные куски. Его, кажется, знает весь город, ни разу не видел, чтобы он за что-то расплачивался. Выбранные куски рассованы по карманам комбинезона. В одной из лавок он обыскивает все карманы, вытаскивает какой-то кусок и обменивает его на другой. В конце концов, мы все собираемся вокруг стола, повторяется знакомый ритуал приготовления обеда. Мы наваливаемся на еду. Я настойчиво пытаюсь поговорить с Джеремайей и попросить спасти меня от Пиуса, но получаю в ответ лишь: «Поговорим после». Обед заканчивается, Джеремайя выходит сполоснуть руки, Пиус вытаскивает меня на улицу и ведет на другой конец города за содовой. Еще одна сумма взаймы, бесконечная кола, угрозы, смысл которых я не понимаю.
Вечер. Мы проходим мимо грузовика Джеремайи, Пиус будит Джону — кажется, из чистого желания покуражиться. Джона просит меня завтра принести ему содовой, он страдает от жажды.
Утро, все по-прежнему, никакого сна, ад разверзается все больше. Я отказываюсь было от первой предложенной бутылки в семь утра, но вспоминаю про Джону и соглашаюсь. «Для кого тебе? Для Джоны?» — подозрительно спрашивает Пиус. Я сознаюсь. Он хватает меня за грудки и велит даже не думать о том, чтобы отнести содовую Джоне, иначе будет хуже. «Ну что, хочешь теперь содовую?» Я говорю, что нет. «Отлично», — кивает он, берет бутылку и заставляет меня выпить. Я начинаю обдумывать побег или открытый бунт против Пиуса, но решаю, что он меня просто прирежет. После полудня мы идем в новый бар, я уже набираю в грудь воздуха на тираду о ненормальности ситуации и о том, что я ухожу, как вдруг рядом с нами тормозит машина, и Пиус неожиданно расцветает улыбкой. «Гляди, Питер! Какая встреча!» Ну, хорошо, и что? В машине оказывается не кто иной, как его мать. «Питер, это моя мама». Мы едем к ним домой, на край города, она невыразимо ко мне добра. «Питер, а чем вы занимаетесь у нас в Кении?» Пиус превращается в сущего мальчишку, который со смехом носится вокруг матери, предупреждая любое ее желание, застенчиво показывает мне семейные фотографии и пьет со мной лимонад. Он даже слегка стыдится перед ней за дурацкие башмаки на платформе. Это его преображение только и удерживает меня от того, чтобы кинуться к его матери за помощью. Не скажешь ведь «Мадам, ваш сын сущий дьявол, он держит меня в плену», если Пиус заботливо помогает ей вытащить из машины сумки, как будто прежний Пиус никогда и не существовал, кроме как в моем воображении. На прощанье мать пожимает мне руку, Пиус целует ее в щечку, мы выходим из машины, сворачиваем за угол — и Пиус бесцеремонно тащит меня в бар. Все сначала.
Ранний вечер, очередной бар. Я ухожу в туалет, подручные Пиуса дают маху, со мной никто не идет. Надо пользоваться случаем и бежать: рюкзак и прочее придется бросить, невелика потеря. Я бросаюсь бегом через задний ход, выскакиваю на улицу, натыкаюсь на какой-то грузовик: двигатель включен, машина вот-вот поедет. Я подбегаю, начинаю карабкаться в кабину и собираюсь умолять водителя добросить меня хоть куда-нибудь, но кто-то меня хватает и стаскивает вниз. Разумеется, Пиус.
— Оставь меня в покое, — говорю я, — меня зовут Роберт, с меня хватит, я уезжаю.
— Нельзя, водитель нечестный, он тебя надует.
— Хватит строить из себя заботливого, я уезжаю.
Я начинаю вновь карабкаться в кабину, Пиус сдергивает меня с подножки и ударом валит наземь. Больно, из глаз совсем по-детски брызжут слезы — не от ярости или ужаса, а от обиды и раздражения. Компания высыпала из бара, меня ведут обратно. Пиус держится слегка смущенно, будто после совершенной неловкости или бестактности. «Да ладно тебе, Питер, давай возьмем тебе еще содовой».
Ближе к полуночи, когда я в изнеможении сижу над очередной колой, Пиус вдруг говорит: «Ах, Питер устал, надо уложить его спать». Меня ведут в соседнюю гостиницу, толкают на постель и желают спокойной ночи. Что за счастье, неужели всерьез? Я засыпаю, вскоре меня будит стук в дверь. На пороге Пиус в темных очках, с сигаретой, в плавках и, разумеется, в башмаках на платформе. С ним две девицы, явно проститутки, он вталкивает их в комнату. «Давай, Питер, все клево». Дверь захлопывается. Я вежливо объясняю, что собираюсь поспать, девицы взвиваются, поднимают скандал и осыпают Пиуса обвинениями, предположительно (по крайней мере я так надеюсь) не связанными со мной. Доходит до рукоприкладства, воплей, рыданий, швыряния вещей, так продолжается почти всю бессонную ночь.
Утро, снова бар, снова кола. Еще ночью я в отчаянии решил отравить Пиуса, подсыпав ему в пиво барбитуратов — я брал их в дорогу на случай экстренного обезболивания и теперь надеялся довести Пиуса до комы. Однако мне наконец-то улыбается удача: без всяких видимых причин очередная утренняя бутылка пива оказывается для Пиуса лишней, его скручивает, он поливает рвотой весь путь от бара до уборной, подручные бросаются следом, один из них хватает меня и тащит за собой. Мне велят принести из бара полотенце, я выбегаю — и обнаруживаю, что за мной никто не пошел, я один. До какого же отчаяния я доведен изоляцией, голодом, страхом и смятением, если даже при такой возможности на мгновение замираю от мысли, как жестоко меня накажут. Пиуса скручивает очередной спазм, подручные обсуждают, что делать. Я хватаю рюкзак и бегу.
На улице солнечно, люди заняты обычными делами — кто-то идет на работу, кто-то собирается завтракать. Каким-то чудом Джеремайя оказывается на месте, бензовоз починен и готов двинуться в путь. Джона призывно машет мне рукой, я прячусь в трейлере. Проходят мучительные полчаса, пока Джеремайя заводит двигатель, переставляет барахло в кабине, вылезает протереть эмблему на капоте, жмет кому-то руки и прощается. Я, сжавшись, сижу в трейлере, опасаясь, что меня вот-вот схватят и уволокут обратно. Однако Пиус и компания так и не появляются. Мы уезжаем. Элдорет остается позади, ни малейшего намека на Пиуса, и я прямо на ходу перебираюсь в кабину тем же способом, который подглядел у Джоны.
«Мистер Питер, вы бросили Пиуса. Очень плохой человек».
К вечеру мы приезжаем в Китале, где живет сестра Джеремайи, и останавливаемся у нее на ночь. Я все еще под впечатлением от побега и свалившегося с меня груза, поэтому с готовностью принимаю материнскую заботу сестры и ее подруг. Дом, состоящий из одной комнаты, полон тяжеловесных матрон, которые пересмеиваются при каждом моем движении, я с наслаждением погружаюсь в исцеляющую семейную атмосферу. Вокруг толпятся дети, по радио крутят родную для кикуйю музыку, все танцуют или покачиваются в такт. Шурин Джеремайи, толстый и дружелюбный, не очень силен в механике и набрал для Джеремайи целую гору всего, что требует починки, — лампы, керосиновые плитки, фонарики.
Мы садимся ужинать, на всех поставлена одна большая миска тушеного мяса. Я блаженно растворяюсь в общей благожелательной атмосфере. Сестра Джеремайи ненадолго исчезает и возвращается с главной изюминкой всего вечера — Джоной, которого она то ли выманила из бензовоза плошкой еды, то ли застала врасплох и силой стащила на землю. Поскольку телосложение у нее с Джеремайей схожее, второй вариант кажется более правдоподобным. Тем временем Джеремайю облепили дети, он пытается делать грозный вид, но тщетно и вскоре, усадив малышей на колени, уже поет свою фирменную песню, похлопывая по феске. Джона нервно проглатывает еду и не прочь вернуться к бензовозу, его отпускают с условием, что он возьмет с собой еще еды.
Близится ночь, я смакую награду за выживание — сестра Джеремайи зовет меня Робертом, мне готовят постель, мне дадут поспать. После того как я четыре дня проклинал весь континент, породивший Пиуса, мне хватает всего одной ночи спокойного сна, чтобы утром проснуться с прежней любовью к Африке.
6. Старик и карта
Павианы где-то опять изобретали колесо, а я проводил день в лагере. Вокруг на много миль простиралась травянистая саванна с растущими по берегам рек деревьями, куда павианы ежедневно наведывались за едой, и посреди этого великолепия расположилась непроходимая чащоба. Она тянулась по хребту холма на целые мили: плотные кустарниковые заросли, нескончаемый терновник, глубокие норы африканского муравьеда и бугристая вулканическая порода, и все это кишело зверьем, встречаться с которым категорически не хотелось. Мои предшественники, студенты-выпускники сказали мне, что за павианами туда лучше не ходить. Однажды я сунулся туда на своих двоих — меня чуть не раздавил носорог. Тогда я попытался заехать на джипе, моментально проткнул две шины, едва не сломал ось, и меня чуть не раздавил носорог. Больше я туда проникать не пытался. Версию насчет изобретения колеса выдвинул один из тех же студентов: он утверждал, что именно этим павианы занимаются, когда уходят от нас в чащобу. Утро, когда они продемонстрировали мне это, оказалось особенно интересным. Урия по-прежнему хладнокровно изматывал Соломона и находился примерно в середине процесса. Состоялась стычка, и, хотя победа, по всей видимости, пока осталась бы за Соломоном, число отступлений становилось критическим. Погони вновь сменялись поединками, и вот оба бойца в особенно острый миг… исчезли в чащобе и больше в тот день не появлялись. Тем временем почтенный величавый Аарон взялся усиленно ухаживать за Бупси на самом пике ее половой готовности — метил он слишком высоко для своего статуса, явно пользуясь тем, что Соломон с Урией заняты своей битвой при Ватерлоо. Заносить такое в журнал наблюдений полагалось только после фактического соития, которое уже вот-вот назревало, как вдруг… они исчезли в чащобе, и больше их в тот день никто не видел. В поле зрения показалась Мариам с младшим детенышем, который сделал первые, пробные, драгоценные шаги… прямиком в чащобу. И так все утро. В конце концов из-под кустов вылез только что проснувшийся Вениамин, который в поисках стада выбежал на поле по одну сторону от чащобы, затем на поле по другую сторону от чащобы — и тоже ринулся изобретать колесо.
Я плюнул и вернулся в лагерь. Предположительно для того, чтобы читать литературу и доделывать отчеты, на деле же всякий раз, когда днем я находился в лагере, мне приходилось изображать из себя Альберта Швейцера[4]. И никуда не денешься. Если ты хоть краем глаза видел сериал «Доктор Маркус Уэлби» и имеешь при себе бактерицидный лейкопластырь — ты самый компетентный и обеспеченный оборудованием врач-практик на сотню миль вокруг. Что самое поразительное — масаи именно так и думали.
К тому времени лагерь уже походил на настоящую клинику. У первого мальчика рассечена стопа и открытые раны на обеих ногах. Все промыть, матери прочитать лекцию о ежедневном купании ребенка в чистой воде (откуда она ее возьмет?), намазать бацитрациновой мазью, залепить лейкопластырем. Мать собирает обрезки пластыря, сует в сумку. Я чувствую себя жирным расточительным буржуем. У следующего ребенка диарея. Не связываться: шанс вылечить невелик, а обвинений нахватаешься. Женщина с малярией, дать ей хлорохин. Та, что ее сопровождает, тоже больна — старательно демонстрирует мне свой кашель, пока я слушаю ее стетоскопом. По звуку похоже на засорившийся кондиционер в старой больнице. Скорее всего, туберкулез, здесь он у всех поголовно. Не связываться.
По склону горы поднимается старик — лет, вероятно, шестидесяти. Канонический старик-масаи, чистый архетип, в моем просвещенном мире таких не увидишь. Шерстяная шапка на давно не бритой голове — мелкие клочки седых волос, тонкая седая бородка. Резкие черты лица с выступающими углами, как коза Пикассо, все из острых граней. И бесчисленные морщины, некоторые даже забиты пылью — пересеченная местность для мух, ползающих по всему лицу. Такое лицо явно никогда не прибавляло ему шансов на выживание: в младенчестве оно как-то умудрилось убедить мать выкормить ребенка, а потом, не признавая никаких ограничений, пошло вразнос. Одно ухо удлинено: масаи прокалывают уши и всю жизнь отращивают их до самых плеч. Другое ухо оторвано, как если бы какой-нибудь стервятник в издевку попытался утащить старика в когтях, уцепившись за мочку, а вместо этого унес лишь кусок сухой кожи, шесть десятков лет служившей ухом. Остальное тело состояло из кожи, похожей на мешковину, и сухих связок костей, и лишь зад и верхняя часть бедер были крепкими — словно мешковина здесь была набита стальными шарикоподшипниками.
У старика гноился глаз. Конъюнктивит. Мы называем это «масайский мушиный глаз»: муха проползла по навозу, потом села на глаз — и прощай глаз. Из-за этого среди масаи невероятное количество безглазых. Этот старик приходил и раньше, глаз выздоравливает, я даю ему антибиотики внутрь и антибиотики в виде мази, которую наношу на глаз. В прошлый раз я на своем ломаном суахили попытался ему объяснить, что антибиотики надо принимать в течение недели по четыре раза в день и при этом ничего не есть непосредственно до и после приема таблеток, и старик остался уверен, что ему нельзя есть целую неделю, пока он принимает лекарство. Видимо, он так и провел первый день и лишь потом заметил сыну, что лечиться у белых людей не так уж легко. Сын пришел ко мне, спросил, потом объяснил отцу.
Теперь, когда я обработал глаз, старик уходить не спешит — он не прочь посмотреть, нет ли в лагере чего-нибудь интересного. Я развлекаю его сухим льдом, который мне еженедельно привозят для заморозки образцов крови павианов. Я открываю коробку, веющий ото льда дымок вырывается наружу. «Горячо», — говорит старик. Я беру стакан воды, бросаю туда немного льда, дым по-прежнему идет. «Горячо», — повторяет старик, наверное, слегка заскучав. Я беру его руку и окунаю в стакан. «Холод!» Я даю ему подержать мелкий осколок льда. Он опасливо его принимает. «Горячий холод». Голос сухой, ломкий, почти испуганный. Старик совсем не понимает, что происходит.
Я даю ему послушать стетоскопом его собственное сердце. Вставляю слуховые наконечники ему в уши (попутно опасаясь ушных бородавок или чего-нибудь заразного). С трубками в ушах он выглядит неправдоподобно, как какой-нибудь король Свазиленда, напряженно слушающий синхронный перевод доклада в ООН. Я осторожно постукиваю его по груди и прикладываю резонатор к его сердцу. Старик слушает и коротко кивает головой в такт сердечным ударам. Кажется, ему совсем все это не интересно.
— Это твое сердце, — говорю я.
— Я старик, и у меня много сыновей.
Совершенно загадочная фраза. Он угрожает мне на случай, если я сделаю что-то дурное с его сердцем? Или хвастается? Или провозглашает свои заслуги и бессмертие, противопоставляя их такой безделице, как стук сердца?
Подчиняясь внезапному порыву, я достаю подробную топографическую карту заповедника. Расстилаю ее, толком не представляя, что показывать старику и зачем. Он присаживается на корточки и сидит неподвижно, удерживая равновесие бедрами и носками стоп. Я прикидываю — наверняка безошибочно, — что за всю жизнь он не бывал дальше тридцати миль отсюда и знает с полдесятка географических названий, которые есть на подробной карте. Разворачиваю карту. Указываю старику на соседнюю гору, медленно произношу название. Указываю на карту, обвожу пальцем концентрические круги, обозначающие на карте гору, и повторяю название. Затем точно так же указываю на реку, текущую позади лагеря, и на карту, оба раза произношу название. Затем проделываю то же с восточными горами. Старик смотрит на меня совершенно бесстрастно. Без нетерпения, без непонимания, просто бесстрастно. Я вновь повторяю всю последовательность, торжественно выговаривая все названия, словно имя обладает какой-то особой властью. В ответ — та же бесстрастность. Я решаю попробовать еще раз. Указываю на конус горы, произношу название, тычу в карту. Когда я веду пальцем по извивам реки на карте, старик вдруг громко ахает. Глаза широко открыты, он учащенно дышит. Торопливо, нараспев он вновь и вновь повторяет имя реки, указывая то на реку, то на карту. Его, по-прежнему сидящего на корточках, клонит назад, он тут же выравнивается, дышит по-прежнему учащенно. Указывает на гору и громко, почти выкрикивает ее название, не переставая улыбаться, затем позволяет мне взять его руку с вытянутым пальцем и тронуть нужную точку на карте. Он разражается смехом. Он вновь очень медленно прочерчивает в воздухе реку и горный хребет до самой вершины, а затем вытягивает руку и ждет, пока я прикоснусь его пальцем до нужного участка карты. Торжественно, нараспев он повторяет название горной гряды. Вернувшись к первой конусообразной горе, старик снова начинает смеяться при виде ее изображения на карте — причина смеха понятна лишь ему одному. Вдруг он резко серьезнеет, взглядывает по сторонам и аккуратно поворачивает карту — теперь указанные на карте горы и реки ориентированы так же, как природные. Старик вновь указывает на конусообразную гору и опять смеется, потряхивая головой так, будто с трудом верит происходящему.
Он внезапно замолкает и задумывается. Я начинаю подозревать, что его что-то встревожило или отвлекло. Он склоняет голову набок, что-то обдумывает, долго не отрывая взгляд от карты, а затем очень-очень осторожно растягивает и переворачивает карту. Может, пытается выяснить, что там под землей? Чистая оборотная сторона карты не вызывает у него тревоги — он даже, кажется, укрепился в каких-то своих предположениях.
Он встает, его слегка покачивает — то ли от резкой смены позы, то ли от новизны впечатлений такого насыщенного дня. Он собирается уходить, как вдруг его осеняет новая мысль. Он смотрит на карту, потом задерживает взгляд на мне и, указывая на карту, спрашивает: «Где твои родители [где твой дом]?»
Я вспоминаю, как в детстве попал в нью-йоркский планетарий и впервые в жизни осознал размер Солнечной системы. Сидишь в зале, у тебя над головой по концентрическим окружностям вращаются модели планет, диктор называет одну планету за другой, а затем говорит, что размер модели, к сожалению, не позволяет поместить сюда Уран — он оказался бы на другой стороне улицы, в центральном парке. Плутон тоже сюда не поместится, он… в Кливленде. «Ничего себе, — думаешь ты, — ну и размеры у Вселенной».
Я вновь указываю на знакомые старику места. Отхожу от карты шага на три и говорю название столицы масайского округа — сын старика там наверняка был. Затем отхожу еще на полдесятка шагов и говорю: «Здесь Найроби» — это название старик раньше слышал. Затем иду через поле, пока не начинаю опасаться, что старик с его единственным здоровым глазом может потерять меня из виду, однако по его напряженной позе понимаю, что все его внимание устремлено на меня. Отойдя еще немного — так, чтобы он не счел расстояния совсем уж фантастическими, — я останавливаюсь и кричу: «Дом моих родителей!» Он недоверчиво хмыкает: то ли не верит, что я говорю правду, то ли не верит, что мир так велик, то ли не верит, что я стану лгать старому человеку, то ли сомневается, что можно бросить родителей и уехать в такую даль, чтобы жить в палатке. Он продолжает хмыкать про себя, затем вновь тычет посохом в самую середину карты — в то место, где мы находимся, и с чувством восклицает: «Мой дом!»
Он совершенно доволен тем, как прошел день: он не только увидел разные чудеса, но и убедился, что наследники будущего (насколько он причисляет к ним меня) не так уж безнадежны. Он пожимает мне руку и бредет прочь, что-то бормоча себе под нос. «До свиданья, белый человек!» — кричит он мне от кромки леса. «До свиданья, масаи!» — кричу я в ответ, к его удовольствию. Продолжая хмыкать, он уходит в заросли.
7. Память крови. Восточноафриканские войны
Чужие битвы
Ближе к концу первого года я гостил в доме одного из моих знакомых из туристской гостиницы. Харун происходил из земледельческого племени, живущего недалеко от границы с Танзанией. Тамошняя жизнь меня совершенно очаровала. Душевный, жизнерадостный, крепкий народ занимался фермерством в горах, где мельчайший клочок земли отвоевывается у склонов ради выращивания бесконечных количеств того, что станет пропитанием для бесконечного количества детей. Сильные, здоровые и крепкие люди, которые едят как боровы и работают как заведенные, а в немногие часы досуга занимаются ворожбой и колдовством, клановыми войнами и мстительными разборками с колдовскими проклятиями. Семье Харуна недавно навели порчу на колодезную воду, отчего заболела Харунова сестра. По крайней мере семья была уверена, что соседи наняли шамана, чтобы отравить их. Когда вначале идет тяжба из-за коровы, вытоптавшей урожай кукурузы, а потом заболевает девочка, месть и проклятие — самые правдоподобные объяснения.
Наибольшие усилия, однако, тратились на борьбу с соседним племенем — масаи. Обычно масаи жили у южной и восточной границы и раньше устраивали вылазки с намерением увести сколько-нибудь местного скота, а такие налеты заканчивались побоищем. Однако в последние десятилетия сюда добралась независимость, и все изменилось. Теперь, когда племя Харуна — кисии — воевало с масаи на востоке, никаких препятствий не было, и все совершалось к всеобщему удовольствию. Но, сражаясь с масаи на юге, киссии воевали с танзанийцами, а это уже международный инцидент, и тогда в дело вмешивалась полиция и требовала разойтись.
Воюющие стороны считали такое положение дел непонятным и спорным. Мне это напомнило более давнюю историю с той же границей, которая тогда служила другим странным разделителем. В прежние времена Кения была частью Британской восточной Африки, Танзания была германской Танганьикой, и в 1914 году белые колонисты и там и там, послушные своему долгу, облеклись в мундиры, сформировали войска и вступили в Первую мировую войну. Земля кисии не избежала боев, и даже сейчас здесь ходили легенды о сокровищах, зарытых в холмах солдатами перед битвой.
Мы с Харуном сидели в компании древних стариков, которые пили, фыркали, отрыгивали и вспоминали. Я спрашивал их о временах, когда британские и германские колонисты сражались между собой. Мои собеседники хорошо это помнили: «Белые люди между собой воевали, поэтому начали воевать и здесь. Приходили в такой одежде, как сейчас полицейские, и стреляли друг в друга. Мертвые белые люди — можешь себе представить? Однажды прилетел аэроплан. Мы не знали, что это такое, и страшно испугались, побежали к матерям и спрятались.
Как-то британцы пришли и сказали, что мы тоже должны воевать. Мы с трудом верили, что нам дадут ружья, чтобы стрелять в белых людей. Нам всегда говорили, что в ружьях есть волшебный секрет, так что африканец не сможет стрелять в белого человека, но тут нам сказали, что немцы — это другие белые люди и ружья будут работать.
А потом нам сказали совсем чушь. Велели идти против масаи и обещали дать для этого ружья. Да, ответили мы, мы будем биться с ними вашими ружьями. Но белые люди сказали, что можно воевать только с масаи, которые на юге, а с восточными масаи нельзя. Мы решили, что это надо умом поехать, и отказались. Некоторых из нас били, но мы все равно отказались».
Стариков эта история озадачивала и в общем забавляла. Воевать с масаи, впрочем, им было в удовольствие. Отряды масаи из Британской восточной Африки несколько раз сражались с отрядами южных масаи из Танганьики, те и другие в импровизированном обмундировании. Никто не помнил, кто победил.
Во время той же поездки я выяснил, что отец Харуна помнил войны белых людей по-другому. В 1930 году, в двадцатилетнем возрасте, он выбрал себе невесту. То была юная девушка с соседней горы, он встречал ее у колодца, когда пригонял туда коров. Они несколько раз украдкой обменялись взглядами, один раз поздоровались. Когда он спросил ее имя, она рассмеялась ему в лицо и взбежала вместе с козами обратно на гору. И он решил на ней жениться.
Он пошел к своему отцу, Харунову деду, и сказал, что на соседней горе есть девушка, на которой он хочет жениться. Нельзя ли ему сейчас получить наследную часть скота, чтобы дать родителям девушки выкуп за невесту? Дед Харуна ответил, что придется подождать год, поскольку сам он, а ему тогда было за сорок, как раз собрался взять себе третью жену и отдать за нее часть скота. Отец Харуна — недовольный, но покорный — принялся ждать, а через неделю выяснилось, что третья жена выкуплена и она… та самая девушка у колодца.
В полном отчаянии отец Харуна впервые в жизни спустился с горы со всеми своими деньгами, пришел в факторию, засел в баре и напился до бесчувствия. Когда он пьяным брел обратно с громкими жалобами и воплями на кисийском языке его арестовала колониальная полиция. И отправила солдатом в Индию. На пятнадцать лет. Отец Харуна исчез: пятнадцать лет он провел на британских войнах в Индии и Бирме, участвовал во Второй мировой войне, воевал против японцев вместе с солдатами из Судана, Нигерии, Гамбии, Родезии — коренными жителями всех уголков империи. Он вернулся в 1945-м, тридцати пяти лет от роду, и женился на пятнадцатилетней девушке, которая позже стала матерью Харуна. По словам Харуна, отец больше никогда не видел ни Харунова деда, ни его третью жену и никогда не упоминал те пятнадцать лет войн — говорил только, что кормежка ему не нравилась.
Когда в тот приезд я с ним познакомился, ему было около семидесяти, и он, насколько я видел, был уже изрядно не в себе от старости. Он сидел на кресле в углу, глазел по сторонам и что-то бормотал, мать Харуна торопливо готовила угощение и чай. Когда Харун меня представил, его отец тревожно подался назад. Весь остаток дня он не сводил с меня глаз, отказался с нами обедать. В конце концов он подозвал Харуна и, указывая на меня, сказал по-кисийски: «Если этот белый человек из армии, то скажи ему, что я еще раз служить не пойду».
Дреды
В те же времена мне удалось связать воедино некоторые события более поздней войны в Восточной Африке.
Уилсон Кипкои был, вероятно, единственным в бушленде, кто ненавидел Гитлера. Его возмущали и роль арабов в работорговле, и геноцид индейцев в Америке, и действия Израиля против Палестины. На сотни миль вокруг никто, кроме него, скорее всего, об этих фактах и не слыхивал и уж тем более не проникся кипящей, жгучей злобой к тем, кто вершит такую несправедливость. Гнев Уилсона не ограничивался лишь историческими поводами и заокеанской политикой. Он негодовал оттого, что его страна имеет однопартийную систему, что цензура глушит прессу, что люди бесследно исчезают, что половина бюджета уходит на подкуп армии ради того, чтобы солдаты сидели в казармах и не пытались свергнуть правительство. И он заявлял об этом вслух, что было совсем не безопасно.
Уилсон Кипкои вырос в буше и не получил почти никакого образования, однако его неуемно тянуло к знаниям. Он самостоятельно выучился отлично говорить по-английски и тратил все деньги и время на книги. И обнаружил, что все прочитанное лишь укрепляет его гнев. Он не пускался в крик, даже не повышал голоса, не был склонен к шумным вспышкам стихийной ярости. Его ненависть зрела постепенно и исподволь и не очень вязалась с его длинным поджарым телом и треугольной головой. Она задавала постоянный ритм пульсирующей в висках крови. Когда охранники или полицейские наведывались в деревню отобрать у людей часть заработка, Уилсон встречал их лицом к лицу и заявлял, что они хуже белых южноафриканцев. И получал за это побои. Когда белые называли кого-нибудь из черных «мальчиком», Уилсон называл их колониальными свиньями. И нередко терял работу. Он бесстрастно говорил об убийствах людей — случались они часто, но о них старались лишний раз не упоминать. Друзья смотрели на него с благоговением и страхом и не могли скрыть тревоги за него.
Главным же свидетельством его нестандартности и уникальности было занятие, о котором он никому не говорил: двадцатилетний Уилсон по вечерам, в одиночестве, писал стихи и рассказы на английском, на суахили и на языке своего племени — кипсиги. Творения в стиле шпионских приключенческих романов, популярных среди кенийской интеллигенции, повествовали о предательстве и политических репрессиях, о том, как правое дело терпит поражение. О его писательских опытах не знал никто из друзей, он никогда не говорил о них собственной жене. Она была необразованной, из масаи — традиционных врагов племени Уилсона. Еще до женитьбы, когда она от него забеременела, ее отец удовлетворился бы стандартным выкупом — номинальной суммой, выплачиваемой в таких случаях. Однако Уилсон не стал откупаться, немедленно женился на девице и в дальнейшем обращал на нее внимания не больше, чем на зебр, бегающих по саванне.
Наибольшую ненависть и проклятия, наиболее яростные, пульсирующие в висках смертельные угрозы Уилсон адресовал собственному отцу. Тот на старый манер звался Кипкои ва Кимутаи — Кипкои, сын Кимутаи, — и все знали его как Кипкои. Уши его с дырами в мочках по древней традиции племени висели до плеч. Лицо помятое, на одежду и внешний вид явно плевать, на чужое мнение — тоже. В отличие от Уилсона с его пламенными речами, Кипкои собственноручно убивал людей десятками. Когда мы познакомились, он работал в департаменте по делам заповедников и возглавлял отряд по борьбе с браконьерством, патрулировавший ту часть Кении. Задолго до независимости, еще молодым, он был натаскан работать «мальчиком» на побегушках, то есть служить британскому «бвана» — одному из крупных белокожих охотников. Кипкои сопровождал охотника на платные сафари, или на отстрел топтавших посевы слонов, или на охоту за старыми, почти беззубыми львами, которые от голода кидаются на жителей деревень. Исполняя работу «мальчика», он смазывал ружья, держал их над головой при переправе через реки, всегда был рядом со своим «бвана» и, не моргнув глазом, встречал буйвола, когда тот шел прямо на них, — недрогнувшей рукой в нужный миг подавая охотнику нужное ружье. Он научился выслеживать и подкрадываться, годами помнил однажды пройденную тропу через буш, по запаху определял давность отметины, оставленной носорогом на древесной коре. И вдобавок превосходно умел стрелять, хотя практиковаться приходилось украдкой: «мальчику» стрелять не полагалось, поэтому учить его никто не думал.
Примерно ко времени независимости, около 1963 года, дичи стало заметно меньше: население росло, все больше территории лесов и буша уходило под земледелие. И богатые белые люди вдруг перестали охотиться — они приезжали посмотреть на животных и снять их фотокамерой. Именно в то время, когда страна лишилась белого господства, африканцам сказали, что убивать животных больше нельзя и нужно их охранять. Так Кипкои стал частью нового плана: странной идеи защищать животных, создавать и охранять заповедники. Прежние британские «бвана» на некоторое время задержались в заповедниках на руководящих должностях, но, когда охота мало-помалу сошла на нет, стало политически неприемлемо иметь белые лица, управляя африканскими заповедниками, и тогда появились первые черные начальники. Кипкои, по всей логике, должен был стать одним из них: он подходил по возрасту и с юности работал с животными. Однако его сердце не лежало к тому, чтобы организовывать подсчет поголовья, или окорачивать охранников у ворот парка, прикарманивающих часть входной платы, или организовывать у палаточных стоянок места для сбора мусора. Его по-прежнему тянуло охотиться — и он стал охотиться за людьми. В департаменте он специализировался на борьбе с браконьерством и, продвигаясь по службе, успел послужить на всех рубежах страны, где нарушители норовили перемахнуть через границу, уложить из автомата слона или носорога и улизнуть обратно с рогом или бивнем. Когда его поставили патрулировать границу с Сомали, он набрал в свой отряд крепких кенийцев, почти уголовников, из южных племен банту, которым нет большей радости, чем убить одного-другого из сомалийцев — известных налетчиков с севера. Когда Кипкои перевели на юг, к границе с Танзанией, он набрал в патрульные войска холодных, молчаливых кенийских сомалийцев, которым только дай устроить засаду на круглых, водянисто-мягких банту. Кипкои с его взрывным нравом не терпел неповиновения и мог в приступе ярости накинуться на бойцов, нарушивших его указания, повалить их и избить, он пускался в крик, не стеснялся в выражениях и славился отличной осведомленностью. Даже дослужившись до пенсии, он никуда не ушел и в свои пятьдесят с лишним лет руководил каждой стычкой, каждой засадой, каждой перестрелкой с браконьерами. Со временем ему все больше приходилось сражаться против отрядов танзанийской армии — по ту сторону южной границы усилился голод и те, у кого было оружие, были не прочь добыть себе зебру на мясо. Кипкои не уходил на покой. Он любил охоту. Он боялся возвращаться к деревенскому хозяйству, где ему оставалось лишь состариться и умереть. А самое странное — у него была мечта, немыслимая для любого другого африканца, необъяснимая и совершенно чуждая здешней жизни, традиционно состоящей из борьбы против сложного и требовательного мира. Кипкои когда-то поверил в бессмыслицу, о которой разглагольствовали белые люди в эпоху наступления независимости: он полюбил животных и теперь хотел их охранять.
У Кипкои было четырнадцать детей: из каждого отпуска он возвращался на службу, оставляя какую-нибудь из трех жен беременной. Тринадцать из четырнадцати детей он едва различал, они его тоже знали мало. Однако первого сына, Уилсона, он от себя не отпускал. Тот вырос в палаточных лагерях, в северной пустыне, в западных тропических лесах, где угандийцы украдкой ставили ловушки на лесных антилоп, на дальних осаждаемых кордонах вдоль границы с Танзанией. Ребенком он слышал по ночам ружейные перестрелки и видел, как мужчины — и его отец тоже — возвращались ранеными. А некоторые не возвращались вовсе. Он рос пугливым и одиноким, хорошо знающим законы буша c его опасностями и постоянно готовый к ним. Жизнь казалась ему одной большой засадой, и в половине случаев главным налетчиком для него представал сам Кипкои. Отец держал его при себе, учил всему, что знал о буше (и при этом никогда не учил обращаться с винтовкой). Головорезы из отрядов Кипкои дивились присутствию мальчишки, но не трогали его. Позже Уилсон подрос и начал работать в туристских лагерях, а Кипкои с отрядом по делам службы обосновывался в той части страны, где находился лагерь Уилсона, и ни один из местных егерей не дерзал в день зарплаты подойти к Уилсону и потребовать денег: Кипкои и его отряд были хорошо известны, их опасались. Правда, никто не знал — и Уилсон стыдился хоть кому-то рассказывать, — что в день зарплаты к Уилсону являлся сам Кипкои, избивал его и отбирал изрядную часть суммы.
Поборы были простой формальностью. Кипкои избивал Уилсона с раннего детства. Яростно бил, а потом читал наставления. О том, что белые забрали себе всю страну, унижают людей и убивают животных. О том, что белые натравливают племя на племя и в Африке вечная война. О том, что белые держат людей в нищете и солдаты убивают беременных самок на мясо. О том, что Уилсон должен расти крепким, быстрым, норовистым и грозным и тогда никто не сможет его одолеть, а отец будет законно гордиться старшим сыном. Закончив нотацию, Кипкои бил его снова.
На фоне всех противоречий и унижений, бурных гневных приступов и опасностей отцовской жизни Уилсон ступил на единственный путь, доступный человеку подчиненному и во всех смыслах безоружному. Он стал полной противоположностью тому, что видел: никакой неукротимой злобы, его ярость была ледяной. Он молчал, выжидал, наблюдал. В нем развились крайней редкие для жителей буша черты — язвительность, ироничность, желчность, цинизм. Против Кипкои он использовал лучшее свое оружие — открытое презрение. Презрение к деревенским манерам отца, его деревенской выучке, деревенским представлениям о жизни. Уилсон в пику почти полной безграмотности Кипкои принялся жадно читать. Он постигал историю и законы мира, чтобы показать, насколько на их фоне ничтожен Кипкои с его подручными. У него сложились твердые политические взгляды, подчеркивавшие карательную функцию людей в форме и с оружием — людей, которые натасканы охотиться на других людей. Поначалу мысленно, а позже вслух он стал отзываться о Кипкои в уничижительной манере колонистов: «мой отец, обезьяна из буша», «мой отец, ниггер из бушленда».
Примерно в это время Уилсон начал работать у Палмера. Уилсона как раз уволили из очередной туристской гостиницы, и он жил в лагере Кипкои; в его углу палатки штабелями громоздились книги и бумаги. По определенным дням Палмер на ревущем лендровере наведывался с регулярной инспекцией.
— Где Кипкои? — обычно орал он ошеломленным сомалийцам. — Опять где-то надрался? Да я его сожру живьем, сделаю из него жаркое, как из лесной обезьяны! Куда он к чертям подевался?
Через некоторое время из палатки выходил Кипкои.
— Здравствуй, белый человек. Я чистил ружье — думал устроить с тобой перестрелку, старая колониальная сволочь.
Палмер расцветал улыбкой.
— Побереги патроны и остатки меткости для танзанийцев, деревенщина. Силы у тебя не те, что раньше.
И на глазах у изумленных сомалийцев парочка уходила разговаривать в палатку Кипкои.
Палмер был одним из тех белых кенийцев, которые, не имея официальной должности, пользовались властью, выходящей за рамки стандартных представлений. В финансовой преисподней нищих африканских правительств, в чьем ведении находились животные, тогда как заботились об этих животных белые, значительная часть жалованья Кипкои и его отряда, а также их форма, горючее и патроны оплачивались Палмером. Британец по рождению, он вырос в Кении, получил богатое наследство и вступил во владение огромными пшеничными угодьями на краю южных саванн. Однако вовсе не доходы от пшеницы и не благотворительность давали ему право инспектировать отряд Кипкои. В прежние времена Палмер, будучи одним из последних британских управляющих в заповеднике, со свирепым энтузиазмом проводил антибраконьерские операции. Когда его белому лицу пришло время сойти со сцены, он принял это с достоинством, отнес на счет политической необходимости и настоял, чтобы антибраконьерская деятельность была выделена в самостоятельное направление и чтобы на его место заступил Кипкои. Палмер отлично знал Кипкои и его способности, поскольку до руководства заповедником и до эры независимости Палмер был одним из белых охотников — Кипкои служил ему «мальчиком» с тех времен, когда обоим было слегка за двадцать.
Внутри палатки Палмер с Кипкои тут же прекращали взаимные подначки, на которые рефлекторно переходили в присутствии других, и начинали обсуждать дела отряда. Кто, по мнению Кипкои, был в сговоре с браконьерами. Где в следующий раз могут напасть танзанийцы. Что можно сделать с влиятельным членом парламента, который курирует изрядную часть контрабанды слоновой кости. Все чаще в таких разговорах всплывал вопрос, где достать деньги. По соглашению, заключенному Палмером с правительством, половину отряда содержало министерство, вторую половину расходов брал на себя Палмер. Однако из-за экономического кризиса, который все разрастался, правительственная часть уменьшалась каждый месяц, бойцы начинали голодать. Кипкои требовал у Палмера больше денег для отряда, Палмер в ответ жаловался и угрожал, проклинал правительство, обвинял Кипкои и его людей в расточительстве. Но все это было лишь для виду. Потому что под конец Кипкои цитировал давно знакомую им с Палмером максиму, которая у каждого отзывалась своей болью: «Голодный человек совершает ошибки». И Палмер выделял отряду еще денег — больше, чем мог себе позволить даже при своих немалых средствах.
Один из таких разговоров и услышал Уилсон, сидевший в палатке и делавший вид, что читает. На него не обращали внимания. Чуть позже Кипкои и Палмер уже перед всеми вновь перешли на оскорбления и подначки. Перед самым отъездом Палмера Кипкои задал ему вопрос, который мысленно готовил все это время:
— Палмер, ты же плантатор — может, возьмешь моего сына на работу? Этот придурок даже в туристских лагерях не задерживается. Но уж в фермерском хозяйстве сгодится и такой.
— Запросто. Только, если он хоть немного похож на тебя, выгоню его через месяц.
— И следи, где хранишь деньги. Сворует при первой возможности.
Так Уилсон начал работать у Палмера. Выучку он получил разнообразную. Работал с техникой, научился вести счета, надзирал за рабочими, договаривался с местными масаи о прекращении налетов, служил посредником между отрядом Кипкои и Палмером. Он отлично со всем справлялся, но ему ни разу не случилось испробовать то, о чем он втайне мечтал. Палмер никогда не учил его стрелять. Палмер был уникум — бывший охотник, бывший управляющий заповедником, бывший командир отряда по борьбе с браконьерами, он вдруг занялся презренным фермерским трудом, что не могло не удивлять окружающих. Более того, он принадлежал к тем немногим, кто не стрелял в дичь, приходившую полакомиться его урожаем. Он протягивал многомильные электроизгороди со слабым током, нанимал загонщиков дичи, даже пробовал обрабатывать поля специальными препаратами, чтобы вызвать у зверей рефлекс отторжения и заставить их обходить посевы стороной. Но в животных не стрелял никогда. Любовь к зверью, из-за которой он и давал деньги на антибраконьерский отряд, пришла к Палмеру такими же внешне нелогичными путями, как и к Кипкои, и любил он даже тех, что поедали его урожай.
Хотя мечта Уилсона выучиться стрелять так и оставалась неисполненной, в остальном ему нравилось работать и жить там. Палмер непроизвольно относился к нему так же, как годами раньше относился к Кипкои: учил, бранил, высмеивал, продвигал в должности. Уилсон, уже привычный к отцовским сменам настроения, легко вжился в роль: огрызался на Палмера, проклинал его колониальные замашки и при этом честно и преданно исполнял все наилучшим образом. Они постоянно препирались друг с другом. Уилсон бесстрастно обвинял Палмера и его соплеменников в том, что они загубили кенийские земли выращиванием урожаев на продажу, что они спровоцировали индо-пакистанские войны разжиганием религиозной розни во время британского правления в Индии, что они притесняют Северную Ирландию, — словом, выдавал полный набор претензий к англичанам. Палмер в ответ поносил политические взгляды и экономические представления Уилсона, недвусмысленно намекая, что Уилсон скатывается в большевистские идейки, и предупреждая, чтобы тот не вздумал агитировать работников на плантации. И тут же давал Уилсону ответственные поручения и оставлял ему почитать новые книги на всевозможные темы. Уилсон мало-помалу начал перенимать грубовато-напористые повадки Палмера, даже когда говорил друзьям, что когда-нибудь убьет эту старую колониальную сволочь.
Трудности начались, когда правительство еще больше сократило расходы на отряд Кипкои. Вскоре даже традиционная, болезненная для обоих фраза Кипкои о том, что голодный человек совершает ошибки, не могла выудить у Палмера больше денег — он и так давал сколько мог. Месяц шел за месяцем, государственное жалованье выплачивалось с опозданием либо не выплачивалось вовсе. Не хватало патронов и горючего, не хватало еды. Они голодали так же, как обнищавшая танзанийская армия по ту сторону границы, и начали подумывать о таких же способах добыть пропитание. Сомалийцев мало заботили моральные вопросы, но они боялись Кипкои и невольно его уважали, знали его взгляды и поэтому предпочли поговорить с ним открыто. У них нет еды. Им ничего не стоит пошерстить местных. То, что Кипкои из этого же племени, их не волнует, они не Кипкои. Или они могут пострелять в кого-нибудь, чтобы добыть мяса. Нам нечего есть, Кипкои, что за манера — не платить денег. Дай нам еды, или мы добудем ее сами.
Не менее голодный Кипкои, который все эти месяцы предвидел назревавший кризис, уже принял решение. Отряд начнет убивать животных на мясо. Взрослых самцов — зебр, жирафов или хищников, кого-нибудь помясистее, не из охраняемых видов. Где-нибудь без шума. И стрелять будет он, Кипкои. Его людям нужна еда.
Ночь он провел без сна, в лихорадочном возбуждении, — такого с ним не случалось с того давнего дня, когда ему предстояла первая в жизни охота с «бвана» сорок лет назад. Вместо автоматов, которыми в отряде сражались против браконьеров, Кипкои взял огромную старую винтовку калибра.458, с какими прежде ходили на слонов. И на первом же выстреле дрогнул — такого с ним раньше тоже не бывало. И промахнулся по жирафу. Одни из молодых сомалийцев хохотнул и продолжал посмеиваться даже после того, как Кипкои уложил другого жирафа — бегущего, с большего расстояния. В ту ночь люди, насытившись мясом и расслабившись после обещания Кипкои добывать по туше в неделю, отпускали за его спиной шуточки насчет того, что старик сдал: «Реакция уже не та. Видали, как рука дрогнула?»
Неделей позже, когда Уилсон наведался в лагерь передать деньги и распоряжения от Палмера, Кипкои был где-то в дозоре. Уилсон, дожидаясь его, подсел к компании, хоть и не особенно чтил ее. Здесь его по-прежнему считали странным, однако не могли не уважать его крепнущий авторитет и близость к Палмеру и при этом сознавали власть Палмера над отрядом. В тот день к нему решили если не подлизаться, то хотя бы поговорить по-приятельски. Высмеивавший Кипкои молодой егерь, зная тлеющую в Уилсоне ненависть к отцу, рассказал о том, как Кипкои дрожал перед жирафом, целясь в него со ста метров. «Твой старик, Уилсон, сдает на глазах».
Уилсон ничего не ответил, а чуть погодя уехал, не дождавшись отца. В тот вечер он против обыкновения отмалчивался, Палмеру даже не удалось втянуть его в пикировку насчет недавней новости о закрытии университета и о том, что правительство позволяет избивать студентов. Более того, Уилсон обратился к нему с редкой просьбой — дать ему несколько дней отпуска. Сказал, что хочет навестить жену. Палмер, зная обычное безразличие Уилсона к жене, удивился, но Уилсона отпустил, поскольку в отлучки тот просился редко.
Наутро Уилсон уехал, однако направился не в деревню на границе владений масаи и кипсиги к почти забытой им жене, а в Найроби. На столичных улицах, где процветает незаконная торговля чем угодно, он отдал деньги за позорную для себя услугу. В ближайшем к плантациям Палмера городке ему сделали бы то же самое, однако он намеренно уехал подальше, где его никто не узнает. Ему нужен был писарь — любой из обученных местных, которые, сидя на улицах каждый в своей будке, писали для неграмотных письма под диктовку и зачитывали им вслух документы. Уилсон, разумеется, грамоту знал лучше многих сгорал от стыда из-за того, что его сочтут дикарем из глуши, однако ему нужно было письмо, написанное чужой рукой. Он диктовал тщательно обдуманный текст бывшему студенту, который был старше его на несколько лет, и подробно описывал браконьерскую деятельность некоего Кипкои ва Кимутаи — с датами, географическими названиями и с именами егерей, способных подтвердить излагаемые факты. Письмо без подписи он отправил с главного почтамта Найроби, адресовав его Палмеру. И Палмер, который досконально знал, что по всей стране браконьерством занимается половина персонала заповедников и правительственные министерства, и воспринимал это как неизбежное зло в рамках существующей системы, не пытаясь бороться, решил поквитаться с Кипкои.
Много времени ему не потребовалось. Молодые егеря, страшась за собственную шкуру, с радостью давали показания даже в такой невиданной ситуации, когда тебя допрашивает белый, не имеющий связей с правительством, а у твоих ног лежит без внимания винтовка. Понял ли Палмер, что Кипкои браконьерствовал ради избавления людей от голода, — не известно: этой частью истории он особо не интересовался. Вместо этого он сразу отправился в палатку Кипкои.
В палатке на стене висела фотография, которую Кипкои возил за собой везде. Знаменитый снимок, который демонстрировали в национальном музее и показывали детям в школах, — один из немногих кадров, ставших частью идеализированной истории Кении, частью ее хрупкого, только-только появляющегося национального самосознания. То была фотография мертвого «генерала Ленина».
В конце 1940-х — начале 1950-х годов в Кении вспыхнуло крестьянское восстание против британской колониальной власти. Причиной послужил захват британцами исконных земель кикуйю, лишение кикуйю гражданских прав и навязывание им роли «второсортных» граждан на их же собственной земле. Непосредственным поводом стала попытка британских властей запретить наиболее чуждые для них обычаи, такие как обрезание женщин или детоубийство. Кикуйю подняли мятеж, который стал известен всему миру как восстание мау-мау. Молодые мужчины уходили в леса — их делом становились сражения, налеты, грабежи и диверсии. Если за вспышкой племенной ненависти разглядеть хоть какую-то идеологию, то движение было скорее левым, и многие из бойцов мау-мау брали себе соответствующие псевдонимы. Имя «генерал Ленин» взял себе молодой повстанец, вознесшийся на волне мятежа, — харизматичный лидер и довольно успешный военачальник. Он возглавлял большой отряд, орудовавший в гуще лесов горного массива Абердэр в землях кикуйю, и британцы, пытавшиеся силами армии подавить восстание, объявили его в розыск как одного из самых опасных врагов.
Двадцать третьего сентября 1954 года «генерал Ленин», охотившийся с луком и стрелами на лесную антилопу, попал в засаду на нижних склонах Абердэра. Его убили первым же выстрелом в грудь. На той знаменитой фотографии, сделанной через пять минут после его смерти, он лежит на боку с раной в груди, одетый в национальную одежду из шкур животных, видна борода и традиционные для мау-мау дреды. Над ним стоит, уперев ногу в грудную клетку, тот молодой британский военный, который выследил его и убил: торчащая борода, решительное лицо человека, закаленного жизнью в буше. Он явно доволен — он позаимствовал позу у охотников, фотографирующихся над поверженным львом, и по его умному насмешливому лицу видно, что он отлично понимает смысл того, что делает. В тот момент это был циничный и ободрительный жест в сторону британской публики: «Это всего лишь очередной хищник, всего лишь очередной день охоты». Для кенийцев, в чьих газетах эта фотография печатается ежегодно в День независимости, эта поза имеет другой смысл: «Смотрите, как они с нами обращались, кем нас считали». Военный на фотографии — конечно же, Палмер.
Молодой капитан Палмер своим достижением очень гордился — правда, к его чести, недолго. Стыд заставил его повзрослеть, бороду Палмер сбрил, полысел, утратил дерзкую насмешливость — и его никто не узнавал. На остатках былой империи и Британской восточной Африки встречались бесчисленные Палмеры, похвалявшиеся за выпивкой, что они и есть те самые Палмеры. Настоящий же Палмер избегал британцев и никогда с ними не пил. Он только радовался тому, что кто-то берет на себя его деяние, и предпочел затеряться в новой стране среди ее людей. Британский солдат Арден, подручный Палмера с более медленной реакцией при стрельбе, ушел в отставку и жил где-то в Англии безвестным пьяницей. Его «мальчик» погиб в автокатастрофе вскоре после провозглашения независимости. А «мальчиком» Палмера был Кипкои.
На фотографии, запечатлевшей капитана Палмера и убитого «генерала Ленина», слева видна тень. Никто, разумеется, не позволил бы Кипкои разделить славу своего «бвана»: Кипкои стоял здесь же, но за кадром. Стратегию охоты продумывал именно он, и Палмер это с готовностью признавал. «Голодный человек совершает ошибки», — сказал тогда Кипкои, и по лесу были разосланы люди с заданием найти и уничтожить традиционные для кикуйю ловушки, чтобы оставить бойцов мау-мау без мяса. Искать ловушки, никак не рассчитанные на то, чтобы попадаться кому-то на глаза, — работа тяжелая и нудная, однако она пробудила в Кипкои и Палмере тягу к изобретению способов бороться с браконьерами. Они уничтожили изрядное количество ловушек и подчинили себе изрядное количество равнинных ферм, откуда жители могли тайком передавать рис повстанцам, — и среди мау-мау начался голод. Теперь повстанцы, вместо того чтобы воевать против англичан, охотились с луком и стрелами на лесных антилоп.
Тем холодным сентябрьским утром Кипкои, шедший впереди, обнаружил следы «генерала Ленина»: из-за рано начавшегося сезона дождей лесные тропы стали труднопроходимы, но следы на них отлично читались. Нетривиальная уловка — взобраться на высоту, а затем идти оттуда вниз — принесла свои плоды, поскольку «Ленин», как и предполагал Кипкои, ради охоты спускался к богатым дичью подножиям гор, несмотря на обилие там британцев. Кипкои вел, Палмер не отставал, еще двое прикрывали сзади — все натянутые как струна, возбужденные и настороженные, как на любой охоте. Кипкои увидел «Ленина» первым, Палмер прикончил его одним выстрелом. Кипкои излучал ту же гордость, что и Палмер, и предвкушал денежную награду за операцию против мау-мау. Горести племени кикуйю его — урожденного кипсиги — не волновали, и он не упустил случая насолить соседнему племени.
Когда Палмер уже во времена антибраконьерского отряда впервые увидел в палатке Кипкои прикрепленную к стене знаменитую фотографию, он слегка раздраженно спросил, зачем она тут. «Когда-нибудь расскажу газетчикам, где сейчас тот капитан: мне дадут кучу денег, и я буду ездить на такой же машине, как у тебя», — язвительно отозвался Кипкои. Вопрос Палмера его удивил и даже задел, для Кипкои ответ был очевиден: после стольких лет, проведенных бок о бок, в то сентябрьское утро все чувства, которые он питал к Палмеру, — все уважение, ярость, благодарность, страх, зависть — слились для Кипкои в некое подобие любви.
Неизвестно, что произошло в палатке, когда Палмер обрушил на Кипкои обвинения в браконьерстве. Возможно, Кипкои пригрозил, что расскажет про фотографию, а может, он скорее умер бы от стыда, чем сделал это. Вероятно, он привел свои доводы; наверное, Палмер смягчился; возможно, Палмер именно такое наказание и планировал. Под суд Кипкои не отдали, он ушел на пенсию и уехал домой — туда, где еще жили две жены и девять детей. Палмер вернулся к фермерским заботам и вскоре объявил правительству, что больше не может оплачивать непропорционально выросшую «половину» расходов на антибраконьерский отряд. Отряд быстро распустили. Именно в это время ненависть Уилсона перестала быть тайной — он злился на Палмера за обвинения против своего отца и за то, что не довел дело до конца. Уилсон все больше уходил в себя, все хуже справлялся с работой, становился в конечном счете опасным. Он начал пить, стал покуривать травку. Ссорился с работниками и однажды даже набросился на Палмера. Тот дал ему последний шанс исправиться. Вскоре после этого Уилсон исчез вместе с сейфом для денег (при этом явно не взяв самих денег). Теперь он живет на задворках Найроби вместе с другими молодыми поселенцами, когда-то подавшимися из буша в столицу в поисках несуществующей работы. Пьет, временами ворует, волосы сваляны в дреды.
В съестной лавке
Мау-мау проиграли. Восточная Африка двигалась к независимости, даже британские политики заговорили о необходимости перемен. Однако, разумеется, никто не собирался передавать колонию в руки лесных партизан в дредах и обезьяньих шкурах, которые принимали имена типа «генерал Китай». Мятеж мау-мау был подавлен вполне уверенно, и когда британцы ясно показали, что их власть сильна и они в состоянии удерживать колонию сколько захотят, они отдали ее кенийцам. Правда, кенийцам, тщательно взращенным и вышколенным — латентным англофилам, получившим образование в Англии, которые даже через несколько десятков лет будут обязывать судей-кенийцев носить пудреные парики.
Однако новое правительство толком не знало, что делать с бывшими мау-мау. В тот первый год, когда я связал воедино события в истории Уилсона, Кипкои и Палмера, я узнал и о неожиданной судьбе повстанцев. Для национальной мифологии было выгодно представить мау-мау победившей стороной, а провозглашение независимости — прямым итогом их восстания. Также было удобно объявить Джомо Кениату вождем мау-мау. Кениата, сугубо гражданский человек и попутешествовавший по миру писатель, в начале 1950-х был обвинен британцами в том, что выступал вдохновителем движения мау-мау, — для англичан это был способ убрать его с дороги, и свидетельства по большей части указывали на то, что обвинение ложное. Теперь же для новой нации стало удобно считать, что на самом деле это правда. Мау-мау возглавили восстание, выиграли войну, их вождь стал президентом страны.
Оставалась проблема — что делать с настоящими бойцами мау-мау. Некоторых из них выставляли на публичных церемониях. Ошеломленные мужчины в дредах и шкурах вскоре стали появляться в Музее независимости, подозрительно глядя на новых кикуйю из правительства — в костюмах-тройках, с галстуком, на правительственных «мерседесах». А потом? Что делать с ними потом? Новые деятели в костюмах-тройках боялись их не меньше, чем некогда британцы: кому нужны яростные, необразованные партизаны с именами типа «командир Москва»? Нет уж, увольте.
Новое правительство на удивление успешно нашло всем бойцам место в национальной мифологии. Нескольких взяли в правительство, один из них начальствовал над силами безопасности особого назначения при президенте Кениате. Так вышло, что многим ветеранам выдали лицензии на владение съестными лавками в столице — щедрая награда в виде доходного дела. На окраинах Найроби таких забегаловок великое множество — большие, просторные деревянные строения с дощатыми столами и скамьями. Закуток для владельца, огромные котлы на огне, непрерывно горящем, наверное, не первый год. Кенийский чай с дымком, чаши с рисом и бобами (традиционная еда кикуйю), иногда тушеное мясо — курятина или козлятина. Дешево, удобно, вкусно, встречается повсюду. Правительство, вероятно, решило, что такие лавки станут вознаграждением для бывших бойцов.
Об этом я узнал в первый свой приезд в Кению. Каждый раз, бывая в Найроби, я захаживал в одну и ту же лавочку. Каждый день рис с бобами, громкая и бурная кикуйская танцевальная музыка, перекрикивающиеся за едой посетители, коты и куры под ногами. Владелец — Кимани, пожилой кикуйю — весь лучился добродушием. Крупное, круглое, помятое жизнью лицо, клочки седой щетины на лице и на голове, привычная шинель и шерстяная фуражка. Возвышаясь за стойкой, он что-то выкрикивал, подсчитывал сдачу, подавал чай, перешучивался с постоянными посетителями — одним из таких с радостью стал и я, теперь Кимани каждый день встречал меня рукопожатием, поклонами и чаем. В разговорах с ним я шлифовал свой суахили, и Кимани, по всей видимости, воспринимал каждый мой жест как занятный и заслуживающий одобрения.
Однажды я спросил его, правда ли, что многие из владельцев таких забегаловок воевали в рядах мау-мау.
— Да, — ответил он, — и я тоже.
— Ты, Кимани?
— Да, я был мау-мау. Я сбежал в лес и сражался, после того как у нас отобрали отцовскую землю. Мы были горячие, с длинными волосами и не носили одежду европейцев.
— Ты кого-нибудь убивал, Кимани?
— О да, много раз.
— Правда?
— Ну, однажды был бой с англичанами, и я пустил в кого-то стрелу, но промахнулся.
Он рассказывал весело, вся история не походила на правду. Я решил было, что выдавать себя за мау-мау — невинное развлечение кикуйских мужчин такого возраста. И вдруг Кимани добавил: «Да, ужасный был бой с англичанами. Они нас захватили, и отправили меня в пустыню на восемь лет, в тюрьму. Погляди, — он протянул руки, — англичане вырвали мне все ногти». Он почему-то решил, что по этому поводу надо смеяться, и буквально таял от ностальгии. Я никогда раньше не обращал внимания на его ногти. На конце каждого пальца торчал клочок того, что могло бы считаться ногтем или изуродованным остатком ногтя, пальцы походили на пучок редиски.
— Кимани, разве ты не злишься на англичан? Не ненавидишь их?
Он решил, что это еще смешнее.
— Нет, нет, мы же победили!
Он продолжал посмеиваться, потом затих и принялся разглядывать ногти. Чуть погодя он сказал:
— Ну, они не нравились мне, когда вырывали ногти, и мне не нравилась та тюрьма в пустыне. Не то чтобы я ненавидел англичан, я их не люблю. Нехорошие они люди.
Он вдруг вспомнил о приличиях и смутился — как смущаются все кенийцы, когда не могут различить, из какой страны этот белый, говорящий по-английски.
— Хм, ты же не англичанин, нет? — спросил он.
— Нет, американец.
Кимани радостно взревел:
— Тогда зачем я тебе рассказываю? Вы, американцы, тоже воевали с англичанами, вы их знаете.
И этот добродушный человек с вырванными ногтями вновь принялся подавать чай.
Истоки Нила
Переход власти от Соломона к Урии свершился и стал историей. Иисус Навин учился обращаться с крошечным Авдием, а сумасшедшая взвинченная Руфь в присутствии Иисуса Навина даже слегка успокаивалась. Вениамин несколько недель назад влез в пчелиный улей, Рахиль и ее семейство по-прежнему надежно обихаживали бедного изгоя Иова.
Первый год подходил к концу, меня в скором времени ждали в лаборатории. Чтобы отпраздновать успешное и благополучное пребывание в Африке, я решился на самое импульсивное в моей жизни деяние. Я поехал в Уганду.
К тому времени я долго лелеял надежду туда попасть — исполнить мечту и посидеть на перекрестке дорог, который когда-то заметил на карте. Перекресток был идеальным. На север — единственная дорога в пустыню и дальше в Судан. На запад — Заир и Конго. На юг — путь к Руанде и Бурунди и к горным гориллам. Я словно видел перед собой этот пыльный пустой перекресток с каким-нибудь ржавым, лаконичным дорожным знаком: «Сахара направо, горные гориллы налево, Конго прямо, пристегните ремни безопасности». Я мечтал посидеть под этим знаком как tabula rasa автостопа и поехать в том направлении, какое само подвернется: москитная сетка на случай, если попаду в Конго, тонкий головной платок на случай пустыни, свитер для горных горилл.
Однако сейчас я ехал в Уганду смотреть на падение режима Иди Амина. Вы же наверняка помните Иди Амина спустя двадцать лет после его изгнания. Злобы и жестокости в нем вряд ли было больше, чем в остальных диктаторах-убийцах, однако в нем эти качества оттенялись таким мальчишеством и такой жизнерадостностью, что западная пресса просто не могла перед ним устоять. Он вершил грязные дела — насаждал террор, грабил страну и истреблял свой народ. И было в этом какое-то чванливое безумство. Западная пресса часто называла его фигляром. Он объявлял себя королем Шотландии и исполнял перед гостями шотландские серенады, одевшись в килт. Он посылал идиотские оскорбительные телеграммы правителям других стран — как веком раньше король Уганды, славший любовные письма королеве Виктории с приглашением стать очередной женой в его гареме. Амин расточал угрозы в адрес англичан-экспатриатов в Кампале и угомонился лишь тогда, когда видные английские бизнесмены согласились на руках нести паланкин, на котором он восседал. О да, фиглярство. И если верить довольно внушительным документальным свидетельствам, он был одним из многих африканских лидеров эпохи независимости, которые не только убивали врагов, но и лакомились их мясом. Как было Западу устоять? Запад с его болезненной реакцией на идею независимости стран третьего мира не мог бы выдумать персонажа более подходящего — который одновременно и самопровозглашенный король Шотландии, и каннибал.
Пока он разваливал страну, остальные африканские лидеры закрывали глаза на происходящее и занимались своими делами; из-за чего угандийцы испытывают особую горечь. Единственным стойким критиком Амина был танзаниец Джулиус Ньерере — человек в высшей степени достойный и принципиальный, которого, должно быть, фиглярство задевало не меньше, чем террор. Ньерере неустанно ратовал за изгнание Амина и поддерживал многочисленные группы мятежников, появлявшиеся в несчастной Уганде. В 1979 году Амин, жестоко просчитавшись, объявил Ньерере старой бессильной курицей и отхватил себе кусок Танзании. По африканским представлениям это был серьезный вызов, и Танзания ответила контрнаступлением. И, как ни странно, одолела армию Амина. Ньерере оказался перед мучительным выбором: следовать чтимому Организацией Африканского Единства закону, по которому полагалось уважать суверенность других африканских лидеров (после того как колониальные войска перекроили африканские границы ради прихотливых европейских интересов, считалось всеобщим долгом соблюдать эти священные рубежи), или продолжать дело и добиваться изгнания убийцы. Ньерере выбрал второе, и за несколько недель довольно жарких боев, в которых танзанийские войска опирались на постоянный приток местных сил, Амин и его окружение были вытеснены из столицы.
В Кампале царило радостное безумие. По радио говорили, что народ плясал на улицах. Новое правительство, конец всем страхам, освобождение узников из тюрем и пыточных камер.
Танзанийская армия, обойдя озеро Виктория с запада, направилась на восток, к Кампале. Север страны по-прежнему контролировали люди Амина, всю восточную часть, граничащую с Кенией, — тоже. Танзанийцы сосредоточились на восточном фронте и сумели открыть узкий коридор к кенийской границе. В тот день я и приехал из Кении в Уганду.
Я заранее решил, что в конце сезона работы с павианами отправлюсь путешествовать. Нетипичный для меня журналистский рефлекс толкал меня посмотреть, как делается история; нынешние исторические реалии — танцы на улицах, освобожденный народ — пробуждали во мне необычные чувства. Все годы студенчества я заигрывал с квакерской идеей пацифизма и сейчас предполагал, что пацифистские идеалы, с которыми я имел дело на словах, стоит проверить на деле, наблюдая за несомненно справедливой войной.
Нет, конечно, все не так. Мне шел двадцать второй год, и меня тянуло на подвиги. Хотелось сломя голову ринуться в опасности, набраться впечатлений и потом о них рассказать. Весь предыдущий месяц мне очень не хватало кого-то, и я думал, что сунуться туда, где война, — подходящий способ отвлечься. Типичное для самца-примата поведение в период позднего пубертата.
Я ехал автостопом, пересаживаясь с одного бензовоза на другой: только им было позволено пересекать кенийскую границу. Добрался до Кампалы, провел там несколько дней, поехал дальше на запад, к горам на границу с Заиром, — там я почувствовал, что забрался слишком далеко на незнакомые земли, и повернул обратно на восток, в Кению. Через день пути, в том самом восточном коридоре, за полчаса до нас солдаты Амина взорвали такой же бензовоз. Несколькими днями позже, в Кампале, где на улицах тут и там лежали трупы, в небе кружили тучи стервятников и наш район обстреливали, мы с водителем провели ночь под машиной. Других боевых историй у меня не было, пресловутый военный опыт этим и ограничился, и мне его вполне хватило. Главным же впечатлением была не война. Когда мгновения абсолютного ужаса сменялись тишиной после обстрела, мы каким-то непостижимым и очистительным образом испытывали облегчение. Более ощутимой тяжестью, более неподъемным грузом, который было невозможно отбросить, казалось безумие предыдущего десятилетия Амина.
Ко времени моего приезда эйфория и мародерство успели схлынуть, вернулось ощущение отравленности всего окружающего. В первые дни после бегства Амина из Кампалы народ открыто грабил столичные магазины, почти все. Западная пресса напускала тумана — «опять эти люди безумствуют, разрушая собственный город». Ничего подобного. Амин, репрессии и мародерство были логичным продолжением колониализма и частью его наследия. Когда британцы на стыке веков подавили суданский мятеж, они решили двинуться дальше на юг, разделаться заодно с Угандой и привести в качестве подкрепления нубийские войска. Нубийцы — племя ачоли и подобные — в итоге там и остались: северные мусульманские племена в землях южных бугандийских христиан. Даровав Уганде независимость, британцы раздали нубийцам военные посты. Амин, военачальник из северного племени, после прихода к власти систематически отнимал в Кампале магазины у бывших владельцев и передавал их своим соплеменникам. Отсюда и брала начало оргия мародерства и мстительных выходок против северян.
Правда, наслаждались этим недолго, отрава вновь вступила в свои права. Столько лет страха невозможно забыть. Все, кто имел образование, или занимался политикой, или возглавлял религиозное движение, или располагал деньгами, так или иначе за это поплатились. Как-то вечером мы сидели с бугандийским бизнесменом, который вспоминал отобранные у него за те годы автомобили, будто это были его дети: «Сначала забрали UGH365, нашу машину, хорошая была. Потом забрали UFK213, грузовик. Потом UFW891, пикап. На нем потом несколько лет разъезжал какой-то ачоли, я видел. Из военных». Старик, помогавший приводить в порядок разбомбленные остатки хостела Молодежной христианской организации, где я остановился, рассказывал о детях, которых потерял. Всех забрали. Двое точно погибли, один пропал где-то в сточных канавах пыточных камер Амина.
Особенно сильно пострадали учителя. В Уганде было фантастическое образование. Во времена юбилея королевы Виктории Черчилль положил начало британской традиции считать Уганду африканской жемчужиной в короне империи, и образование в ней развивалось как ни в одной другой африканской колонии. Ко времени переворота Амина Угандийский университет был лучшим на всем континенте, а качество школьного обучения — превосходным. Как и следовало ожидать, учителя и преподаватели оказались среди первых жертв нового режима. Однажды, когда я шел по улице приграничного городка Тороро, в меня взволнованно вцепился человек средних лет, опрятный, в белой рубашке. «О, вы иностранец, награди вас бог за то, что приехали, это ведь значит, что мы теперь свободны, господь послал сынов танзанийских и избавил нас от напасти, я был здесь учителем, школы больше нет, сожгли, я был в тюрьме, меня пытали, поглядите, вот раны». Он насильно усадил меня рядом и, все больше возбуждаясь, лихорадочно поведал свою историю. В тот сумасшедший день в Тороро на меня так наскакивали четыре разных учителя, каждый с аналогичным рассказом, — все изможденные, только что выпущенные из тюрем.
Газеты, вновь начавшие выходить, одной и той же фразой говорили о необходимости «психологической реабилитации страны». Каждый жест, каждая встреча, каждый запах вызывали подозрение, напряжение. Подсознательно все ощущалось как неправильное. Слишком многие готовы вцепиться в тебя и поведать тебе, чужаку, о своей жизни. Слишком многие готовы со смехом пинать мертвые тела, лежащие на улицах Кампалы. Слишком многие шарахаются от меня в ксенофобной панике.
В один из дней я шел по центру Кампалы мимо дворца нового президента (профессору, которого назначил трибунал из угандийских повстанцев и танзанийцев, предстояло править всего две недели, затем его сменили — эта схема, сопровождаемая переворотами и контрпереворотами, будет повторяться в ближайшие лет десять, на этом фоне эпоху Амина начнут вспоминать с некоторым налетом ностальгии). Народ спешил по своим делам. Вдруг что-то произошло и тут же отозвалось в головах прохожих как сигнал страха. Возможно, просто три или четыре человека независимо друг от друга почему-то одновременно остановились на одном участке улицы — вспомнить, куда положили ключи, или решить, на какое из ближайших дел переключиться, или просто чихнуть. Психологически создалась критическая масса: нестандартное количество одновременно остановившихся людей. Вслед за ними остановились другие. Тенденция распространилась дальше, весь центр города застыл. Все стояли неподвижно, затаив дыхание и не сводя глаз с президентского дворца, семьи держались вместе. «О боже, что же сейчас будет?» — думал каждый. Так мы и стояли в молчании минут пять, ожидая напасти, пока не появились танзанийские солдаты и не велели всем разойтись.
По всей логике самым эмоционально стойким воспоминанием должен был стать случай, когда я угодил в серьезную переделку в Кампале. Я сделал нечто совершенно идиотское, немыслимое даже для новичка, проведшего в Африке всего один день. Мне даже стыдно назвать само деяние, однако привело оно к тому, что двое танзанийских солдат решили, будто я бывший наемник армии Амина. Было немало белых, желающих играть такую роль, так что подозрения танзанийцев не выходили за рамки разумного. Вокруг собралась возбужденная толпа, жаждущая мести; солдаты, толком не зная, как поступить, кинули меня лицом вниз на бетон и направили на меня винтовку. То была самая страшная минута моей жизни. Кенийский водитель бензовоза, мой попутчик, героически бросился объясняться и убедил солдат меня отпустить.
Но самый напряженный момент наступил позже, неожиданно для меня. Растущий страх и общая запутанность происходящего заставили меня сбежать из той немыслимой обстановки. Я начал пробираться автостопом обратно на восток, в знакомую Кению. Несмотря на почти паническое состояние, от которого я спешил избавиться, меня, вопреки всякой логике, тянуло совершить еще кое-что. Я сделал крюк, чтобы добраться до города Джинджа и посмотреть на истоки Нила. Именно здесь озеро Виктория переливается через край и начинается Белый Нил. Именно здесь мечтал побывать Бёртон, и именно сюда, отколовшись от него, в конце концов добрался Спик, давший повод для одного из самых яростных научных споров викторианской эры[5]. Я вырос на книгах об этих людях, которых считал своими кумирами, я читал дневники Бёртона и биографии, прослеживал путь по карте. И теперь я хотел увидеть, где начинается Нил.
Долго искать не пришлось. Над водой теперь возвышался мост, бетонная стена внизу служила чем-то вроде гидроэлектрической плотины, из отверстия бил поток воды. Как ни странно, здесь была даже табличка в память об «открытии» Спиком этого места. Если стоять на самой середине моста, то прямо внизу виднелась лестница, которая спускалась вдоль бетонной стены к платформе, находящейся у самой воды, на одном уровне с отверстием в стене, — скорее всего, она была как-то связана с сооружением плотины. Я стоял там и смотрел вниз на странное зрелище у меня перед глазами. Внизу лежал мертвый солдат. Его явно свели по лестнице и оставили на платформе. Руки связаны за спиной, шею обвивает веревка, привязанная к какой-то механической детали в отверстии: после того как река стала подниматься, солдата через некоторое время сбило с ног, и он захлебнулся или его удавило веревкой. Тело, уже распухшее и окоченелое, болталось в потоке льющейся воды. Я думал: «Угандиец или танзаниец?» Я думал: «От форменной одежды мало что осталось, не понять». Я думал: «Если он был за Амина, то так ему и надо». Я думал: «Но ведь никто не заслуживает такой смерти». Я думал: «А сколько мирных людей он убил?» Я думал: «Может, его пригнали в армию насильно». Я думал: «Фашисты тоже говорили, что всего лишь исполняли приказ». Я думал: «Течение слишком сильное, крокодилы до тела не доберутся». Я думал: «Был ли он еще жив, когда вода поднялась, и каково ему было?» Я думал: «Интересно, можно ли подойти ближе и посмотреть, я должен запомнить каждую деталь и потом рассказать людям». Я думал: «Я хочу это забыть, надо бежать отсюда, вернуться домой, в спокойную жизнь». Так я и стоял, словно прикованный к тому месту, и не мог сделать ни шага.
* * *
Прошли десятилетия. В курсе нейробиологии, который я преподаю, я всегда несколько лекций посвящаю физиологии агрессии. Говорю о гормональной модуляции, о связанных с агрессией участках мозга, о генетических компонентах. Каждый год мне требуется все больше лекций на освещение материала. Фактических сведений об агрессии не намного больше, чем о нейробиологии шизофрении, или об использовании языка, или о родительском поведении, — и это лишь немногие из тем, которых я касаюсь. Однако почему-то, чуть ли не с ощущением неловкости, я все больше времени отвожу лекциям об агрессии. Мне кажется, что каждый год я удлиняю лекции именно из-за того солдата с привязанной к плотине головой. Из-за того, как долго я стоял, не в силах отвести взгляд и уйти. Думаю, что причина в неоднозначности агрессии. Это самая непонятная для меня эмоция, и в силу своих академических привычек я, видимо, верю: если я буду рассказывать о ней достаточно долго, то она отступит и уйдет, а ее одновременная притягательность и мерзость перестанут быть для меня столь пугающими. Родительское поведение, сексуальное поведение, как правило, безусловно позитивны. Шизофрения, депрессия, деменция — определенно негативны. Но агрессия… Один и тот же двигательный паттерн, один и тот же всплеск в организме и тончайшая реакция нейромедиаторов — и в одних случаях мы получаем вознаграждение, большее чем при остальных типах поведения, а в других причиняем неописуемый вред. Справедливая война, освобожденный народ — и голова в бетонном отверстии. Я стоял в оцепенении и долгие часы не мог отвести взгляд, словно пытался увидеть, сколько времени понадобится, чтобы тело солдата, частица за частицей, смыло водой и унесло вниз по течению Нила.
Часть II Поздняя юность
8. Павианы. Саул в пустыне
Вряд ли вам захочется быть отставным альфа-самцом в стаде павианов, в котором вы когда-то были альфой. К началу 1980-х Соломон прозябал, но отнюдь не в забвении. Урия, не такой уж вредный по характеру, не выказывал особой жестокости к бывшему врагу после того, как сверг его, однако прочие не могли нарадоваться смене ролей. Соломон не просто поменялся местами с Урией, став вторым в иерархии. Физические силы, достаточные для поддержания статуса альфа-самца, иссякли у него уже давно, последнее время перед низвержением он больше держался на остатках былого величия и на умении запугивать. Стоило другим увидеть, что Урия благополучно оспорил статус кво, — все тоже решили не отставать, в итоге к 1980 году Соломон скатился до девятого места и оказался в середине иерархии. Тенденция, которую я тогда отследил, с годами становилась для меня все привычнее. Если взглянуть на частоту взаимодействий, связанных с доминированием, то типичный расклад таков: номер 4, например, больше всего взаимодействует с 3 (которому проигрывает) и с 5 (которого побеждает). Номер 17 в основном взаимодействует с 16 и 18. Однако иногда в закономерности, по которой взаимодействия осуществляются с ближайшими конкурентами, случаются исключения: вдруг вы можете обнаружить, что номера 1–5 имеют необычное количество взаимодействий со скромным номером 11. Отчего же они так рвутся начистить физиономию мистеру 11? Позже неминуемо выясняется, что он — бывший номер 1, который доминировал над нынешними 1–5. Роли меняются, а память на обиды у павианов долгая. Соломону не было житья. Исаак и Аарон, оба из высшей иерархической шестерки, и даже Вениамин, числившийся примерно номером 8, норовили отвесить ему оплеуху. Соломон утратил грозную минималистскую манеру, трусил и лебезил перед более высокоранговыми самцами, отыгрываясь на низкоранговых. Он вечно притеснял слабого, убогого Иова, так что гипотетические родственники бедолаги — Ноеминь, Рахиль и Сара — однажды ополчились на Соломона и гонялись за ним через два поля. Он и на меня несколько раз бросался, и я испуганно забивался в джип. В итоге он додумался до решения, обычного для большинства бывших альф, и в один прекрасный день перешел в другое стадо, обитавшее чуть южнее: иерархически Соломону оставалось прозябать в том же заурядном ранге и скатываться еще ниже, но там его хотя бы не знали. Время от времени я видел его, когда оба стада встречались у реки и перекрикивались с разных берегов.
Происходили и другие перемены. Иисус Навин приближался к поре расцвета, Бупси и Афган сходили по нему с ума. Девора родила первого детеныша, дочь, — по-видимому, от Соломона, поскольку только он проводил с ней время в период эструса. Она была последней, с кем он спаривался в роли альфа-самца уже на последних стадиях соперничества с Урией, и к моменту финального изнасилования Соломоном Девора, по всей видимости, была уже несколько недель беременна. Останься Соломон у власти, этот детеныш рос бы сейчас при альфа-самце, уверенном в своем отцовстве. Однако, даже несмотря на политические перемены, дочь Соломона и Деворы не была заброшена. Под присмотром Деворы и ее матери — доминирующей Лии — малышка росла быстро и неуверенностью не страдала. Так совпало, что в ту же неделю у более низкоранговой Мариам тоже родилась дочь; различия между детенышами были разительными. Дочь Деворы, более крупная, первой стала держать голову, первой стала самостоятельно ходить, первой стала удерживаться на спине у матери. Пока она бродила поодаль сама по себе, Девора могла посидеть и поесть; самки более низкого ранга клубились вокруг и обыскивали Девору в надежде разглядеть детеныша поближе. Дочь Мариам, напротив, не успевала сделать шаг-другой, как мать уже судорожно тянула ее к себе: мир кишит разномастными личностями, которым только дай изувечить ребенка. Кормиться Мариам было почти некогда, ей то и дело приходилось сбегать от драки, таща на себе дитя, из последних сил цепляющегося за ее пузо. Многочисленные исследования показывают, что детеныши, которым повезло родиться у самки высокого ранга — какой была Девора и какой не была Мариам, — развиваются быстрее, растут более здоровыми и имеют больше шансов выжить в трудное время. Когда обеим крошкам было около недели от роду, они познакомились. Дочь Деворы подскочила к дочери Мариам, та отпрыгнула и убежала обратно к матери. Так произошла первая проверка на доминирование, и я понял, что даже если немедленно уеду отсюда и вернусь через десятки лет, то застану ту же асимметрию.
Перемены происходили и на других фронтах. Ионафан, недавно пришедший в стадо юнец, стремительно двигался к созреванию и страшно влюбился в Ревекку — препубертатную дочь красавицы Вирсавии, обреченной на трагическую судьбу. Ревекка не унаследовала классическую красоту своей матери, зато у нее был свежий и непосредственный вид «девчонки из соседнего подъезда». Пугающий антропоморфизм усиливался тем, что незадолго до этого, усыпив Ревекку дротиком, я навесил ей на уши две желтые номерные бирки — теперь они торчали как заколки при несуществующих косичках. Милая и подвижная, она часто играла с многочисленными приятелями и с ближайшей подругой Сарой из клана Ноеминь — Рахиль — Сара. И, разумеется, о существовании Ионафана она даже не подозревала. А он, застенчивый юнец, неспособен был провернуть учтивый и житейски мудрый ход, который оказался таким действенным для Иисуса Навина, ухаживавшего за Руфью в 1978-м: терпеливо следовать по пятам при каждой попытке Руфи от него сбежать. Ионафан в таких случаях просто сидел и тосковал, опустив лицо на руки и взирая на Ревекку лишь издалека.
Не миновали перемены и Давида с Даниилом — двух былых юнцов, которые одновременно перешли в стадо несколькими годами раньше и стали неразлучными друзьями. Даниила этап активного роста настиг на год раньше, чем Давида: за короткое время он непропорционально раздался в плечах, где наросли новые мускулы, у него появилась пышная грива, расширилась грудная клетка. Он напоминал подростка в экипировке для американского футбола, но выглядел внушительно и даже начал слегка колебать иерархию. Пожалуй, больше всех перемена впечатлила самого Даниила, у которого теперь не было времени на шутливые драки с Давидом и беготню наперегонки вверх-вниз по деревьям: у него были дела поважнее.
В том же сезоне Исаак, прежде неприметный молодой павиан, подружился с Рахилью. Я, разумеется, этому только поаплодировал, поскольку давно считал Рахиль самой достойной в стаде. Друзьями назвать самца и самку павианов можно, если они постоянно общаются, но никогда не спариваются. Барбара Сматс, приматолог из Мичиганского университета, несколько лет назад написала на эту тему чудесную книгу — о том, как некоторым павианам удается вступать в дружбу, каких свойств характера это требует, какие здесь плюсы и минусы (для самца сложность состоит в том, что ему приходится себя сдерживать и не избивать самку каждый раз, когда его день не задался; а награда — то, что самка вообще соглашается иметь с ним дело). Итак, Рахиль и Исаак стали друзьями. Годом раньше Исаак поразил меня своей нетипичностью — он был одним из самых необычных животных, каких я знал. На первый взгляд — и даже на первые два года первых взглядов, — он казался «сачком» и к тому же имел глупый плоский лоб. Возраст — самый цветущий, здоровье — отличное: при таких данных ему была прямая дорога в лидеры. Однако он избегал потасовок, поединков и провокаций. Бывает, что вырываются слова типа «трус», «слабак» или «маменькин сынок», но ты понимаешь, что на самом деле он не сбегает, задрав хвост и взлаивая от страха. Он просто спокойно уходит, не испытывая к драке никакого интереса. Он не проигрывал схваток — он сознательно отказывался в них участвовать. Если для этого требовалось продемонстрировать подчинение — поползать на брюхе, к примеру, — он исполнял требуемое и затем уходил подальше от неприятной ситуации.
Его сексуальная жизнь тоже была нетривиальной. У очень привлекательной самки наступает период набухания половой кожи. «Очень привлекательная» по павианьим меркам — та, что имеет несколько детенышей, которые благополучно выжили (то есть она плодовитая самка и компетентная мать), но еще не старая и не начавшая терять плодовитость. За такую самку яростно соперничают самцы с высоким рангом, и в день вероятной овуляции с ней будет номер 1, днем позже или днем раньше — номер 2, еще днем позже или раньше — номер 3 и так далее. Совсем молодые самки вроде Руфи или Эсфири, пережившие эструс всего несколько раз, еще не очень способны зачать, и высокоранговые самцы почти не обращают на них внимания. Такие самки, скорее всего, будут спариваться с серьезным молодым Иисусом Навином или со стариком Исайей. Или, по наметившейся традиции, с практичным Исааком. Он и не думал вступать в безумное, приправленное клацаньем клыков соперничество за лучших самок: он попросту слегка оттеснял слишком юного или слишком старого самца — и в итоге проводил неслыханное количество времени в спаривании с молодыми самками в период их первого набухания половой кожи. Разумеется, его партнерши почти никогда не беременели, зато, если какой-то из них случалось зачать, Исаак был стопроцентно уверен в отцовстве, а не занимался подсчетами типа «я был с ней в течение одиннадцати часов на следующий день после пика эструса, и с вероятностью 17 % это мой детеныш». Если бы Исаак додумался до этого метода к 1978 году, когда у Руфи были первые такие нервные периоды, то Авдий походил бы на него, а не на Иисуса Навина. Однако Исаак стал широко пользоваться этой стратегией лишь к концу 1980 года.
Итак, Исаак проводил свои дни в бесконечных и неинтересных (с точки зрения других самцов) спариваниях. Когда он не спаривался, он общался с Рахилью, своей приятельницей. О сладострастный читатель, привыкший к историям порока, ты наверняка жаждешь знать, было ли у них что-нибудь. Что ж, он совокуплялся с ней несколько раз — не в пиковые дни — и с готовностью отходил прочь при малейших признаках интереса со стороны более статусного самца. По большей же части Исаак с Рахилью были просто друзьями. Они вместе сидели, вместе питались, бесконечно друг друга обыскивали. Идиллия. Никого больше, лишь Рахиль, Исаак и все эти препубертатные юные создания, с которыми он спаривался. Такая стратегия вполне окупилась во многих смыслах. Да, лишь немногие из самок от него зачинали, но по прошествии лет Исаак, по-прежнему сохранивший прекрасную форму, был все больше окружен детьми с плоским лбом, которых он одаривал щедрой отцовской заботой. К тому времени почти все его ровесники либо погибали, либо доживали в немощи, обессиленные годами активного соперничества. А Исаак жил как ни в чем не бывало. Потрясающая личность.
Вениамин — ах, мой Вениамин — к 1980 году не зажил счастливее. Шевелюра, если ее можно так назвать, еще больше облезала, ничуть не лучше прежнего работала челюсть. С ним у нас однажды случился момент довольно неуспешной межвидовой коммуникации. Самец павиана, столкнувшись с сильным врагом, иногда способен привлечь на свою сторону союзника и организовать коалицию. Когда такой союз оказывается стабильным, партнеры становятся силой, с которой нельзя не считаться. Существует целый набор жестов и мимических выражений, которыми павиан призывает потенциального партнера разделить с ним славную драку. В один из дней Вениамину грозила трепка от очередного силача, который приближался к нему с видом, не оставляющим сомнений в намерениях. Вениамин, охваченный паникой, стал озираться в поисках потенциального партнера по коалиции, но обозримое пространство изобиловало лишь детенышами, зебрами и кустами. По отчаянному наитию он обернулся ко мне и попытался вовлечь меня в партнерский договор. Во имя моего профессионализма и объективности, но к вечному моему стыду, мне пришлось сделать вид, что я тут не местный и никаких ваших языков не понимаю. И Вениамин огреб очередную взбучку, хотя явно надеялся на то, что я перееду противника джипом.
В тот же период я выяснил, почему мои павианы так много спят днем. Оказалось — из-за Вениамина. Он не давал никому спать по ночам. Когда павианы теряются, они издают двусложный клич «уа-хуу», по смыслу «а где все?». Такой клич Вениамин издал в 1978 году в тот день, когда мы с ним вместе отбились от стада. Теперь, когда я периодически ночевал в палатке под деревьями, на которых спали павианы, выяснилось, что огромное количество ночей, мирных и спокойных, вдруг прерывалось криками Вениамина, вопившего эти свои «уа-хуу» во все горло: «Уа-хуу!.. Уа-хуу!.. Уа-хуу! Уа-хуу! Уа-хуу!» Через некоторое время Даниил с соседнего дерева мог буркнуть сердитое полусонное «уа-хуу», вслед за ним откликались Иисус Навин, Вирсавия и прочие, пока это безумное уахуканье не охватывало все стадо — и так целых полчаса посреди ночи. Я предположил тогда, что Вениамину могли сниться дурные сны и, когда он в испуге просыпался, ему хотелось удостовериться, все ли на месте.
Именно в начале 1980-х годов в полную силу вошел Навуходоносор. Подлый, тупой, без единого проблеска хоть каких-нибудь талантов. Один глаз нормальный, а вместо второго — нехорошо гноящаяся глазница. Жесткое лицо, дурная осанка. За годы жизни в стаде он ни с кем не подружился, зато налетал на всех подряд. Дураком он не был: не угрожал самцам более высокого ранга, не нарывался, не претендовал на иерархию. Однако зрелому самцу всегда есть где явить свою силу, и Навуходоносор таких случаев не упускал.
Особенно ему удавался киднеппинг. Этот тип поведения в числе прочих порождает бесконечные дебаты среди приматологов: что он означает и насколько по отношению к нему правомерен человеческий термин. Самец видит, что его сейчас побьют. Высокоранговый противник приближается, потенциальная жертва вдруг в панике отнимает испуганного, отбивающегося детеныша у матери и крепко держит на виду. И чудесным образом избегает драки, противник его не бьет. Старое идеалистическое объяснение заключалось в том, что младенцы так умилительны и беззащитны и такое отношение к ним настолько всеобщее и естественное, что детеныш на руках подавляет агрессию. Кто тебя ударит, если у тебя в руках ребенок? Любой ребенок, испытавший на себе жестокое обращение, подтвердит вам: идея, будто присутствие детей автоматически подавляет агрессию, — полная чушь. Тщательные полевые исследования тоже показали, что это нонсенс: при определенных обстоятельствах самцы систематически убивают младенцев. Так что от объяснения «дети делают взрослых добрее» можно отказаться. Чуть позже социобиологи выдвинули более изощренный макиавеллиевский расклад. Альфа-самец собирается тебя побить. Ты хватаешь не любого детеныша, а того, которого противник считает своим отпрыском. «Напади на меня — и твой детеныш поплатится». Киднеппинг, захват заложников. Довольно изобретательно. Идея дала повод для всякого рода предположений. Схваченный детеныш с максимальной вероятностью должен быть отпрыском атакующего самца. Против грозного самца высокого ранга, только недавно пришедшего в стадо, киднеппинг применять невозможно: пришлый самец пробыл в стаде слишком мало и не мог никого зачать (или считать, что зачал). И невооруженным глазом видно, что вся ситуация зависит в числе прочего от способности участников помнить, кто, когда и с кем спаривался, от того, сколько у вашего вида длится беременность, и так далее. Не рекомендуется начинающим видам с малым объемом мозга. Факты эту социобиологическую модель подтверждают лишь отчасти. Гипотеза дорабатывалась: в одних случаях — это макиавеллиевский киднеппинг, в других — самец хватает детеныша для собственного успокоения в пугающей обстановке, в третьем — это попытка спасти детеныша в опасной ситуации.
Споры не стихают, спасая приматологов от безработицы. Какие бы причины ни руководили Навуходоносором, киднеппер он был закоренелый. Стоило высокоранговому самцу появиться поблизости — Навуходоносор мгновенно срывался с места и начинал гонять и избивать подвернувшуюся под руку самку, пока не вырывал детеныша у визжащей матери. Однако можете быть уверены: он никогда не проворачивал такого с детенышем высокоранговой Деворы. Зато презренная Мариам — совсем другое дело, уж ее-то дочь вырвать у визжащей матери он всегда умел. Однажды случилось неминуемое: вырывая дочь, Навуходоносор сломал ей руку. Против него поднялось все стадо, его окружили и принялись гонять по полю, преподав ему урок, который он, впрочем, вряд ли запомнил. Однако вред уже был причинен, дочь Мариам на всю жизнь осталась калекой.
Глядя в прошлое, могу сказать, что самым непростительным для меня деянием Навудохоносора было то, что он сделал с Вирсавией. О, к ней я пылал истинной страстью, если вы этого еще не заметили. У нее был восхитительный снежно-белый кончик хвоста — таких я больше у павианов не видел. Изящная и сдержанная, как Ингрид Бергман, она не очень заботилась о своей дочери Ревекке, общалась по большей части с Деворой, любила плоды молочая и всегда пыталась вести стадо к молочайным деревьям. Да уж, личность не так чтобы яркая. Но ах, кончик хвоста!.. Погибла она в результате социального взаимодействия, традиционного для павианов. Когда жизнь у них не задается, первая же мысль — найти кого-нибудь, на ком можно отыграться. Самец проигрывает битву, разворачивается и пускается за кем-нибудь из молодых, тот бросается на взрослую самку, она дает тумака подвернувшемуся юнцу, тот пинает мелкого детеныша — и все это секунд за пятнадцать. Термин для этого — «косвенная агрессия», и процент агрессивных проявлений среди павианов, когда некто недовольный вымещает злобу на невинном члене стада, — просто невероятный. Спросите хотя бы у вечно избиваемых Иова или Вениамина. Навуходоносор на этот раз донимал Руфь и ее сына Авдия; Иисус Навин, предположительно отец Авдия, пришел им на помощь. Грянул поединок с Навуходоносором, противники неоднократно бросались друг на друга, норовя порвать клыками, в конце концов стремительный, вступающий в пору зрелости Иисус Навин победил. Навуходоносор пустился прочь, отчаянно желая сорвать зло на ком-нибудь слабом. Он кинулся на завизжавшего Иова, погнался за каким-то юнцом и напоследок вонзил клыки в бок Вирсавии, которая прыжком пыталась убраться с его дороги. Типичная косвенная агрессия, пусть и в обостренном виде, но чего еще ждать от Навуходоносора? Только вот на этот раз укус загноился. То ли у Вирсавии оказалась слабая иммунная система, то ли виновата была чудовищно зловонная пасть Навуходоносора. У Вирсавии пошло заражение, и через две недели она умерла в муках.
Социобиологию часто упрекают за подобные макиавеллиевские объяснения, которые она дает для некоторых наиболее проблемных типов социального поведения. А также за гипотезу, что некоторые из этих чудовищных действий в высшей степени полезны для тех, кто наловчился их применять. Не всегда замечают, что социобиология предлагает столь же обоснованные (или столь же необоснованные) объяснения и для самых бескорыстных, альтруистических, доброжелательных типов поведения и демонстрирует те обстоятельства, при которых эти поведенческие стратегии становятся выгодны. И все же никакие аспекты этой науки на данном этапе не могут даже отдаленно объяснить индивидуальные различия: отчего Исаак выбирает стратегию, которую мы признаем «достойной», а Навуходоносор предпочитает манеру злобную и гадкую? Теперь, когда я уже подкованный ученый, могу лишь заключить, что Навуходоносор был сволочью на некоем глубинном уровне. И в 1980 году все стадо от души со мной согласилось бы.
А как же Урия — молодой монстр, наследник Соломонова трона, победитель непобедимого? На роль альфы он не годился, долгое царствование ему не грозило. После ухода Соломона Урия некоторое время продержался у власти, но должность была ему явно не по плечу. И когда из пустыни явился Саул — Урии не оставалось шансов.
Саул был в стаде с 1977 года. Его появление было заурядным. Еще не войдя в пору зрелости, он жил в соседнем стаде, и однажды оба стада встретились у реки. По обыкновению все вопили, вытягивали шеи, мерились взглядами, потом все устали и вернулись к своим занятиям. Однако дело не обошлось без волшебства. Бупси заметила прекрасного Саула. Саул заметил изящную Бупси и дернул бровями в ее адрес — у павианов это значит примерно то же, что и у остальных приматов вроде нас. Бупси подскочила к берегу и выставила Саулу зад. Счастливый Саул перебрался через реку. Бупси отбежала шагов на десять и вновь выставила зад. Саул еще приблизился. Бупси опять отбежала — и так мало-помалу привела Саула в стадо. Он остался насовсем и больше не уходил; правда, не могу не добавить, что особо устойчивых отношений у них с Бупси не сложилось.
За первые полгода Саул сделался отшельником — он просто жил сам по себе. Спал он со стадом, но на самой дальней ветке последнего дерева. Прежде я такого никогда не видел. Утром он первым спускался с дерева, первым уходил, причем уходил далеко на гору. Если кто-то приближался — переходил в другое место. Руководил им не страх, Саул не был низкоранговым самцом. Когда он все-таки вступал в контакт, он вел себя как напористый самец с высоким рангом. Просто основную часть времени ему хотелось проводить наедине с собой. В течение двух лет мой дневник наблюдений за его поведением состоял из записей о том, что он сидит в одиночестве. Мне кажется, с начала 1978 года и до конца 1980-го он в основном смотрел и думал. Он наблюдал за расцветом Соломона и его крахом, за взаимоотношениями Иисуса Навина и Руфи, за мирными стратегиями Исаака, за сеющим хаос Навуходоносором. Он лихорадочно заглатывал дневную порцию еды, пока остальные еще зевали под деревьями, и на целый день уходил на гору, где просто сидел и наблюдал. Наконец Саул, видимо, решил, что время настало: он, пришедший с самой периферии стада, низложил Урию в один день.
В тот первый день он победил Исаака в поединке, к которому у того не лежала душа, в продолжительной драке разбил в пух и прах Навуходоносора, разделался со стареющим Аароном. Иисус Навин, Вениамин, Даниил и несколько других, нервничая, стояли вокруг. Еще до заката Саул напал на Урию; череда неоднозначных взаимодействий показала, что ни один не был особо уверен в положении дел. К рассвету, который все встретили измотанными и невыспавшимися, Саул спустился с деревьев уже обладателем статуса альфа-самца, а Урия спустился с деревьев с двумя глубокими ранами от клыков — одна рассекала нос прямо посередине. Целый день он в расстроенных чувствах просидел на холме.
Так настало царство Саула. Он имел поразительную тягу к крайностям. Бывал взрывным и жестоким. Альфа-самцов, особенно поначалу, время от времени вызывают на бой другие самцы высокого ранга. Их можно проигнорировать, состроить угрожающую физиономию, иногда сделать резкий выпад, даже лениво погнаться вслед. Однако с Саулом мгновенно стало ясно, что даже на самые символические провокации он ответит полноценными атаками и яростно, с обнаженными клыками, будет преследовать противника, на ходу вгрызаясь ему в бока. Очень скоро попытки задеть его сошли на нет, все старались поскорее убраться с его пути. И все же в определенном смысле он не был чересчур агрессивным. Он не начинал драк, не мстил, не угрожал без причины. Самое поразительное — он никогда не нападал на самок в порядке косвенной агрессии, не вымещал на них злобу. Для павиана это так же неслыханно, как для нас крайние формы пацифизма, когда адепт в набедренной повязке отказывается принимать в пищу плоды из страха нечаянно убить поселившихся в них насекомых. Была в Сауле своего рода гармония противоположностей, как в инь и ян, невозмутимое спокойствие, восточная уравновешенность, но, если кто-то его задевал даже минимально, он становился бешено мстительным. Будто в той двухлетней медитативной изоляции Саул приобрел удивительную способность проявлять поведенческие крайности и ничего не делать бесцельно. Если уникальность Исаака во всех ее чертах толкала того отказываться от типично самцовых амбиций, избегать любых возможных конфликтов, спариваться с неподходящими самками, дружить с Рахилью, то уникальность Саула помогала ему преуспевать именно в этих отношениях. Саул был таким, каким мечтали бы стать большинство самцов, если бы им хватило ума, выдержки и сил.
На стадо снизошло благоденствие, и все шло своим чередом. Саул породил множество отпрысков; в деле размножения его доминирование было более ощутимым, чем у любого другого альфа-самца на моей памяти, хотя особых отцовских чувств он ни к кому не питал. У него были хорошие дружеские отношения почти со всеми самками в стаде, но явной близости — ни с одной. Годы шли, и Саул явно начинал подумывать о строительстве грандиозных соборов в свою честь и о передаче золотых флоринов в наследство монашеским орденам. Для остальных самцов, лучшая пора которых началась и, возможно, так и закончилась бы под пятой Саула, то было нелегкое время. Как оказалось, свергнуть такую неординарную личность можно было только неординарными способами.
Обычно в стаде есть один-два престолонаследника, ожидающих удобного случая, когда рефлексы альфы дадут сбой. В 1975-м Урия дышал в затылок Соломону; в легендарном 1978-м с его поправками к избирательному закону США Соломон не спускал глаз с Аарона. Теперь же вместо отчетливого номера 2 в стаде было несколько молодых самцов на пике расцвета, из которых ни один не дерзнул бы соперничать с Саулом. В итоге они пришли к логичному — хоть и редкому — решению и сформировали объединенную коалицию.
Иисус Навин вместе с еще одним крупным самцом Манассией, с которым ему вскоре предстояло враждовать, объединились первыми. Все утро они обменивались коалиционными жестами взаимных уступок, цементировали партнерство и наконец набрались смелости напасть на Саула. Тот мгновенно задал им трепку, пропорол Манассии бедро и обратил обоих в бегство. По обычным прогнозам этим должно было и кончиться. Однако на следующий день Иисус Навин и Манассия организовали коалицию с Левием — мускулистым молодым самцом, прожившим в стаде несколько лет. Саул расправился со всей троицей в мгновение ока. Еще днем позже они привели на буксире злобного Навуходоносора. Он и Манассия стойко продержались несколько секунд схватки, но Саул их одолел.
На следующий день компания пополнилась Даниилом и — как иллюстрация того, насколько отчаянно их грандиозная операция нуждалась в пушечном мясе, — Вениамином. Шестеро против одного. Я ставил на Саула. Он показался на краю леса, шестерка его окружила. Я торчал на крыше джипа, стараясь не упустить ни малейшей подробности, будто присутствовал при убийстве Цезаря.
Нападавшие наверняка тряслись от страха. Саул — вряд ли, хотя все шестеро явственно скрежетали зубами, показывали клыки, делали полувыпад вперед, ударяя рукой о землю, то есть совершали все то, что у павианов обычно служит знаком намерения хорошенько вздуть соперника. Саул выказывал подчеркнутое спокойствие и невозмутимость. Не думаю, чтобы шестерка сумела выработать хоть какую-то стратегию, павианам это просто не под силу. Должно быть, стратегия сложилась случайно. Левий и Манассия — два самца покрепче, способные причинить наибольший физический вред, — находились на противоположных сторонах круга. К кому бы из двоих ни повернулся Саул, он неизменно оказывался спиной к другому.
Наконец Саул выбрал момент и бросился на Левия и Иисуса Навина. Он наверняка раскидал бы всю шестерку и вышел победителем, если бы не Манассия, которому повезло броситься на Саула в удачный миг: Саул прыгнул, Манассия ринулся на него со спины и ухватил за ляжки. Саул потерял равновесие, промахнулся мимо Левия и Иисуса Навина и рухнул на бок. Вся шестерка кинулась на него в тот же миг.
Три следующих дня он пролежал на земле в лесу. Не знаю, как его не прикончили гиены. Когда через несколько недель я выстрелил в него дротиком, он весь был покрыт полузажившими ранами от клыков. К тому времени он потерял четверть веса, плечо было вывихнуто, рука у плеча сломана, гормоны стресса зашкаливали.
Саул выжил, хотя поначалу я на это не надеялся. Он научился передвигаться на трех конечностях, даже мог иногда немного пробежать; неподвижную руку он держал у груди и походил на защитника в американском футболе, принявшего стойку в полуприседе с опорой на одну руку. Он больше не вступал ни в одну драку, не спаривался ни с одной самкой и болтался в самом низу иерархии. Он вернулся туда, откуда возник, — в одинокое существование в пустынных местах. Он уже не выскакивал первым, не бежал впереди всех с изрядным отрывом: искалеченный, он всегда появлялся последним и плелся сзади. Он держался особняком, уходил с дороги при приближении других, сидел и смотрел на всех издалека — точно так же, как в ранние годы.
9. Самуэлли и слоны
Я вернулся в Кению к царствованию Саула куда более умудренным и повидавшим виды, чем тот дрожащий юнец, каким был несколькими годами раньше. Теперь у меня был паспорт, полный визовых отметок, и стойкий грибок, подхваченный в Уганде, который превратил меня в неувядаемое наглядное пособие для дерматологических обходов в мединституте. Я стал владельцем двух галстуков и под давлением обстоятельств даже пообедал однажды в манхэттенском ресторане, куда без галстука не пускают. Исследования понемногу продвигались: я начал набирать данные, показывающие, что организм низкоранговых павианов хронически генерирует стрессовые отклики, что способствует предрасположенности к стрессогенным заболеваниям. Я даже пережил первую в своей жизни научную конференцию, где я, окаменевший от страха студент-старшекурсник, сделал пятнадцатиминутный доклад об этой работе. По стандартам моего научного племени — и даже павианьего стада — меня можно было обоснованно считать самцом на пороге вступления в зрелый возраст.
Я торжественно отметил это тем, что предал политические принципы моей семьи с ее профсоюзными идеалами и влился в ряды эксплуататоров, использующих наемный труд. Работы с павианами становилось все больше, а я не мог ежегодно подолгу сидеть в буше, игнорируя лабораторные исследования и вежливые вопросы научного руководителя насчет того, собираюсь ли я дописывать диплом. В мое отсутствие за павианами нужно было кому-то наблюдать, и я нанял двух кенийцев — собирать поведенческие данные о павианах в течение всего года. Оба были далеки от теоретической зоологии и приматологии, оба окончили лишь несколько классов школы, а когда семья больше не могла их содержать, они пополнили собой армию тех, кто, пользуясь дальним родством с каким-нибудь официантом или посудомойкой в заповеднике, торчал у туристских гостиниц, спал на полу в помещениях для обслуги и с радостью хватался за любую работу. Могу только похвалить себя за проницательность, с какой выбрал их из бесконечной череды желающих заработать, но на деле мне просто несказанно повезло, и эти двое стали, насколько я могу сейчас видеть, моими друзьями на всю жизнь.
Ричард происходил из земледельческого племени, северного по отношению к масаи, Хадсон — из западного. Оба прошли через необходимость смириться с тем, что им придется работать на землях традиционных врагов их племени и жить здесь же, вдалеке от оставленных дома жен и семей. В остальном же они были прямой противоположностью друг другу. Ричард, живой и эмоциональный, бурно радовался при метком выстреле дротиком и безутешно горевал при неудачном, с готовностью примерял на себя новые личины, ухватывал характерные жесты у всех виденных белых с Запада и блестяще их копировал. Хадсон же, напротив, был замкнут, молчалив, непоколебим, как скала, на всем экономил, жил аскетично и помогал бесчисленным дальним родственникам получить образование. Подлинную глубину своих чувств и суждений и истинную меру своего хитрого едкого юмора он выказывал крайне редко. Оба жили в административной части, поскольку, в отличие от меня, не имели склонности жить в палатке. Ричард проработает здесь в рамках проекта двенадцать лет и затем возвратится домой к семье. Хадсон же почти весь этот период будет работать с павианами на другом конце страны, а затем вернется работать со мной в 1990-х.
Мое буржуазное разложение на этом не остановилось. Я нанял еще и компаньона для жизни в лагере. В первые годы я разбивал лагерь на отдельной горе в дальнем углу заповедника, так что масаи и прочие гости добирались туда не каждую неделю. Теперь же у павианов изменились привычные пути, и лагерь стало целесообразнее держать внизу, на равнине. Новое место было жарче, суше и, к сожалению, находилось ближе к деревням, все больше подступавшим к границам заповедника. Днем, пока я бывал в отлучке, из лагеря начали пропадать вещи, и стало ясно, что в мое отсутствие здесь кто-то должен дежурить.
Найти подходящего человека было нетрудно: у любого, кого я знал в туристских гостиницах или на кордонах, имелись родственники, нуждающиеся в работе. Трудность была в том, что все дежурные шли вразнос буквально на глазах: по какой-то стойкой традиции эти личности вскоре оказывались непригодны к жизни в буше. Незадолго до того я наблюдал подобный случай, довольно яркий, в лагере Лоуренса Гиенского — исследователя из Беркли, который начал свои наблюдения за животными по другую сторону той же горы примерно в одно время со мной.
Лоуренсу не хватало отпускаемых на исследования денег, и он устроил лагерь для общественной экологической организации Earthwatch, которая отправляет экотуристов работать на полевых вахтах. Все шло отлично, и вскоре Лоуренс принялся нанимать людей, которые готовили бы гостям еду. Первым стал Томас — отличный полевой повар, известный сафари-компаниям по всей стране и обладающий многочисленными способностями, иногда полезными. Первое впечатление он оставлял незабываемое: малорослый, коренастый, болтливый, неопрятный, лохматый, с вечной ухмылкой, всегда немилосердно пьяный. При любой возможности Томас норовил улизнуть в ближайшую масайскую деревню за бутылкой самогона и возвращался под градусом, с ухмылкой, пританцовывая на некрепких ногах и хрипло распевая.
Когда выдавалось свободное время, хмельной Томас бродил вверх и вниз по течению и что-то горланил. Тут-то и обнаружились два его уникальных таланта. В пьяном угаре Томас садился в узкой и мелкой излучине реки (шириной в несколько шагов и глубиной в считаные дюймы) и принимался ловить рыбу. Он вытаскивал ее десятками — крупные мясистые рыбины появлялись ниоткуда, будто Томас был не только переодетым богом вина, но и богом нереста. К несчастью, пойманную рыбу потом мало кто видел, поскольку тут же проявлялся второй загадочный талант Томаса — притягивать диких буйволов. Год за годом буйволы его гоняли, бодали, сбивали с ног, швыряли в воздух и топтали. Стоило ему, нагруженному рыбой, с обычным бормотанием и припеванием отправиться домой и на очередном повороте остановиться хлебнуть из бутылки — как на него, словно по расписанию, неотвратимый, будто лето после весны, выскакивал из зарослей очередной буйвол. На Томаса буйволы слетались издалека, за много миль, и все лишь для того, чтобы перекинуть его через плечо и рассыпать рыбу по канавам, кустам и кронам деревьев. Его притягательность для буйволов была невероятной. Департамент по делам заповедников, случись ему забеспокоиться из-за уменьшающейся популяции диких животных, мог бы наводнить буйволами целые пустынные провинции — всего-то стоило провезти по ним припевающего, похрипывающего Томаса на капоте джипа как статуэтку-эмблему, сделанную по жанровым картинам Хогарта. Поставьте Томаса посреди отдела садоводческого оборудования в самом крупном супермаркете самого фешенебельного района Америки — и я гарантирую, что через считаные минуты из-за стенда со снегоуборщиками вылетит африканский черный буйвол и зашвырнет Томаса в вентиляционную шахту. Раз за разом, выходя на поиски, мы обнаруживали его лицом к лицу с очередным идущим на него буйволом, которого Томас пытался отогнать проклятиями, плевками, угрозами и фирменным, непередаваемым вилянием таза. Что удивительно — эти многочисленные столкновения с буйволами покалечили его не очень сильно: лишь бедро, когда-то раздробленное, неправильно срослось и осталось изуродованным.
Второй повар, ангелоподобный Джулиус, был полной противоположностью Томасу: кроткий, смешливый, совершенно очаровательный, в ранние годы сильно подпавший под влияние миссионеров. Томас, старший из двоих, естественным образом принял на себя роль главного в этой микродеревушке и вскоре уже властной рукой ежемесячно присваивал себе половину жалованья Джулиуса. Джулиусу такое было явно не в новинку, поскольку он уже привык подставлять вторую щеку масайским воинам, отбиравшим у него рэкетом часть заработка под предлогом «защиты». Хуже становилось в те дни, когда Томас в свободное время где-то отчаянно напивался и потом начинал буянить в лагере. Даже в таком состоянии он замечал, что Джулиусу это неприятно, и с удвоенной энергией начинал его изводить: плясал, болтал без умолку, чмокал губами перед его носом и усиленно вилял тазом, то есть измывался над всем, что Джулиус считал благочестивым и пристойным. В итоге Джулиус стал по большей части проводить свои дни в палатке, распевая гимны.
По любым прогнозам ему в этом тягостном противостоянии грозило поражение, однако, сам того не ожидая, однажды он умудрился полярно переменить ситуацию раз и навсегда. Мы, вернувшись в лагерь, застали только развязку, так не узнав, что же отмочил на этот раз пьяный Томас, но Джулиус, вместо того чтобы по обыкновению уединиться в палатке и искать утешение в гимнах, теперь с Библией в руках ораторствовал перед Томасом, суля грешнику все муки ада. Как ни странно, кроткие и вправду унаследовали этот клочок саванны. В тот же день, чуть погодя, разъяренный протрезвевший Томас объявил Лоуренсу, что он по работе не подряжался выслушивать всякую ерунду, и отказался от места. Это происшествие навсегда отбило у него охоту жить в буше. По сей день Томас бродит по улицам Найроби, упиваясь столичным самогоном, и неизменно отвечает отказом на все паломничества туроператоров, которые с поклонами и расшаркиваниями то и дело приходят умолять его поработать поваром у очередной туристской группы. Он нашел новую, более прибыльную нишу. Благодаря потрясающей памяти он как-то умудряется помнить всех старых британцев колониальной эпохи, живущих в Найроби: едва завидев такого, он бросается к нему, подобострастно величая его «мемсаб» или «саиб», и начинает с характерным смешком потчевать хлесткими сплетнями обо всех прочих белых колониалистах, живущих в столице. Скандалы, измены, оплошности, убийства, фантастические домыслы — никто не знает, как попадают к нему сведения, но Томас ничего не упускает. Он пересказывает все с таким напускным ликованием, так ловко импровизируя и в столь явно фальшивых подробностях, что все немедленно пускаются восторженно разносить сплетню дальше, правда, не прежде, чем Томас, по обыкновению, попросит некоторую сумму «взаймы». Так он богатеет и становится все разгульнее, пока буйволы, охотящиеся за ним, еще не добрались до столицы.
Итак, к всеобщему удивлению, именно Томасу не хватило стойкости для жизни в буше, и у Джулиуса началась долгая и славная пора сотрудничества с Лоуренсом.
Примерно в то время, когда ушел Томас, я осознал, что мне нужен дежурный в лагере, и передо мной начала разворачиваться череда личностей, приходивших в негодность прямо на глазах. Сейчас, задним числом, я подозреваю, что всему виной тайваньская скумбрия в томате. Год за годом я совершал все ту же гастрономическую ошибку. Сидишь в американской лаборатории, испытываешь дикий зуд сорваться в Кению, потом попадаешь в Найроби и до буша остается всего день пути, заскакиваешь на рынок за провиантом на три месяца, чтобы потом не ездить опять в Найроби, летишь по магазину, сгребаешь продукты не думая, лишь бы скорее в дорогу. Мешок риса, мешок бобов, что-нибудь из овощей, способных не сгнить в первую же неделю в буше, какой-нибудь соус чили, чтобы заглушить гнилостный вкус, сколько-то банок слив в густом сахарном сиропе — для праздничных случаев. Потом смотришь, что взять как стабильный источник белка. Сыр через день-другой на жаре растекается в подозрительную лужу, мяса я по-прежнему старался избегать, американские консервы из тунца стоили недосягаемо дорого для полевых биологов и наверняка приберегались исключительно для американского дипломатического корпуса, так что каждый год я упирался взглядом в банки тайваньской скумбрии в томате. Дешево и сердито, при этом огромное количество белка, костей, хрящей и безымянных рыбьих фрагментов, вызывающих нетривиальные раздумья. Каждый год я на миг останавливаюсь и напоминаю себе: «Не вздумай, возьми чего-нибудь другого для разнообразия, оглядись, не спеши». Однако нетерпение берет свое: «Сколько можно, скорее в дорогу, еда — всего лишь еда». Схватить ящик консервов, завести двигатель — и вот уже я в своем любимом лагере, где на ближайшие три месяца у меня из продуктов лишь рис, бобы и проклятая тайваньская скумбрия в томате, вонзающаяся костями в десны при каждом укусе.
После трех дней такой жизни тебе начинают мерещиться печенье с клубничной начинкой, бутерброды с расплавленным сыром и шоколадные напитки. «По крайней мере я сам так решил», — твердишь ты себе. А до бедолаги дежурного, нанятого тобой, начинает постепенно доходить, что ему на этой еде так и жить здесь целую вечность. Большинство виденных мной африканцев, за исключением жителей океанских или озерных побережий, относятся к рыбе с опаской, а бобы и рис им в новинку, поскольку местным источником крахмала служит безвкусная белая паста из кукурузной муки, уплотняющая содержимое кишечника. И вот раз за разом во время еды дежурный с истинным стоицизмом народа банту наблюдает, как открывается очередная банка скумбрии — брызжет томат, с отвратительным хлюпаньем вываливается из банки рыба, поблескивают хрящи… И парень мало-помалу начинает выпадать в осадок.
Впрочем, вряд ли справедливо винить одну лишь скумбрию. Сумасшествию дежурных наверняка способствовали еще и условия работы. Дитя кенийской земледельческой общины пытается заработать сколько-нибудь денег и вдруг попадает в совершенную глушь к какому-то белому. Есть чего испугаться. Пища у меня странная, привычки тоже, на суахили говорю не так. Моя кожа на солнце меняет цвет, а потом слезает клочьями. Ричард после моих бесчисленных вопросов однажды признался, что и запах у белых какой-то странный. Кроме того, у меня густая борода и пышная грива волос, что определенно озадачивает африканцев. А тут еще и происходящее в лагере не добавляет спокойствия: то и дело вокруг шатаются полусонные павианы, дымятся ящики с сухим льдом и жидким азотом, везде моча, кровь и кал павианов.
Странности жизни для пришлого дежурного этим не исчерпываются. Стоическая личность в трудных условиях может попробовать поискать утешения в окружающей жизни. Однако если ты вырос в деревушке земледельцев, то до ближайшей такой деревушки отсюда восемьдесят миль. А буш — не такое уж утешение для того, кто привык возделывать поля. С точки зрения такого человека, здесь все кишит львами, стремящимися тебя искалечить, буйволами, которые только и норовят сбросить тебя в реку, и крокодилами, которые готовятся тебя схватить, а если от тебя после этого что-нибудь останется, то нагрянет шипящая армия муравьев, которые сожрут твои веки. А хуже всего — в соседях здесь масаи, настоящий кошмар для любого кенийского земледельца.
В совокупности веселого мало, и вскоре после начала очередного сезона дежурные начинают сползать в безумие. Один из таких — следуя стезей Томаса, но не имея его энергии и талантов, — скатился в беспросветный алкоголизм, предварительно установив дружественные отношения с масаи, у которых с тех пор и покупал домашнюю водку. Другой ударился в такую же религиозность, как Джулиус, и вскоре нашел предлог от меня отделаться: президент страны высказался против бород как знака морального разложения, и в духе разглагольствований о патриотизме и религиозности дежурный дал понять, что будь он проклят, если отправится к чертям собачьим в мой бородатый лагерь. Третий до потери дара речи боялся зверей и брал с собой в постель лопату. Следующий дошел до психического срыва и ночью вопил в палатке о том, что его парализует свет. Еще один не то чтобы съехал с катушек, просто пустился в бессмысленное воровство: таскал у меня разные мелочи и пропадал по нескольку дней без всяких объяснений. Я дозрел до того, чтобы впервые в жизни кое-кого уволить: предварительно целыми днями, как одержимый, обдумывал способы и метался между чувством вины, бешеной яростью, которой хватило бы для разрубания парня на куски с помощью мачете, и паранойей, убеждавшей меня, что он собирается сделать со мной то же самое. Я произнес перед ним хорошо подготовленную речь на суахили, куда включил пассажи о пуританской этике отношения к делу, о золотом правиле, о Винсе Ломбарди, о придуманных для этого случая аналогичных проступках в моей собственной юности (пытаясь донести до него мысль, что если он возьмется за ум, то еще может стать профессором, как я), а по окончании речи уволил. Он принял это с достоинством, и я по сей день при каждом ночном шорохе и звуке треснувшей ветки совершенно точно знаю, что это он — крадется с берега, чтобы разрубить меня на куски и скормить добровольным подельникам, гиенам (именно так совершается изрядное количество убийств в буше).
Однако особенно изощренное коварство бушлендского помешательства я наблюдал с приходом Самуэлли. До сих пор гадаю, к чему это могло привести, если бы не слоны.
Самуэлли был братом Ричарда, моего научного помощника. Как я упоминал, Ричард жил в поселке для персонала при одном из туристских лагерей, в пяти милях от моего лагеря. В том году Ричард привез Самуэлли из дома и определил ко мне дежурным. Все начиналось вполне благополучно. В первый день работали как проклятые: ставили палатки, рыли ямы для мусора и для уборных, собирали дрова. Ближе к вечеру развели костер, все к тому времени проголодались. Я сказал, что прокопаю сточные канавы для палаток, если Самуэлли займется приготовлением ужина. Вот, сказал я, свари нам риса и бобов, а когда будет готово, брось туда рыбу, — вручив ему банку любимой скумбрии, я вернулся к работе. Чуть погодя я краем глаза заметил, что Самуэлли стоит, застыв в оцепенении. Ах да, культурный шок — такое случается на каждом шагу: толком не знаешь, что именно ты посчитал очевидным и не объяснил и из-за этого что-то пошло не так. Например, однажды я начал учить Ричарда водить машину — в первый день мы виляющими рывками въехали в лагерь, Ричард был сам не свой от восторга и возбуждения. Я выскочил и побежал в туалет, а когда вернулся — обнаружил, что не показал ему самое простое: как открывается автомобильная дверь. Он так и сидел внутри и скреб стекло в попытке выйти. Сейчас, в случае с Самуэлли, я наверняка забыл что-нибудь такое же простое, но не знал, что именно. Наконец стало ясно, что, хотя с консервированными продуктами он отлично знаком, консервным ножом он раньше не пользовался. Дело оказалось легко поправимым (несравнимо легче, чем с предыдущим кандидатом, для которого сама идея консервов была внове: гляди, мы, белые люди, прячем еду в металле). Мы открыли банку слив в сиропе — в конце концов, нам было что отметить — и почти подружились. На следующий день, пока я работал с павианами, Самуэлли продемонстрировал новообретенные навыки тем, что повскрывал все заготовленные на три месяца банки скумбрии и слив. Тем вечером мы наелись до отвала и раздали остальное, за новыми продуктами пришлось лишний раз ехать в Найроби.
С тех пор дела у Самуэлли пошли лучше. Очень скоро он выказал гениальные способности к строительному делу — и начал сооружать в буше всякие штуковины из подручных материалов. Жизнь в лагере забурлила. Когда я приехал, сезон дождей еще не кончился, и Самуэлли взялся за работу. Как-то днем, отправившись в рощицу с мачете в руках, он срубил четыре крупные ветки, спрямил и обтесал их так, чтобы они годились на роль столбов, затем вырыл небольшие ямки и лил в них воду до тех пор, пока земля внутри не раскисла, потом вкопал столбы вертикально. Еще немного работы мачете, и охапка веток, густо покрытых листьями, оказалась перевязана лозой — вуаля, у нас появилась отличная времянка, в которой можно прятаться от дождей. Через несколько дней, вернувшись в лагерь, я обнаруживаю стену, сделанную из веток и листьев. Затем вторую, третью. В задней стене появляется окно. Дальше территория начинает обрастать постройками. Самуэлли вырыл резервуары для бочек с водой: возвращаюсь однажды в лагерь, неживой от зноя, а Самуэлли сидит и попивает воду — холодную! Как-то вечером во времянке, в которой теперь был очаг, Самуэлли вдруг спросил: «А почему бы тебе не пойти к реке искупаться?» Я спустился к реке, то и дело оглядываясь в сумерках, не маячит ли где-нибудь буйвол, и вдруг обнаружил, что Самуэлли устроил на берегу несколько запруд для купания.
Времянка, ставшая центром жизни в лагере, постепенно принимала все более усложненную форму. Со всех четырех сторон выросли пристройки, появилась дверь, вестибюль, вторая комната. Вокруг очага возникли скамьи. Появился стол. Все это — из глины, веток, листьев, лоз и камня, не совсем согласующееся с законом всемирного тяготения. Для защиты от влаги Самуэлли обшил дом расплющенными жестяными банками, из которых еще не выветрился запах скумбрии. Одна из клеток, служившая мне для содержания павианов, была конфискована под защищенную от зверей кладовку. Все чашки и миски, бывшие в лагере, исчезли: теперь они были втиснуты в мелкие потайные отверстия в стене под таким углом, чтобы собирать в себя дождевую воду. Полки для кухонных принадлежностей, на стене портрет президента, на хитро устроенных платформах в стенах красуются банки скумбрии. Теперь я каждый день возвращался в лагерь, с любопытством предвкушая очередное новшество Самуэлли: может, клавесин из глины и навоза, или вручную вырезанные бюсты знаменитых зоологов, или точнейшую копию Версальского дворца в масштабе 1:10, сделанную из банок из-под тайваньской скумбрии.
Затем в один из дней все пошло наперекосяк. Я виню в этом себя. Накануне забарахлил двигатель, я застрял на ночь, спал в машине — и Самуэлли то ли от беспокойства за меня, то ли почуяв свободу, развил бурную деятельность. Когда я на следующий день вернулся, он сиял от возбуждения. И предложил мне искупаться в реке.
— Самуэлли, ты построил на реке что-то большое, да?
— Да. Да!
Спускаюсь, Самуэлли возбужденно следует по пятам. И вдруг я обнаруживаю, что река исчезла. Озадаченный и встревоженный, поднимаюсь вверх по руслу, огибаю излучину и вижу, что Самуэлли все два дня явно работал не покладая рук в бешеном припадке деятельности и умудрился перегородить плотиной всю реку. Остановив ее напрочь. Наш жалкий ручеек глубиной в пядь и шириной в три шага теперь разлился в озеро имени Самуэлли, упирающееся в полутораметровую стену из песка и камня.
Самуэлли сияет от удовольствия — ведь это самое крупное его достижение, есть чем гордиться.
— Эй, Самуэлли, что за новости?
— Я остановил реку, — говорит он.
— Да, я вижу, но зачем?
— Теперь вода не будет утекать и не пересохнет, ведь сезон дождей прошел.
Вообще говоря, плотина удалась на славу. О том, что будет, если перегородить реку, я фантазировал не первый год. Она впадала в реку Мара, которая текла в озеро Виктория, питающее Нил, — я рисовал себе картину, как перегораживаю реку, со временем Каир приходит в упадок, Суэцкий канал разрушается, Индия с ее английским владычеством оказывается в изоляции, королева Виктория и вся империя зависят от моей единоличной воли. Однако при всей привлекательности такой перспективы существовали и несокрушимые препятствия к запруживанию реки, и плотину оставлять было нельзя. Я попытался объяснить, что недели через две вода совершенно застоится: комары, антилопий помет, глисты, разносящие заразу улитки — и нам не миновать гигантской, невиданной вспышки малярии. Самуэлли стоял на своем: «Не надо убирать озеро. У нас всегда будет вода, можно купаться, выращивать рыбу, и даже скумбрию», — убеждал он меня. «Нет, — говорил я, — плотину нужно убрать». Самуэлли не уступал: «Я построю из веток лодку, мы будем ходить под парусом, можно запустить в озеро крокодилов, они будут нас защищать, туристы будут приезжать и платить деньги за право сфотографироваться». Наконец я выдвигаю главный аргумент: «Да, Самуэлли, все отлично, но ты отрезал от воды масайскую деревню, и сегодня ночью масайские воины придут и убьют тебя копьями».
Довод сработал. Самуэлли горестно подчинился и оставшееся до сумерек время провел ломая плотину.
Такое крушение надежд его подкосило. Он ушел к себе в палатку и больше в тот день не показывался. Хандра продолжалась и назавтра, и на следующий день. Самуэлли забросил строительство дома, в котором было готово только три комнаты. Винный погреб, резное крыльцо, смотровая площадка на крыше — все осталось только в проектах. Самуэлли перестал разговаривать и целыми вечерами лишь сидел и смотрел на огонь. Он больше не вскакивал открывать консервные банки, его порция скумбрии оставалась нетронутой.
Депрессия продолжалась, Самуэлли съехал с катушек. Фиаско с плотиной его совершенно обескуражило, мечта сотворить райскую долину из глины, веток и листьев померкла на глазах, и вот он торчит тут на краю света с каким-то белым парнем и толпой анестезированных павианов. Мы с Ричардом держали совет — Ричард тоже не знал, как вернуть брата к жизни. Еще один преданный помощник в лагере двигался к неминуемому помешательству.
Время для этого было неподходящее. Сезон жары вошел в полную силу, на этом фоне дрогнул бы даже самый здравомыслящий человек. Каждый день зной усиливался и становился невыносим, озеро имени Самуэлли в любом случае скоро перешло бы в разряд чисто теоретических величин, поскольку вода испарялась на глазах. Река сделалась илистой, воздух — пыльным, сухим, потрескивающим от напряжения. Наступала пора пожаров и антилоп гну.
Огромная равнина Серенгети, часть которой принадлежит нашему заповеднику, имеет циклическую схему выпадения дождей, так что в любой момент в течение года где-нибудь обязательно есть густая трава полтора метра высотой, и двухмиллионное мигрирующее поголовье антилоп гну круглый год перемещается вслед дождям, устремляясь от степных пожаров к океанам высокой травы. А за ними следуют все оголодавшие хищники страны.
Каждый год все повторялось. Прекращаются дожди, прилетевший из буша летчик докладывает, что стадо антилоп гну сейчас в Танзании, в полусотне миль от границы. Неделей позже стадо подходит к границе. Назавтра стоишь днем на крыше джипа, смотришь в бинокль, видишь тонкую вереницу антилоп, спускающихся по склону дальней горы. На следующее утро просыпаешься как от толчка: везде, куда ни глянь, толпы, стада, тысячи и тысячи бегущих антилоп гну, которые заполняют фырканьем, всхрапыванием, топотом и пометом каждый дюйм твоей лужайки.
Это самое засушливое, бешеное, безумное время года. Ни воды, ничего — только пыль и пожары, Серенгети горит целиком: полутораметровая сухая трава буквально взрывается от молний, прокатываются гигантские волны огня. Выезжаешь на вершину горы ночью — и видишь внизу стену пламени, сверху облака в оранжевых сполохах, а посреди пожара, затаптывая траву и шарахаясь от языков огня, носятся обезумевшие антилопы — сумбурные переплетения дезориентированных масс животных, которые, как заведенные, мечутся в панике по полям. Хищники от них не отстают, мы по ночам то и дело вздрагиваем, в кустах вопят антилопы и стаи гиен, утром куски чьей-то туши разбросаны на целый акр позади палаток, но это ничего, подумаешь, следующая сотня тысяч антилоп уже здесь и истерично носится вокруг, ничего не замечая и не имея в мозгу ни единой мысли, кроме, может быть, стремления скакать не разбирая дороги, настолько бездумно, чтобы в конце концов — если перефразировать Питера Матиссена — рухнуть, размозжив себе голову о камни, и лишь этим погасить исступление, снедающее их слабый примитивный мозг. Итак, антилопы, пожары, вихри пламени и дыма, пыль и зной — и час от часу становящийся все угрюмее Самуэлли.
Однако, к счастью, нагрянувшие слоны ночью сожрали построенный им дом.
Слоны в ночном лагере — незабываемое зрелище, от которого у кого угодно заколотится сердце. Просыпаешься в панике, вокруг палатки треск и грохот, саму палатку чудом не задевает свалившееся рядом дерево, кто-то обгрызает куст прямо у входа, палаточные шнуры порваны и болтаются. Выглядываешь в окно: ствол дерева, которого вечером перед сном еще не было, поднимается и опускается — оказывается, это слоновья нога! Ты успеваешь подумать, что сейчас тебя затопчут насмерть или привалят деревом. И каждый раз лежишь в совершенном ужасе, ожидая неминуемой гибели под слоновьими ногами, тебя захлестывают противоречивые чувства, ты с удивлением слышишь… звуки слоновьего желудка. Слоновье брюхо производит немыслимое количество шума, и совершеннее этого звука в мире ничего нет: низкий басовый рокот, словно испускаемый центром земли, как будто ты вернулся в детство и у тебя самый лучший в мире огромный седобородый дед, который сейчас любовно поднимет тебя узловатыми руками, посадит к себе на колени, прислонит ухом к своему животу и специально для тебя одного испустит рокочущий звук такой громкий, медленный и глубокий, что он будет длиться и длиться, так что ты будешь счастливо трепетать ему в такт до следующего ледникового периода, — такой это звук. И вот ты лежишь в палатке, готовый погибнуть на месте, а тебя убаюкивает чудесный рокот слоновьего брюха, так что хочется свернуться калачиком, как щенок, и уснуть, но нельзя: за стенами палатки ломятся сквозь заросли проклятые слоны, готовые тебя растоптать, — и тут неминуемо нужда заставляет тебя вылезти из палатки и опорожнить кишечник. Однажды я в такую ситуацию и попал. Меня тогда донельзя достали рис и скумбрия, а застрявшие в грязи туристы, которых я вытащил, повели меня на обед в туристскую гостиницу. На вопросы об особенностях поведения животных я что-то сочинял на ходу, а сам усиленно налегал на обед, включавший горы отвратительно унылых и безвкусных пудингов, обожаемых британцами и оставленных ими в наследство (дольше всех пережившее их самих) кенийским гостиницам. Гумбо с курицей, мясной пирог а-ля кикуйю, разные виды карри, баночная ветчина с ломтиками ананаса — и сверх этого унылый коричневый пудинг с кляксами кристаллизованного сахара и резными украшениями на верхушке. Меня гоняло поносом всю ночь, но я ни о чем не жалел. Пока не нагрянули слоны. На очередной волне диареи я вдруг обнаруживаю, что сижу напротив палатки, совершенно голый, скрученный приступом боли, из меня льется кислотная жижа — и вообразите мое унижение при виде стоящих вокруг меня шести слонов. Молчаливые, недоумевающие, вежливые, что-то бормочущие, чуть ли не заботливые, они поводили хоботами в попытке понять, что я делаю и почему испускаю стоны. Они созерцали мои отчаянные диарейные судороги так, словно это захватывающая и безмолвная шекспировская трагедия, вновь и вновь исполняемая на бис.
Так бывало при ночном нашествии слонов. И однажды, к нашему счастью, они ночью объели дом, сооруженный Самуэлли. А сам он неожиданно оказался прирожденным бойцом против слонов. Самуэлли и Ричард родились и выросли в земледельческом районе, где целые поколения не видели слонов. Однако я могу поручиться, что какой-то из их предков наверняка участвовал в арабской охоте на слонов: Самуэлли, сражаясь со слонами, демонстрировал врожденное бесстрашие. В тот раз группа слонов неожиданно нагрянула среди ночи и сжевала крышу и заднюю стену дома, уничтожив водозащитные жестянки, которые Самуэлли так тщательно приладил. Самуэлли, который за многие дни не произнес ни слова и понемногу сползал в кататонию, неожиданно для всех с воплями вылетел из палатки. Самуэлли, молчавший столько времени, теперь вопил, размахивал руками, улюлюкал и кидался камнями, пытаясь отогнать слонов от возведенного им дома. Я поначалу сидел в палатке, сжавшись от страха перед неминуемой смертью под слоновьими ногами. Но Самуэлли снаружи героически сражался за свой дом, и в конце концов я вылез его остановить, пока его не растоптали. Самуэлли как раз собирался подпалить слонам хвосты. Слоны глядели скорее озадаченно, чем злобно, и поводили хоботами так же терпеливо, как их собратья (а может, и они сами), взиравшие несколькими годами ранее на мою шекспировскую диарею всего километром выше по течению. Пока мы с Самуэлли спорили и препирались — слоны невозмутимо продолжали есть. В конце концов я убедил Самуэлли вернуться в палатку: запретить слонам объедать дом ему все равно бы не удалось.
В результате они спасли Самуэлли от неминуемого сползания в безумие. Наутро он вышел оценить масштаб разрушений: половина крыши и одна стена исчезли полностью, изрядная часть жестянок из-под скумбрии разметана, везде хаос. К следующему вечеру энергичный и улыбающийся Самуэлли, каким я его не видел целыми неделями, все починил. В ту же ночь слоны вернулись и съели заднюю стену и вестибюль. А к очередному закату Самуэлли все восстановил и заодно соорудил из лоз хитроумный блочный подъемник, чтобы брать воду из несуществующей реки.
Так оно и шло весь оставшийся сезон. Самуэлли чинил дом, слоны вновь возвращались полакомиться. И каждое утро Самуэлли, полный свежего энтузиазма и новых идей, с пламенеющей в сердце жаждой мести и тягой к архитектурному совершенству, принимался восстанавливать разрушенное. Все следующие годы мы с Самуэлли так и жили вместе в лагере, слоны по-прежнему ходили к нам пообедать, и им никто не препятствовал.
10. Первые масаи
Дело шло к сумеркам, я сидел в лагере один: Самуэлли ушел в туристский лагерь навестить Ричарда. Основную часть дня я собирал поведенческие данные, наблюдая беднягу Ионафана — чистая, невинная душа, он безответно сох по Ревекке. Насмотревшись на него, я впал в тоскливую задумчивость. Мои материалы по Ионафану чуть ли не полностью состояли из описаний того, как он в миллионный и миллиардный раз пытался безнадежно следовать за Ревеккой. Она сидела с подругами за обыскиванием — он стоически сидел поодаль. Она прогуливалась, собирая цветы и коренья, — он взволнованно следовал сзади, сохраняя идеально точное расстояние в десять шагов и совершенно забывая о еде. Она шла подставить зад кому-нибудь из крупных матерых самцов — Ионафан садился и начинал лихорадочно чесать щиколотки и колени. А потом, когда она наконец устраивалась посидеть в одиночестве, он поспешно хватался за такой шанс и подходил ближе, но она мгновенно уносилась прочь, не удостоив его даже взглядом.
«Ну же, дай ему посидеть вместе с тобой, — раздраженно думал я. — Поговори с ним, сходите выпить кока-колы. У тебя на школьном вечере небось и такого кавалера не нашлось бы. Гляди, бедолага даже не просит, чтобы ты его обыскивала, он сам тебя готов обыскивать — от тебя убудет, что ли, если ты ему позволишь за собой поухаживать? Зато он потом будет счастлив целый день». Я злился — причина была в том, что мне катастрофически недоставало кого-нибудь, кто поухаживал бы за мной самим, вы же понимаете.
Так отголоски бушлендского безумия достигли и меня, и я какое-то время в них варился. Так что масайские гости, нагрянувшие в лагерь, пришлись очень кстати. Привел их Соирова, родственник Роды по мужу, — отличный парень, с которым у нас быстро крепла дружба. Вся компания явно что-то замышляла, в воздухе носилось заговорщическое оживление: народ собрался зажарить козу.
Легенды не лгут, рацион масаи действительно почти полностью состоит из коровьего молока и крови. Думать об этом без содрогания невозможно (пить, как я однажды, тем более), но, с точки зрения кочевых скотоводов, такой расклад вполне логичен. Так что, как правило, молоко и кровь, иногда немного кукурузной муки (для особо прогрессивных) и мед, когда удастся заслать за ним ребенка помладше, который не боится пчел. И еще мясо. Время от времени здесь забивают коз. Определенные виды дикой фауны считаются «дикими козами» и «дикими коровами», отбившимися от стада, и на них можно охотиться без ущерба для репутации масаи как племени, никогда не убивающего диких животных. Поедание козьего мяса сопряжено по местным обычаям со строгим запретом: когда мужчины едят мясо, женщины не должны их видеть — это дурная примета, прямо-таки ужасно дурная примета. То есть при общем традиционном недостатке белковой пищи мясо позволено есть только мужчинам. Очень удобно.
Итак, компания собралась зажарить козу. Женам сказали, что решили просто размять ноги, а сами устремились в буш — побыть настоящими мужчинами и поесть мяса! Старики рассказывают о своих уловках взахлеб и хихикают от удовольствия. Ко мне они пришли якобы за солью и луковицей, но всячески интересуются, не хочу ли я с ними. Еще бы я не хотел!
Выбираемся на прогалину. Коза все это время шла рядом, будто состояла в нашем отряде. Становимся в круг, масаи плюют друг другу на ноги в знак дружеского расположения, освобождают часть пространства. Трое старейшин выходят вперед, осторожно держа козу за голову — как если бы совершали над ней священнодействие или проводили френологическое исследование. Они кивают, молодой парень шагает к ним, перерезает козе горло. Все, включая козу, хранят молчание. Кровь сливают в тыкву-горлянку, которую пускают по кругу — пить. Я, стиснув зубы, отхлебываю из вежливости, стараясь не думать о сибирской язве, паразитах и прочем, что может оказаться в козьей крови. Старшие, сделав свое дело, отходят на зрительские места. Они снимают накидки, расстилают их на земле и расслабленно укладываются на них обнаженными, как на пляже, опираясь на локоть: у каждого мускулистые узловатые ноги веретенообразной формы, небольшое брюшко, сморщенный пенис — вся поза напоминает заретушированное фото Генри Киссинджера в стиле ню, постеры с которым висели в университетских общежитиях в начале 1970-х. Остальные разжигают костер (быстрее, чем я кухонную плиту), козу уже забили и разложили куски по тарелкам из листьев, масайский пес к ним принюхивается. Еда готовится, первые небольшие куски уже поджарились, к ним добавляется соль и моя луковица, и мы приступаем к трапезе. Начинаются разговоры о том о сем.
Народ желает рассказов о «Мерике». Я описываю Нью-Йорк, как подобие Найроби: людный, кошмарный, а еще представляете — целая деревня живет в доме, а выше, у них на головах, живет еще одна деревня, таковы многоэтажные дома. Никто не верит, кроме бывалого Соировы, который однажды за всю жизнь ездил в Найроби и может подтвердить, что я не выдумываю. Меня спрашивают о животных в Мерике, я отвечаю, что диких животных почти нет. «Потому что на них охотились?» — спрашивают меня. Вроде того, но в основном ради расчищения территории под сельское хозяйство. Тут пробуждается исконное масайское презрение к земледелию и земледельцам: «Дурацкая кукуруза», — говорит один из них.
Меня спрашивают, почему из всего разнообразия животных я для изучения выбрал павианов. Я объясняю, что они очень похожи на людей и имеют аналогичные болезни.
— Нет, не так уж похожи на людей, — возражают мне.
Я пробую палеонтологический подход.
— Знаете, там, в пустыне, дальше к северу, ученые находят много удивительного.
— Ученые из музея, — говорит Соирова. Откуда он знает?
— Да, там нашли кости людей, но не совсем людей.
Народ ждет объяснений.
— Ну, они на человека похожи только наполовину, а еще наполовину они павианы. Головная кость [я не знаю, как на суахили «череп»] меньше человеческой, но больше павианьей. И лицо тоже: не такое длинное, как у павиана, но длиннее, чем у человека. А вот по этим костям [указываю на таз] ученые видят, что те люди ходили не прямо, как мы, но и не как павианы. Что-то среднее.
— Это павианолюди, — говорит один из старших.
— Именно, — уверенно подтверждаю я.
— А где эти люди? — спрашивает кто-то.
— В том-то и дело. Эти кости очень-очень старые. Из той эпохи, когда не было европейцев, не было племен, не было человеческого языка. Ученые думают, что эти павианолюди — прапрапрадеды людей и павианов.
Все некоторое время сидят в раздумьях, осмысливая сказанное. Старшие выковыривают из зубов козьи хрящи. Кто-то шикает на собаку, кто-то сплевывает.
— Да ладно, ты просто заливаешь, — говорит мне один из старших.
— Нет, нет, все правда.
— А копья у них были? — спрашивает Соирова.
— Нет, были небольшие камни, которыми можно быть что-то выкапывать или бить. [Ну ладно, тут я слегка полирую палеонтологические свидетельства.]
— А хвосты были?
— Нет.
— А одежду они носили?
— Неизвестно. Одежда за такое время не сохранилась бы. Но ученые считают, что одежду еще не носили.
Все снова замолкают в раздумьях.
— А башмаки и часы у них были? — спрашивает парнишка помоложе. Старшие хихикают; парень понимает, что сморозил глупость, и смущается. (В тот год башмаки и наручные часы здесь вошли в моду: башмаки носят на бедре, привязанными к поясу, в них прячут всякие мелкие предметы, часы тоже носят отнюдь не для того, чтобы следить за временем.)
Все молчат, проходит еще несколько минут.
— Они были масаи? — задает Соирова вопрос, который наверняка не дает покоя и остальным.
— Возможно, но никто точно не знает, — отвечаю я.
Снова задумчивое молчание, очередная порция козлятины. Главное блюдо — пудинг из коагулированной крови — идет по кругу, я отказываюсь. Мне интересно, что думают остальные. Наконец Соирова после некоторого размышления говорит:
— Знаешь, сейчас я умею определять время, говорить на суахили и обращаться с деньгами, а мой дед ничего такого не умел. Люди всегда учатся чему-то новому. Может быть, когда-то совсем давно те люди были масаи, но они еще не умели быть людьми.
Такой ответ, по-видимому, устраивает всех, и вскоре нас с Соировой уже забрасывают вопросами о двухэтажных домах в Найроби и Мерике: когда в верхней деревне коровы мочатся, то попадает ли моча на головы тем, кто внизу?
11. Зоология и национальная безопасность. История одной волосатой гиены
Тот период моей жизни в стаде ознаменовался не только дружбой с Ричардом и Хадсоном, но и общением с Лоуренсом Гиенским, с которым я наконец свел более тесное знакомство. Полевым биологам обычно свойственно быть немытыми и неодомашненными — Лоуренс по обоим параметрам обставил бы любого, кого я видел за всю жизнь. Детство Лоуренс Гиенский провел среди ящериц и змей в калифорнийских пустынях, потом годами жил в одиночку, изучая лис на Алеутских островах, позже гонялся за каким-то видом птиц по пустошам северной Шотландии и наконец приехал в Кению, где и стал Лоуренсом Гиенским. В первый год работы с павианами я к нему почти не приближался — он наводил на меня страх. Огромный, массивный, он имел привычку надолго уединяться в палатке и громовым голосом выводить ужасающие рулады шотландских заупокойных песнопений. Еще больше настораживало в нем то, что в смятении или раздражении он неосознанно норовил выставить подбородок и густую черную бороду в сторону надоедливого самца — любой приматолог мгновенно распознает в этом явную демонстрацию доминирования.
В тот первый год подбородок в мой адрес он поднимал довольно часто. На следующий год мы оба перебрались вниз, на равнины, и мало-помалу начали общаться. Главной поворотной точкой стал тот день, когда Лоуренс совершил важное открытие. Шла эпоха царствования Саула, самый разгар нашествия антилоп гну, удушающий зной. Я сижу в лагере, не поднимая глаз, окруженный тучей фыркающих буйных антилоп, которые сопят, всхрапывают и повсюду какают, наверное, уже тысячу дней они толпятся вокруг, фыркают, всхрапывают и покрывают все пометом. Вдруг в лагерь врывается Лоуренсов лендровер, из которого вылезает Лоуренс и направляется ко мне. «Эй, — говорит он, — приходило ли тебе в голову, что "навоз гну" (gnu dung) — это палиндром?» Нет, не приходило. Лед тронулся. В последующие двадцать лет он учил меня распевать шотландские народные песни, тщетно пытался хоть слегка развеять мое невежество насчет автомобильных двигателей и подставлял мне плечо, когда я маялся из-за малярии, провалившихся экспериментов или тоски по дому. Всю жизнь с тех пор он заменяет мне старшего брата, и ему это прекрасно удается.
Вдобавок ко всему Лоуренс научил меня любить гиен. Сам он любит их страстно — и это хорошо, поскольку у гиен каждый сторонник на весь золота.
Гиены не относятся ни к псовым, ни к кошачьим, у них красивые печальные глаза, влажный нос и челюсти, способные в мгновение отгрызть вам руку. И еще у них незаслуженно дурная репутация. Мы ведь отлично все знаем про гиен: рассвет в саванне, чья-то бездыханная туша, обгладывающий ее лев и рядом вещающий в кадре Марлин Перкинс[6] с руками по локоть в запекшейся крови. И пока старина Марлин распинается насчет благородства льва и его искусства завалить жертву, этот хваленый царь зверей, по обыкновению полускрытый под облепившими его мухами, беспрестанно жует чьи-то внутренности, а когда камера временами отрывается от этой живописной картины плотоядения и дает панораму — тут-то мы и видим гиен: трусливые, грязные, жалкие, ущербные и никчемные, они боязливо маячат поодаль, пытаясь урвать кусок мяса. Марлин тем самым чуть ли не открыто призывает нас заклеймить гиен позором, ведь эти недостойные твари питаются падалью. Я до сих пор не понимаю, с чего нам так превозносить хищников и так принижать падальщиков, если большинство из нас портит себе артерии пожиранием туш убитых кем-то животных, но такова уж сила предубеждния. Львам достается львиная доля славы, а гиенам никто никогда не предлагал порычать на заставке киностудии Metro-Goldwyn-Mayer.
Однако и здесь не обошлось без революций. Поскольку для государственной обороны США необходимо стрелять в людей не только днем, но и по ночам, то военные изобрели хитроумные очки ночного видения с фотонными усилителями и инфракрасным наведением. Когда армию в очередной раз укомплектовали моделями последнего на тот момент поколения, она решила передать часть старых приборов зоологам. Так в карниворологии — науке о хищных животных — произошла революция: теперь ученые могли наблюдать за животными в ночной темноте.
И тут-то гиены взяли реванш. Выяснилось, что они отличные охотники, действующие стаями и способные добыть зверя вдесятеро крупнее себя. Среди крупных хищников они входят в число тех, у кого наибольшее число удачных охот. А знаете, у кого одно из наименьших? У львов. Они большие, заметные, относительно медленные. Им проще следить за гепардами и гиенами и отбирать у них добычу. Вот почему гиены, маячащие в кадре на рассвете, такие осунувшиеся и нефотогеничные: они только что всю ночь добывали жертву — и кому она досталась на завтрак?
Так что Лоуренс теперь в две руки занимался ревизионизмом и восстанавливал публичный имидж гиен. Эта-то шумиха вокруг внезапно обнаружившихся и теперь активно восхваляемых охотничьих навыков гиен и привела к тому, что однажды на обратном пути в Штаты Лоуренса настиг странный телефонный звонок. Звонили из Пентагона. Некий полковник приглашал Лоуренса на конференцию, сделать доклад о работе. «Издеваетесь вы, что ли? — ответил Лоуренс. — Я вообще-то гиен изучаю». «Знаем-знаем, — ответил полковник, — мы все про вас знаем», — и привел Лоуренсу неоспоримые доказательства. «Давайте приезжайте, там будут все ваши дружки-биологи, изучающие хищников, отлично будет, мы вам заплатим, все финансирует военное ведомство США». Лоуренс, немало заинтригованный, согласился.
Настал урочный день, и Лоуренс, как и было обещано, оказался в шикарном отеле вместе с озадаченной толпой биологов-карниворологов. Специалисты по львам, волкам, диким собакам, гиенам — полный набор. Плюс молчаливые военные, держащиеся в тени. Биологи поначалу рефлекторно вошли в привычный конференционный режим: официально обрисовать работу, похвастаться изучаемыми животными и местностью для наблюдений, выудить друг у друга неопубликованные данные. Военные, сидя в сторонке, только молча что-то записывали, и биологи в конце концов насторожились. На совещании, устроенном тем же вечером в баре, они решили потребовать ответа — с чего вдруг военные ими интересуются. Утром после завтрака биологи выступили объединенным фронтом, и полковник уступил. Да-да, конечно, он сейчас все объяснит.
— Вы ведь, ребята, смотрели «Звездные войны», да? Ну вот, почти каждый смотрел. Помните, там во второй серии были такие имперские шагоходы? Здоровенные такие транспортеры, смахивающие на слонов, они там ходят по снегу, переступают через все подряд и затаптывают повстанцев, помните? Вы наверняка с племянниками играли в такие же, только игрушечные. Ну и вот, вооруженные силы США проектируют что-то вроде этих имперских шагоходов. На прототип ушла куча денег, работаем как сумасшедшие, а проблем еще куча.
По словам полковника, лучший экземпляр, которым располагала армия, мог ходить со скоростью несколько миль в час, но только по ровной поверхности и то постоянно норовил перевернуться. Поэтому кто-то додумался обратиться за помощью к биологам, изучающим хищных животных: в конце концов, хищники бегают за добычей, так отчего бы не посоветоваться с карниворологами о том, как спроектировать движущуюся штуковину? «Вот потому-то, джентльмены, — заключил полковник, игнорируя присутствующих леди, — вы здесь и собрались; так расскажите же нам, как бегают эти ваши звери, когда охотятся». И он одарил всех лучезарной улыбкой.
Полевые биологи — народ не очень-то покладистый. Они по большей части проводят время в одиночку и особой церемонностью не страдают. Кроме того, они успевают набраться повадок у тех животных, с которыми работают. А при виде людей в форме они рефлекторно впадают в подозрительность, наученные опытом общения с начальством заповедника, которое норовит обвести их вокруг пальца на каждом шагу. При этом возрастные рамки для активной полевой деятельности довольно узки, так что большинство участников той конференции взрослели в 1960-е годы и вынесли оттуда определенный подход к оценке вещей и событий. Полковник еще раз лучезарно улыбнулся, и все безошибочно учуяли подвох.
— Что за чепуху ты несешь, приятель, — был коллективный ответ.
— Да нет же, — заверил их полковник, — нам ужасно интересно послушать, как бегают ваши звери во время охоты.
Верить ему никто не собирался. Хочешь узнать о способах передвижения животных — найми специалистов по локомоции. Бывают еще изготовители протезов и изобретатели шарниров для роботов: если хочешь выяснить, как все устроено у животных, то иди к биоинженерам и биофизикам. Толпы фанатов снимают в рентгеновских лучах целые фильмы с бегущими животными, изучая их движения, — вот к ним и обращайся, а не к специалистам по поведению. Ты городишь чушь, полковник Шайсскопф, и концы с концами у тебя не сходятся. На этом этапе биологи посовещались за закрытыми дверями и объявили, что больше никаких сведений не дадут. Еще немного — и они взялись бы скандировать что-нибудь о Вьетнамской войне и тактиках Вьетконга.
Конференция застопорилась. Полковник заперся наедине с телефоном и принялся звонить начальству. Остальные военные, вылезши из тени, налегли на расставленные вокруг подносы с круассанами. Биологи, томимые жаждой и взволнованные сознанием собственной правоты, сошлись в баре. Рутинное научное мероприятие на глазах оживлялось.
Шайсскопф, провисев на телефоне изрядную часть дня, наконец вернулся. «Джентльмены, у меня для вас отличные вести, — сказал он. — Мне дали добро, и я вам расскажу все без утайки, как самым дорогим друзьям».
Тут-то и выяснилось, что у конференции все-таки была тайная подоплека. Пентагон к тому времени годами разрабатывал новый танк. Расходы были баснословными — один карбюратор стоил больше, чем государственные затраты США на экологию. Расходы то и дело превышали бюджет; ежегодно очередного бедолагу-генерала в роли козла отпущения отправляли в конгресс объясняться насчет астрономических затрат, и конгресс каждый раз покорно пускал на ветер новую порцию долларов. Пентагон души не чаял в новом танке — лучшем за всю историю. Полковник, рассказывая о нем, светился от удовольствия. Вы только подумайте! Выдерживает прямое попадание снаряда. Не имеет видимых окон и отверстий: к корпусу крепятся видеокамеры, передающие информацию повелителям смерти — закупоренным внутри солдатам. Маневренность неописуемая: может нестись со скоростью 60 миль в час и, подскакивая на кочках, при выстреле попадать точно в яблочко — не танк, а сплошной гигантский гироскоп. А самое главное — укомплектован газохроматографическими анализаторами образцов воздуха, чтобы знать, когда можно безопасно открывать танк и дышать свежим воздухом после ядерного взрыва. Отличный семейный автомобиль для апокалипсиса.
Полковник, расщедрившись ради дорогих друзей-биологов, выкладывал на стол все карты. Привезли демонстрационный фильм, снятый на учениях: танк показывали изнутри, снаружи, снизу, а он при этом стрелял прямо над головой. Всем раздали по паре тогдашних стереоскопических очков, и у зрителей желудок подкатывал к горлу, когда танк акробатическим кульбитом опрокидывался в компьютерно воспроизведенный Большой Каньон, успевая в процессе разнести прицельными снарядами лагерь беженцев. Впечатление было потрясающее.
«Вот это и есть наш танк, которым мы ужасно гордимся», — застенчиво подытожил полковник, окончив показ младенческих портретов любимого детища. Однако сложностей с танком оставалось еще изрядно. В традиционном танковом бою с участием обычных танков стратегия одна: найти точку повыше, засесть там и стрелять по всему, что движется. В случае нового танка, отлично приспособленного носиться по любым частям пейзажа с прытью маньяка-убийцы, даже самый умелый экипаж все равно норовил найти точку повыше и засесть там в ожидании того, что движется. А кроме того, танк предназначался для войны с пресловутыми русскими на «центральном фронте» (то есть на территории, которую прочие сентиментальные личности обычно зовут Европой), и этот Армагеддон центрального фронта явно не ограничится нервно-паралитическим газом и радиацией, а будет глушить всю электронику врага, так что никакой связи не будет. Отсюда проблема: никто не знал, как правильно использовать танк, никто не владел охотничьими навыками маневрирующего хищника и никто не понимал, как действовать в отрыве от других таких же танков. И какой-то армейский умник додумался до идеи созвать биологов-карниворологов — вот почему, джентльмены, мы здесь собрались, и теперь давайте учите нас мыслить как хищники. Каким таким образом ваши гиены, летящие со всех ног за жертвой, решают, кто из них пойдет наперерез? Как обмениваются сигналами волки и что они делают, если оказываются вне пределов видимости друг друга? Научите наши танковые экипажи охотничьим навыкам ваших зверей.
«Ничего себе», — подумали американские биологи-карниворологи. Ни на что такое они заранее не подписывались. Все рассказанное иллюстрировало то ли непроходимую тупость военных, потративших бешеные деньги на оружие, которым никто не умел пользоваться, то ли их чудовищную находчивость, подсказавшую обучать танковые экипажи повадкам хищников. Полковник Шайсскопф теперь всем казался помесью Дарта Вейдера и Макиавелли.
Биологи пытались выиграть время. «Вопросы такие сложные, просто ужасно сложные, требуют таких долгих раздумий», — тянули они. «Отлично, джентльмены, — сказал полковник, видевший их игру насквозь, — мы будем просто счастливы финансировать ваши исследования». Теперь оставалось разобраться с соображениями морали.
Одни объявили, что категорически не желают иметь ничего общего с подобным проектом, и уехали с конференции. Другие решили, что нечего строить из себя вольных хиппи и надо продать себя подороже, — вскоре они будут всеми силами рваться подписать контракт с Вельзевулом и начать обучение танковых экипажей.
Лоуренс возглавил группу центристов-прагматиков. Они рассудили, что танк все равно построят — хоть с помощью биологов, хоть без. Все, что можно от нас узнать, есть в опубликованных работах. Зато у нас есть шанс направить небольшой ручеек денег на охрану природы. И более того, эти полковники крайне плохо представляют себе стайную охоту: таких животных слишком мало, и охота у них по большей части — плод никем не координируемых действий, где каждый за себя. Так что на армейские доллары можно годами спокойно заниматься исследованиями, а потом сказать, что наши звери оказались не такими уж первоклассными охотниками. Ну да, помогать природоохранным исследованиям и вести двойную игру, вытягивая доллары из военного ведомства, чтобы у вконец обнищавшего Пентагона потом не хватило центов даже на боевую раскраску для своего танка. Где расписаться?
Итак, оставшиеся биологи вернулись к конференции и продолжили работу. Им принесли еще круассанов, и каждый успел насладиться своим звездным часом, в подробностях обсуждая то оптимальные стратегии по добыче пропитания, то уравнения для описания репродуктивной способности животных. При этом ученые не забывали время от времени разражаться дифирамбами в адрес военных и наскоро проводить эфемерные параллели между темой выступления и охотничьими стратегиями. Полковник, которого теперь все называли Чак, вскоре уже запросто выпивал со всеми в баре, оказался отличным рассказчиком и классным парнем, но биологи все же держали ухо востро. Все прошло на ура, напоследок все коллективно сфотографировались на память, военное ведомство выписало каждому по чеку за участие в конференции, и биологи отправились строчить запросы на армейские гранты в предвкушении потока наличных для дальнейших исследований. Лоуренс запросил себе очки ночного видения, несколько раций, хороший полевой компьютер с солнечными батареями, а заодно семерых помощников, огнемет, спутник, несколько пушек с лучами смерти и миллиард мешков долларов. Каждый из участников отправил по запросу, никто не получил ни цента и никаких вестей ни от полковника Чака, ни от других военных. Биологи-карниворологи, бывшие на той конференции, и по сей день, сходясь вместе, покачивают седыми головами и с подозрением спрашивают: «Что же все-таки те ребята умудрились выведать у нас?»[7]
12. Переворот
Подробности менялись, но основной смысл сохранялся в каждом сне. Снились они, конечно, не каждую ночь, но на удивление часто — если учесть, сколько времени прошло с тех пор, как меня били в средних классах. Могло присниться, что я еду в подземке. И ко мне цепляется банда отморозков с намерением ограбить. Или что я иду по улице, и меня подстерегает маньяк, собираясь учинить какое-нибудь зверство. Или я сижу в своей комнате, никого не трогаю, и тут врывается разъяренная толпа, жаждущая расправы по каким-то неизвестным политическим мотивам. В любом случае мне явно не поздоровится, я напуган. И тут начинается повторяющаяся часть. Мне как-то удается заговорить обидчикам зубы. Иногда я даю понять, что я круче, подворотня — мой дом родной, и они отстают. Иногда преднамеренно пускаю в ход обезоруживающее (буквально) фиглярство: я такой смешной милый дуралей, что меня принимают за своего, и я выигрываю время для побега. Иногда я пробую нетрадиционный прямой подход. «Ну да, я один, а вас вон сколько, вы, конечно, можете размазать меня по стенке, но что вам это даст?» — спрашиваю я в лоб. На них это почему-то действует, и от меня отстают. Иногда сон окрашивается в причудливые психотерапевтические тона: я жалею отморозка, проникаюсь его обидой, болью, проблемами, я их проговариваю, с почти квакерским непротивленчеством сосредоточиваясь на нем как на человеке, и вскоре он уже не опасен.
В Африке сны приобретали соответствующий местный колорит: я антилопа гну, меня окружают гиены, и я сражаю их лекцией о пропорциональном соотношении хищников и жертв. Я коровья антилопа бубал, за мной гонится леопард, и мне удается убедить его в преимуществах вегетарианства.
Уболтать противника получалось всегда. И это прекрасно: если я когда-нибудь закончу аспирантуру, есть шанс найти работу, не требующую в качестве орудия труда ничего, кроме умения сражать лекциями. Но однажды в Кении вышло так, что заговорить зубы не удалось.
Было это в 1982 году, в период царствования Саула; Кения тогда то и дело упоминалась в новостях, а это всегда плохой знак. Если страна третьего мира оказывается на слуху у Запада — значит, там разразилась какая-то катастрофа, засуха, пандемия: полыхнуло настолько неожиданно и яростно, что даже нас проняло. На этот раз поводом стала воистину кровавая попытка переворота. Это было дилетантство пополам с подлостью: мятеж, в котором должны были участвовать ключевые представители всех ветвей военной, университетской и правительственной оппозиции, провалила группа офицеров ВВС, вознамерившихся опередить события и устроить переворот своими силами на несколько недель раньше. Решающий момент для захвата президента был упущен в пьяном угаре; армия полдня колебалась — то ли примкнуть к подставившим ее бывшим соратникам из авиации, то ли выступить против них. Университетские студенты, движимые романтикой, совершили гигантский самоубийственный просчет, с энтузиазмом поддержав революционеров, когда от тех уже летели пух и перья.
Армия, стоило ей подключиться, быстро скрутила повстанцев из ВВС. Студенты вышли на демонстрацию в поддержку революционной хунты — прямо под огонь армейских базук. Правительство отбило радиостанцию и, чтобы вселить в граждан доверие, велело всем немедленно отправляться в центр за покупками — как раз к началу танкового сражения. Жертвы среди мирного населения были многочисленны, но официально не признаны.
Разгромленные повстанцы, разбежавшись по холмам, лесам и задворкам, ударились в партизанщину, лихорадочные поиски укрытий и старый добрый бандитизм. Одна из группировок удерживала главную военно-воздушную базу на севере, угрожая разбомбить и обстрелять Найроби с воздуха, если не получит амнистии. Когда основные бои в Найроби стихли, среди гражданского населения пошла бурная волна беспорядков, которые контролирующая армия порой сдерживала, а порой и провоцировала. Страдали при этом в основном индийцы.
На заре британской авантюры в Восточной Африке батраки- кули поставлялись из Индии — им предстояло строить железные дороги и налаживать удобную колониальную инфраструктуру, опробованную в Индии за время британского владычества. Поскольку индийцы превосходили африканцев образованностью, британцы позаботились о выделении им особой ниши: подобно евреям в средневековой Европе, индийцам почти невозможно было владеть землей, заниматься сельским хозяйством или иметь государственные должности. Им, как и евреям, оставалось одно: становиться торговцами, лавочниками, ростовщиками — и ненависть африканцев к ним росла и крепла почти целое столетие. В колониальные времена земледелец в буше мог за всю жизнь не встретить никого из белых господ, в чьих руках находилась экономика страны, зато он отлично знал индийского лавочника, который держал факторию на окраине деревни и брал с крестьян деньги. И теперь в современном, отстроенном заново Найроби, где крошечное индийское меньшинство составляло основную долю среднего класса, сохранялся тот же порядок: экономическую политику осуществлял правительственный чиновник банту в дорогом деловом костюме, обычно руководствуясь тем, сколько положить себе в карман, но для среднего африканца он оставался абстракцией, а деньги в магазине с него брал индиец.
Так что ненависть к индийцам зрела. В последние годы поводом было уже не просто их богатство, а нежелание становиться «настоящими африканцами» (претензия, читавшаяся между строк, а иногда и открытым текстом, состояла в том, что индианки никогда не шли к африканцам ни в жены, ни в наложницы). Любой демагог мог с легкостью объединить разрозненные враждебные племена, ополчившись на индийцев: пик популярности Иди Амина в Уганде пришелся на тот период, когда он лишил индийцев гражданства и вышвырнул их из страны под официальным лозунгом «богатство для всех».
Положение индийцев в Кении всегда напоминало мне Берлин 1930-х. И вот теперь, после переворота, для них настала Хрустальная ночь. В городе начались жестокие погромы с грабежами и мародерством, больницы были переполнены индусами, подвергшимися избиениям и групповым изнасилованиям.
Беспорядки продолжались несколько дней, затем правительство явило признаки возвращения к власти. Все пригодное для разграбления уже было разграблено, теперь принялись за работу стекольщики; повстанцев мало-помалу выкуривали из берлог, правительственная радиостанция бесперебойно крутила гимн страны.
Потом началась долгая череда судебных слушаний под председательством госслужащих в судейских париках. У правительства наметилась небольшая загвоздка: оно не могло во всеуслышание признать, что переворот, совершенный силами авиации, был фальстартом масштабного движения, захватившего сразу несколько структур общества. Переворот надо было представить как мелкие разрозненные действия отдельных безумцев. Газеты в подробностях трубили о старшем рядовом, первым открывшем огонь; о военнослужащем, который вел его машину; о революционно настроенном музыковеде, который отбирал для эфира триумфальные записи, когда повстанцы захватили радиостанцию. В конце концов все причастные были повешены или навечно отправлены за решетку. Но затем правительству предстояло добраться до всех, кто замышлял большой переворот, и не признать при этом, что событие, свидетельствующее о столь широком недовольстве, вообще можно принимать во внимание. Самые очевидные крестные отцы переворота были арестованы в ходе поверхностных чисток, олицетворением всего процесса стал показательный суд над генеральным прокурором: официальные обвинения сводились к тому, что он слишком умничал, завел белую жену и имел друзей за границей.
Вскоре все угомонилось, и туристская отрасль возобновила работу как ни в чем не бывало.
Я прилетел в Кению первым коммерческим рейсом после переворота. Мне не терпелось уехать, и я решил не откладывать. Западные новости о беспорядках я делил на шестнадцать и вообще планировал как можно быстрее убраться из Найроби в тихое захолустье. В Штатах меня угнетали некоторые личные обстоятельства, и я надеялся, что встряска прочистит мои засбоившие нейромедиаторы. Ну и потом если я во что-то влипну, то заговорить зубы всегда сумею.
Последним отрезком рейса «Пан-Американ» был перелет из Лагоса в Найроби. Кроме меня, пассажиров в «Боинге-747» насчитывалось трое — примерно на два десятка стюардесс, так что сервис получился незабываемым. Одним из троих был перепуганный бизнесмен-индиец, который мчался домой к родным, не зная, что с ними и как они; остальные двое — супруги-туристы, лишь краем уха что-то слышавшие о заварушке. Я взял над ними шефство и засыпал их бесполезными советами насчет черного рынка и подделки виз. В аэропорту похожий на робота сотрудник поприветствовал нас в Кении, сообщил, какая это чудесная страна, и нас загрузили в армейский транспортер. Ночь, повсюду мрачные солдаты. Нам сообщили досадную новость: поскольку в городе введен комендантский час со стрельбой без предупреждения, нас везут в главную гостиницу в центре города, где мы и останемся до утра. Туристы ничуть не расстроились, поскольку у них там все равно была бронь. Бизнесмен впал в истерику, ибо теперь ему предстояло еще двенадцать часов мучиться в неведении о судьбе своей семьи. А я злился, так как раньше в эту гостиницу совался только, чтобы своровать там туалетной бумаги, и знал, что одна ночевка там слижет весь мой бюджет. Однако просить военных высадить нас кому где нужно казалось не очень разумным. В гостинице невозмутимый помощник администратора эскортировал меня в номер и будничным тоном, словно желая спокойной ночи, посоветовал спать на полу и не открывать шторы. Всю ночь с улицы доносилась стрельба.
На следующий день масштабы бедствия ощущались острее. Повсюду военные, на каждом углу пулеметное гнездо. В одном из районов продолжались стычки и грабежи, но в остальных местах в целом всех призвали к порядку. Горожане приобрели занимательную привычку шагать на работу с поднятыми руками и удостоверением личности в зубах. С волками жить — и далее по тексту, так что вскоре я тоже не слишком изысканно орошал свой паспорт слюной.
Я побывал во многих местах в городе, навещая знакомых и пытаясь запастись всем необходимым для буша. От одного известного мне магазина остались сплошные развалины, хозяин- индиец лежал в больнице с переломом черепа, который получил при защите своей собственности. Другой лавочник пропал без вести, где-то скрывался, магазин тоже был разгромлен. Еще один осторожно, с опаской, налаживал торговлю — и не мог сдержать слез, рассказывая о происшедшем. К кому ни наведайся — везде беда.
Около полудня я обнаружил, что голым людям на улицах Найроби теперь грозит отдельная опасность. Раздетых людей здесь всегда было непропорционально много; я не раз поражался тому, что столичные жители, перебравшиеся из буша всего пару поколений (а то и лет) назад, подвержены психическим приступам и в такие моменты первым делом скидывают с себя всю западную одежду. (Годы спустя моя жена, клинический психолог, после бесед с кенийскими коллегами подтвердит сложившееся у меня впечатление, что здесь такое действительно сплошь и рядом.) Голых ополоумевших людей в Найроби всегда хватало с лихвой, и ажиотажа они не вызывали. Теперь же за беготню голышом можно было поплатиться. Многие повстанцы, когда оборвался их короткий триумф, укрылись в подворотнях и домах Найроби. Некоторым особо везучим удавалось кого-нибудь подкараулить — убить, снять гражданскую одежду и слиться с толпой, сжимая в зубах украденное удостоверение личности. Менее везучие независимо друг от друга принимали одно и то же странное решение: сбросить летную форму и удирать в чем мать родила. Каждые несколько часов какой-нибудь отчаянный из числа повстанцев пускался в забег голышом и падал под армейскими пулями, и как раз около полудня одного такого расстреляли на моих глазах. Мимо то и дело громыхали армейские грузовики с низкой открытой платформой, заваленной обнаженными мертвыми телами. Машины останавливались на светофорах, это казалось нелепым и в то же время обнадеживало, парадоксальным образом создавая впечатление, будто все нормально.
К вечеру я добрался до гостевого дома г-жи Р. на окраине города — там старая полька сдавала транзитным путешественникам койку, угол или место во дворе под палатку. С момента нашей последней встречи прошел год, и обычно меня встречали там с распростертыми объятиями. Теперь же я чувствовал себя так, будто мне первому удалось тайком пронести продукты в варшавское гетто. С самого начала переворота сюда никто новый не просачивался, а все обитатели уже который день отсиживались внутри, мирились с затемнением и спали на полу, чтобы не задело пулей. Я как пришелец из внешнего мира доставил им сведения о происходящем по соседству, чего не могла сделать государственная радиостанция, которая, снова оказавшись в руках правительства, лила в эфир какую угодно чушь — старые викторины, музыку кантри, — только не достоверные новости. Все были уставшие, измотанные и голодные, учитывая истощившиеся припасы и острую нехватку еды. Я вез с собой мамино печенье. Мы с г-жой Р., Стефаном и Богданом — двумя поляками, которые останавливались в этом пансионе из года в год, — примостились в углу. Я разделил печенье, г-жа Р. достала припрятанную бутылку содовой, братья тоже внесли что-то от себя. Еда привела их в экстаз, и меня тоже — было что-то восхитительно стоическое в том, чтобы делиться крохами при свете свечей под звуки выстрелов.
Укладываясь спать, я все еще воспринимал происходящее как увлекательное приключение. Все неприятное удавалось объяснить: да, расправа над индийцами ужасна, но могло ли быть иначе, если в этой стране их ловко пристроили на роль козлов отпущения? Два швейцарских путешественника из числа постояльцев г-жи Р., которых накануне избили солдаты, просто неправильно себя повели и нарвались сами. Один был крупный, мускулистый и по крайней мере, на мой взгляд, неприлично белый, поэтому наверняка военных спровоцировал. У обоих были недружелюбные хмурые лица, и это тоже вряд ли их спасало. Ни один не говорил ни на суахили, ни на английском — так что заговорить кому-то зубы, угодив в переплет, они заведомо не могли. Мне беспокоиться было не о чем.
На следующий день оставалось кое-что доделать — и все, можно убираться из города. У меня имелась машина, я запасся продуктами на ближайшие несколько недель, забрал со склада свое оборудование для лагеря. Заехал зарегистрироваться в департамент по делам заповедников. Он располагался милях в десяти от города, у въезда в Национальный парк Найроби. Парк был закрыт из-за беспорядков. С ним граничила главная военно-воздушная база, и, когда армия пошла на штурм, многие повстанцы-летчики перелезли через забор и теперь скрывались в парке, вооруженные и паникующие. Подстрелили нескольких животных — то ли в пищу, то ли вымещая на них отчаяние. Вдобавок они подстерегли отряд охранников и сбежали в их одежде: были найдены раздетые трупы. Парковый персонал по понятным причинам был в ужасе, и я выразил сочувствие.
На обратном пути я миновал несколько КПП. Военные выискивали беглых повстанцев и спекулянтов, не упускающих случая нагрести припасов. А еще они показывали силу, измывались, грабили и сводили личные счеты. Первые два блокпоста я проехал благополучно, приветствуя военных натужной заискивающей улыбкой.
На третьем, у дальнего поворота, трое солдат махнули мне автоматами, приказывая съехать на обочину. Я достал паспорт и разрешение на исследования. Заготовил улыбку. Оптимальная тактика преодоления КПП в моем представлении выглядела так: радостно поздороваться на суахили, как-дела-как-настроение, привычный обмен любезностями, занимающий здесь первые пять минут разговора с любым встречным, забросать вопросами о недавних подвигах, петь дифирамбы об их трудной и важной задаче по спасению страны, сиять, восторженно хлопать глазами, изображать безмятежность и, главное, не умолкать.
Я улыбнулся приближающимся солдатам.
«Бвана, у тебя проблема, это очень плохо, у тебя проблема, бвана, большая проблема», — затянул первый.
Я хотел ответить «Как-дела-как-настроение, ребята? Никаких проблем» на своем крутейшем сленговом суахили. На «как-дела» первый солдат приложил меня спиной об дверь машины. Я попробовал «как-настроение» — он приложил меня посильнее. Теперь они обступили меня втроем. От них несло перегаром.
Дышал я уже с трудом, но все-таки попытался выдавить беззаботное «никаких проблем». После первого же слога меня несколько раз приложили об дверь. Первый солдат навалился мне на грудь. Второй держал за ворот и бил головой о стекло. Внезапно я ощутил, что моя голова повреждена.
Тот, который сжимал мое горло, оскалился — нарочито медленно, с усилием растягивая губы. До меня дошло, что он ухмыляется, и в приступе идиотизма я решил: «О, вот к нему-то и надо обращаться».
Собираясь с мыслями, я повернул голову и озарил его солнечной улыбкой. Кажется, даже радостно засмеялся, демонстрируя, что я спокоен и расслаблен и им тоже можно расслабиться. Все еще скалясь, солдат с силой двинул меня в живот.
Что-то сбилось у меня в ощущениях. Живот скрутило узлом, но та же боль почему-то разливалась и в голове. Голову мучительно распирало. Подкатывала рвота, я никак не мог глотнуть воздуха. Меня снова двинули в живот. А может, это отдавался эхом первый удар. Все было как в тумане.
И вдруг туман рассеялся. Один из солдат прижимал нож к моему горлу. Под тот же речитатив: «У тебя проблема, бвана, это очень плохо, у тебя большая проблема».
«Осторожнее с этой штукой. Осторожнее», — вертелось в голове. Нож прижимался к горлу. Я не говорил ни слова, только переводил взгляд с одного на другого. Они тоже застыли.
С меня сорвали часы, я почувствовал, как лопнул ремешок. Над ухом прогремело: «Теперь у тебя нет проблем, бвана». Резкий хохот, нож исчез. И тогда один из них ударом в висок уложил меня на землю. Они уже удалялись, рассматривая часы на ходу.
Я поднялся на ноги, оглушенный. Что делать? Бежать? Один из них раздраженно махнул рукой, показывая на машину: «Катись отсюда!»
Проводили меня улюлюканьем. С тех пор у меня даже мысли не возникало, что я сумею заговорить зубы кому угодно.
13. Голоса не вовремя
Прелесть общения с представителями совершенно иного мира заключается еще и в возможности наблюдать такое, чего дома заведомо не встретишь: особенно лихо закрученный шрамированный узор; плошку свежей коровьей крови — пей не хочу; изрядно помятого смельчака, вернувшегося после стычки со львом, притом что льву повезло еще меньше.
Однако бывало и наоборот: вдруг я сталкивался с чем-то точь-в-точь таким, как дома. И тогда вся прелесть состояла в абсолютно новом объяснении феномена.
Подобное я наблюдал, когда помогавший мне от случая к случаю Хадсон заехал к нам на обратном пути с другого проекта по исследованию павианов, где тогда работал, и мы решили съездить на полдня в его деревню к западу от заповедника. И вот, когда мы мирно беседовали со стариками, наши послеполуденные посиделки прервало загадочное явление из буша. Пожилой, заторможенный, небритый, щетина торчит клочьями, отсутствующий взгляд. Ноги голые, пальцы скрюченные, на бедрах заплесневелая попонка, из-под которой торчит срам. Слюна изо рта, и, судя по всему, сплошная вата в голове. Остальные смотрели на него как на само собой разумеющееся, с безразличием, с каким здесь обычно смотрят на деревенских дурачков. Беседа возобновилась, пришедший постоял, что-то время от времени бормоча себе под нос, а потом удалился туда, откуда пришел.
— Что с ним такое? — спросил я Хадсона.
— Видел, какой он красавец? Настоящий красавец.
— Да, я заметил. Красавец.
На самом деле пришелец напоминал белку-утопленницу, но я сегодня был сговорчивым.
— У этого человека две жены, и он такой невозможно красивый, что они всегда ссорились, спорили, с какой ему ложиться в постель. Он предпочел одну, и другая разозлилась, пошла к колдуну и навела на него порчу, и теперь он даже имени своего не помнит.
— Если у тебя две жены, красавцем быть опасно, — заключил, усмехнувшись, один из стариков.
Ранний альцгеймер, решил я тогда. Однако несколько месяцев спустя я увидел нечто схожее в деревне Роды. У павианов выдался чудесный спокойный день. Навуходоносор никого не изводил, Иова никто не донимал. Вениамин немного посидел на крыше моей машины, время от времени свешиваясь вниз головой и заглядывая внутрь через лобовое стекло. Иисус Навин, кажется, начинал постигать смысл детских игр и, наблюдая, как его сын Авдий — теперь уже почти подросток — борется с ровесниками, лишь изредка строил детенышам угрожающую гримасу. Исаак был верен себе. Без сожаления отстав от молодой самки, едва на ту положил глаз Манассия, он провел остаток утра за грумингом с Рахилью. И вот в этот день, когда я сидел в лагере, масаи вздумали посплетничать со мной о том о сем. Сомневаюсь, что это был признак особого доверия, просто им кое-что от меня потребовалось. У меня была машина.
В тот день Рода со своими соратницами примчалась из деревни в панике. Вообще-то масаи в панике — явление настолько редкое, что у свидетеля резко подскакивает пульс. «Нужна твоя помощь, объяснять некогда, срочно гони в деревню, нужно срочно ее убрать, срочно, нельзя терять ни секунды, прикончила козу, подумать только!» Из этой тарабарщины ясно было лишь одно: от поездки в деревню мне не отвертеться.
Уже в дороге, слегка успокоившись, Рода с подругами наконец рассказали толком, что случилось. Одна женщина в деревне сошла с ума, натворила ужасных дел и ее нужно увезти. Мне поручалось доставить ее в государственную клинику за много километров на другом краю заповедника. Я пытался отказаться, но безуспешно. Мои собеседницы были в отчаянии. По мере обрастания подробностями картина все больше напоминала классический психоз: все описываемые симптомы сходились. За мои многочисленные визиты в деревню той женщины я не видел ни разу — то ли ее прятали, то ли она сама пряталась. При этом она творила что-то несусветное: прерывала обряды, перечила старейшинам, а сегодня пошла вразнос и голыми руками задрала козу. Это стало последней каплей. Из деревни ее нужно убрать.
Мы уже подъезжали, и я готовился к драматической сцене — слезные прощания, толпа родных с пожеланиями поскорее выздороветь и вернуться. Перепуганная женщина, умоляющая не увозить ее. А может, понурое согласие. Однако едва мы выбрались из машины, на нас обрушился вихрь буйной энергии. Женщина неслась к нам со всех ног, выкрикивая какие-то боевые кличи на масайском. Огромная. Голая. Вся в козьем дерьме, козьей крови и козьей требухе, размазанной на подбородке и шее. Она все еще держала часть мертвой козы в руке, когда врезалась в нас и сбила с ног. Останки полетели в сторону, а женщина кинулась меня душить.
Ну, знаете, здоровых фантазий мне обычно не занимать, но мечта задохнуться в объятиях голой великанши, вымазанной козьей требухой, не возникала даже в самых потаенных моих помыслах. Я решил, что тут-то меня и прикончат. Неужели моим родителям придется носить клеймо позора оттого, что их сын погиб такой нелепой постыдной смертью?
Пока я размышлял о своей смертной природе, Рода с подругами навалились на буйную и совместными усилиями ее от меня оттащили. Усеяв все вокруг козьими кишками, они затолкали ее на заднее сиденье джипа — моего, моего джипа! — а сами взгромоздились сверху. «Поезжай быстрее!» — завопили они, и мы помчались.
Как и следовало ожидать, поездка была та еще. Полный джип масаи — изрядное испытание для обоняния даже при благоприятных обстоятельствах, учитывая вечную нехватку воды, а уж когда все взвинченные, потные и перепуганные из-за кутерьмы, в центре которой ворочается что-то вроде буйвола, одурманенного «ангельской пылью», то пахучесть перерастает в тошнотворность. Это не говоря уже о нагревшихся на солнце козьих кишках. Всю дорогу буйная ревела, выкручивалась, то и дело норовя обхватить меня сзади и затащить в свое перемазанное козьим дерьмом логово. Рода со спутницами, к счастью, унимали и удерживали ее всеми силами. Мы прыгали по ухабам битых сорок пять минут, которые казались вечностью, переехали через реку, влетели в ворота административной части заповедника и проскочили угрюмых охранников, на которых куча-мала, кажется, не произвела никакого впечатления. В какой-то момент, чтобы успокоить буйную и внушить, что все в порядке и мы обычные туристы на сафари, я показал ей на пасущихся жирафов, но она ревела не унимаясь.
Наконец мы прибыли в государственный медпункт — обшарпанное здание с единственным фельдшером, который все болезни считал малярией и лечил хлорохином. На сей раз привычный диагноз, кажется, не подходил. Фельдшер заявил, что оставит буйную только при условии, что женщины сами затащат ее в подсобку — прикасаться к буйной он отказался наотрез. Снова борьба, толкотня, рев, в результате Рода с подругами все-таки затащили ее внутрь, дверь заперли и забаррикадировали.
Из подсобки неслись завывания. Фельдшер нервно с нами распрощался, пожав руку каждому. Мы вышли на солнце, потянулись и зевнули.
— Что теперь? — спросил я. — Дождаться улучшения, поговорить с ней через дверь, проконсультироваться с фельдшером?
— Поехали отсюда, — сказала Рода, и меня погнали обратно в деревню.
Так я впервые соприкоснулся с кросс-культурной психиатрией. Масаи, жизнь которых отличается от нашей, чем только можно, не намного расходятся с нами по части толерантности к психическим заболеваниям. Затолкать в подсобку, запереть и валить куда подальше. На обратном пути, когда все улеглось, а джип благодаря открытым окнам проветрился до мало-мальски приемлемого состояния, я воспользовался неожиданной возможностью разузнать побольше об их взглядах на душевнобольных, провернуть небольшое антропологическое исследование, посмотреть, как воспринимают шизофрению представители совершенно иной культуры.
— Скажи мне, Рода, — начал я без предисловий, — что с этой женщиной?
Рода уставилась на меня так, будто это я спятил.
— Она сошла с ума.
— А почему ты так решила?
— Она сумасшедшая. Это же видно по тому, как она себя ведет.
— Но как ты поняла, что она сумасшедшая? Что она сделала?
— Она убила козу.
— И что? — с антропологической непредвзятостью спросил я. — Масаи все время убивают коз.
Рода посмотрела на меня как на недоумка.
— Коз убивают только мужчины.
— Ладно, а еще откуда понятно, что она сошла с ума?
— Она слышит голоса.
Я снова прикидываюсь дурачком.
— Но ведь все масаи иногда слышат голоса.
(На обрядовых церемониях перед долгими перегонами скота масаи устраивают экстатические танцы и вроде бы слышат голоса.)
И тут Рода одной фразой выразила примерно половину того, что нужно знать о кросс-культурной психиатрии.
— Она слышит голоса не вовремя.
Постскриптум. Через год после того, как на меня набросилась голая козоненавистница, я приехал в лагерь на очередной полевой сезон и вскоре встретился с Родой.
— Что потом было с той женщиной?
— Ее заперли, а потом она умерла. Масаи не любят, когда их держат взаперти, потому и умерла, — отмахнулась Рода от скучной темы.
14. Судан
В мой первый вечер в Судане я не мог найти туалет. До этого мне везло. Утром я прилетел в Хартум — у Суданских авиалиний на той неделе оказалось достаточно горючего, чтобы рейс состоялся. Попутку в аэропорту поймал сразу же. Добрался до ветхой деревушки в дальней глуши, где хижины вдоль единственной улицы секло с тыла песчаным ветром из подступающей пустыни. Явился в полицию регистрироваться — все как положено. Полицией здесь назывался один-единственный сотрудник в потрепанной форме, дружелюбный и приветливый; он долго расспрашивал меня насчет фамилии, очень уж она показалась ему занятной. «Вы не здешний», — наконец констатировал он. Я не мог не признать его правоту, и он предложил мне поставить палатку во дворе у полицейского участка, среди полусухих зарослей кукурузы, бегающих кур и неидентифицируемого хлама. Все складывалось лучше некуда — вот только в уборной я не был с утра, и к вечеру назрела ощутимая необходимость. Характерной будки в обозримом пространстве не наблюдалось, а присаживаться прямо во дворе я не отважился — еще не хватало так непоправимо надругаться над гостеприимством сразу по прибытии. Я подошел к погруженному в сумрачные мысли полицейскому.
— У вас есть ванная? — Несмотря на приличный английский, с термином он знаком не был.
— Туалет? — Обнадежив меня уверенным кивком, он выходит и возвращается с чашкой горячего чая — я же чаю просил? Я начинаю нервничать и топчусь с ноги на ногу.
— Уборная? Хм…
— Мужская комната? Сортир? — Замешательство.
— Ватерклозет? Уголок задумчивости? Гальюн? — Нет контакта.
Потеряв надежду, я присаживаюсь на корточки и изображаю дефекацию. Полицейский радостно хохочет, осененный догадкой.
— А, вам латрина нужна! В Судане это называется латрина! Знаете слово?
— Да-да, слово «латрина» я знаю, где она у вас?
— А латрин в Судане нет. Мы здесь куда хотим, туда и ходим, потому что мы свободный народ.
С этими словами он хватает меня за руку и тащит на главную улицу, подсвечивая дорогу фонариком. Луч торжествующе упирается в точку посреди улицы.
— Вот здесь! Латрин в Судане нет, располагайтесь свободно! Прямо тут!
А, плевать. Спустив штаны, присаживаюсь, отчаянно надеясь, что в кармане завалялась бумажная салфетка. Фонарик по-прежнему нацелен на меня. Не беспокойтесь, заверяю я, все в порядке, спасибо, дальше я сам, можно не ждать, я скоро верн…
— Нет-нет, я должен убедиться, что с вами все в порядке! Это Судан! Здесь свобода! — возглашает он. — Вы наш гость!
Наш? Я с ужасом осознаю, что вокруг собирается народ — все население деревушки. Вряд ли хоть один устоял. До меня доносятся смешки и звонкое хихиканье, явно женское. Фонарик неотступно светит мне в зад. Смирившись, я опираюсь подбородком на руки и оставляю свою метку посреди деревни; вокруг царит перешептывание, очень похожее на одобрительное. Полицейский все это время надрывается, словно ярмарочный зазывала: «Вы в Судане! Вы наш друг! Здесь свободная страна! Вы свободны!»
Сюда я приехал в отпуск после свержения Саула «союзом шестерых». Судан — крупнейшее государство Африки и одно из самых бедных. Рассеченная надвое Нилом безбрежная иссушенная пустошь Сахары, неразбериха, голод, северная арабо-мусульманская половина десятилетиями воюет с южной черной, исповедующей анимизм. Испепеляющая жара; тропические грозы, в одно мгновение порождающие бурные реки; сотни миль между мостами на Ниле; четыре километра асфальта на весь юг; дороги, непроезжие по полгода. Беспорядки, перевороты, беженцы из всех окрестных стран, стаи саранчи, племенные восстания. И как раз в Судане я совершил свой самый досадный литературный промах.
С походным питанием промахиваться мне случалось сплошь и рядом. Одна такая оплошность испортила мне первый в жизни поход. Дело было в старших классах — мы, бруклинские подростки, возжелали побыть вольными хиппи и решили на пасхальных каникулах прогуляться по отрезку Аппалачской тропы в каких-нибудь сорока милях от Манхэттена. Процесс мы представляли очень смутно, однако идея проникла в массы, и вскоре две дюжины участников занялись подготовкой. Поход, как оказалось, попадал на Песах. Мы раскололись на группы по принципу питания: соблюдающие Песах евреи-вегетарианцы, не соблюдающие Песах мясоеды, не соблюдающие вегетарианцы и так далее. Мы строили график ночного дежурства, распределяя, кому в какие часы держать дозор против диких пум и ядовитых змей. Мы спорили над схемой раскладки спальных мешков, мечтая оказаться рядом с предметом своей безответной школьной любви. Ту однодневную вылазку с ночевкой мы обсуждали несколько недель, задерживаясь ради этого после уроков. Апофеозом идиотизма стал порыв связать себя узами утопического походного братства. Каждому предстояло нести часть общей провизии: четыре-пять человек потащат воду на всех, у шестого в рюкзаке поедут все крекеры, у седьмого — весь сыр. Взаимовыручка, товарищество, чувство локтя. Вечером у костра мы будем изображать пламенных борцов за дело пролетариата под исполняемые дружным хором народные песни.
На первой полумиле восемь человек выдохлись и сошли с дистанции. К концу первой мили оставшиеся, поправ все пространственные законы, растянулись на мили друг от друга. Я шел со своим приятелем Кенни Фридманом, местоположение остальных мы не представляли себе даже отдаленно. До конца похода нам так никто и не встретился. К несчастью, из съестного у нас оказались только шоколад и сельдерей — больше ничего, и ни капли воды. Гору поглощенного шоколада мы как-то переварили, но потом полночи донимали друг друга перечислением разных напитков и сокрушались о флейтистке Алане Гольдфарб, которую нам так и не удалось зазвать в поход.
Еще досаднее было мое невезение с походными припасами в пустыне. Первый раз меня занесло туда в Кении — случайно. Я собирался на гору Элгон, заснеженный четырехтысячник на границе с Угандой, в пещерах которого водятся слоны. Экипировка надлежащая: термобелье и шерстяные вещи; провизия самая что ни на есть альпинистская — апельсины, сыр и шоколад. И только под самой горой выяснилось, что вояки Иди Амина взялись похищать иностранцев, поэтому белым наверх нельзя. Раздосадованный, я поймал попутку до ближайшего городка, а там мне подвернулся грузовик, направляющийся на север, в пустыню. Следующую неделю я скитался еле живой от перегрева по пустыне у эфиопской границы — с шерстяными носками, пуховыми варежками и расплавленным сыром. Апельсиновая мякоть на припеке скукоживается до такой степени, что отрывается внутри от кожуры. Разрываешь шкурку, а там фантастически несъедобная апельсиновая окаменелость.
К следующей вылазке в пустыню я подготовился лучше, то есть именно к пустыне я и готовился. Заехал в новехонький супермаркет в Найроби, запасся соляными таблетками, крекерами, питьем. Еще у меня в планах были сухофрукты — идеальная, по моим представлениям, еда для пустыни: всегда мечтал влачиться по пескам, вкушая ветхозаветные плоды. Ветхозаветные плоды оказались бешено дорогими. Сушеные ананасы, кокосы или бананы грозили пустить меня по миру — сразу видно, редкие для здешних мест экзотические фрукты. И тут на глаза мне попался сушеный тамаринд. Что это, я понятия не имел, но стоил он феноменально дешево. Я купил два брикета по килограмму.
В первый вечер, после того как я выдвинулся из единственного городка в западной части Турканской пустыни, я добрался до вершины одинокого вулканического конуса и в сумерках поставил палатку. Внизу, кружа голову, парил в воздухе умопомрачительный вид целой безлюдной планеты, выжженной солнцем. Устроившись поудобнее, я развернул плитку тамаринда, отхватил изрядный кусок — и задохнулся от ударившей в мозг вкусовой волны. Представьте, что вы опрокинули в рот полную солонку соли. Быстро, пока не проглотили, залейте ее баночкой горчицы — стоп, теперь еще густой слой мармайта поверх, а вдогонку кусок вонючего французского сыра и протухшую рыбину. Усильте в сто тысяч раз. Вот он, слабый отголосок того вкуса. Хотя слово «вкус» здесь почти теряет смысл. Это за гранью вкуса. Словно все до единого нейроны мозга были переброшены на вкусовой фронт, словно каждую клетку рецепторов скребут тамариндовым наждаком. Моих запасов сушеного тамаринда хватало, чтобы устроить вкусовые галлюцинации всему населению Африки к югу от Каира от мала до велика. Одна щепотка такого продукта — и свирепые выдубленные солнцем главари бедуинских банд захлюпают носом и запросят пощады. Я проворочался всю ночь, отплевываясь. Еще один загубленный поход.
В Судане, однако, я в тот раз промахнулся с запасами литературными. Наутро после ночевки в полицейском участке мне повезло с попутным транспортом, я добрался до Нила и вскоре уже садился на баржу, идущую на юг. За десять дней мне предстояло пройти 800 миль вверх по течению до Джубы, столицы Южного Судана, — на многие месяцы в году это единственный способ попасть из одной половины страны в другую.
Мы загрузились. Мою баржу вместе с еще несколькими прицепили к буксиру. Посередине палубу перегораживала переборка с натянутым над ней парусиновым тентом, пассажирам полагалось сидеть на полу, привалившись к стенке спиной. Я устроился на рюкзаке рядом с двумя рослыми арабами в длинном одеянии, которые улыбнулись мне и тут же перестали замечать. Потные чернокожие грузчики, понукаемые бригадиром-арабом, таскали на борт коз, кур, мешки с древесным углем и продуктами, бочки и ящики, забивая палубу до отказа. Баржа осела почти по самую окантовку, а коробки и бочки все прибывали. Солнце палило нещадно даже сквозь тент. Непонятно почему, но ощущение, что тебя шатает от головокружения и тошноты, хотя ты даже с места не встаешь, было захватывающим. Пустыня, все правильно.
Наконец мы отчалили. Я увлеченно следил за происходящим, намереваясь всю дорогу разглядывать пассажиров и наблюдать, как северные торговцы-арабы сменяются южными чернокожими земледельцами. Поучусь у кого-нибудь арабскому, буду записывать песни разных племен в нотный альбом и перекладывать для флейты. Глазеть на рыбаков, бегемотов, крокодилов и кочевников, пригнавших верблюдов на водопой. Думать о том, что ничего не меняется тысячелетиями: британцы, египтяне, турки, эфиопы и дальше вглубь веков до самых римлян — все они приходили завоевывать и покорять, и все канули, а река, давшая жизнь человечеству, течет и течет. Мы будем кружить по гигантскому лабиринту тростниковых болот Судда, мы пройдем по землям кочевых племен динка, мы перенесемся сквозь столетия туда, где время исчезает и остаются лишь зной, и свет, и движение реки. Этой бессмыслицы мне хватило на пару часов, а потом я готов был лезть на стенку от скуки.
Я достал свое дорожное чтение. В каждую поездку я беру одну толстую книгу. Поскольку в этот раз поездка предстояла серьезная, книгу я тоже взял очень серьезную. На развале в Найроби, где букинистику продавали на вес, я приобрел самое толстое, что мог себе позволить, — «Иосифа и его братьев» Томаса Манна, растянувшего библейскую легенду на бессчетные тысячи страниц. Свой роковой просчет я осознал очень скоро. На весь месяц в Судане я умудрился взять книгу, которая разбавляла бесконечное созерцание пустыни лишь бесконечным повествованием о пустыне, где на пять страниц действия приходится несколько сотен страниц с описанием смоковниц и верблюжьих караванов, а целые главы, если я правильно помню, посвящены тонкостям высушивания тамаринда. Так влипнуть с чтением не удавалось на моей памяти больше никому, разве только тому прилежному немецкому студенту, который в путешествии по Африке хотел подтянуть свой слабый английский и в качестве единственного пособия взял с собой «Голый завтрак» Берроуза — битническую классику 1950-х, поток одурманенного наркотиками сознания, где процентов двадцать английской лексики нигде не употреблялось ни прежде, ни потом, как и 5 % синтаксиса. Немец готов был сам мне заплатить, лишь бы избавиться от этого чтива. И почему я не додумался купить «Иосифа и его братьев» в оригинале? Немецкого я не знаю, читал бы себе и читал, не понимая ни слова. А так я все десять дней пекся на палубе в иссушающем полубесчувствии, то утыкаясь глазами в пустыню по берегам, то заставляя себя продираться через ее описания в громоздких тевтонских пассажах. Я бы душу продал за британскую комедию нравов или какой-нибудь научно-технический триллер про шпионов в Пентагоне. Или за телефонный справочник. Хоть что-нибудь.
Тянулись дни. Мы спали на палубе, ели на палубе, сидели на палубе, большую нужду тоже справляли на палубе. Поначалу я пробовал при надобности свешиваться за борт, но от жары и обезвоживания меня так шатало по завершении процесса, что я рисковал, поднимаясь с корточек, кувыркнуться к нильским крокодилам. Поэтому я решил быть как все и вместе с остальными удобрять палубу. Однако вскоре проблема отпала сама собой, поскольку из-за обезвоживания у меня рождались в муках только затвердевшие булыжники раз в несколько дней. Остальные пассажиры гадили как заведенные, и каждое утро матросы окатывали настил несколькими бочками нильской воды — предположительно чтобы смыть все в реку, а на самом деле, чтобы развезти жидкую кашу из человеческого и козьего дерьма, которая хлюпала под нашими босыми ногами, пока не засыхала на солнце.
Сидевшие рядом торговцы-арабы, проникшись ко мне симпатией, с хохотом хлопали меня по спине, сплевывали под ноги и предостерегали насчет черных южан. Потом точно такие же предостережения я услышу от черных южан насчет арабов. Один из торговцев, Махмуд, особенно ко мне привязавшийся, рассказывал, как съездил когда-то в Англию. Рассказывал он хорошо, поэтому, учитывая обстоятельства, слушать одно и то же раз за разом мне не надоедало. Похоже, он пылал плохо скрываемой страстью то ли к королеве, то ли к королеве-матери, я запутался.
Постепенно мой мозг приспособился к палящему зною и рутине, то есть отупел настолько, что растворился в пространстве. На четвертые-пятые сутки моя задача-максимум свелась к тому, чтобы вспомнить, как звали всех наших учителей в начальной школе. Вот я просыпаюсь — ага, сегодня вспоминаю фамилии учителей в младших классах. Но сперва прогуляться по палубе, родить в муках очередной булыжник, если не повезет; заслушаться рассказом Махмуда, что-нибудь пожевать, вздремнуть, сморившись зноем. Все, теперь можно. Из недр памяти добываются имена воспитателей детского сада и учителей в первом классе. Прикорнуть ненадолго, провалиться в сон. Проснуться с ясной головой и именем воспитательницы на устах, потом ухнуть в безвременье. За первую половину дня добираюсь до четвертого класса, но тут жара достигает пика, я и царство-то свое биологическое не назову, не то что фамилии учителей. Снова отключаюсь. К вечеру жара слегка спадает, можно сделать крупный рывок, оттарабанить весь перечень несколько раз без запинки, готовясь наконец покорить вершину, — и тут двое арабов по соседству затевают драку, или у козы случается припадок, или я отвлекаюсь еще на какое-нибудь впечатляющее завершение дня. В голове ни единой мысли, одолевает утробная зевота. Все, пора на боковую, миссия переносится на завтра.
Где-то на середине пути мы пробирались через Судд — бесконечное тростниковое болото, превращающее Нил в лабиринт. Из него я мало что помню, только зной, комаров и тошнотворный страх заблудиться, из-за которого я до самого выхода просидел, сцепив зубы и обхватив руками колени. Как ни парадоксально, со временем начинает казаться, что островки в дебрях тростника различаемы, узнаваемы — и ты уверен, что они попадаются на глаза не впервые. Так и есть, говоришь ты себе, мы ходим кругами. Несколько часов ты горишь желанием убить капитана, который сбился с пути и не имеет мужества в этом признаться, а потом трясешься от ужаса, что он возьмет и признается, подтвердив худшие твои страхи, и тогда Махмуд сотоварищи в ярости выхватят ятаганы, картинно снесут мерзавцу голову, захватят баржу, перессорятся между собой из-за курса, воцарится анархия, хаос, насилие и голод, и мы все умрем жуткой и нелепой смертью в этой трясине.
Ясное дело, Судд мы прошли без приключений.
Теперь оставался лишь короткий финальный перегон до пункта назначения — Джубы. В коллективном эмоциональном черного юга Джуба занимает почетное место. По всей логике необъятный Судан с его причудливой дихотомией должен был бы расколоться на две отдельные страны — северную арабскую и южную черную, но он сохраняет неуправляемое единство под руководством арабов[8]. Если ему когда-нибудь суждено расколоться, Джуба будет столицей Южного Судана, а пока на этих углях десятилетиями тлеет костер гражданской войны. Джуба — сиятельная столица Нубии, или как там назовут будущее суверенное государство — представляет собой раскаленное и пропыленное скопище хижин и палаток для беженцев с четырехкилометровой полосой асфальта — единственным твердым дорожным покрытием на 600 миль окрест. В Джубе я пережил серьезную паническую атаку по поводу, который вряд ли поймет хоть один человек на 6000 миль окрест. В Джубе я, как нигде больше в Африке, почувствовал себя чужаком. На первую ночь меня приютили миссионеры американской Южной баптистской конвенции.
Они встречали баржу на пристани, чтобы забрать какие-то свои бочки, меня заметили сразу и пригласили к себе в центр. Не подумайте ничего такого, за весь день не возникло даже намека на проповеди и агитацию. И тем не менее у меня оказалось с ними меньше общего, чем с полуголыми африканцами, среди которых я провел последние несколько недель. Среди миссионеров были сплошь пожилые супружеские пары из южных штатов, годами трудившиеся на ферме, стоявшие на раздаче в школьной столовой или у конвейера на заводе «Шевроле», пока однажды им не случилось откровение и глас божий не велел им ехать в Джубу и питаться там сырными консервами, сидя на территории миссии. Чем они здесь занимались, я так и не понял, но точно не хождением в народ — по крайней мере не в суданский. Никто, включая Бада и Шарлен, которые явно были в общине за главных и прожили в Джубе четыре года, не знал, где находится городской рынок. А также какая дорога ведет к заирской границе, ходят ли из Джубы коммерческие автобусы, не по три ли руки у джубинцев и не питаются ли они солнечной энергией за счет фотосинтеза. О городе они не знали ничего. Похоже, они вообще не выходили за ворота миссии, разве что на пристань к барже за припасами или в аэропорт за еженедельной партией консервов, доставляемой миссионерским самолетом из Найроби. Да еще каких консервов! Даже меня, выросшего на разогреваемом попкорне и шоколадном сиропе из банки с дозатором, проняло. Консервированные полуфабрикаты с сыром «Велвита». Консервированная ветчина. Консервированный шоколадный сироп. Импортные консервированные финики, это ж надо! Здесь, в финиковой житнице, в Южном Судане, который ничего, кроме фиников, не выращивает! Слегка послонявшись в тот день по миссии, я ополоснулся в душе, полистал подборку старого Life и укрылся у себя в комнате. Вечером меня ждало очередное обогащение жизненного опыта — первый просмотр видео. Усевшись в занавешенной москитными пологами беседке, мы включили дополнительный генератор и поставили что-то там с Клинтом Иствудом — совершенную бессмыслицу, но, к сожалению, недостаточно бессвязную, чтобы бросить попытки следить за сюжетом. В очередной раз потеряв нить, мы ставили фильм на паузу и препирались, действительно этот очкарик работает на русских или только притворяется.
Вместе с рассветом появляется Эдна с огромным магнитофоном, включенным на полную мощность. Мужской хор в сопровождении банджо орет «Oh, Susannah, You're an Old Smoothie и Pack Up Your Troubles in Your Old Kit Bag». Мы все бодро вскакиваем и принимаемся накрывать на стол, сладострастно подпевая гершвиновской Swanee, потом завтракаем блюдами из яичного порошка, традиционно добытого из консервных банок, и я незамедлительно сваливаю.
Бродя по городу, я наткнулся на несуразный Джубинский университет, где меня и настигла та самая паническая атака. Построило университет северное арабское правительство как подачку жалкому, хронически неблагоустроенному черному югу, но студенческий состав был почти целиком арабским. Незадолго до моего приезда там отбушевали какие-то смутные беспорядки, и теперь царило затишье — студенты получили по мозгам от людей в форме и были отправлены домой, остужаться в тихих малярийных заводях. Навстречу попадались лишь редкие праздношатающиеся одиночки — видимо, контрреволюционеры-победители. Я зашел в библиотеку; библиотекарь спал на столе. Обшарпанная зеленая краска на стенах, трещины в каменной кладке — все, как в заброшенной купальне в Атлантик-Сити, включая слой песка, наметенного через окна без стекол и ставен. Книги там и тут, в основном на английском. Что-то техническое, какие-то старые журналы — индийский ботанический, «Итальянские архивы экспериментальной биологии» и еще несколько. Ого, надо же, британский Nature, флагман среди мировых научных журналов. И всего трехнедельной давности. Невероятно! На обложке штамп: «Дар британского посольства и Суданских авиалиний». Ну да, посольством куплено, авиалиниями доставлено. Отсюда и относительная свежесть.
Я принялся листать журнал, радуясь неожиданному контакту с внешним миром. И вот там-то, стоя в своей хламиде для пустыни, со ступнями по щиколотку в песке, я обнаружил, что группа ученых из Нью-Хейвена опубликовала результаты эксперимента, связанного с недавно описанным гормоном стресса, вырабатываемым в мозге, который я как раз собирался начать изучать после возвращения в Штаты. «Обставили. Обставили!..» — клокотало в голове, я начал задыхаться. Меня обошли, пока я в Судане. Что я здесь делаю? Где-то вдали бурлит научная мысль, люди в белых халатах произносят тосты под триумфальный звон бокалов и хлопки пробок от шампанского, отпуская остроумные шутки о Бертране Расселе и мадам Кюри — и все это происходит прямо сейчас: убеленные сединами микробиологи садятся писать непременные сборники эссе по этике и биологии, новоиспеченные доценты разбазаривают выбитые гранты, а я торчу в Судане и зарастаю плесенью. Нужно срочно что-то делать!
Я кинулся искать телефон-автомат — от ближайшего меня отделяли многие сотни миль. Не знаю, кому бы я позвонил, окажись телефон каким-то чудом под рукой, мне просто позарез требовалось выйти на связь. Я метался, прикидывая, как сейчас быстренько наловлю в пустыне песчанок и разведу для опытов, а пробирок можно настрогать из дерева швейцарским складным ножом. Тут на окраине кампуса мне попались какие-то школьники, которые приветствовали меня как гостя и с торжественным поклоном вручили цветок. А потом, помахав рукой, с заливистым смехом убежали. Я успокоился и выкинул нью-хейвенских конкурентов из головы до конца своего суданского отпуска.
В Джубе я проболтался несколько дней, собирая сведения о южной части страны — где что посмотреть, какие из дорог функционируют, на каких из них не нарвешься на повстанцев или правительственные войска и где в этом случае есть шанс застать проезжающие грузовики. Свежие вести о гражданской войне я узнал от иностранного соцработника. В пустыне, прямо рядом с базой повстанцев, некоторое время назад сел самолет суданских ВВС, у которого забарахлил двигатель. «Круто, — решили повстанцы, — было ваше, стало наше». Однако самолет успел улететь. Раздосадованные повстанцы, кипя нерастраченной бунтарской энергией, захватили в отместку десяток французов, оказывавших гуманитарную помощь. Потребовали у правительства 30 000 британских фунтов, кроссовки, штаны и время в радиоэфире. Переговоры велись через героического пилота-канадца, который летал туда-сюда как парламентер и добровольный заложник. Он тайком сообщил захваченным дату штурма. Те приготовились, в урочный день подсыпали снотворное в воду повстанцам. Войска, кто бы сомневался, прибыли двумя сутками позже. Повстанцы при виде их сбежали в буш, не забыв сначала выпустить заложников с напутствием: «Спасайтесь, здесь опасно!» Такая вот война.
Неустроенную Джубу наводняли беженцы отовсюду — из аминовской Уганды, из воюющего Чада, из Эфиопии под руководством Менгисту и из Центрально-Африканской Республики под властью каннибала Бокассы. Потоки незлобивых людей, пострадавших от своих же. Изредка между ними затесывались путешествующие британцы с колючим взглядом и непременной гангреной от удара мачете в Заире, откуда они унесли ноги перед самым приходом войск; они неизменно фонтанировали бравадой на неразборчивом лондонском кокни. На большом, окаймленном мечетями рынке в центре города торговки из земледельческих племен продавали помидоры, финики, лук, лепешки, теплое молоко и сахар, выкладывая товар пирамидами на расстеленных у ног платках. Среди бродящих между рядами попадались динка — кочевники, как и масаи: долговязые, закутанные в накидки, надменные, нездешние. Чужаки, но вооруженные копьями и опасные.
Крупное событие намечалось в тюрьме. Недавно северное правительство ввело шариат, щедро плеснув масла в тлеющий костер гражданской войны. Вечером ожидалось первое публичное отрубание руки за воровство. У тюремных стен уже собралась толпа черных суданцев, взбешенных насильственным насаждением шариата вместо привычной религии — анимизма и христианства, назревал бунт. Это зрелище я решил пропустить.
Главной сенсацией Джубы выступали четыре километра асфальта. По нему нескончаемой, бессмысленной и однообразной вереницей тянулись объемистые кондиционированные колымаги разных иностранных представительств, обеспечивающих Джубе три четверти смысла существования и почти весь ассортимент пустых банок из-под консервированной ветчины. Американские гуманитарные работники, британские благотворительные организации, Верховная комиссия ООН по делам беженцев, миссионеры, норвежские гуманитарные работники, переводчики Библии — все без конца катались по четырем километрам асфальта друг к другу на аперитив, сырные консервы и взаимную нервотрепку. Суданских машин я в центре Джубы не видел, кажется, ни разу.
Увы, машин не наблюдалось и на том направлении, которое требовалось мне, — к лесам на заирской границе, где водились шимпанзе. Все знали про лес и про шимпанзе, но никто слыхом не слыхивал, чтобы туда ездили. Пришлось довольствоваться запасным планом — горной грядой Иматонг на границе с Угандой. В эту гряду входила самая высокая вершина в Судане и парящее над пустыней плоскогорье с дождевым лесом площадью пятьдесят на шестьдесят миль. На опушке примостился поселок лесозаготовителей — небольшая база, являющая собой самое (и единственное) процветающее южносуданское предприятие. Туда вела дорога, по которой из Джубы как раз отправлялся грузовик с провизией для лесорубов.
Место в грузовике для меня нашлось, и я радостно залез внутрь. Кузов заполнялся, но я вполне удобно устроился на мешке кукурузной муки и с удовлетворением погрузился в многостраничные манновские описания тюков с сушеным тамариндом, которые Иосиф с братьями навьючивали на ослов перед долгим походом, и хитрых узлов, которые они затягивали на седлах верблюдов, и прочего в том же роде. Загадочным образом увлекшись, я не сразу заметил, что грузовик уже набит битком, но до сих пор не тронулся с места, хотя за бортом сумерки. Бензина нет. Как выяснилось, мы дожидаемся своей очереди на единственной джубинской заправке (частные станции, куда поставляют бензин для гуманитарных организаций, разумеется, не в счет). Перед нами еще машин шесть, а бензина за весь день привезли всего одну бочку на старом пикапе, хватило залить три бака. Мы вылезли из кузова, переночевали на песке рядом с грузовиком и на рассвете вновь расселись по местам, готовые беспрепятственно махнуть до Иматонга. Еще день — мы уже вторые в очереди. И вот наконец на третьи сутки нас заправили, и мы двинулись. К тому времени толпа в кузове сильно уплотнилась, мы все балансировали на одной ноге, придерживаясь кончиками пальцев за металлические рейки, то и дело получая локтем под ребра от заваливающихся стариков, стиснутые со всех сторон кипами и штабелями припасов для лесорубов. Проехав с сотню шагов, грузовик затормозил перед мостом через Нил. Всех пассажиров высадили, мешки выгрузили для досмотра. Мешки протыкали копьями, проверяя, не везут ли там людей, одну пассажирку арабские солдаты, невзирая на протесты, зачем-то обхлопали со всех сторон, у меня на полном серьезе спросили название города, из которого мы выезжаем. Я этот тест прошел, и арабы переключились с допросом на моего соседа.
В конце концов грузовик пропустили, и мы все волшебным образом распределились точно по своим местам. За следующие двенадцать часов мы вперевалку преодолели 130 миль пропыленного сорокатрехградусного пекла. Палящее солнце, судорожные рывки и качка на ухабистой псевдодороге. Навеса нет, держаться почти не за что, детей то и дело рвет. До раскаленных металлических реек дотронуться страшно, и все равно хватаешься за них на каждом ухабе, чтобы не вылететь за борт. Я спасался от жары бедуинским головным платком и тщательно приберегаемыми бутылками с водой, которую я прикончил гораздо быстрее, чем рассчитывал. Голова начала ритмично пульсировать от боли, дыхание участилось. На какой-то остановке, у скважины, я пренебрег одним из азов утоления жажды в пустыне — никогда не пить местной воды вдоволь, чтобы потом не мучиться, если она окажется тухлой. Через каких-нибудь пятнадцать минут я уже позеленел от тошноты. Глаза разъедало, в паху болезненно дергало. Следующие шесть часов я боролся с тошнотой и искал, чем бы отвлечься, чтобы не завопить. Томас Манн отпадал: меня так крепко стискивали со всех сторон, что руку не поднимешь. Пришлось снова искать спасения в заветном перечне имен моих учителей начальной школы. Я часами прокручивал в памяти первые два абзаца своего доклада для намеченной на следующий год защиты диссертации. Попытался набросать в уме лекцию по социальной организации у павианов — просто так, ради процесса, но не мог сосредоточиться. Пробовал забыться фантазиями про студентку, которая работала летом в лаборатории у моего научного руководителя и по которой я когда-то сох, но и этот фокус не прошел — слишком утомительно и, учитывая обстоятельства, настолько бессмысленно, что даже в тоске о несбывшемся утонуть не получалось.
В итоге я уткнулся взглядом в щеку своего соседа. Все это время грузовик то и дело подбирал на дороге новых пассажиров — из племени каква: чем дальше, тем более дикого вида, голых, нелюдимых, с выкрашенной охрой головой, с пластиной в губе и шрамированными рисунками, каких я в Кении никогда не видел. У многих проваливался нос — я заподозрил какие-нибудь особо жестокие обряды инициации, но оказалась проказа. У кого-то были разрезаны мочки ушей. У кого-то свисал зоб. Большинство щеголяли замысловатыми шрамами на щеке в форме семиконечной звезды — такие делаются заталкиванием песка в надрезы, чтобы рубец получился выпуклым. На такой шрам я и смотрел не отрываясь, снова и снова пересчитывая лучи у звезды. Да ну, откуда там семь, наверняка шесть, уговаривал я себя, хитростью вовлекаясь в очередной пересчет. Звезда шевелила лучами, как живая — наверное, это у меня в глазах плыло, — я путался и начинал заново, убивая еще немного времени. Но в основном в этой бесконечной качке, все больше увязая в дурмане тошноты, жажды и желудочных колик, я хотел убить водителя — за каждый ухаб, за каждую остановку.
Где-то между приступами тошноты я заметил выросшую на южном горизонте горную гряду. Иматонг! Проблеск счастья во мраке отчаяния. Около пяти вечера мы въехали в Торит, довольно крупный город на основной дороге. Почти весь народ рассосался, включая обладателя шрама и молодого здоровяка, который почти всю вторую половину дня отдавливал мне ногу. Нас осталось в кузове около десятка, ошарашенных непривычным простором. Осторожно отлепившись друг от друга, мы разлеглись на мешках. И тут началось волшебство. Оставив Торит позади, грузовик покатил прямиком на юг, в горы, постепенно забирая все выше. Жара спадала. За бортом стали попадаться трава и кусты. Деревья. Солнце садилось. Повеял невесть откуда взявшийся ветерок. Бриз! Переглянувшись, мы залились смехом. Попутчики ни с того ни с сего принялись пожимать мне руку. Люди, с самого рассвета ехавшие нос к носу, вдруг начали смотреть друг другу в лицо. На закате, примерно на середине подъема, расположившиеся на мешках с луком женщины затянули песню. Я лежал на спине, смотрел на звезды и деревья. Это было чудо. Потные тела, ветки, от которых теперь приходилось уворачиваться, запах навоза от коз, ехавших между тюками, — я словно вновь очутился с друзьями в летнем лагере от еврейского общинного центра, устроившего нам в горах Катскилл ночевку на ранчо, где меня первый раз катали на прицепе с сеном.
Мы качались, задремывали, пели, обменивались рукопожатиями, обнаруживали неожиданные источники воды, и я был влюблен во всех своих попутчиц сразу. Когда мы вплыли в лесозаготовительный поселок Катире, в темную чащу, угнездившуюся между горами, я не помнил себя от обезвоживания и счастья.
Помахав на прощание всем своим друзьям, я, шатаясь, поковылял в лес. Я улыбался каждому дереву. Первый встреченный мной катирец оказался стариком с охотничьим копьем и фантастически перекошенным лицом. На шее болталась веревка, а к ней крепилась флейта, сделанная из рога редунки. Он практически прогарцевал ко мне, мы поздоровались за руку, он осыпал меня ахами-охами, кланялся, пританцовывал и пришел в неописуемый восторг, когда я показал на флейту, предлагая ему сыграть. Надув щеки, он принялся дудеть в горлышко рога, словно в бутылочное, перебирая пальцами четыре нотных отверстия. После каждого немудреного такта он повторял мелодию и пропевал слова:
Дум-де-дум… Торит!
Дум-де-дум… Джуба!
Дум-де-дум… Хартум!
Дум-де-дум… Судан!
Его распирало от радости, ноги сами приплясывали в такт. Когда он пошел на второй круг, я начал подпевать, и мы дружно мычали, словно вспоминая песню из нашего общего детства. Потом мы раскланялись, и он отгарцевал по своим делам.
Многообещающее начало. Я направился в полицейский участок регистрироваться. Пожилой седовласый дежурный щеголял в ярком черно-зеленом полосатом костюме — то ли пижаме, то ли домашней одежде, то ли тюремной робе, снятой с заключенного. Больше в участке никого не было, если не считать сидящей снаружи морщинистой старухи без возраста. Я вручил дежурному паспорт и полученное в Джубе разрешение на поездку. Он хмыкнул, покосился на паспорт и начал крутить его то так, то сяк, явно не имея понятия, как с ним обращаться.
— Паспорт при вас? — наконец спросил он.
Такой восхитительный африканский момент я упустить не мог.
— Нет, не при мне, — с убийственной серьезностью сообщил я.
— Плохо, очень плохо. А где ваш паспорт?
Отлично! Я посмотрел ему в глаза.
— У вас в руках.
Твой ход, страж закона. Вывернешься? Дежурный оказался матерым профи — взглянул на паспорт уже серьезно, перелистал страницы, сравнил фото с моей физиономией. Вот теперь ему есть чем крыть.
— Все правильно. Паспорт ваш. Можете оставаться.
Процедура пройдена, мы оба расслабляемся. И тут, резко подавшись ко мне, он заявляет: «Пойдемте!» Ч-ч-ч-то я такого сделал? А ничего, просто пора ужинать. Сидевшая снаружи старуха, его жена, накормила нас бобами с капустой, и воды за столом было хоть залейся. На мое спасибо дежурный сказал: «Вы у нас в гостях. Не надо спасибо. Своей матери вы же спасибо не будете говорить?»
Подошел сын дежурного Джозеф, юноша лет двадцати. Местный учитель, недавний выпускник джубинской средней школы, то есть педагог квалифицированный. Одет он был в нарядную белую рубашку. Парней в белых сорочках я и прежде замечал на дороге в отблесках нашего костра, равно как и женщин в белых блузках. «Тебе повезло, — сказал Джозеф. — Сегодня танцы». А что за праздник? «Никакого праздника, танцы у нас каждый вечер, поэтому, когда к нам приезжаешь — всегда везет». Я вспомнил, что музыку и барабаны слышал еще по пути к участку.
После ужина, обильно запитого водой, мы с Джозефом отбыли на танцы. По дороге через рощу поток людей в белых рубахах рос, музыка становилась все громче, пока не вывела нас на большую поляну, где отплясывали сотни танцоров в белом. И тут меня осенило: это же эйфория пустынных нагорий! По северной части кенийской пустыни — раскаленной, пылающей, укутанной знойным маревом — разбросаны горы и плато. На вершинах, в прохладе, растет кустарник. На самой высоте — встречаются намеки на лес. И всегда есть какая-то вода — скважина или родник. Первопоселенцев в незапамятные времена неизменно загоняла наверх какая-нибудь напасть: война, голод, мор. Что там, на этой необитаемой горе, — бог весть, но больше податься некуда. И вот отчаявшийся человек карабкается наверх, а там, оказывается, рай. Прохлада, тень. Вода! Всех виденных мной жителей пустынных плато переполняла эйфория, шальная радость, опьянение своей удачей. На одной из возвышенностей у эфиопской границы, где холодный родник питал речку, струящуюся через все плато к озеру Туркана, народ вовсе, кажется, не вылезал из воды. Идешь по берегу, и через каждые полсотни шагов — очередная купающаяся компания. «Давай к нам, — кричат они, — воды хочешь?» Рай земной. А здесь, в Катире, вдобавок к прохладе, воде и тени — еще и стабильная оплачиваемая работа, редкость для Южного Судана. Так что каждый вечер здесь танцы до упада.
Били барабаны, широкогрудый здоровяк выдувал из выдолбленного полена единственную гулкую басовую ноту. Сами танцы — подобие брачных игр под женским предводительством. Парни во внутреннем кольце приплясывают на месте, а девушки вертятся вокруг них хороводом. В какой-нибудь непредсказуемый момент стоящие в стороне старики выкрикивают: «О-ре-о! О-ре-о!» — и девушки выхватывают себе кавалера из круга. Дальше все происходит на редкость целомудренно, как в воскресной школе: пара выписывает восьмерки, причем дама задает движения, а кавалер подстраивается, и сложность постепенно нарастает. Чуть погодя из круга (обычно от парней, которых не выбрали) доносится нетерпеливое «О-ре-о!», которое рано или поздно подхватывают старики, и тогда хороводы с выбором начинаются заново.
Джозеф был вне себя от возбуждения. Позаимствовав у меня фонарик, он вращал бедрами, тряс плечами и всячески привлекал внимание дам, подсвечивая попеременно руки, грудь, пах. «Хей, хей, о-ре-о, смелей, о-ре-о!» — скандировал он, пока старики не подавали сигнал. Меня охватила иррациональная тревога: вдруг меня не выберут? Но хихикающие девицы вытягивали меня из круга почти на каждом заходе, и теперь я нервничал и раздражался уже из-за того, что меня выбирают как забавную марсианскую диковину. «Сегодня с кем-нибудь будешь спать, сегодня найдешь себе жену!» — прокричал Джозеф мне на ухо. Почему нет, все может быть, эйфория, лишь бы тень и вода не кончались. О-ре-о, о-ре-о, танцы часами, Джозеф хлопает меня по спине, мне орут приветствия и пожимают руку, по кругу пускают бадейки с водой, единственная ритмическая басовая нота снова и снова гудит сквозь барабанный бой, и народ в нарядной белой одежде празднует завершение еще одного дня, прожитого вдали от лежащей внизу пустыни.
Тишина, рассвет. Вокруг одетый туманом лес. Где-то совсем рядом птицы, антилопы. Из хижин показываются люди. За лесом — горные пики. Я проехался на идущем из Катире лесовозе, который по кромке недавно прорубленной просеки поднимался к верхнему краю лесозаготовительной делянки. Видневшиеся тут и там лесорубы работали исключительно вручную. Просека уперлась в расчищенную поляну — все, конец дороги. За поляной джунгли на полсотни миль в любую сторону. Сплошное плато, густой, затканный туманом бескрайний дождевой лес, гранитные пики трехтысячников вздымаются над зарослями, обезьянами, ухающими птицами, антилопами-бушбоками и лесными охотниками, изредка оставляя просветы, перевалы с видом на пустыню, катящую свои барханы в двух тысячах метрах под тобой. Ты словно паришь над океаном пустынного пекла на огромном, заросшем зеленью корабле.
Я поставил палатку на вырубке, у самой границы леса. Можно приступать к освоению. Моей главной задачей было забраться на вершину самой высокой горы — милях в пятнадцати, если по прямой через лес. Хорошо различимая с вырубки, она взмывала в небо зловещей каменной громадой.
Карты у меня не было. Карт не было как класса. Никаких хоженых маршрутов. Только лесные тропы, протоптанные звероловами. Время от времени эти низкорослые молчуны в набедренных повязках выбирались из зарослей обменять что-нибудь у лесорубов и тут же скрывались обратно.
Я выработал систему постепенного углубления в лес, помогающую мне меньше волноваться, опасаясь потеряться. В первый день я прошагал по первой тропе около часа — до крупной развилки. Там я немного постоял, походил по развилке, пока в памяти не запечатлелись растущие там деревья, и я не научился узнавать выбранный путь (вроде бы ведущий к пику) с обеих сторон. Посидел, набросал карту разветвляющейся тропы, зарисовал деревья. Поиграл немного на флейте — и все, на сегодня хватит, пора обратно.
На следующий день я зашел за развилку, оставил позади еще две и шагал, пока не стало слишком страшно, — тогда я повернул обратно и повторил пройденные. При мысли, что теперь мне более или менее знакомы все намеченные за день тропы, за исключением самых дальних, становилось спокойнее. Так я и продвигался в ритме предвкушения — каждый день все ближе и ближе к горе, постепенно осваиваясь в лесу.
Он был густым, головокружительно заросшим, от его непролазности хотелось кричать. Темный, влажный, тенистый полог. Шестиметровые папоротники, образцово-классические лианы для раскачивания, на узких тропинках местами ступаешь не по земле, а по корням и огромным перегнивающим листьям. Между полуднем и сумерками каждый день проливается прохладный дождь, легкий, бодрящий, и ты ловишь его струи, запрокинув голову. Под ногами хрустит и тянет прелью. Часто тропинка идет вдоль глубокого оврага, на дне которого журчит ручей, скрытый от глаз исполинскими папоротниками.
Примерно на пятый день, пройдя по тропе миль семь-восемь, я набрел на первую деревню, ютившуюся на небольшой прогалине. На склоне, расчищенном от леса, но еще не перешедшем в гранитную стену, зеленело около акра кукурузы. Четыре примитивнейшие хижины. Людей, наверное, с десяток — поджарые, мускулистые, худые, молчаливые, в звериных шкурах. У некоторых пластина в губе. Женщины курят длинные трубки. Меня приветствовали поклоном, но не проронили ни слова. Я посидел немного и, когда почувствовал себя совсем неуютно, изобразил жестами, что иду вон к той большой горе, которая теперь громоздилась еще ближе, — и меня направили по нужной тропе. А потом, едва я собрался уходить, привели мальчишку лет десяти. С конъюнктивитом. Показали на глаз, показали на меня. Может, я посмотрю? Почему, скажите на милость, раз я белый, чужой и ношу одежду, я обязательно должен знать, что делать? В принципе я догадывался, что делать. У меня с собой была антибактериальная мазь и тетрациклин, и я, в очередной раз изображая Альберта Швейцера, пустил в ход и то и другое. Попросил принести воды из реки, попросил паренька вымыть руки, попросил его отца вымыть руки, прежде чем дотрагиваться до ребенка. Мы намазали глаз, и я изобразил жестами, что на следующий день принесу еще.
Так у меня появилась своя деревня. Я проходил через нее каждый день, продвигаясь все ближе к горе. Каждый день я мазал мальчику глаз и давал антибиотики. Потом мне привели мужчину с разодранным бедром, его я тоже лечил. Мне привели женщину с жутким туберкулезным кашлем — я дал понять, что тут бессилен, они вроде смирились. Народ становился разговорчивее, мне принесли кукурузы. Кто-то вытащил цанцу — музыкальный инструмент, деревянную коробочку с полудюжиной металлических язычков разной длины. Дергаешь язычок, раздается бренчащая нота. Поселяне играли умопомрачительно, одной рукой, в пульсирующем меняющемся ритме и непостижимой для меня гармонии. Я в ответ сыграл на флейте. Как-то раз я, отклонившись от дневного маршрута, выбрался с ними охотиться на обезьян. Мы крались через лес. Рядом с неслышно скользящими сквозь дебри охотниками я со своим исполинским ростом метр шестьдесят восемь чувствовал себя неуклюжим неповоротливым верзилой. Где-то наверху, на деревьях, обитали колобусы. Меня, разумеется, тянуло болеть за обезьян, но я то и дело сбивался на предвкушение — а что если и вправду поймают. Пущенная одним из охотников стрела попала в цель, и обезьяна рухнула на землю под отвратительный хруст ломающихся веток и верещание сородичей, которые кинулись удирать на руках сквозь верхний ярус. Обезьяну притащили в деревню. Там добычу — молодого самца — освежевали и сварили, из котла наружу торчала его рука. Только тогда я заметил подстилку из обезьяньей шкуры и одежду из обезьяньих шкур. От мяса я отказался, но посидел рядом, пока поселяне ели — к горлу подкатывал комок, меня переполняли эмоции.
День за днем я пробиваюсь к горе, глаз у мальчика выглядит приличнее. Я им всем уже как отец — и бог антибиотиков. Дней через десять я вышел к следующей деревне у самого подножия горы. Гора за это время приобрела для меня на редкость зловещий вид. Огромные, закрывающие полнеба, безмолвные, клыкастые, мрачные и величественные скалы со сложным напластованием пород, возносящиеся над джунглями, как цитадель разрушенной империи Зиндж. А на краю последнего равнинного клочка джунглей, у самого подножия, примостилась еще одна деревушка — словно ее жители унаследовали миссию предков, служивших последним правителям империи тысячу лет назад, и по-прежнему охраняли подступы к горе.
Добравшись до деревни, я увидел уже известный мне контингент. Ту первую деревню, имени Альберта Швейцера, населяли туземные горные охотники, жившие здесь испокон веков и для меня ставшие этническим открытием. А в этой, как выяснилось, собрались беженцы — обитатели пустыни, лет десять назад укрывшиеся здесь от очередного обострения гражданской войны. Они были из племени тука, очень близкого к народу туркана, живущему в кенийской пустыне по ту сторону границы. Родные знакомые черты — эти пластины в губе и шейные кольца я идентифицирую где угодно. А также вздутые животы у детей, кашель и гноящиеся язвы. Я знал около полудюжины слов на их языке, и мы с самого начала отлично поладили. Как будто домой вернулся. Я в два счета договорился с одним из жителей по имени Кассиано, что приду снова через день-другой и он проводит меня на гору — невероятную кручу, теперь рвущуюся ввысь прямо из деревьев позади хижин.
Два дня спустя я прибыл к ним уже под вечер. Кассиано уговорил меня не ставить палатку и ночевать в его в хижине. Сам он спал в соседней, у своего брата.
Я уже заметил, что жители второй деревни, веками обитавшие в пустыне, за десять лет так и не приспособились к новым условиям. Они разводили в хижине костер — как-то ведь надо спасаться от горного холода, — но сохраняли прежнюю, пустынную конструкцию жилища, подразумевающую полное закупоривание. В результате хижины были немилосердно задымлены, вся деревня ходила с красными глазами и туберкулезным кашлем. Как только Кассиано удалился, я потушил оставленный на ночь огонь — спальник у меня теплый, а от дыма уже тошнит. Я заснул.
Около полуночи обнаружилось еще одно обстоятельство, вынуждавшее поселян поддерживать огонь до утра. Меня разбудил звук, от которого я буду вздрагивать до конца жизни. «Ого, дождь», — подумал я в полусне. «На меня льет», — подумал я, постепенно просыпаясь. Капли шлепались на спальник, на лицо. И тут я вспомнил, что ночую под крышей. Сон мигом слетел. На мне что-то шевелилось. Шевелились мои волосы. Я посветил фонариком вокруг. Ночной костер оставляли, чтобы дым просачивался через соломенную кровлю и отгонял гигантских тараканов. А поскольку дыма не было, тараканы хлынули внутрь, облепляя мешки с кукурузной мукой. Но главная беда была не в них. Следом за тараканами нагрянули муравьи-легионеры.
Утверждаю со всей ответственностью: муравьи-легионеры — самые отвратительные, невыносимые и ужасающие существа во всей Африке. Одно их соседство вызывает у меня корчи, стенания, трясучку и пляску святого Витта. Они кочуют полчищами, покрывающими не один гектар. Огромные твари, способные вырывать своими жвалами целые куски мяса. Они ползают по тебе бесшумно, пока первый смельчак не укусит, и тогда, повинуясь феромонному сигналу тревоги, они набрасываются все разом. Они отъедают веки, ноздри и мягкие ткани. Кидаются на кого угодно, в сельских больницах губят лежачих, неспособных убежать. Впиваясь, они сжимают челюсти так крепко, что при попытке оторвать муравья голова вместе со жвалами остается в теле жертвы. Масаи используют их для зашивания ран — случись кому-нибудь серьезно порезаться, хватаешь муравья-легионера, стягиваешь края раны, даешь разозленному муравью вцепиться и откручиваешь тело, так и штопая порез ровным рядом муравьиных голов.
Но отвратительнее всего в них то, что они шипят при нападении. Кошмар наяву — шипение муравьиного легиона, марширующего рядом с тобой через поле.
Хижина кишела муравьями, падавшими на меня с кровли. Я их не интересовал. Пока. Они кромсали орду тараканов. Тараканами были облеплены все мешки с кукурузной мукой, к которым с пола тянулся жуткий трехмерный мост из вцепившихся друг в друга муравьев, переправляющих вниз добычу, в десять раз превосходящую их размерами. Меня они покрывали ковром, я до поры до времени был для них вроде мебели.
Нужно было выбираться. Если шевельнуться и раздавить муравья на полу, они кинутся в атаку, но другого выхода нет. Знать бы, не перекрыты ли подступы к хижине муравьиной колонной. Если да, остается только нестись со всех ног в ночные джунгли, пока от них не оторвешься.
Сосчитав про себя, я выждал и вскочил. На втором шаге меня словно кипятком облили. Жжет, повсюду жжет. Хлопаешь тут и там, вопишь, отцепляешь, ломишься наружу. Один на веке, один на губах, невесть сколько в ширинке, пропади они пропадом. Вылетаю из хижины, с воплями сбрасываю одежду, катаюсь по земле. Слава богу, легионы все-таки наступают с тыла, а не с флангов. Я молотил руками, взвизгивал, отдирал муравьев, судорожно бился разными частями тела об землю, давя противника на себе. На шум вышли Кассиано и остальные — их, как и следовало ожидать, мои мучения повергли в хохот. Содрав с себя последних муравьев и одевшись, я сконфуженно объяснил, что произошло. Кассиано, не страшась муравьев, заскочил в хижину, развел огонь, и вскоре легионеров вместе с остатками тараканьей орды выкурило обратно в лес.
На рассвете мы отправились к горе. Босой Кассиано шел впереди, прорубая мачете дорогу через лес за неимением проторенной, пока перед нами не выросла скалистая стена. Дальше мы принялись карабкаться почти отвесно. Ненадежные опоры, переползание через стыки между валунами, откуда градом сыпался щебень. Не верилось, что мы долезем, но Кассиано явно свое дело знал. Час, второй — изнеможение, пот, радость, — и вот мы на вершине. Высочайшая точка Судана. Внизу каскад головокружительных видов — другие гранитные пики с кружащими над ними птицами. Кисея пара над лесом. И пустыня вдалеке.
На вершине, на самом пике, возвышалась сложенная из камней пирамида. Коническая, не полая. Резким, почти отрывистым взмахом руки Кассиано отогнал меня подальше и молча, почтительно опустился перед ней на колени. Потом вытащил из-за уха припрятанное птичье перышко и воткнул его в центр пирамиды. В тот миг я глубоко позавидовал всем анимистам.
Пора было уезжать. Точнее, пора было начинать попытки уехать. С транспортом дела обстояли настолько сложно, что пускаться в путь приходилось за недели до срока. Выберусь на проезжую дорогу, попробую поймать какой-нибудь грузовик, идущий обратно в Кению — либо прямиком, либо через Уганду.
Покинув рай, до Торита с гор я доехал вместе с лесорубами на их машине. А потом засел на грузовом дворе компании Wimpy — практически единственного работающего предприятия в Торите. Британскую дорожно-строительную компанию подрядили через британское правительство прокладывать магистраль Джуба — Кения, подарок Судану. Wimpy трудилась здесь уже не первый год, ведя трассу сквозь пустыню, налеты кочевников и сезоны дождей. Грузовой двор Wimpy был средоточием всего.
Там бурлила нетипично активная жизнь — британские управляющие орали на арабских бригадиров, те орали на африканских рабочих, по площадке носились вилочные погрузчики, экскаваторы с отбойным молотом и грейдеры. Нужные мне люди обнаружились на противоположном краю двора — шесть сомалийцев, сидящих кружком между двумя бензовозами с кенийскими номерами и попивающих кофе, сваренный в старой канистре для масла. В восточной и центральной Африке все настоящие дальнобойщики, то есть все эти безумцы и сорвиголовы, которые садятся за руль бензовоза в доках кенийской Момбасы на Индийском океане, потом три месяца кряду катят через войны и революции на пункт разгрузки в Конго, а потом сразу пускаются в обратный путь, — все они сомалийцы. Такая вот рациональная подстройка кочевого образа жизни, традиционного для пустынь, под современную профессию. У этих людей попросту есть нужная закалка и выносливость, и полугодовые рейсы через весь континент им не в тягость. Суровые молчаливые сомалийцы ездят командой из водителя и одного-двух подручных; кабины под завязку набиты верблюжьим молоком, коробками со спагетти (пристрастие со времен колонизации Сомали Италией) и охапками растительных галлюциногенов для жевания. Молитвенные коврики, оружие, какая-нибудь контрабанда, куда без нее. Сомалийские дальнобойщики.
Я подошел к ним и обратился к старшему — мужику средних лет, с козлиной бородкой и несомалийским вздутым брюхом. «Ищу попутную машину, — сказал я на суахили. — Вы не в Кению едете?» «Отвали!» — ответил старший, не отрываясь от чашки с кофе. Я ретировался на другой край двора, сел на песок, осилил около тридцати пяти страниц описания вышивки на диковинном покрывале Иосифа.
Четыре-пять часов спустя. По-прежнему сидят, пьют кофе, ноль внимания на колесящую вокруг технику. Вытащили карты, играют. Я сунулся снова. «А не знаете, может, кто еще едет в Кению?» «Сказал же, отвали!» — ответил старший. Я ретировался к книге. Часа через два старший подошел ко мне ленивой шаркающей походкой и сообщил, словно предупреждая в последний раз: «Ладно, мы возьмем тебя в Кению, но будет стоить дорого». Поторговавшись, сошлись на вполне гуманной цене. Когда выезжаем? Вечером. Водитель с такой же ленцой пошаркал обратно, я вернулся к книге. Через несколько минут рядом вырос младший из подручных, молча протянул мне кофе и миску спагетти. «Там солнца поменьше», — приглашающе кивнул он на группу.
Так я пристроился к сомалийцам. Их было шестеро — Абдул, Абдул, Абдулла, Ахмет, Эхмет и Али. Абдул и Эхмет вели цистерны, Ахмет и Али были сменщиками, Абдул-младший и Абдулла — мальчиками на побегушках. Сейчас их неразлучная команда разворачивалась в обратный путь после трехмесячного рейса с бензином из Момбасы в Джубу. Как выяснилось, все они были родом из одной сомалийской деревни — возможно, единственными уцелевшими: деревню уничтожили в одной из войн, бесконечно бушующих на Африканском Роге, и вся шестерка ушла пешком в кенийскую Момбасу. Казалось бы, к Кении они должны были испытывать благодарность за приют, однако водители, реквизировав у меня карту, отметили весь северо-восточный угол Кении как часть Сомали. Сомалийское правительство, вынашивая схожие планы, не раз ставило оба государства на грань войны.
Все шестеро были молчаливые пройдохи. Ну то есть все, кроме двух юнцов-подручных. Абдул-младший — громогласный пройдоха, хвастун и задира — оказался нетипично разговорчивым. Было в нем что-то от мелкого жулика, которого каждый раз облапошивают жулики классом повыше. Малыш Абдулла, самый младший из компании, держался еще больше особняком — тихий, робкий, какой-то загнанный и затравленный, с сонными полуприкрытыми глазами и явным желанием понравиться. Усевшись рядом со мной, он улыбался с надеждой, словно я должен был спасти его от родичей.
Дело шло к вечеру. Карточные игры продолжались. Налили еще кофе. Кофе я обычно не пью, а этот был к тому же до тошноты крепким, но я опасался, что меня побьют, если я откажусь. Вечер, карты, кофе, спагетти. Когда почти совсем стемнело, все стали укладываться спать — под грохот техники, такой же громкий, как днем. «А мы разве не сегодня едем?» — спросил я. Эхмет навис надо мной с угрожающем видом. «А ты что, торопишься?» — «Нет-нет». — «Завтра Кения, завтра Найроби». Неосуществимая задача. Он с плакатной улыбкой пожелал мне спокойной ночи. Старшие, Абдул и Эхмет, ночевали на сиденьях в кабине, Ахмет и Али примостились под цистернами, Абдул-младший, малыш Абдулла и я улеглись на ковриках прямо на песке под открытым небом.
На следующий день мы встали рано. Сомалийцы тут же уселись в кружок и принялись перекидываться в карты и прихлебывать кофе. От скуки и досады я вновь углубился в приключения Иосифа и его братьев — братья все больше напоминали мне сомалийцев. Середина дня. Ко мне подсел малыш Абдулла, которого самого уже тошнило от кофе и карт. Чуть погодя я уже наигрывал на флейте, а Абдулла учил меня невозможным сомалийским песням, в которых короткие импровизационные речитативные всплески ладовой полумелодии сменялись ритмическими вставками, а те переходили в тихое пришептывание. Я в отместку скороговоркой спел ему «Mares Eat Oats and Does Eat Oats»[9]. Он был впечатлен. К нам подсел Абдул-младший — якобы поиздеваться над Абдуллой за сантименты, но вскоре уже сам напевал сомалийские песни и любимые мелодии из «Лихорадки субботнего вечера».
Еще кофе, еще спагетти, еще один день коту под хвост. Спали так же, на ковриках. Всю ночь, как и вчера, над головой разворачивалась техника, светили люминесцентные «солнечные» прожекторы, с визгом проносились пикапы, обдавая нас водой из дорожных луж, единственных на сотню миль вокруг. Едва рассвело, команда засела за карты. Я уже понимал, что пускаться в изнурительный трехмесячный обратный рейс им не горит, и они с радостью зависли бы здесь навсегда. Но, к счастью, кто-то из британских управляющих рявкнул: «Катитесь отсюда и чтобы вашего сомалийского духа здесь через час не было, иначе кому-то не поздоровится!» Сомалийцы грозно порычали между собой, и мы отправились.
Мчаться с ветерком через пустыню обратно в Кению — дух захватывает! Восседая на кожухе двигателя, я смотрю на мир с добродушной и беспечной усмешкой. Едем, ага. Тормозим на восточной окраине Торита, у последнего магазина в городе. Все заваливаются внутрь и обзаводятся новыми сандалиями и расческами. Старший водитель Абдул, явно во исполнение какого-то обряда, покупает несуразную бутыль одеколона и, отливая понемногу на ладонь смердящее содержимое, хлопает по щекам всех, меня в том числе. Помазание. Ну да, обмываем начало большого пути. Потом все усаживаются под деревом у магазина и возобновляют карточную партию. Я впадаю в отчаяние. Через двадцать минут опять появляется британец, загоняет всех пинками в кабины, и мы трогаемся. Судя по пейзажу, деревья нам еще очень долго не встретятся, так что вроде можно ехать себе и ехать.
Переваливаясь, дергаясь рывками и меся колесами песок, каждая машина тащила порожнюю двойную цистерну. Кругом безлюдная безбрежная пустыня, дорогу иногда остается только угадывать. В разгар дня, когда пекло сделалось невыносимым, мы забрались вздремнуть под цистерны. Ближе к вечеру сделали остановку на кофе и спагетти. Я, кажется, прокофеинился и прокрахмалился насквозь, меня уже мутило от этой диеты, но остальных все устраивало. Впрочем, сегодня, в честь отъезда, угощение ожидалось особое. Абдулу-старшему доверили пересыпать спагетти тонной сахара и залить ощутимо прогорклым верблюжьим молоком. После подогревания на керосиновой плитке каждую спагеттину облепила приторная молочная пленка, сделавшая все еще тошнотворнее. Мы сидели кружком, по-сомалийски, уложив колени друг другу на бедра, и все зачерпывали правой рукой из общей кастрюли. Потом отправились спать.
Спали мы, по ощущению, всего ничего. Оказалось, что мы и вправду спали всего ничего — когда Ахмед меня растолкал, на часах было десять вечера. «Давай скорее, мы уезжаем!» Машины уже гудели моторами. Я скатал спальник, сгреб вещи, запрыгнул в кабину. «С чего такая спешка?» «Сейчас ехать хорошо», — ответил Абдул. В ближайшие дни стало понятно, что у шестерки какая-то жуткая беда с суточными ритмами. День и ночь перемешались. В тот раз, проехав по темноте часа два, мы снова улеглись спать. Стартовали за час до рассвета, днем дважды останавливались подремать, потом, проведя в дороге полночи, прикорнули на два часа. Четкими и неизменными были только пять остановок в день, когда все высыпали наружу, вытаскивали коврики и молились лицом к Мекке. Безумный график не поддавался никакой логике, и голова моя скоро пошла кругом — тем более что перед каждым переходом Абдул заверял меня: «Сегодня Кения», — и каждый день мы подбирались к ней, наверное, километров на десять, буксуя, раскачиваясь и взметая песок из-под колес.
Еще все они — за исключением малыша Абдуллы — оказались беспощадными отморозками. Когда на пути встречалась деревушка, сомалийцы заваливались в какой-нибудь дом и обирали полуголодных жильцов. Впятером (Абдулла, глядя совсем уж затравленным взглядом, отсиживался со мной) они налетали на ветхую хибару и, припугнув ее чахлого обитателя, уносили три луковицы. Или капустный кочан. Или апельсины. Или, как на третий день нашего пути, козу — разозлившийся напуганный хозяин в одних истрепанных шортах вцепился в свою единственную скотину, и Али с Ахметом его избили. Люди здесь жили впроголодь, а шестерка, проезжая через нищие селения, бесстыдно мародерствовала, силой забирая, что понравится. Мне было тошно, и кусок не лез в горло, но оскорблять сомалийцев отказом от еды я побоялся. Абдуллу эти дела явно смущали тоже. Когда Али с Ахметом колотили хозяина козы, Абдулла, отвернувшись, прошептал, словно ища оправдания: «Нам из Момбасы много еды брать не дают».
Все это насилие было, видимо, отголоском бесконечной вражды африканцев с арабами. Предки сомалийской шестерки испокон веков угоняли в рабство предков этих суданцев, невольничий рынок в арабском Занзибаре еще в начале XX века исправно функционировал, и жгучее презрение к черным обитателям внутренней части материка, видимо, было у сомалийцев в крови. «Эти суданцы как животные», — с усмешкой бросил мне Эхмет после грабительского захвата двух капустных кочанов — единственного, что в хижине нашлось из съестного.
Друг с другом сомалийцы тоже не особенно церемонились. Знакомая мне по общению с арабами ласковость — манера проникновенно брать собеседника за руку, разговаривая с ним, класть колени соседу на бедро, — уживалась в них с буйной агрессией. Каждый день, на каждом обеденном привале неизбежно вспыхивала ссора. Ахмет под цистерной раскочегаривает керосинку, кто-нибудь суется с критикой, Ахмет лезет в драку. Эхмет, промахнувшись, сажает машины в песок, цистерны приходится отцеплять от кабины, Абдул ругается, зачем его туда понесло, все заканчивается дракой. У меня начал вырисовываться паттерн. Машины ставят параллельно, усаживаются между ними с едой-кофе-картами. Возникает напряженный момент, и двое сцепляются в драке. Короткая яростная потасовка, захваты, пинки. Проигравший неизбежно делает последнюю попытку выйти из поединка с честью: расчетливый остроголовый жилистый Ахмет кидается на Абдула-младшего, вколачивает его двумя ударами в песок и победоносно удаляется. Абдул вскакивает, выхватывает нож из-за голенища — ритуал разыгрывается дальше. Теперь на Абдула наваливаются все разом, скручивают, отбирают нож — нет, Абдул обязательно навалял бы Ахмету, но перед таким подлым численным превосходством вынужден уступить, поэтому честь не уронена. Абдул обиженно отсиживается под деревом в стороне. Еда готовится в молчании. Все приступают к трапезе, Абдул по-прежнему дуется. Кто-нибудь из старших, Абдул или Эхмет, кричит ему что-нибудь шутливое или утешительное, и Абдул-младший возвращается в круг.
Ритуал повторялся почти на каждом перекусе, на каждой остановке — и отнюдь не условный, в половине случаев дрались до крови. От участия освобождался только малыш Абдулла. И я. До меня дошло, что эта обходительность и любезность неспроста — я, похоже, здорово влип. Как-то раз, на очередной остановке, когда всех обуяло веселье и непривычная игривость, Эхмет обхватил меня сзади и со смехом повалил на землю. Я тоже посмеялся, побарахтался без особого успеха и не на шутку перетрусил. Но в остальном со мной обращались безупречно бережно. Я порывался платить в тех редких случаях, когда они покупали, а не грабили, но от моих денег возмущенно отказывались. За едой меня всегда угощали первым. Глядя на эту подчеркнутую заботу, я уже не сомневался, что участвую в каком-то давнем сомалийском обряде: меня будут откармливать приторными спагетти до предписанного полнолуния, а потом перережут горло от уха до уха. Тревога была далеко нешуточной. Я их просто не считывал, и с каждым днем мне становилось все неуютнее и страшнее углубляться в ничейную полосу пустыни между двумя странами в компании людей, которые грабят, бьют и терроризируют суданцев, в приступе чудовищной ярости кидаются с ножами друг на друга, а меня заботливо потчуют спагетти.
Через несколько дней пути, уже на подъезде к границе, обозначенной лишь намеком, Абдул опрокинул машину. Там был мост длиной шагов в двадцать, перекинутый через нечто, что можно назвать глубокой рекой, вероятно, пару дней в году во время дождей — сейчас же здесь был просто глубокий овраг. Дорогу рядом с бетонным настилом слегка размыло, и Абдул, съезжая, притерся к этому размыву слишком близко. Нас издевательски медленно стало заносить влево, под общий вопль «А-а-а-а!» Абдул попытался выкрутить руль вправо, но тщетно, нас несло боком. Кабина сползла еще немного, а потом плавно начала переворачиваться. Мы даже успели приготовиться, подумать: «В окно! Нет, в окно не надо, голову отрубит!» Почти незаметно для себя мы перекувырнулись, оказавшись сначала на боку, а потом и вовсе вверх тормашками.
Протиснувшись наружу, мы оцениваем обстановку. Кабина перевернута вверх дном, первая цистерна на боку, вторая, устоявшая, на мосту. При виде подставленного палящему солнцу машинного брюха у нас внутри тоже все переворачивается. Впрягаясь всемером, мы отцепляем обе цистерны от кабины Эхмета, уже проехавшего мост. Эхмет пытается вытащить кабину Абдула, но в итоге сам съезжает и опрокидывается. Мы в полнейшей и глубочайшей заднице.
Сомалийцы поступили, как подсказывала логика. Эхмет высказался насчет водительского мастерства Абдула, и они сцепились в драке. Али, Ахмет и Абдул-младший устроили кучу-малу. Мы с малышом Абдуллой замерли. Наконец все стихло. Мы посидели, одуревая от жары. Укрыться в тени было почти негде, цистерна держалась слишком неустойчиво. Обстановка накалилась до предела. Время от времени мы кидались предпринимать что-нибудь бесполезное — подкапывать совком колеса и прочее в том же духе. Еду мы, по негласному решению, продиктованному коллективным стрессом, не готовили. Раздражение росло. Хотелось пить, воды оставалось мало. Али обнаружил поблизости ядовитых муравьев, от укуса которых нога на пять минут немеет, а потом еще час ее дергает. Начали появляться скорпионы. Ближе к вечеру Абдул с Эхметом сцепились еще раз. Всех одолевал неясный мне страх.
Ясность внес малыш Абдулла — на рассвете, который мы встретили сидя там же. Топоса. Свирепое племя, расселившееся по границе и кормящееся, кто бы в это поверил, нападениями на сомалийских дальнобойщиков. Армия уже почти навела порядок, но войска пришлось перекинуть на север из-за гражданской войны, и топоса с тех пор не знали удержу. Они наваливались крупной вооруженной бандой (оружие добывалось в налетах на военные отряды), забирали все, водителей пристреливали, цистерны поджигали. Почему-то, несмотря на все более близкое знакомство с современным оружием, топоса по-прежнему боялись движущегося транспорта. Они нападали только на застрявшие машины или остановившиеся на ночь — вот откуда этот рваный противоестественый ритм движения. Что заставляло сомалийцев срываться среди ночи в дорогу? То ли невысказанное чутье, то ли обсуждения в своем кругу, пока я оставался в блаженном неведении, то ли общая нервозность — уже не разберешь. Я бледнел при мысли, что рядом притаился кто-то, способный напасть на сомалийцев. Какой-то сюр, ковбои и индейцы, но если уж у этих шестерых трясутся поджилки, то мне тем более положено дрожать.
Напряжение зашкаливало. Все орали друг на друга до изнеможения, потом сидели безучастные, шарахаясь разве что от ядовитых муравьев. Ахмет вытащил ружья, выглядевшие теперь совершенно бесполезными. На перекошенном лице Абдуллы отражались все мои чувства.
После полудня Али, в молчании оглядывавший пустыню с крыши Эхметовой цистерны — нашей самой высокой обзорной точки, — сообщил, что нас кто-то заметил и быстро слинял к дальним дюнам. Понятно, топоса: кинулся к своим оповестить, что мы тут застряли.
Мы были на грани паники. Али с Ахметом, вооружившись, заняли боевые позиции. Эхмет, у которого будто второе дыхание открылось, снова пытался вытащить кабину из оврага. Малыш Абдулла съежился под задней цистерной. Всех лихорадило, казалось, что нужно как-то подготовиться, и в то же время все понимали, что поделать ничего нельзя. У меня не шел из головы последний прочитанный кусок из Томаса Манна: братья напали на Иосифа, продали его в рабство, а отцу привезли окровавленное покрывало (по всему выходило, что Иосифа растерзали львы, но доподлинно никто не знал), и старик Иаков мучился в неведении, какая же участь на самом деле постигла сына. Я понял вдруг, что паникую не из-за смерти, я боюсь сгинуть без вести — родители не узнают, что со мной сталось, я просто исчезну бесследно.
Я сидел, обхватив колени, едва не плача, и думал о своем старике-отце. Малыш Абдулла прятался под мостом. Остальные дрались. Ахмет колотил Абдула-младшего, Эхмет с Али наседали на Абдула-старшего, Али дубасил его прикладом. Вокруг царил кромешный хаос, а топоса должны были нагрянуть с минуты на минуту. Вот тут-то мы и услышали мотор Бейкера.
Мы заметили его издалека. Невозмутимо тарахтя, он полз к нам со стороны Кении. Огромный трактор. «Это Бейкер!» — заорал Эхмет, не ослабляя хватку на шее Абдула. «Это Бейкер!» — заорали все сомалийцы, вскакивая. «Это Бейкер!» — заорал я, обнимаясь с малышом Абдуллой.
Бейкер, как я вскоре разобрал из ликующих воплей, курсировал на самом большом в Wimpy тракторе по строящейся квазидороге, выручая принадлежавшую компании технику из многочисленных передряг. Кабину монстра защищало пуленепробиваемое стекло, на пассажирском кресле сидел беженец из Уганды, они с Бейкером как раз делали круг на отрезке от границы до Торита, вытаскивая застрявшие и перевернувшиеся машины.
Бейкер притарахтел к нам и, оценив обстановку, сказал: «Сейчас сделаем». Это был крепко сбитый, высокий, густо-черный суданец с окладистой бородой. Я влюбился в него с первого взгляда. Пристегнув к Эхметовой кабине сколько-то цепей, он вытянул ее на дорогу одним движением руки. Еще минут пятнадцать под звон перестегиваемых цепей — и вот уже Абдулова кабина с цистерной стоят на дороге всеми колесами.
Пока угандиец сматывал цепи, я незаметно для себя принял решение — даже не задумываясь, даже не подозревая о необходимости что-то решать. Я подобрался к Бейкеру. Нельзя ли вернуться с ним обратно в Торит? Я устал бояться, а на Бейкера я просто запал, он был для меня сейчас самым надежным покровителем на земле. Наверное, он, слушая мои мольбы о спасении, мысленно покрутил пальцем у виска. Для него-то это обычный рабочий день. «Ну а то!» — ответил он на непривычно свободном английском. Я собрал вещи, со страхом сообщил сомалийцам, прикидывая, вступится ли Бейкер, если они набросятся на меня, обидевшись на неблагодарность или еще на что. Но они, кажется, только огорчились, а от денег, предложенных пропорционально условленной с Абдулом сумме, отмахнулись. Осознав, что бить они меня не собираются, я проникся к ним несказанной теплотой,
Мы тронулись, держа курс обратно на запад, сомалийцы исчезли за горизонтом. Трактор тарахтел размеренно. Я спросил у Бейкера, сколько мы сегодня проедем и докуда доберемся к вечеру, и он ответил: «Не знаю. Километров пятнадцать в час мы делаем, но все зависит от того, что будет на переправе и не застрял ли еще кто». Это обнадеживало: он не обещал мне заведомо невыполнимое «сегодня — Торит», не обманывал, не запутывал. Честно сказал «не знаю», четко и ясно обрисовал возможные затруднения. Я влюбился в него еще больше.
Через несколько миль, когда я уже начал приходить в себя, сзади распустилась цепь. Пустяк, возни Бейкеру с угандийцем на несколько минут, не больше. Выбираясь из кабины, Бейкер сунул руку под сиденье и со словами «О, подарочек!» перебросил мне манго, одно дал угандийцу, одно взял себе. Пока они водворяли цепь на место, я отошел в тень и привалился к кабине.
Может, когда-нибудь я доживу до глубокой старости, пройдя долгий путь, полный раздумий, переживаний и впечатлений. Но сколько бы их ни накопилось за плечами, следующий после этого миг я всегда буду вспоминать с невероятным восторгом и благодарностью. Я откусил манго, рот наполнился соком, а глаза — слезами, и я впервые за много дней почувствовал себя в безопасности.
Постскриптум. Несколько лет спустя локальные стычки между севером и югом переросли на юге в жестокую кровопролитную войну, которая привела к гибели (в основном от голода) двух миллионов мирных жителей, породила миллионы беженцев и море сирот, — при практически полном равнодушии Запада. Почти достроенная силами Wimpy дорога была разрушена, саму компанию, как и почти все остальные западные представительства, из Южного Судана выдворили. Джубу и Торит, занимаемые по очереди то правительственными войсками, то повстанцами, осаждающая сторона постоянно изматывала блокадой и голодом. Топоса зверствовали на суданско-кенийской границе, налетая главным образом на лагеря беженцев. По обширным документальным свидетельствам разных гуманитарных организаций, порабощение и продажа черных южан северными арабами вновь расцвели пышным цветом.
В периодических репортажах о суданской войне я всегда выискиваю, не мелькнет ли где Катире, нет ли плохих новостей о крошечном лесозаготовительном поселке на краю плато Иматонг. И раз таких новостей нет, можно считать, что там по-прежнему танцы в белом каждый вечер, а высоко над поселком в туманном лесу прячутся мои деревни и поселяне все так же охотятся на обезьян и растят кукурузу, недосягаемые для выжженной пустыни. И эта маловероятная возможность меня несказанно греет.
Часть III Тревожное взросление
15. Павианы. Смутное время
В самодисциплине самцы павианов не сильны. Способность к отсрочке вознаграждения и дух коллективизма тоже не их конек. Равно как и доверие друг к другу. Сплотившаяся ради свержения Саула клика продержалась целое утро, а потом распалась на группировки, в которых началась грызня в прямом и переносном смысле.
Несколько месяцев в стаде творился бедлам. Иисус Навин, Манассия, Левий, Навуходоносор, Даниил и Вениамин, безусловно, составляли теперь высокоранговую когорту: при социальном взаимодействии, например, любой из них доминировал над юнцами вроде Давида, закадычного приятеля Даниила. Однако между собой они определиться не могли. Ранги тасовались ежедневно. Левий, в схватке одержав верх над Даниилом, мог демонстративно воспользоваться его правами раз десять за остаток дня, но уже на следующее утро они с Даниилом менялись местами. По итогам нескольких месяцев Манассия мог торжествовать над Навуходоносором, но при этом выигрывать только в 51 % контактов, а не в 95 %, как в более стабильные времена. В стаде царил хаос. Все что-то замышляли, часами сколачивали коалиции, которые распадались в первые же минуты перехода к делу. Почти в 40 % случаев после распада бывший партнер превращался в заклятого врага. Число стычек зашкаливало, как и число ран. Всем было не до еды, не до груминга, о спаривании просто забыли. Крупные государственные стройки заморожены, почту доставляют с перебоями.
Постепенно — в том же году — обстановка стабилизировалась, иерархия доминирования более или менее оформилась, однако в течение ближайших трех лет в стаде раз за разом появлялись слабые альфы, не задерживающиеся в статусе вожака. Хотите знать, насколько все было плачевно? В какой-то момент на вершине иерархии очутился Вениамин. Занесло его туда чудом, и верховодил он недолго, один раз спарился с Деворой на пике набухания ее половой кожи, один раз победил Манассию в схватке — похоже, по чистой случайности. Как и следовало ожидать, он оказался не из тех, кто способен выстоять в активном соперничестве. Его зашкаливало, он не вылезал из истеричных метаний. Оскалится на кого-нибудь угрожающе и тут же удирает. В один критический момент попытался спрятаться за Девору: продемонстрировав катастрофическое незнакомство с эволюционным учением, он попробовал прикрыться от угроз Манассии киднеппингом и выбрал для этого валькирическую Девору. Девора ответила тумаком. С досады Вениамин пошел гонять зебр, а после одной напряженной стычки полдня сидел на дереве и обламывал ветки, пружиня на них всем весом. Однажды он решительно приблизился к Манассии со спины, пока тот дремал, и угрожающе зевнул во всю пасть прямо у него над ухом. А потом в панике пустился наутек, когда Манассия шевельнулся с таким видом, будто сейчас кто-то у него схлопочет.
Вениамин явно не внушал никому доверия. Как-то раз стадо проходило через узкий просвет между двумя чащобами, Вениамин шествовал во главе. Вообще-то у павианов самцы независимо от ранга редко возглавляют походы — точнее, за ними редко кто-то следует. Самцы не ориентируются в обстановке, они пришли в стадо сравнительно недавно. Следуют обычно за старыми самками. И вот Вениамин, не оборачиваясь, шествует по тропке между чащобами. Тем временем две старухи- родоначальницы, Лия и Ноеминь, решают свернуть в дебри, и все остальные сворачивают за ними. Вениамин, раздуваясь от гордости, дефилирует мимо джипа и наконец оборачивается. «А-а-а, ужас-кошмар, куда все подевались?!» Пометавшись в панике, Вениамин, окончательно сбитый с толку, заглядывает в поисках шестидесяти с лишним павианов под мой джип.
Чтобы укрепить свой ранг, Вениамин сколотил коалицию с Иисусом Навином, который поддерживал его в статусе альфы. Однако мягкотелость Вениамина оказалась заразной, и вскоре уже оба неприкаянно слонялись вокруг в истерически взвинченном состоянии. Главным соперником, дышавшим им в загривок, был Манассия, но, к несчастью для него, свергнуть сложившуюся коалицию, даже такую разболтанную, в одиночку невероятно трудно. Классическое противостояние выглядело так. Вениамин заигрывает с дамой, Манассия молча и расчетливо выписывает вокруг пары постепенно сужающиеся круги. На очередном витке в круг вваливается суматошно мечущийся Иисус Навин в роли помехи, путающейся у Манассии под ногами. Чуть погодя, не в силах больше выдерживать давление Манассии, Вениамин с Иисусом Навином сматывают удочки и, теряя на бегу соломенные шляпы и фибровые чемоданы, увлекают поджавшую губы красотку подальше в лес, чтобы там начать все заново. А через несколько дней брачными играми будет заниматься Иисус Навин при далеко не блестящей тактической поддержке Вениамина.
Однако при всем очаровании обоих такой союз был обречен на недолгую жизнь. Недели через три коалиция Вениамина и Иисуса Навина сгорела в пламени невротизма — это было скорее усталое отречение, чем открытый захват престола. В статусе альфа-самца утвердился Манассия, а вскоре за ним — молодой и катастрофически ранний Даниил. После этого ситуация стала еще более неопределенной, открывая возможность для недолгого воцарения Нафанаила, только что пришедшего в стадо. Нафанаил был исполином, самым крупным и тяжелым из всех попадавших под мой шприц-дротик, при этом без капли честолюбия и агрессии. Он повергал всех в трепет уже одной своей массой, так что, естественно, ему предложили должность альфы. На самом же деле он был большим плюшевым мишкой, созданным для того, чтобы укачивать детей в огромных лапищах или раздавать из бездонных корзин мармеладки за примерное поведение. Во многом он тяготел к духовному родству с Исааком, другом Рахили, который привычно самоустранялся от любого неприятного социального взаимодействия. Наскоро воздав должное череде наложниц, он решил, что пусть самцы дальше соперничают друг с другом без него. Он добровольно сложил с себя полномочия альфы и удалился на покой — играть с молодняком. И хотя я ни разу не засек его за раздачей мармеладок, он здорово навострился подбрасывать детенышей в воздух и ловить, нередко рискуя рухнуть всей своей массивной тушей под весом карабкающейся на него малышни.
Так сменяли друг друга альфы в эти смутные годы. Замечательное время, открывающее богатые возможности для любой самки с мозгами. У всякого, кто наблюдает все эти павианьи брачные игры, неизбежно возникает вопрос: может ли самка хоть как-то влиять на то, с кем в итоге окажется? На заре приматологии считалось, что нет. По строго линейной модели 1960-х, если в стаде есть самка в состоянии эструса, с ней будет спариваться альфа-самец. Если в какой-то день таких самок окажется две, они достанутся альфе и следующему за ним, а если три… Ну и так далее по разнарядке. Для самки тут веселого мало. С кем вы предпочтете встречаться — со сволочью Навуходоносором (к этому времени уже достигшим относительных иерархических высот) или низкоранговым Исааком? Ответ очевиден. Самки павианов, как выясняется, в своих симпатиях руководствуются вполне рациональными стремлениями: например, держаться подальше от того, кто тебя лупит. Но поди останови самца, дважды превосходящего тебя размерами. Если альфа — сильный доминирующий самец и заинтересован в самке, то он ее, скорее всего, получит, хочется ей того или нет. Но если у него есть слабина, то находчивая самка сумеет ее нащупать. Можно, например, вертеться и изворачиваться, когда самец пытается на тебя влезть. Можно потихоньку удалиться, пока самец, голодный и изнуренный приставаниями к тебе, присаживается перекусить и перевести дух. Или вот самый яркий пример войны на изматывание: как-то раз с Рахилью, находящейся на пике набухания половой кожи, заигрывал Иисус Навин — Манассия угрожающе нарезал круги, Вениамин путался под ногами. Рахиль явно не пылала страстью ни к кому из троих. Поэтому она часами напролет раз за разом методично проворачивала ту же комбинацию: направиться к Манассии, тем самым вынуждая Иисуса Навина вклиниться посредине, а Вениамина затем между Манассией и Иисусом Навином, тогда Иисус Навин ее оттеснит или Манассия отступит, обстановка разрядится. И Рахиль снова направится к Манассии. В конце концов, соперничающую троицу этот балет доставал настолько, что они уматывали на простор — драться. А Рахиль радостно подсаживалась к Исааку.
Богатые возможности открывались и для соседнего стада. Половина самцов в моем стаде были ранены, хандрили, строили козни или не отошли еще после утренней драки — где уж тут объединять силы. Соседнее стадо временами наведывалось вытеснить их из леса — исключительно ради вредности, без всяких видимых причин. Невероятное зрелище — хоть и огорчительное, если вы болеете за мою команду: полторы сотни павианов, которые мчатся по лесу вопя, огрызаясь, преследуя друг друга, петляя и отбиваясь. Постоять за себя в этих стычках у моего стада получалось плохо. Навуходоносор и Манассия, потрепав и доблестно обратив в бегство двух-трех захватчиков, решали вдруг, что теперь самое время подраться друг с другом. Туда же ввязывался Иисус Навин, ненадолго отвлекшись от ухлестывания за Деворой, которую тут же пытался увлечь в укромный уголок Нафанаил, прерывая погоню за соседским самцом. Духом коллективизма в стаде и не пахло, и однажды утром соседи-налетчики с треском выдворили моих павианов из леса уже к половине девятого утра. Потоптавшись на опушке, наши побрели в поле и весь день там что-то безучастно жевали, а на ночлег, впервые на моей памяти, устроились в другом месте, за милю от прежнего, скрючившись на тщедушных акациях. Через несколько дней им удалось заново закрепиться в своем лесу, однако еще не один сезон соседнее стадо безжалостно гоняло их по округе.
За это время случилось несколько примечательных перемен в составе. Исчезли старик Аарон, молодой Урия и Левий. Левий два года спустя обнаружился в другом стаде за тридцать миль от моего и выглядел вполне довольным жизнью. Подозреваю, что остальные двое тоже нашли себе новое прибежище. Пропал и чудаковатый бедолага Иов — этого, скорее всего, растерзали гиены. Манассия кочевал из моего стада в соседнее, ни там, ни там ничего особенно выдающегося не совершив. На смену выбывшим пришло несколько новеньких. Рувим — дюжий самец, которому, впрочем, не суждено было продвинуться в иерархии. Из года в год, стоило ему после долгих маневров наконец вырулить на решающий поединок, как в критический момент он, задрав хвост, в панике улепетывал. Как-то раз, когда мимо, провожаемые полным равнодушием остальных, проходили гиены, Рувим притаился в траве, не выдавая себя ничем, кроме торчащего зада и вздыбленного хвоста. Так что приходилось признать, что Рувим — попросту трус. Кроме него, стадо приняло в свои ряды дряхлого старика с покалеченной задней лапой, которого я назвал Хромым. На нем отыгрывался каждый, кто был замечен в косвенной агрессии, и каждый ублюдок, желавший выместить злобу. Чуть погодя к стаду примкнул Десна — еще более дряхлая развалина (если такое можно вообразить), чем Хромой, только вдобавок без зубов и потому неизвестно каким чудом до сих пор не погибший. Десна очутился на полступени ниже несчастного забитого Хромого, который тут же утратил любые прежде завоеванные симпатии, поскольку норовил при каждом удобном случае напуститься на Десну. Смотришь на этих двоих, которые по-прежнему, хоть и вполсилы, соперничают, изворачиваются, лавируют, и поневоле задаешься вопросом: кто они, что у них в прошлом? Какой район Серенгети держал в страхе Хромой много лет назад? Убивал ли слюнявый доходяга Десна кого-нибудь в драке? Может, они были знакомы в те незапамятные времена? Может, Хромой и Десна — единственные уцелевшие участники некоего экстраординарного события? Помнят ли они о нем сейчас?
За этот период пополнение в стаде наблюдалось еще дважды, и оба случая были нетипичны: новенькие были самками. Обычно самки проводят всю жизнь в одном стаде, четверть века выстраивая сложные отношения с родней, друзьями и недругами. Так что если самка переходит в другое стадо — значит на прежнем месте ей совсем не стало житья. Обе новенькие напоминали то ли политических беженок, то ли забитых жен. Все началось в тот день, когда мое стадо встретилось с соседним во время кормежки у реки. После короткой перебранки — вопли, рявканье, угрозы, беготня и суета с обеих сторон — все вернулись к трапезе. А я краем глаза заметил в противоположном стане взрослую самку, которая метнулась вдоль берега и юркнула за куст.
Чуть погодя она метнулась за другой куст, ближе к моему стаду. Ее сородичи уже направлялись в обратный путь наверх по склону — это был период, когда соседи больше не претендовали на лес. Еще минут десять, еще один рывок за следующий куст, ее стадо тем временем переваливает за хребет. И наконец, перебежчица врывается в самый многочисленный кружок моего стада.
У нее максимальная фаза набухания половой кожи — возможно, как раз овуляция. Что показательнее, у нее две свежие раны от клыков: одна на бедре, другая на морде. Очередная представительница женского пола, которая, наверное, предпочла бы век не слышать ни о каком эстрогене. Готов спорить, что причина побега из стада была как-то связана с ее эструсом и сволочизмом самцов-павианов.
Стадо отреагировало предсказуемо. Самки принялись ее шпынять, самцы — обхаживать. Руфь с Деворой гоняли ее, Бупси оттесняла, не давая кормиться. Ионафан, позабыв о своей страсти к Ревекке, некоторое время подбивал клинья к новенькой, пока его не прогнал Рувим, которого в свою очередь оттолкнул Нафанаил. Самка успешно выдержала день-другой такого издевательства — видимо, по сравнению с тем, что ей пришлось вынести в собственном стаде, это был курорт. На третье утро набухание уменьшилось, стероидная отрава рассосалась, стало можно вернуться домой и какое-то время пожить спокойно. Так что новенькая убралась туда, откуда пришла, и больше о ней никто не слышал.
Вторая перебежчица совершила нечто еще более нетрадиционное. Она осталась. Подтолкнуть ее к такому бегству могло лишь что-то катастрофическое, так что ей пришлось оборвать все ранговые, родственные и дружеские связи в прежнем стаде. Эта самка тоже пришла на пике эструса, и у нее было порвано плечо. И недавно оттяпан кончик хвоста. Может быть, именно это и стало для нее последней каплей, вынудившей бежать. Куцехвостая осталась у нас и за неимением семьи или прослеживаемого рода угодила на самую нижнюю ступень женской иерархии. Там она задержалась на годы, ничуть не возражая против подчиненного положения. Характер у нее был суровый — что неудивительно, учитывая ее невероятную биографию. Она регулярно охотилась на кроликов, что самкам обычно несвойственно, и сражалась с самцами за остатки мяса от более крупной добычи. Вообще-то остальные считали ее ненормальной — все, кроме Адама, робкого самца-новичка, пришедшего почти одновременно с Куцехвостой: в ближайшие годы он будет неотступно следовать за ней по пятам с безответным обожанием.
Таким было смутное время — перевороты, контрперевороты, общий хаос. Я то и дело вспоминал одного коллегу, занимавшегося павианами, который после просмотра фильма «Политика у шимпанзе» — о том, с каким макиавеллиевским блеском эти обезьяны устраивали друг другу сладкую жизнь, — сказал: «Шимпанзе — это тот, кем хотел бы стать павиан, будь у него капля самодисциплины». Символическим отражением всего периода можно считать один врезавшийся мне в память эпизод. Дело было уже после распада худо-бедно сослужившей свою службу коалиции Вениамина с Иисусом Навином, когда они не то чтобы грызлись, но реагировали друг на друга нервно. Придя однажды в лес, я увидел, как Вениамин прячется за деревом, обхватив ствол обеими руками. Весь напряженный, настороженный и взвинченный. Время от времени он потихоньку высовывался из-за ствола и украдкой вглядывался во что-то на другом краю поляны. А потом опять резко скрывался.
Что это с ним? Перейдя на другой край, я обнаружил там Иисуса Навина, точно так же прятавшегося за смоковницей. Непонятно, как их угораздило, однако оба они, прикованные каждый к своему стволу, старательно прятались друг от друга, периодически выглядывая проверить, не предпринял ли что-то противник. Каждый, словно поймал другого в ловушку, но почему и зачем — не известно. Ни дать ни взять два спятивших лесных гнома-параноика. За деревьями они проторчали около получаса, пока Иисус Навин не заснул, привалившись к стволу, тогда освобожденный Вениамин ускользнул на цыпочках.
16. Закрученные когти и царь Нубийской Иудеи
К концу смутного времени нестабильной иерархии в стаде у меня наметились ощутимые исследовательские успехи. Теперь я точно знал: если есть выбор, низкоранговым самцом лучше не становиться. Постоянно повышенный уровень основного стрессового гормона свидетельствовал о том, насколько несладко им живется, раз возникает стрессовая реакция. Иммунная система у них функционировала хуже, чем у доминирующих особей, в крови содержалось меньше «хорошего» холестерина, отмечались косвенные признаки повышенного давления. Я уже примерно представлял себе, почему возникают эти связанные с рангом различия. Чем, например, обусловлено пониженное содержание «хорошего» холестерина у подчиненной особи — его меньше выделяется в кровь или выделяется он в таком же количестве, как у доминантов, но расходуется быстрее? Похоже, что первое. Или, скажем, другой пример: у людей в клинической депрессии часто повышен базальный уровень того же стрессового гормона, что и у низкоранговых самцов. Я приходил к выводу, что гиперсекрецию у таких павианов обусловливает тот же комплекс изменений в мозге, гипофизе и надпочечниках, который вызывает гиперсекрецию у страдающих депрессией людей. Кроме того, я выяснил, что при стабильной иерархии самый высокий уровень тестостерона вовсе не у доминантов. Самый высокий уровень тестостерона обнаружился у драчливых и неуравновешенных молодых самцов на пороге зрелости. Это открытие меня очень радовало, поскольку опровергало одну из догм, утвердившихся в некоторых научных группировках: а именно, что тестостерон плюс агрессия равносильны социальному доминированию.
При таком научном прогрессе мне оставалось только признать, что я уже не юнец. Я приближался к возрастному рубежу, за которым Джерри Рубин перестал бы мне доверять[10]. Больная спина окончательно стала реальностью и таскать бесчувственных павианов стало изрядно тяжелее, полуденную жару я выносил куда хуже прежнего, а во время последнего перелета даже пустился всерьез обсуждать со знатоком-туристом целебное воздействие овсяных отрубей на уровень холестерина (дело как-никак происходило в 1980-е). Возраст сказывался еще и в том, что с каждым годом меня все больше воротило от риса, бобов и тайваньской скумбрии. К моему удивлению и счастью, теперь меня финансировали с регулярностью, позволяющей слегка разнообразить рацион более деликатесными продуктами. Но, поскольку вкусы мои с возрастом тоньше не стали, прогресс не пошел дальше бесчисленных банок сардин и ящиков спагетти, которые предполагалось чередовать со скумбрией, рисом и бобами.
Самым верным признаком того, что я слегка возмужал, была моя диссертация и два года постдиссертационной практики. В научном мире это означало, что ты теперь болтаешься между небом и землей: студенческие скидки в кино тебе уже не положены, а студенческие кредиты уже пора выплачивать. При этом настоящей работы у тебя по-прежнему нет (постдиссертационная практика — это этап прозябания в роли подмастерья, призванный на несколько лет отсрочить выход на практически не существующий рынок труда).
Разумеется, ученая степень для всех моих знакомых в буше была пустым звуком. Прежний мой статус «учащегося» всегда немного смущал их. С одной стороны, в Африке лишь старикам удается что-то отрастить на подбородке, поэтому моя густая борода наверняка воспринималась подсознательно как признак преклонного возраста (то есть хотя бы где-то за сорок). С другой стороны, в учениках здесь ходят дети, максимум лет до десяти, потом родителям становится нечем платить за школу, и ребенка забирают заниматься чем-нибудь более полезным: например, пасти коз. Так что я был ходячим противоречием: скоро тридцать, по внешним атрибутам старик, по статусу дитя.
Мужчин масаи — моего приятеля Соирову, например — в основном интересовало, когда мой отец в этой самой деревне под названием Бруклин выдаст мне наконец причитающееся как наследнику стадо коров, раз я уже больше не школьник. Рода с подругами выведывали более насущное и более интересное: когда я обзаведусь женой и детьми? Допытывались с такой настойчивостью, словно Роду на это подрядила моя мама лично.
Такие вопросы были свидетельством моего сближения с деревней Соировы и Роды — оно отчасти объяснялось недавней передислокацией лагеря. В прежние годы я стоял выше по течению реки, за стеной кустарниковых прибрежных зарослей, которые отгораживали лагерь от масаи, снующих на противоположном берегу, за пределами заповедника. Отличное местоположение, но с одним крупным изъяном: теперь лагерь отлично просматривался из заповедника. Как раз был наплыв туристов, поэтому в самый неподходящий момент (перетаскивание бесчувственного павиана, купание в реке, заседание в кустах по естественной надобности) на меня сваливались японцы на микроавтобусах, щелкающие камерами и выясняющие, где тут сфотографироваться с носорогом.
В итоге я перебрался вниз по течению, ближе к деревне, оказываясь у нее на виду. Зато от просторов заповедника мой закуток на берегу теперь отделяла массивная древесно-кустарниковая стена, вынуждая любой транспорт кружить по извилистым тропам меж кустов. Уверенный, что через эти дебри проберется только бывалый покоритель буша вроде меня, я разбил лагерь. Разумеется, не прошло и дня, как по свежим следам моих шин ко мне прикатил первый микроавтобус с японцами, выискивающими носорога.
В результате мне по-прежнему с завидной частотой приходилось позировать с бесчувственными павианами для туристских фото, но теперь уже в двух шагах от деревни Роды и Соировы. Женщины, каждый день направлявшиеся через лагерь за хворостом, останавливались поболтать, хотя я знал меньше десятка слов на масайском, а они столько же на суахили и еще меньше на английском. Ребятня, забросив своих коз, торчала в лагере в надежде, что я буду раздавать воздушные шарики или пускать мыльные пузыри. Старики заглядывали ко мне во время ежедневного обхода окрестностей — справиться о здоровье моих неведомых родителей и в тысячный раз безуспешно попытаться выпросить мои часы в подарок.
Благодаря такому близкому соседству я оказывался посвященным в самые разнообразные сплетни. Экскурсовод-британец из соседнего лагеря крутит с какой-то туристкой, пока жена в Англии ухаживает за умирающим родителем. Сама по себе ситуация банальна и неинтересна: немалая доля экспатриантов, работающих в заповеднике с туристами, явно следовала давней британской традиции времен Кенийской колонии — в два счета спиваться, заводить любовниц и, что хуже, превращаться в невыносимо занудных бахвалов. Интересно другое — негласное единодушное одобрение его шашней: любому местному приятно видеть, что даже у белых в почете вековой обычай подыскивать себе вторую жену.
Еще интереснее были фантастически противоречивые слухи о юноше из третьей отсюда деревни, который драил котлы на гостиничной кухне: его соблазнила и увезла в Америку ненасытная туристка, явно чокнутая. С одной стороны, сама мысль о том, что парню приходилось с ней спать, вызывала у рассказчиков брезгливость. И расизм здесь совершенно ни при чем. Просто у нее кожа на лице облезает (ну да, на солнце обгорела), она древняя, как горы (то есть лет сорок), а поскольку парня в постель затащила сама — значит, она не иначе как обернувшаяся гиеной ведьма, наверняка даже сохранившая клитор. С другой стороны, парень теперь в Америке может жить не тужить: воды, молока и коровьей крови у него там хоть залейся. (Байка еще не один год ходила по масайским деревням и среди не менее охочих до сплетен исследователей, работавших в заповеднике. Американка была невероятно богатая и на самом деле не просто чокнутая, а натурально спятившая. С парнем она несколько лет забавлялась на своем ранчо и учила его управлять самолетом. А когда, наигравшись, уже собиралась его бросить, он сделал типично масайский ход в духе «реальной политики» и бросил ее сам, подцепив в Монтане светскую львицу побогаче, помоложе и посумасброднее. В конце концов он, разбогатевший и отъевшийся, вернулся к соплеменникам, у которых теперь вызывал безмерное восхищение: как же, он ведь пережил ужасы, сделавшие его воином из воинов.)
Кроме того, были сплетни о событиях в соседней деревне. От Роды и нескольких ее подруг я узнал о недавнем уговоре между двумя тамошними старейшинами. Оба подыскивали себе новых жен и, как давние и верные боевые товарищи, придумали отличный ход — выдать друг за друга младших дочерей. Мнения дочерей, разумеется, никто не спрашивал, равно как и мнения первых жен (то есть матерей девочек), но говорили, что без воплей и побоев, предваривших покорное принятие отцовской воли, не обошлось. Интересен здесь не сам предмет сговора — для масаи такое в порядке вещей. Удивительны признаки пробуждающегося масайского самосознания, судить о которых можно по возмущению и гадливости, с которыми Рода и ее свита отзывались о происходящем. «Мерзкие старейшины», — фыркали они.
Но самое примечательное, что сплетни ко мне стекались и из самой деревни Роды. Примерно в ту пору, когда мантия альфы соскользнула с плеч Иисуса Навина прямиком на плечи Манассии, мы с Самуэлли и Соировой как-то вечером сидели у костра. Большие полиэтиленовые мешки, в которых пришла последняя партия сухого льда, Самуэлли набил листьями, и теперь мы ужинали, развалившись на этих псевдоподушках. В меню, насколько я помню, были рис, бобы и тайваньская скумбрия. К ним мы добавили соуса чили.
— Хороший чили.
— Правда, хороший.
— Острый.
— Правда, острый.
В зарослях взвыла гиена.
— Гиена.
— Ага. Правда, гиена.
— Хороший рис с бобами. Острый.
Такой у нас выдался вечер.
В небе сияла полная луна; я любовался ею так откровенно, что Соирова спросил, бывает ли луна в Штатах. Ага, бывает, но не такая хорошая. На десерт были сухофрукты — деликатес, перепавший нам от заезжего американца. Самуэлли и Соирове они в общем пришлись по вкусу, но они так и не поняли, зачем сушить фрукт, если можно вволю есть его сырым. Я объяснил, что зимы в Штатах очень холодные, повсюду снег, поэтому созревшие фрукты мы засушиваем и едим их остальные месяцы в году, когда ничего не растет и все сидят по домам. Из моего ломаного суахили они вынесли, что у американцев по полгода зима, которую они проводят в пещерах, питаясь одними только сульфированными ананасовыми дольками.
Мы принимаемся травить байки. Я рассказываю об американце, который родился на другой планете, обладает огромной силой и умеет летать, сражается за справедливость и свободу, но должен скрывать свою истинную сущность и для прикрытия работать в газете, а еще в него влюблена одна женщина. Самуэлли вспоминает, что вроде слышал уже эту историю от миссионеров. Потом Самуэлли и Соирова рассказывают про ндоробо — легендарное здешнее племя охотников-собирателей, занимающее в местной культуре ту же нишу, что у нас цыгане. По слухам, они крадут детей кикуйю, масаи и кипсиги и выращивают их как охотничьих псов — не кормят, чтобы не росли, водят на четвереньках и натравливают на антилоп-редунок, а вождь ндоробо надзирает за охотой, в обезьяньем обличье колобуса прыгая за ними по деревьям. «А вождь потом превращается обратно в человека?» — спрашиваю я. — «Да». — «А украденные дети и вправду становятся охотничьими псами или просто изображают псов?» Самуэлли и Соирова не знают, и никто не знает, потому что всякого, кто их увидит, эти дети загонят и загрызут. «А вам тогда откуда все это известно?» — спрашиваю я. От ндоробо, они выходят из леса торговать с факториями и хвастаются: «Видите редунку? Еще утром бегал, его загнала наша охотничья стая из кикуйских детей».
Мы продолжаем нагнетать страхи. Я рассказываю про Кропси, дикаря в горах Катскилл, убивавшего детей топором, — эту байку слышит каждый бруклинский бойскаут-«волчонок» в первом же летнем лагере на первом же костре. Жил, значит, этот Кропси в лесу с дочкой. Как-то раз бойскауты рубили неподалеку дрова, и дочку убило отлетевшим по неосторожности топором. Кропси повредился рассудком и убежал в леса, теперь без устали рыщет вокруг и выискивает, кого из бойскаутов зарубить тем самым топором, и как раз сегодня он наверняка где-то рядом, подбирается все ближе и ближе и ищет — тут нужно вскинуть фонарик в лицо слушающему — тебя! На Самуэлли подействовало. Он снова и снова повторяет: «Ищет — тебя» — и светит фонариком себе в лицо. «А сколько лет Кропси?» — интересуется он. Сто двадцать, у него железные зубы и глаза горят огнем. «А горы Катскилл где, здесь рядом?» Нет, к северу от Нью-Йорка.
Соирова рассказывает про масаи, который спятил: он ушел к гиенам и живет как они. Ходит голый, забыл человеческий язык, убегает от людей, на рассвете его иногда можно разглядеть издалека, когда он с гиенами раздирает добычу.
Теперь у нас действительно идет мороз по коже, потому что эта история — чистая правда. А потом Соирова делится последними вестями про спятившего — по масайским меркам, подозреваю, настолько страшными и позорными, что большинство предпочло бы посторонних в них не посвящать. Недавно этот человек прокрался ночью в деревню, и собаки подняли лай, почуяв его гиений запах. Пока до него добрались мужчины, он успел задрать зубами козу и теперь разрывал ей подбрюшье. Он был весь покрыт гиеньим дерьмом, в котором вывалялся, а ногти на ногах у него отросли такие длинные, что закручивались. Прямо как у Говарда Хьюза в период затворничества.
Как раз в то время, когда в деревню наведывался человек, возомнивший себя гиеной, мне рассказали про человека, возомнившего себя царем Нубийской Иудеи. История явилась прямым, хотя и неожиданным, следствием подавленной несколько лет назад попытки переворота, а поведал мне ее на редкость энергичный шотландец, сидевший на крыльце гостевого дома г-жи Р. в Найроби, где я часто бывал.
Шотландец сопровождал своего соотечественника, который работал над благотворительным гуманитарным проектом на краю пустыни. Им нужно было отвезти какой-то агрегат коллеге к черту на рога на север — километров на сорок дальше блокпоста, за которым начиналась пустыня.
Приезжают они в эту дикую дыру: пустошь, безлюдье, жарища, только обожженные зноем кочевники бродят вокруг со своими стадами. Вот и блокпост — крошечная деревушка. С этой стороны — последние рубежи провинциальных округов, подчиняющихся правительству. Впереди — другая половина страны, Северный пограничный округ, бескрайняя раскаленная пустыня, кишащая кочевниками и пустынными головорезами, в чьих руках находится все, кроме редких государственных застав и конвоев, без которых передвигаться не положено. Шотландцы надеются, что их не будут держать тут в ожидании конвоя — им ведь совсем недалеко, проскочат по-быстрому и сразу назад.
Блокпост. Несколько глиняных хижин, в редких островках тени распластались разомлевшие от зноя местные из племени самбуру. Пальмы, песок, гравий, одна слегка подкрашенная хижина под жестяной крышей и при флаге. Правительственное учреждение. Как правило, на таких заставах в глухомани начальствует некто полуголый, полуголодный, позабытый-позаброшенный. Многие встреченные мной чиновники, казавшиеся ополоумевшими от солнечного удара и пытающиеся выглядеть подтянутыми в своей обтрепанной униформе, чуть не кидались мне на шею и несли всякую ахинею, радуясь возможности поговорить с кем-то, кроме самбуру, пожаловаться на судьбу, выпытать новости о внешнем мире. Шотландцам, однако, достался экземпляр с зализанными гелем волосами в стиле американской «негритянской» прически 1950-х, в костюме-тройке с накрахмаленной до хруста белой сорочкой, при галстуке и трости. Сановник. Шотландцев без единого слова, но с большим официозом препровождают к столу, за которым он заседает. Над головой у него фотография президента. Это непременный для казенных учреждений официальный портрет: президент сидит за столом, занеся ручку над документами, на миг оторвавшись от важных государственных дел. Наш сановник принимает точно такую же позу, заносит ручку, вскидывает голову и на безупречном английском объявляет, что готов выслушать, зачем к нему пожаловали.
Шотландцы объясняют, куда направляются и что им бы разрешение на отправку прямо сейчас, чтобы не дожидаться конвоя. Сановник задает формальные вопросы: откуда они сегодня выехали, давно ли в Кении, как им здешняя погода. Они отвечают — и тут наш сановник с суровой безапелляционностью заявляет, что они с юга Шотландии. Да, все верно. Посмотрев на них вприщур, он безошибочно называет ту область, откуда они родом. «Понимаете, — говорит он, — когда я проходил подготовку в Британских ВВС, у меня было много знакомых шотландцев». Это все объясняет: как правило, если ты работаешь на правительство, то оказаться в такой дыре можно, лишь крупно проштрафившись. Сколько начальников застав и блокпостов в Северном пограничном округе были сосланы туда за то, что слегка перебрали на рабочем месте или не смолчали насчет коррупционных махинаций, и за прочие оплошности в том же духе. После предпринятой несколько лет назад попытки переворота, возглавленной военной авиацией, всех, кто избежал виселицы, сослали в такие вот богопротивные места. Из бывших военных летчиков, значит, наш сановник.
Поднявшись вдруг из-за стола, он возводит очи к небу и, сделав несколько энергичных пассов руками, издает, как потом выясняется, старинный боевой клич на почти — но все же не совсем — правильном гэльском. В ознаменование того, что приступает к инспекции. Он приказывает шотландцам убрать волосы со лба — для освидетельствования. Точнее, чтобы определить, имеются ли у них криминальные наклонности. Они покорно делают что велено, слегка мандражируя и иррационально ощущая себя преступниками, — сановник, задумчиво хмыкая, мрачно созерцает их лбы. Потом они должны встать и изо всех сил сжать ему запястье — тоже какая-то проверка, суть которой сановник объяснять отказывается. Из-за жары и общей неразберихи противиться им даже в голову не приходит. Они опасаются только одного — завалить экзамен.
Сановник разворачивает полномасштабное расследование. Заглядывает в паспорта (от которых никак не зависит, отпускать ли владельцев без конвоя), приходит в восторг, увидев у одного отметку о поездке в Египет из Кении. Неверно расшифровав номер рейса «Египетских авиалиний» из Найроби в Каир — всего-то на пару цифр промахнулся с номером и временем, — он произносит короткую вдохновенную речь об этническом разнообразии населения Александрии, о видах обитающей там рыбы и ненормально позднем зарастании родничка у здешних детей, благодаря чему у египтян и вырастал крупный мозг, позволяющий конструировать пирамиды.
В еще больший экстаз он впадает, обнаружив, что шотландцы побывали и в Греции, и заявляет, что сейчас он прочтет им штамп на чистом греческом, определит, в каком городе его ставили, а потом расскажет, какие люди там живут. Шотландцы в ожидании. Надпись на штампе сановник читает правильно, с безупречным, надо полагать, произношением. По его словам, это название маленького городка на островах — хотя на самом деле это просто «въезд» по-гречески. В городке, рассказывает он, много древних развалин, здоровые козы, но черепа у людей маленькие. А про Средиземноморье он все так хорошо знает, потому что в прошлой жизни был там наместником Тиберия.
Ага! Наконец-то он продемонстрировал свое истинное лицо и всю глубину своего помешательства. Говорит, у него тут два миссионера-итальянца, которых он держит под домашним арестом, поскольку они не верят, что он был наместником Тиберия. (Потом, уже в пути, шотландцы натыкаются на этих двоих — они везут на север карбюратор для своих главных конкурентов, трех бородатых миссионеров-коптов, которым время от времени действительно удается обратить в христианство какого-нибудь кочевника-анимиста, тот, впрочем, неизменно погибает затем от рук разъяренных соплеменников. Раз итальянцы направляются к коптам, значит, под домашним арестом они быть никак не могут. Насчет притязаний сановника относительно Тиберия им ничего не известно, а не поладили они с ним, поправив чуть-чуть неточно названную им дату основания Ватикана.)
Видимо, приняв немое изумление шотландцев за благоговейный трепет, наш сановник вдруг воздвигается величественно над столом и возвещает, что на самом деле он по-прежнему наместник Тиберия и собирает здесь в пустыне армию верных, с которой вскоре двинется на юг брать Найроби, и тогда президент сбежит и «будет щипать траву, как зебра в Серенгети», Найроби он намерен сжечь и сровнять с землей, чтобы даже диким зверям неповадно было туда соваться, а сам он потом вернется сюда, на заставу, объявит о возрождении империи и станет царем всей Нубийской Иудеи.
Он распаляется все сильнее, тяжело сопит и устремляет взор в дальнюю даль. Потом, иссякнув, садится, достает из ящика пропуск, разрешающий передвигаться самостоятельно, вновь воодушевляется и размашисто подписывает пропуск своей фамилией на греческом в латинской транскрипции, заявляя, что перед этой подписью трепещут все головорезы северной пустыни. Шотландцы удаляются, оставив его в прежней президентской позе и государственных думах о Нубийской Иудее. Когда в тот же день они по возвращении снова проходят блокпост, сановник пропускает их одним взмахом руки, погруженный в свои мысли и не подавая признаков узнавания.
17. Гайанские пингвины
Настроение было препаршивое. А ведь с утра все так чудесно складывалось с павианами. Юного Даниила, незаслуженно рано оказавшегося в положении альфы из-за неустойчивой иерархии в стаде, нещадно гонял громадина Нафанаил, и мне казалось, что как раз сегодня он сделает наконец решающий шаг и они с Даниилом поменяются рангами. Для приматолога это великое дело — воочию увидеть смещение одного альфы другим. Исторический момент. Даниил все утро демонстративно пересаживался при каждом приближении Нафанаила, чтобы тот исчез с глаз долой и, надо полагать, с лица земли. Нафанаил между тем подбирался все ближе, то и дело угрожающе «зевая». Все шло к выяснению отношений, и мне не терпелось посмотреть, как же поступит Даниил — сдастся и примет подчиненную позу, обозначая смену власти, или вступит в поединок, в котором от него мокрого места не оставят.
И вот тут, на самом интересном месте, мне пришлось отлучиться. Нужно было съездить в гостиницу, встретить грузовик из Найроби и забрать бесценную партию сухого льда, необходимого для заморозки образцов крови. Так что все веселье пройдет без меня.
В гостинице выясняется, что лед, конечно же, из Найроби не отправили. Потратив час, я наконец дозваниваюсь по радиотелефону до поставщика льда в Найроби. «Простите, — говорит он, — мы забыли». Забыли? Из месяца в месяц они еженедельно шлют мне лед, а тут вдруг забыли. Моего запаса льда хватит на день, дальше образцы начнут размораживаться, а сейчас у меня есть всего лишь малоубедительное обещание поставщика, что завтра лед будет.
Продираясь через колючие заросли на выезде из гостиницы, в третий раз за неделю прокалываю колесо. Вечная морока. Сначала добраться до мастера, который ремонтирует шины. Но на рабочем месте — на гостиничной заправке — его нет, он где-то в административной части, отсыпается. Вернуться туда, обменяться неизменными фразами со всеми двадцатью встреченными по дороге: сначала обсудить с каждым здоровье родителей, а потом каждого заверить, что нет, походные ботинки не отдам, самому нужны. Наконец мастер найден, и через каких-нибудь полтора часа постоянно прерываемой работы шина заклеена. Он выдает мне талон, который я отношу в кассу на другом конце гостиничной территории, кассир заполняет квитанцию: «1 прокол, 40 шиллингов» — ее нужно подписать у старшего и только после этого оплатить. Все для того, чтобы механик не подхалтуривал на работе и не клал деньги в карман мимо кассы. Кассир ищет клочок бумаги и потом на нем письменно подсчитывает, что с моей 50-шиллинговой купюры мне причитается 10 шиллингов сдачи, и я перехожу к следующему этапу — оттаскиваю шину на другой конец лагеря, чтобы мне ее накачали. Механик в одиннадцать утра, разумеется, сидит в баре пьяный и с видимым усилием объясняет мне, что шину он накачал бы хоть сейчас, но ключ от мастерской, где находится воздушный шланг, у его брата, а брат на этой неделе в отпуске. Вот незадача. Я с глубочайшим сожалением объявляю, что теперь мне светит неделю жить на гостиничной заправке, и механик, уцепившись за подсказку, говорит, что может быть — ну вдруг — ему удастся отыскать запасной ключ, а не продам ли я ему тогда свои часы по сходной американской цене? Поторговавшись и согласившись в итоге на значок с надписью «Голливудская чаша», механик обращает все ту же бурную энергию на мою шину и заканчивает дело всего за каких-то полчаса. Специалист с манометром отыскивается мгновенно и давление в шине замеряет в два счета, вселяя в меня робкую надежду. Но шина оказывается недокачанной. С меня хватит, лучше поеду так, чем снова искать мастера по шлангам, который наверняка уже давно в баре, выменивает значок на порцию чего покрепче.
Покончив с делом, я натыкаюсь на мрачного Ричарда: вчера, под конец месяца, выдавали зарплату, в связи с чем егеря нагрянули собирать дань с персонала — шатались по административной части пьяные и вооруженные, с Ричарда стрясли больше обычного, да еще прихватили половину лекарства от язвы, которое я привез из Штатов и всеми правдами и неправдами протащил через таможню. Ну вот на кой этому охраннику непонятное лекарство, кроме как просто покуражиться? Ричард заявляет, что пойдет спать.
С досады, сытый по горло этой ерундой, я срываюсь. Еду за тридевять земель в другую гостиницу, где — о счастье — меня никто не знает, и спускаю бешеные деньги на их шведский стол. Наедаюсь чуть ли не до бесчувствия, налегаю на красное мясо. Вот до чего дошло.
Сижу, улыбаюсь туристам в надежде, что и меня примут за одного из них, с официантами разговариваю только по-английски. Выискиваю какого-нибудь американца, поболтать. О «Янкиз», например, или о последних фильмах, или о том, как классно было бы сейчас слопать бигмак (который я никогда в жизни не пробовал).
Вроде отпустило. Пристыженный, еду обратно. По дороге традиционно задаюсь вопросом: что делают африканцы, когда их вот так же до печенок достаю я со своими дурацкими культурными традициями?
Ну да, хорошо, мы все делаем великое дело — изучаем друг друга, познаем мир, воплощаем культурный релятивизм, но мне тут все чужое, и я для них для всех тоже чужой, и рано или поздно очарование экзотики у всех пропадает. Не устаю удивляться, что здесь не расцветает более открытая вражда между культурами, племенами и расами, которые в этих краях то и дело задевают друг друга локтями — и без того сбитыми и саднящими от довольно неприятного прошлого. Правда, есть область, где вражда цветет пышным цветом, — мошенничество, многочисленные разновидности которого я успел отследить за годы. Все они направлены против представителя чужой культуры и замешаны на откровенной вражде. Вот самые красочные примеры.
Отшлифованная до блеска махинация, с помощью которой африканские чиновники в аэропорту раз за разом дурят ненавистных богатых индийцев. Семья найробийских индийцев возвращается из-за границы: летали навестить родственников в Лондоне или Торонто. Таможню они неизменно заваливают горой коробок — там, как правило, вожделенная электроника, которая за морем стоит гораздо дешевле, чем в Кении. Суровый таможенник вопрошает, заполнялась ли перед поездкой некая выдуманная им на ходу декларация. Картинно ужаснувшись тому, что нет, не заполнялась, он намеревается конфисковать весь багаж и держать его, пока чертям не станет тошно. Индийцы, тоже ужаснувшись, осторожно интересуются, нельзя ли как-то уладить так некстати возникшую неувязку. Чиновнику на лапу втихую передается приемлемая сумма и, возможно, какой-нибудь милый пустячок из коробок с электроникой — в знак признательности и в качестве сувенира. Индийцы благополучно проходят таможню…
…И тут же их останавливает полицейский. Который, как выясняется, участвует в спецоперации по выявлению коррупции в таможенных органах и только что наблюдал прискорбный факт передачи взятки должностному лицу. Теперь индийцам светят штрафы, тюрьма, экзекуции — и задержание всей электроники до второго пришествия и лыжных кроссов на улицах Найроби. Индийцы, запаниковав не на шутку, осторожно интересуются, нельзя ли как-то уладить это досадное недоразумение. Еще одна взятка, еще один милый электронный пустячок в знак любви и достигнутого взаимопонимания. Индийцы выходят из зала ожидания…
…И их тут же останавливает военный, выявляющий коррупцию в правоохранительных органах…
Я, разумеется, на этот развод тоже попался. Один из сотрудников гостиничной секьюрити упросил меня привезти ему американские часы — оплата по вручении. Я согласился без особого энтузиазма: гостиничного стража я почти не знал и особой симпатии к нему не испытывал, но решил сделать доброе дело. Часы на таможне не декларировал, чтобы уйти от бешеного налога на импорт и сохранить разницу в цене, ради которой все и затевалось. Часы получены, мы со стражем братья навек, деньги он отдаст завтра. Назавтра, однако, разражается катастрофа: беда, говорит он, новые часы случайно заметил охранник заповедника и потребовал форму IV-7-бис или как ее там, подтверждающую легальный ввоз часов в страну. Если формы не будет и охранник выяснит, кто притащил в заповедник эти контрабандные часы, мне грозит тюрьма, экзекуции и конфискация всех павианов Серенгети до очередного всемирного оледенения, но он, страж, доблестно молчал как партизан и никого не выдал, зато договорился уладить дело с помощью скромной суммы, так что, может, она у меня найдется при себе? Я, как идиот, выкладываю деньги и назавтра на меня обрушивают еще более страшные вести: гостиничного стража с охранником при передаче денег застукал полицейский, и если он докопается, кто ввез на вверенную ему территорию эти неблагонадежные часы… Тут я наконец послал вымогателя лесом.
Еще на одну испытанную аферу я попался в первый же свой день в Найроби много лет назад. Это был, конечно, честный угандийский студент, который бежал от Иди Амина и горел желанием, свергнув диктатора, установить милый сердцу облапошиваемого туриста режим. Для американцев версия следующая: «Понимаете, мне нужно вернуться в Уганду и сражаться за свободу, как вы сражались за независимость от британцев, учредить двухпартийную систему и двухпалатный парламент, чтобы мой народ стал свободным, проводил предварительные выборы за несколько лет до окончательных выборов и созывал партийные съезды, где чирлидерши в коротких юбочках и богатые старики в соломенных шляпах будут распевать песни про победителя. Мы обретем свободу и сочиним новый государственный гимн — "Прекрасная Уганда". Небес простор прекрасен твой[11] и так далее».
Афера разыгрывалась еще не один год после свержения Амина — он был одним из немногих африканских государственных деятелей, чье имя и преступления что-то говорили среднему туристу.
И, наконец, развод под названием «миссис Мортлейк», правдоподобно провернуть который мог только тонкий знаток британцев. Представьте, что вы, экспат, паркуетесь на стоянке около рынка в пригороде британской колонии. По возвращении вы натыкаетесь на кенийца, расплывшегося в придурковатой подобострастной улыбке, не виданной с тех времен, как здесь расхаживали британские колонизаторы в пробковых шлемах. Кланяясь и лебезя, он вручает вам записку на розовой бумаге лиловыми чернилами:
Дорогой мистер Чивер!
Я заметила вашу машину на стоянке — в нее лез какой-то хулиган, и я отправила своего мальчика-слугу Фрэнсиса за ней присмотреть. Здешние сорванцы совсем стыд потеряли. Не откажите в любезности — у меня как раз закончилась вся мелочь — дайте Фрэнсису денег на автобус до Карена [белая спальная окраина, названная в честь Карен Бликсен, автора книги «Из Африки», — там расположен ее дом-музей]. Сердечное спасибо, увидимся на скачках в воскресенье.
Миссис Мортлейк (Теодора)
Черт, думаете вы, я же не мистер Чивер (наверняка плешивый колониальный сморчок в носках с подвязками, с мундштуком и апоплексическим цветом лица), а несчастный Фрэнсис, охранявший вашу машину как цепной пес, застрял тут по прихоти скаредной миссис Мортлейк (Теодоры), и самое малое, что вы можете сделать для бедолаги, — дать ему денег на билет до дома, где его небось без конца гоняют за чаем и печеньем. Фрэнсис, не забывая кланяться и лебезить, отбывает с наличностью в кармане на поиски следующей жертвы.
Схема, как видно, нетривиальная. Нужна розовая бумага, лиловые чернила и умение писать затейливым почерком британской матроны. Ну и потом, какое унижение приходится терпеть, притворяясь «мальчиком» Фрэнсисом. Такое под силу только настоящим профи.
Этот развод практиковался довольно долго и прекратился только после того, как один прозревший, вместо того чтобы дать «Фрэнсису» деньги на автобус, запихнул его в машину, завез, проделав неблизкий путь, в этот самый Карен и оставил там. Не исключено, что для пущего взаимного правдоподобия прозревший выражал всяческую признательность и, возможно, даже пламенную страсть к миссис Мортлейк (Теодоре).
Примерно в то время мы с Лоуренсом Гиенским обсуждали, как быть с проблемой, назревшей в его лагере — в нескольких милях выше моего по течению. Соседи-масаи, с которыми у Лоуренса как-то не заладилось, водили свои бесконечные стада через реку в двух шагах от лагеря, будто не было вокруг бесчисленных бродов. Коровы унавоживали речную воду, крушили лагерь и вообще изрядно мешали. Никакими окриками и руганью добиться от мальчишек-пастухов, чтобы увели свою чертову скотину, не удавалось.
Напрашивалось очевидное решение: на глазах свидетелей уйти в палатку и, выдержав драматическую паузу, появиться в солнечных очках и тюрбане из полотенца, словно какая-нибудь Хедда Хоппер[12]. При себе иметь череп гиены, заполненный детской присыпкой, плюс маркер. Печатая шаг, подойти к самой крупной корове в стаде и схватить ее за рога. Со зловещей церемониальной торжественностью начать сеять детскую присыпку из глазниц и затылочного отверстия гиеньего черепа. Прямо на голову корове. Во все горло распевая припев из «Облади-облада». По завершении данной стадии обряда начертать что-нибудь маркером на коровьем боку. Я лично голосую за пронзенное стрелой сердечко с надписью «Винни плюс Анжела». На этой стадии масайские пастушата, затаившиеся в кустах, уже обделываются от страха: они перестарались, дело зашло слишком далеко — на коровах теперь лежит страшное белое заклятье. Через миг, по нашим расчетам, в лагере даже духа коровьего не останется.
Идея так и не была реализована по очевидной причине: стоило так сделать, в тот же вечер заявилась бы делегация старейшин известить нас, что захворай в ближайший месяц хоть одна корова, наша песенка спета, ведь это мы навели на скот порчу.
Потом была еще одна схема, ее разработал Ричард, чтобы масаи наконец оставили его в покое. Хотя Ричард отлично ладил с Соировой и некоторыми другими масаи, его здешняя жизнь и работа по-прежнему складывались напряженно: Ричард и Хадсон принадлежали к земледельческим племенам, а с земледельцами масаи традиционно враждовали.
Вообще своей устрашающей репутацией масаи обязаны высокому росту и внушительному виду, общеизвестной склонности собираться несметными грозными толпами, а также виртуозному владению копьем. Но, по моему глубокому убеждению, у земледельцев масаи вызывают мандраж в основном потому, что пьют коровью кровь.
Дело в том, что это стандартный стратегический запас у большинства африканских скотоводов-кочевников. Бредешь куда глаза глядят со своими коровами и козами, питаешься их молоком и кровью. Просто и приятно. Берешь каждый день очередную корову и, полоснув яремную вену под бешеный рев, набираешь полную тыкву-горлянку теплой крови. Рану залепляешь нашлепкой из глины, корова недельку ходит слегка вялая. Кровь можно пить свежей, можно дать ей свернуться, можно смешивать с молоком, можно заливать ею хлопья на завтрак. Она позволяет не обременять себя охотой или выращиванием чего-то, по-видимому, обеспечивает довольно сбалансированный рацион и наверняка экологически чистая. Однако кенийских земледельцев от нее наизнанку выворачивает.
Нет, время от времени появляется какой-нибудь смельчак, решающий проверить, что масаи в ней нашли. В частности, отец Хадсона как-то раз, вернувшись домой после целого дня раздумий в поле, объявил, что семейство должно попробовать коровью кровь: ну не зря же масаи пьют эту дрянь, раз столько лет кладут нас на обе лопатки. Все в ужасе — звучит комедийная музыкальная заставка, сцена обретает стилистику пятничных ситкомов: «О нет! Наш папа стал масаи и поит всех коровьей кровью! Смотрите сегодня в восемь вечера в сериале "Мой отец банту"». Дальше предсказуемо. Под издевки и изумленные возгласы отец Хадсона хватает свою единственную — и очень перепуганную — буренку и едва не прирезав ее насмерть (из-за неумения останавливать кровь), устраивает цирк. Пить эту мерзость остальные отказываются наотрез. Отец делает несколько осторожных глотков, хвалит изумительный вкус и больше к этой теме не возвращается — веселенькая финальная заставка возвещает конец серии.
Если не считать таких периодических эскапад, больше практически никто в этих краях на обычай масаи не покушается, и масаи не без удовольствия действуют на нервы окружающим этой своей привычкой. Смысл придуманного Ричардом развода заключался в том, чтобы переиграть масаи на их же поле и привести в содрогание его собственными пищевыми пристрастиями.
Началось все случайно. Я усыпил дротиком Нафанаила. Некоторое время спустя в тот же день я подвозил одну из масайских женщин домой из гостиничной клиники и по дороге остановился выпустить павиана. Когда сам занимаешься этим постоянно, то успеваешь забыть, насколько непривычно это зрелище для других: ты подъезжаешь к укрытой в тенистой роще клетке с диким павианом, с уханьем и верещанием прыгаешь по крыше и потом выпускаешь узника на волю. У моей попутчицы глаза на лоб полезли. Нафанаил вдобавок выбрался слегка осоловевший и неприкаянно топтался вокруг, словно теленок. В порыве вдохновения я выхватил из машины ветку и пошел рядом с дезориентированным Нафанаилом, постукивая его веткой по крупу, как масаи, когда погоняют коров. Посвистывая, как погоняющие коров масаи, я провел его мимо машины и все больше нервничающей женщины, а потом, направив павиана к сородичам, вернулся за руль и, никак не комментируя произошедшее, довез попутчицу куда требовалось.
Само собой, на следующий же день по всем деревням на реке прокатился слух, что мы с Ричардом пасем павианов как коров, ну и, разумеется, от них и питаемся. За подтверждениями к Ричарду вскоре прибежала перепуганная масайская ребятня. «Ты доишь павианов и пьешь их молоко?» — «Сомневаетесь?» «А больше ничего?» — уточнили они, не решаясь даже вслух произнести свои худшие опасения. «И еще много чего», — злорадно намекнул Ричард, у которого уже начал вырисовываться план.
Тщательно все продумав, мы выбрали подходящий день. Мы крутились в лагере, предварительно анестезировав дротиком нового пришлого самца Рувима. Масайская ребятня крутилась с нами, особенно девочки, которые не давали прохода Ричарду, как не дают прохода десятилетние девчонки спасателю в летнем лагере. Они с привычным интересом смотрели, как мы берем кровь у павианов: от умения вскрывать вены и контролировать кровоток у масаи зависит хлеб насущный, поэтому в кровопускании они разбираются получше многих флеботомистов. Столпившись вокруг, они советовали, какую вену пунктировать, изумлялись катетерам-бабочкам и антикоагулянтам. Они уже знали, что потом мы крутим кровь в страхолюдной ручной центрифуге, отделяя сыворотку, и замораживаем в сухом льде. Но на сей раз у нас были иные намерения.
Оставшуюся в центрифуге эритроцитарную массу — густую кровь павианов — мы с Ричардом у всех на виду сливаем в кружку, которую решили пожертвовать для розыгрыша. Мы удаляемся к палатке, остолбеневшая масайская ребятня с ужасом смотрит нам вслед. По дороге, пока никто не видит, я подменяю кружку. Почтительно поклонившись друг другу, будто на японской чайной церемонии, мы по очереди отпиваем, восторгаемся отменным вкусом, вытираем рот и блаженно гладим себя по животу.
И все. С тех пор масаи считали, что мы пьем кровь павианов, и наверняка это стало главной причиной тому, что они уже не так часто цеплялись к Ричарду. Ребятня обступает Ричарда с вопросами. «А как это на вкус?» — «Вкусно, как человеческая». Они отскакивают, отплевываясь и зажимая рты. «А он тебе за это платит?» — интересуются дети, имея в виду меня. «Нет, он мой друг, я сам спрашиваю, нельзя ли мне попить крови его павианов». — «У тебя коров, что ли, нет?» — «Нет, у моего отца не было коров, поэтому мы начали пить кровь у павианов».
Самая жалостливая из девчушек несвойственным масаи жестом гладит Ричарда по руке: «Ты, наверное, самый бедный человек в мире, раз у тебя нет коров». Ее подруга, далекая от понимания и сочувствия, фыркает: «Людоеды!» — и обе удаляются.
И разумеется, стоило мне прийти к выводу, что в Кении все пытаются кого-нибудь облапошить, как, возвращаясь домой после очередного полевого сезона, я вляпался в самое роскошное мошенничество в своей жизни. Эта история стоила мне внушительной части заработка, а прежде, чем все закончилось, мне пришлось изрядно потрепать нервы, сидя глухой ночью на заднем сиденье двухдверной машины в очень и очень неспокойном районе. Переднее сиденье занимал один из мошенников, выдающий себя за болтливого нью-йоркского водителя, который всякого успел навидаться, сзади, рядом со мной, сидела вторая мошенница, выдающая себя за милую простушку из Гайаны, которую отправили сюда с плантаций навестить в больнице серьезно покалеченного брата. Я, не подозревая ни малейшего подвоха, вел светскую беседу с фальшивой гайанкой, увлеченно обсуждая флору и фауну ее прекрасной родины. Она, как выяснилось потом, не имела о них ни малейшего представления, но, к счастью для нее, я разбирался в них еще хуже.
Когда я заявил на них в полицию, оказалось, что развод этот древний и отработанный, о чем свидетельствовала отдельная папка нечетких фотопортретов анфас-профиль, подписанная «Гайанка / Водитель». Рядом с ней теснились папки с надписями «Слепая монахиня с больной собакой-поводырем», «Сиамские близнецы, выигравшие в лотерею» и «Приезжий халиф со свитой в поиске хорошего ресторана ближневосточной кухни за любую цену». Полицейские, заполняя бланки, то и дело под разными предлогами переспрашивали, откуда я: «Как вы сказали, Простофилли, Айова? Лопухтаун, Канзас?» — вынуждая меня раз за разом признаваться, что я вообще-то коренной житель Нью-Йорка. Они зубоскалили и отрывались по полной.
Но это уже другая история.
18. Когда павианы сыпались с деревьев
Разумеется, стоило мне возомнить себя стреляным воробьем по части разных мошеннических схем — даже нью-йоркских, — как тут же я клюнул на очередную подставу. Причем на этот раз просчитался по-крупному, а не просто не сумел раскусить очередного парня, позарившегося на мои часы. У меня было две секунды на то, чтобы решить вопрос жизни и смерти, но, поскольку я понятия не имел, что за ерунда вокруг творится, решение принял неверное.
Произошло это в тот же сезон, когда на вершине иерархии утвердился Нафанаил, решительно отобравший полномочия у Даниила в то самое утро, когда я все профукал со своей проколотой шиной. Мы с Ричардом делали неплохие успехи в стрельбе дротиками, и материал лился рекой. В лагерь на несколько недель приехал Мучеми — ветеринар-исследователь из Найроби за пробами. Это эвфемизм: Мучеми изучал шистосомоз у приматов, и ему нужны были образцы кала павианов. Мы с радостью предложили свои услуги и даже согласились предоставить собственные экскременты. В один прекрасный день мы анестезировали за утро целых четверых животных, установив личный рекорд, и въехали в лагерь с победным ковбойским гиканьем. У нас сложился продуктивный режим: каждое утро мы укладывали дротиками павианов, без помех проводили эксперименты, обрабатывали пробы крови, помогали Мучеми распихивать фекалии по пакетикам. Сезон обещал быть чудесным.
И тут в лагерь явился управляющий. Это обычно не к добру: визит управляющего чаще всего значит, что у тебя отзывают разрешение, что требуется какая-то услуга или что скоро сюда нагрянут отдохнуть-поохотиться саудовские шейхи и поэтому назойливым исследователям лучше на это время скрыться с глаз долой. На этот раз речь шла о просьбе. Управляющий был на самом деле заместителем главного управляющего, в тот момент находившегося в отпуске. Заместителю явно хотелось продемонстрировать рвение и расторопность, поэтому, узнав о некой проблеме, он сразу прибыл сюда с тем, чтобы я ее решил. С ним несколько раз связывался по рации администратор туристского лагеря на дальнем конце противоположного края заповедника. Вроде бы на павианов, живущих рядом с лагерем, напала какая-то болезнь. И они умирают пачками. «Сыплются с деревьев». Администратор требовал разрешения пристреливать умирающих.
Управляющий дал согласие и теперь просил меня разобраться, что там с павианами, излечима ли болезнь и не представляет ли опасности для туристов. Все это очень похвально, но ощущения у меня были двойственные. По многим причинам. Вроде бы радоваться надо — человек в форме дал мне поручение. Интересное и ответственное. И Мучеми с его ветеринарными навыками очень кстати оказался под рукой. Но была и досада: у Мучеми время ограничено, равно как и у меня.
Однако, безусловно, ехать надо. Это просьба управляющего, который может прикрыть мой проект в любой момент по велению своей левой пятки, поэтому заработать у него несколько очков будет нелишне. И может, мы принесем пользу. К утру мы, прошерстив складскую палатку, собрали необходимое. Клетка, духовая трубка, дротики, анестетик. Вакутейнеры, иглы, шприцы. Центрифуга и еще ручная про запас. Гематологический микроскоп, предметные стекла, красители. Автомобильный инвертор и дополнительный автомобильный аккумулятор — для аппаратуры. Палатки, спальники. Охапки разных антибиотиков, антисептиков, болеутоляющих. Ватные палочки, наборы для бактериологических исследований, перчатки, маски, хирургические костюмы, хирургические пилы, инструменты для аутопсии, канистры с формалином.
Выехали мы рано. Мучеми когда-то проводил исследования в том секторе заповедника — собирал дерьмо хищников — и теперь предавался ностальгическим воспоминаниям о своей юности. Мы пели. День выдался изумительный. В нас бурлили восторг и предвкушение предстоящей работы над задачей, мы были довольны и горды собой и проделанными приготовлениями. Я надеялся, что власти предержащие тоже проникнутся, увидят, какой я ценный кадр, и перестанут докапываться насчет разрешений на исследования. Мы воображали себя ветеринарным спецназом, разрабатывали стратегию, клялись, что в случае осложнений мобилизуем весь приматологический центр в Найроби, и к нам сбросят парашютные десанты ветеринаров-патологов в ослепительных оранжевых комбинезонах. Мы витали в облаках, пока не решили, что самое логичное для начала — попросить администратора пристрелить одного из умирающих павианов, чтобы провести тщательное вскрытие. Боже, мы ехали стрелять павианов… Тревога, полночи не дававшая мне заснуть, нахлынула с новой силой: что мы там найдем и скольких придется убить, пока мы подберемся к разгадке? А вдруг я оплошаю? А вдруг это и вправду эпидемия? Интересно, как я потом, после всего, буду вспоминать это утро? «Прекрасный был день, мы пели, Мучеми рассказывал нам про львиный помет…»
Администратор встречал нас на парковке. Типичный «старый белый охотник» — точнее, молодой, но все равно типичный. Прежде чем продолжить, скажу прямо, что я о них думаю. Это, разумеется, один из легендарных типажей, порожденных эпохой колонизации Африки, — хемингуэевский человек, матерый охотник, суровый, но справедливый к туземцам, нутром чует все звериные уловки, способен ночь напролет надираться в стельку в найробийском кабаке, а на рассвете трезвым как стеклышко выехать на сафари. Спасет струсившего клиента в критический момент на охоте, соблазнит его жену и так далее и тому подобное. Уверен, что большинство из них такими не были, однако роль они отыгрывали именно такую, поэтому мои претензии не беспочвенны. Когда охота в Кении постепенно зачахла, а потом была окончательно запрещена, настало время для нового витка легенды. Охотничья закалка не исчезает: глубочайшее уважение к достойным соперникам-животным, приобретенное в ходе бесконечного противостояния, приводит в конце концов к тому, что охотник устает убивать и решает беречь. На склоне лет, обратив свои обширные знания на пользу охраны животных, такие люди становятся управляющими в заповедниках. Среди легендарных управляющих периода независимости Восточной Африки точно имелось несколько бывших охотников, теперь в основном африканизировавшихся и ушедших на покой либо оставшихся руководить туристскими лагерями и сафари-фирмами. Не знаю. Точной статистики в этом отношении у меня нет — сколько из них занялись охраной природы, скольким просто нравилось валить зверя, какому проценту действительно удавалось покрасоваться с неприступным видом на фоне восходящего солнца в саванне. Просто я не фанат такого антуража.
Старые охотники (они же управляющие, они же администраторы туристских лагерей) в свою очередь, как правило, не жалуют зоологов. Подозреваю, что они видят в нас прямое оскорбление — приручение их дикой Африки. Они — старые суровые британцы, они пришли сюда первыми, без всякой специальной подготовки, они постигали законы буша на собственной шкуре, самостоятельно выстраивая общую картину. Мы же в массе своей молодые американцы (уже очко не в нашу пользу) из каких-то немыслимых мест вроде Анн-Арбора или Квинса. Мы лезем сюда и пытаемся их буш «поверить алгеброй», формулами растительности, разглагольствуем, понимаете ли, об экосистемах и нишах. Мы бываем здесь наскоками (по сравнению с живущим тут всю жизнь охотником) и выхватываем для изучения крохотные частички: как опыляется некий вид растений, как передается некая болезнь у копытных, какая территория требуется кому-то там для выживания. Мы — слюнтяи с научными степенями, узнающие все больше и больше о все меньшем и меньшем, а в буше даже нос себе подтереть не способны. Они, вероятно, правы.
Отсюда моя предвзятость. При ближайшем рассмотрении администратор все-таки не тянул на старого белого охотника. И не из-за молодости. Старый белый охотник — это скорее состояние души, чем хронологический факт, среди таких людей есть и молодые, чью карьеру оборвал государственный запрет на охоту. Просто этот охотник был слишком коренастый, приземистый, щеки одутловатые, шея и торс начинают заплывать жирком. Слишком гладкий, ни морщинки. Ни намека на пропыленное дубленое лицо, которому рассказчик обычно придает непримиримое выражение, описывая, как Серенгети пошел псу под хвост с тех пор, как африканцы выперли старину Джока Марри. Зато наличествовали опасные, агрессивные тонкие усики, а прическа настолько напоминала плохую накладку, что не оставляла сомнений: волосы у него собственные. Непременные шорты и жилет цвета хаки, гольфы, нескончаемые сигареты, подчеркнуто британский выговор — все как полагается. Как его звали, не помню, а жаль, потому что это одно из немногих имен, которые я не стал бы здесь менять ради конфиденциальности.
Управляющий обещал предупредить по рации о нашем приезде и не предупредил. Я огласил администратору цель визита и сообщил, кто мы, стараясь держать официальный авторитетный тон и внушая, что сегодня все наконец могут заснуть спокойно: мы прибыли спасти ваших павианов. Он выразил восторг по поводу нашего появления, хотя обрадованным не выглядел. Его явно что-то тяготило, но что — не известно. Простор для догадок бесконечный. Может, осознал, насколько безвозвратно канули колониальные времена, раз теперь ему предстоит иметь дело с черным «доктором» Мучеми, которого раньше он в упор не видел. Может, его раздражало, что мы свалились на него без предупреждения, а может, это проявлялась общая неприязнь, которую вызывают у старых поселенцев такие, как я, — новоявленные варвары в их обжитой Кении.
Мы поболтали об объемах туристского бизнеса, о недавних дождях. Я спросил, в каком состоянии павианы. И тут я понял, что мы начали препираться. Он сказал, что да, было несколько больных, но найдем ли мы кого-то сейчас, он не знает.
— А разве они с деревьев не сыплются? — удивился я.
— Нет-нет, ничего подобного, просто несколько больных.
— Ах, простите, управляющий, наверное, что-то перепутал. Может быть, мы пока поищем павианов, посмотрим, как они?
— Думаю, это вам будет затруднительно, их обычно непросто отыскать, иногда они по несколько дней не показываются.
— Но управляющий вроде бы вел речь о стаде, которое обитает на лагерной свалке.
— Ну, в общем да. Наверное, можно там глянуть.
Вероятно, я чем-то его обидел, решил я. То ли его раздражает, что мы явились сюда героями, когда у него и так все под контролем, то ли ему показалось, что молодой, лохматый и несолидный тип вроде меня не способен ни на что толковое. Я по глупости решил, что надо как-то расположить его к себе, завоевать уважение.
Я изложил наш план. Отыскать павианов, присмотреться, прикинуть количество, возраст и пол заболевших. Потом, если есть совсем плохие, пристрелить и начать аутопсию, которая, возможно, покажет, в чем дело.
Администратор зашел за оруженосцем и ружьем, попутно объясняя мне, почему он берет именно эту винтовку. Я ничего не понял из его объяснений, а чем эта модель идеальна для стрельбы по павианам, и вовсе пропустил мимо ушей. С оружием у меня, как и следовало ожидать, отношения сложные. Было дело, несколько лет назад мы с Лоуренсом Гиенским убедили себя, что для безопасного передвижения через буш нам необходим двуствольный дробовик. Лоуренс его купил, и вот однажды мы, два бородатых еврейских хиппи из Беркли и Бруклина, выбрались на стрельбы. Выехали на пустошь, залепили уши жвачкой, в качестве мишеней расставили буйволиные черепа и консервные банки. Лоуренс по крайней мере умел эту штуку заряжать, знал технику безопасности и прочее, показал мне, наорал, когда я направил ствол себе на ногу. Все это, даже само прикосновение к ружью, отдавало чем-то мерзким, запретным, предательским и некошерным. Мы постреляли. Мне каким-то чудом удалось попасть в подброшенную Лоуренсом банку. Я принял его восторги с напускным равнодушием, но выдал себя на обратном пути, без умолку болтая о своем подвиге. Отстрелявшись, мы тогда убрали ружье навсегда и просто старались ходить по бушу осторожнее. И теперь я с уверенным видом знатока кивал на объяснения администратора, не вникая, чем продиктован его выбор.
Мы прошли через задворки лагеря: администратор — с оруженосцем, мы — с частью своей амуниции. Мимо кухни, складских хижин, жилья для обслуги, по тропе через высокотравье к густой роще. Ну да, самое место для свалки, подальше от глаз туристов. В заповеднике свалки имеются при каждой гостинице и лагере, хотя ни о какой сознательности в вопросах цивилизованного избавления от отходов речи не идет. Организаторы сафари, разбивая временные лагеря, просто сваливают весь мусор в реку. При стационарных гостиницах выкапывают большие открытые ямы, куда свозят все отходы — их потом отвоевывают друг у друга павианы, гиены и грифы. Соответственно, в каждом лагере или гостинице обитает штатное стадо помоечных павианов. Добывать пищу в других местах они уже не пытаются, ночуют на деревьях рядом со свалкой, укладываются поздно, дожидаясь вечерней партии мусора. В другой гостинице я одно время исследовал метаболические изменения у павианов, перешедших на питание отбросами — остатками куриных окорочков, ошметками говядины, киснущими кусками вчерашнего пудинга. Как и следовало ожидать, у приматов повысился уровень холестерина, инсулина и триглицеридов, в остальных метаболических показателях началась такая же свистопляска, как и у человека, который ест такой же шлак. Другая проблема со свалками состоит в том, что павианам не хватает ума разобраться, что таскать пудинг и куриные окорочка с помойки можно, а со шведского стола на открытом воздухе за обедом — нельзя, и павианы превращаются в докучливых налетчиков на гостиничные бунгало. А от скоплений человеческих отходов рукой подать до скоплений человеческих болезней, к которым у диких приматов нет иммунитета. Я уже с таким сталкивался, скорее всего, именно это происходит и в здешнем гостиничном стаде. Для тех, кто знаком с проблемами медведей и енотов, навещающих помойки в национальных парках США, это не новость, но африканские гостиницы такими вопросами не озабочены. Однако подробнее об этом — как-нибудь в другой раз.
Это была типичная гостиничная свалка. Вонючая до головокружения: от гниющего мусора, пропекающегося на солнце, исходили удушливые нагретые волны. Тянуло гарью от периодически сжигаемого мусора, каждое дуновение ветра взметало вокруг хлопья сажи и пепел. Среди куч бродили, что-то выклевывая, грифы и марабу, под лапами снующих грызунов звякали и бренчали консервные банки. В дальнем углу, на самой кромке под деревьями, в кустах предавались грумингу павианы.
Каждый раз, когда я наведываюсь на полевые участки к другим приматологам, при виде нового павианьего стада меня охватывает чуть ли не раздражение: этих я не знаю, я с ними незнаком. Как тут что-то оценивать, если я понятия не имею, кто есть кто, какие у них сейчас свары и разборки, кто здесь главные герои. Как будто читаешь первые страницы толстенного романа и чувствуешь легкое нетерпение, потому что пока не вник. Смотришь на стадо и рефлекторно пытаешься кого-то выделить из общей массы: так, у этого очень резкие черты и порвано ухо, тот хромает, этот похож на молодого Саула, только шерсть светлее. Кто из них подкинет мне историю, которая изменит все мои представления о павианах? Кто тут друг с другом в родстве? Какая у вас иерархия? Сколько времени уйдет, пока я прикиплю к вам так же, как к своему стаду? Проникнусь к кому-то любовью, как к Вениамину?
Но сюда мы приехали не за этим. Павианы, привыкшие к толпам ходящих по лагерю людей, ничуть не дичились. Из леска за свалкой они постепенно просачивались на опушку, поглядывая, не подкинут ли новых отбросов, и уже подобрались довольно близко, позволяя к себе присмотреться. Администратор периодически тыкал пальцем в предположительно нездорового кандидата.
— Вон тот, он, кажется, лысеет.
— Который? Этот? Да нет, просто ветром шерсть так забавно отдувает.
— А эта вроде хромает. Едва ноги волочит.
— Похоже, перелом. Возможно, от падения.
Он еще раз повторил, что заболевшие, наверное, уже сдохли и большая часть стада все равно сюда не приходит, так что я их не увижу.
На опушке тем временем показались новые. Самка с крупным детенышем на прицепе: она явно не хотела тащить на себе, а ему явно очень хотелось ехать. Детеныш канючил, пока мать, размахнувшись, не закатила ему оплеуху. Двое молодых самцов, которые, слегка поцапавшись и притворно понаскакивав друг на друга, решили переключиться на кого-нибудь помельче и сообща погнали в кусты вопящего подростка. Самка с набухшей половой кожей, не обращающая почти никакого внимания на нервного боязливого самца, который семенил за ней. В каждого появляющегося из кустов мы впивались взглядом, выискивая, словно гиены, слабых и увечных. От горящей свалки тянуло жаром, от вони тоже бросало в жар. Какое-то время спустя понимаешь, как утомительно просто стоять и смотреть, если всматриваться пристально.
Перед нами уже прошла, судя по всему, основная часть стада. И до сих пор я ничего особенного не увидел.
— Вроде пока все в порядке. Вы можете описать точнее, как выглядели заболевшие?
— Хрена лысого я вам опишу точнее! — ни с того ни с сего взорвался администратор. — Я не врач! Я этих ваших мудреных терминов не знаю! У меня в лагере забот по горло. Я просто вас с управляющим хотел выручить. Больное животное — оно и есть больное, а в описаниях я не спец!
Мне стало стыдно. Да, видимо, я действительно его обидел — свалившись как снег на голову, пытаясь произвести впечатление, дать понять, что в животных мы разбираемся и на нас можно положиться, отрекомендовавшись «это доктор М., а я доктор С.», козыряя прошлыми заслугами. Наверное, я его задел, разговаривал слишком свысока. Теперь ему неприятно, он вынужден оправдываться, что проявил недостаточную бдительность по отношению к заболевшим. Надо бы мне как-то потактичнее с ним. На деле мне следовало бы хоть на миг опомниться и переключиться на цинизм. Но я этого не сделал и совершил очередную ошибку. Я стал осторожно, помогая ему сохранить лицо, вытягивать подробности.
— Скажите, среди заболевших были отощавшие? Сильно похудевшие?
— Да-да, именно. Некоторые были совсем кожа да кости.
— А шерсть лезла клоками? И остальная выглядела тусклой и свалявшейся?
— Да, потому я и показывал того, с неправильной шерстью.
— Ясно. А заболевшие кашляли?
— Не все время, — пустился он рассказывать, — но когда кашляли, то долгим таким кашлем, глубоким, из самого нутра. Ясно было, что у них с легкими что-то.
Ну почему я не включил мозги при первой же тени подозрения? Что мне стоило спросить: «А не было ли у них такого ярко-лилового пятна на левом боку и мышечных спазмов, из-за которых они дергались, будто танцуют чарльстон?» — пусть бы он с готовностью подтвердил и это тоже. Нет же, я упорно подкидывал ему настоящие симптомы.
Я не знал, что и думать. Очень похоже на туберкулез, но тогда получается, что заболевшие из первой волны уже погибли. Это странно, туберкулез обычно такими четкими волнами не накатывает, но мало ли. Без активного случая, пригодного для вскрытия, трудно будет подтвердить мои подозрения и выяснить, какая это разновидность туберкулеза, чем она может быть вызвана и чем лучше лечить. Придется дожидаться следующей вспышки или начинать стрелять шприц-дротиками всех подряд, методично собирая материал для анализов, а на это уйдут недели. Застань мы болезнь в активной стадии, можно было бы начать работать.
Первым нужную особь заметил Ричард. Из рощи тянулась еще одна партия павианов — должно быть, последняя часть стада. Ричард негромко присвистнул, привлекая наше внимание, и молча показал на замыкающего, а потом, наклонившись, выгнул спину в подражание. Это был молодой самец. Худой, шерсть редкая, но ровная. Ступал он осторожно, на цыпочках, голова если и тряслась, то едва заметно. Главное, что у него была выгнута дугой спина. Не целиком, просто он слегка и как будто вынужденно горбился, отчего движения казались затрудненными. Негусто, но нетипично. Очень похоже на ранний признак туберкулеза у четверорукого примата: насколько я понимаю, когда легкие начинают сдавать и кислородный обмен нарушается, павиан инстинктивно выгибает спину, чтобы расширить грудную полость и впустить больше воздуха.
В целом он выглядел нормально — худой, но не патологически. Однако спину он заметно круглил.
Выйдя вперед, он уселся рядом с нами и принялся вертеться, поглядывая на нас, на свалку, на остальных, показываясь нам со всех сторон. Мы встрепенулись, насторожились.
— Вот так они и выглядят, — сказал администратор.
— В начале болезни?
— Да.
Я поймал себя на том, что мы перешли на шепот. Поинтересовался у Ричарда, что он думает.
— Спина точно выгибается.
— Но не сильно, чуть-чуть.
— Худой, но не то чтобы тощий.
Мы рассматривали павиана. Я мучился сомнениями. Да, спина выгнута, и да, он худой. Но, может, у него просто телосложение такое — что, нельзя? Лихорадки или болезненной заторможенности тоже вроде не наблюдается, но ведь я его не знаю и понятия не имею, как он ведет себя в нормальном состоянии.
— Ну что, берем этого? — прервал мои раздумья администратор. Он уже встал в стойку и взял ружье наизготовку.
— Дайте я на него еще посмотрю.
Я вгляделся, вспоминая все известные мне внешние признаки туберкулеза у обезьян. Прокрутил в голове перечисленные администратором симптомы. Посмотрел на павиана и на остальное стадо. На деревья, на марабу. Смахнул с щеки сажу, прилетевшую со свалки. Интересно, что подают сегодня в гостинице на обед? Я еще раз посмотрел на павиана. Он смотрел на нас.
— Ну что, стрелять?
Если это начальная стадия туберкулеза, мы хотя бы получим представление о разновидности, поймем, с чем мы имеем дело, пока болезнь не выкосила в одночасье всех павианов в этом районе заповедника. А если он просто худосочный? Нет, все-таки надо, пусть администратор увидит, что мы здесь не зря. А может, наведаться через неделю, посмотреть на этого павиана еще раз, проследить развитие болезни? Но администратор уже на взводе, мы отнимаем у него время, я и так действую ему на нервы, он хочет покончить с делом и вернуться к лагерным обязанностям. А если павиан просто худосочный и нескладный? Делать вскрытие всегда интересно, анатомия — это увлекательно. Черт, только бы не эпидемия туберкулеза. Или все-таки просто худосочный?
Я поймал себя на том, что прикидываю, какое имя дал бы ему, будь он в моем стаде.
— Сейчас уйдет. — Уже не шепот, администратор еле скрывает раздражение.
Павиан отвернулся. И кашлянул.
— Хорошо, — сказал я, — стреляйте.
Администратор присел пониже, вдохнул и выстрелил в павиана в упор. Раздался тихий хлопок, словно от игрушечного ружья. Павиан без единого звука молнией метнулся в кусты. Остальное стадо ринулось за ним, некоторые с воплями. Администратор промахнулся. «Надо разделиться, — крикнул он. — Найти его. Может, он ранен и далеко не уйдет!» Мы с ним двинулись в одну сторону, Ричард с оруженосцем в другую, Мучеми зашел с третьей. Но мы знали, что он промахнулся. Мы пробежались по тропам следом за удирающими павианами. Никаких следов крови, никакого визга, только тревожный клич, предупреждающий о нашем приближении. Обезьяны улепетывали быстро, явно перепуганные. Администратор возбужденно рыскал по кустам, перескакивая с одной тропы на другую: то к земле припадет, выискивая кровь, то задерет голову, выглядывая павианов в ветвях. Временами взмахом руки, чуть ли не сердитым, он приказывал мне не подходить ближе, а сам крался несколько шагов бесшумно, вертя головой во все стороны, хотя павианы уже усвистели от нас примерно на четверть километра. Потом администратор снова пускался бегом. Я только теперь почувствовал, что у меня колотится сердце и я задыхаюсь — похоже, я не дышал все то время, пока приглядывался к павиану.
Стадо давно исчезло, скрылось в чаще; никаких следов крови на тропах, никто не верещит, никто не застрелен. Администратор наконец признал, что промахнулся.
— Не попал. Куда там при таком ветре.
Он обливался потом. Я, собственно, тоже.
К нам подтянулись остальные. Все вымотались, молчали подавленно. На обратном пути к свалке администратор дал волю раздражению. Мы его явно достали.
— Ну, все смылись, вряд ли скоро вернутся. — Его тон подразумевал, что это мы во всем виноваты. — Ваша воля остаться: выясняйте, что можете сделать, но павианы тут наверняка еще долго не покажутся. А теперь, если вы не против, мне надо в лагерь, дел полно.
Я сказал, что мы походим еще по лесу, попробуем снова подобраться к стаду, посмотрим, вдруг что-то упустили из виду. Администратор пожал плечами — мол, флаг вам в руки — и удалился, сопровождаемый оруженосцем.
Мы с Ричардом и Мучеми углубились в лес. Все уже отдышались, вокруг воцарилась тишина, мы начинали шевелить мозгами. До нас наконец стало постепенно доходить, что же здесь творится. Ричард хотел поговорить со мной еще раньше, когда мы воссоединились после поисков. Оказывается, он успел перемолвиться с оруженосцем, пока они осматривали свою тропу, и тот сказал, что никаких больных павианов в глаза не видел. Ричард примерил по очереди несколько выражений лица, словно подлаживаясь под мою будущую реакцию: искреннее недоумение, замешательство из-за нестыковки сведений, а потом язвительное «так вот оно в чем дело». Мы остановились на последнем, будто нам было все уже ясно.
* * *
Мы медленно вышли из леса, отнесли снаряжение обратно в джип. Администратор появился, когда мы усаживались в машину. Я сказал, что он был прав, сегодня мы точно ничем не поможем, нас ждут другие дела, мы были бы счастливы остаться и продолжить разбирательства, однако надо ехать. Он согласился, поблагодарил за приезд, пригласил остаться пообедать — как раз когда мы уже завели мотор и уже почти тронулись. Мы отказались, усиленно его поблагодарили, обменялись рукопожатиями, уехали.
Пока не остались позади заросли, окружающие лагерь, и не открылась перед глазами саванна, мы не раскрывали рта. Как будто нам что-то мешало произнести хоть слово вблизи его владений.
Кому-то все же предстояло начать разговор и высказать то, что было на уме у всех. Это сделал Ричард.
— По-моему, он сочинил эту историю, что павианы болеют. Похоже, он просто любит пострелять в павианов и хотел, чтобы начальство ему разрешило.
Я согласился и хотел уже было назвать администратора гадом, но осекся. По крайней мере один его выстрел по павианам был сделан по моей команде.
19. Белый старик
Я торчал в туристском лагере, наблюдая, как заселяется группа американцев. Сквозь общий гомон — вопросы, оклики и адресованное персоналу «Эй, Джамбо!» — пробивался странный металлический голос. А вот и его обладатель — высокий, нескладный пожилой мужчина с великолепной длинной первобытной бородой и каким-то устройством, похожим на бритвенный прибор, в руке. Перед тем как что-то произнести, он подносил прибор, как я понял, к отверстию в горле. Губы шевелились, но монотонный металлический голос раздавался из этого вот приспособления: видимо, ему удалили трахею или гортань по медицинским показаниям, и теперь он пользовался голосообразующим аппаратом. Изобретение явно полезное и ценное — я с интересом отметил, что, несмотря на механический звук, в его речи неплохо угадывался сочный, чуть гнусавый южный акцент.
Днем оказалось, что владелец устройства стал предметом бурного обсуждения среди персонала, который пришел к единогласному выводу: у этого человека вся глотка механическая. Главным авторитетом выступал Малои, когда-то работавший в отеле в Найроби, а значит, бывалый малый.
— У этого белого старика нет глотки, там просто машина. Наверное, попал в аварию или его рубанули по шее мачете, и теперь у него нет горла, поэтому белые доктора поставили туда машинку. Теперь, когда ему нужно говорить, он берет другую машинку и вставляет в горло, чтобы включилась та, которая там. Вот почему у него такая борода — чтобы спрятать машинку, а то жене неприятно смотреть.
Ценные дополнительные доказательства поступают от Джона — бармена и разносчика напитков за обедом.
— За столом он ничего не пил. Я пытался ему что-нибудь продать, хотя бы содовую, он не пил. Даже воду. Машинку нельзя мочить, как радио. А то закоротит и заржавеет.
Все сочувственно кивают.
— Так что этот старик даже воду пить не может. Интересно, что он делает, когда пить хочется?
— Наверное, там пониже машинки еще одна дырка, куда он заливает воду. Поэтому у него такая длинная борода. У себя в номере заливает, когда рядом никого нет.
Все выжидающе оглядываются на Саймона, уборщика номеров, — ему поручается поиск соответствующих улик.
— Но он много ел, этот белый старик.
— Это чтобы питать машинку.
— Едой?
— Да, еда — это энергия, — говорит Касура, который много учился. — Чтобы батарейки дольше служили.
Логическое развитие дискуссия получает с неожиданной стороны — от хохмача Камау, которого обычно никто не слушает.
— Знаете, мне кажется, этот белый старик вообще не человек. По-моему, он весь целиком механический.
— Мы здесь серьезный разговор ведем, бвана, мы не дети, чтобы с нами шутки шутить.
— Нет, я серьезно. Я думаю, он вообще погиб в аварии и белые доктора целиком переделали его в машину.
Все с фырканьем отвергают бредовое предположение, Камау готовится отстаивать свою теорию с пеной у рта, но тут вбегает взбудораженный охранник с известием, что белый старик ушел на заправку. Пешком.
Всей гурьбой они вываливаются наружу, посмотреть издали. Старик движется медленным ходульным шагом, слегка прихрамывая.
— Смотрите, как он идет! Видите, у него механические ноги, — доказывает Камау, от которого по-прежнему все отмахиваются.
— Зачем ему на заправку?
— За бензином.
— Бвана, мы серьезно.
— Смотрите, он идет в магазин на заправке.
На это ответ есть у Саймона.
— Он за машинным маслом. Масло нужно лить в горло, чтобы машинка работала.
— Все правильно, моторы надо смазывать, — говорит Сулейман. Он водитель, поэтому в таких вещах понимает.
Старик скрывается в магазине, через несколько минут выходит и хромает в гостиницу. Едва он пропадает из виду, к нам из заправочного магазина летит взбудораженный Одиамбо.
— Он купил машинное масло, да? Ты видел, как он его пил?
— Нет-нет, не масло.
— Что же он купил?
— Я сперва даже не понимал, что этот белый старик говорит через свою голосовую машинку, но потом разобрал. Он купил две батарейки для фотоаппарата.
Батарейки? Все потрясенно оборачиваются на Камау, у которого глаза округляются от ужаса.
— Господи Иисусе, это ему, чтобы видеть!
— Камау прав, он вправду механический.
— Боже мой, белый старик — машина!
Джон вдруг вспоминает одну страшную вещь, которая только подтверждает версию. Все попадавшиеся мне в буше африканцы спокойно брали в руки обжигающе горячие предметы — стакан с чаем, головешку из костра, кастрюлю, в которой что-то варится: сказывался многовековой опыт готовки на открытом очаге. Но никто, ни один, не мог дотронуться до чего-то очень холодного — не привыкли еще.
— Я разносил напитки остальным белым за его столом и клал лед в стаканы — вы знаете, как это делается, ложкой, потому что лед невозможно взять в руку, — и уронил один кубик на стол. А этот белый старик, он просто подобрал его рукой.
— Рукой! У него механические руки!
— Он — машина.
— Как они это сотворили?
— Та старуха, которая с ним, наверное, ее муж умер, а она небось очень богатая, и ей соорудили машину точь-в-точь похожую на мужа. По фотографиям.
— Поэтому белые женщины все время делают фотографии. На случай если муж умрет. Тогда ей изготовят точь-в-точь похожую машину. Белые это умеют.
— А в горло вставляют кассету с пленкой.
— Но с ним же можно разговаривать. Я с ним разговаривал. На кассету не похоже, он ведь отвечает, — сомневается скептик Одиамбо.
— Это специальная кассета. Я про такие читал. В Найроби есть, — уверяет Касура.
— Такие, которые цифры считают.
— Так что белый старик и вправду машина.
Никому уже не смешно, все на грани паники. Сулейман произносит вслух то, что у всех на уме.
— Знаете, шутки в сторону, я действительно зол. Вечером мне везти этих людей на сафари, а тут машина вместо человека. Это может быть опасно. Мне это не нравится, я очень сержусь. Пойду поговорю с управляющим.
Он уходит, как потом выясняется, принять перед сафари чего покрепче для храбрости.
Паника распространяется. К вечеру все уже в курсе, что белый старик — машина. Саймон лично видел, как он нес жене изрядно потяжелевшую в его рассказе сумку с вещами от крыльца коттеджа: «Видите, какие эти механические руки сильные». В баре он что-то заказал жене своим записанным на кассету голосом. Ловкач Джон специально уронил несколько кубиков льда, и белый старик подобрал их при свидетелях. И фотографировал глазами, клянется Джон. Я со своей стороны только подпитывал истерию импровизированными лекциями о протезах конечностей, стеклянных глазах, нейротрансплантации эмбриональной ткани и вставных челюстях.
Столпившись снаружи, все подсматривают издали, как Сулейман, бедолага, отправляется на смертельное сафари с механическим человеком, его женой и остальными белыми туристами. В воздухе повисает тревожное ожидание. Вернется ли Сулейман? А вдруг механического старика переклинит и он располосует Сулейману лицо? А вдруг Сулейман по возвращении сам окажется машиной? Версии выдвигаются, среди персонала назревает бунт. Про обслуживание постояльцев за ужином, похоже, скоро и заикнуться будет нельзя.
Внедорожник возвращается с сафари. Пары вылезают, улыбающиеся, смеющиеся. Фотографируют! Даже белый старик смеется. Туристы расходятся по палаткам. А вот и Сулейман, на вид вполне нормальный. Его обступают со всех сторон.
— Ну что? Что?
— Этот белый старик…
— Да-да-да, что он?
— Этот белый старик… Дал мне сто шиллингов на чай.
Сумма сногсшибательная.
Переварив услышанное, все приходят к единодушному обнадеживающему выводу.
— Ага, выходит, белый старик — добрая машина.
Паника улеглась. До конца пребывания старик был окружен заботой и вниманием — пусть иногда чересчур пристальным.
20. Лифт
В тот день я обнаружил, что никто не знает про коленный рефлекс. Я сидел с Ричардом в административной части гостиницы, он отпустил какую-то шутку, и я, покатываясь от смеха, хлопнул его по колену. Нога дернулась. «Как ты это сделал?» — удивился он. Я продемонстрировал, Ричард озадачился, и вскоре вокруг собралась толпа соседей. Ни один из них прежде этого эффекта не замечал. Кто-то притащил из столовой для персонала охапку пустых бутылок из-под содовой, и вскоре все, рассевшись вокруг, колотили себя бутылкой под коленную чашечку. «Смотрите, дергается, я не могу ее удержать!»
Кругом бурлило веселье и расцветали синяки. Я вдруг догадался, что еще может оказаться для них открытием — плавающие в глазах мушки. «Когда-нибудь бывало с вами такое: смотрите на небо и в глазу что-то плывет, опускается вниз, такая прозрачная точка, через которую все видно?» Несколько человек дружно ахнули — мушки они замечали, но, похоже, не отваживались никому в этом признаваться. Ричард потрясенно схватил меня за руку. «Да-да, видел! Думал, у меня в глазу микроскоп». Сразу видно, что он многовато со мной общается. Еще одному эти мушки всю жизнь служили знаком, что Иисус избрал его для особой миссии. Пришлось вернуть человека с небес на землю, объяснив, что мушки — это остатки отслоившихся клеток на поверхности глаза.
А вот еще явления, которые все замечали, но предпочитали никому о них не распространяться. Дежавю. «Иду я однажды через кусты, в первый раз. Я знаю, что в первый, но почему-то кажется, будто я этот куст уже видел», — объяснял один из масаи, которому, вероятно, действительно ничего не стоило опознать любой виденный им прежде куст. И феномен, которым я ошарашил их напоследок: вот ты уже почти заснул и вдруг словно куда-то проваливаешься и падаешь («Бог мой, я думал, это значит, что я умираю», — признался кто-то), а потом сознание просыпается раньше тела.
Это был просто праздник для всех — в такие моменты осознаешь, как тебе повезло общаться с жителями противоположной части планеты. Однако этому празднику далеко до того дня, когда я думал, что первый раз катаю Ричарда на лифте.
Дело было в период царствования Нафанаила, еще до того, как он решил, что в жизни есть вещи поинтереснее, чем быть альфой. Отстрелявшись дротиками у себя в заповеднике, мы ехали уже в качестве вольнонаемных стрелков в другой заповедник и по дороге остановились в Найроби пополнить припасы. Ричард впервые очутился в большом городе. Какой был кайф! Я таскал его через весь Найроби, учил пользоваться светофорами, грузил лекциями по городской социологии, показал первый в его жизни супермаркет, первый кинотеатр и первый час пик. Машины повергли его в ужас: «Я думаю, здесь может быть так много машин, потому что нет буйволов». Логично. Какой-то кикуйю (кикуйю в Кении считаются городскими франтами) принял его за соплеменника и обратился на своем языке — Ричард, почувствовав себя искушенным горожанином, раздулся от гордости. Еще прекраснее был заход в первый для Ричарда книжный магазин. Он не верил своему счастью. По неведомым причинам Ричарда обуревала страсть к книгам, не замеченная мной больше почти ни у кого из кенийцев независимо от образования. Он продирался сквозь текст со своим слабым английским (всего лишь четвертый его язык), что-то усваивал и получал безмерное удовольствие, хотя выпрошенных у меня «Братьев Карамазовых» все-таки не осилил. («Ну как тебе книга, Ричард, о чем там?» — «Ничего непонятно. Эти братья, они все время разговаривают, а их старик — нехороший человек, но потом они опять разговаривают и разговаривают, ну если только женщины не придут плакать. По-моему, они белые, но, наверное, не из Америки». На этом он и сдулся.) А тут целый магазин. Я выдал ему денег, велел оторваться на всю катушку и ни в чем себе не отказывать, и мое сердце переполнялось его радостью.
Потом было его первое мороженое. Ричард заметил их сам — людей со смешными трубками, которые курят языком. Мороженое в рожках. Попробовав, он от восторга схватил меня за руку. А еще был первый в Кении эскалатор, в новехоньком здании в центре. Эскалатор превратился в местный аттракцион, на нем полагалось отметиться каждому юному найробийскому денди — пройтись по окрестностям и прокатиться на эскалаторе, может быть, даже пригласить туда девушку на свидание. К эскалатору прилагался большой щит с инструкциями, предостережениями и ограничениями: не разворачиваться против движения, работает только на подъем, запрещается провозить коз, не несем ответственности за беременных женщин. Мы дождались своей очереди, вскочили на ленту, вцепились в поручень мертвой хваткой, уцелели.
Ближе к вечеру намечался сюрприз. Я решил: гулять так гулять — подтасовать слегка отчетность по гранту и разориться на большой отель в центре. Мы заселились, Ричарду выдали ключ от его номера. На пятом этаже. Я подготовил Ричарда к поездке на лифте. Рассказал, какие будут ощущения в желудке. А потом во мне проснулся сын архитектора, и я, не удержавшись, принялся чертить объемный разрез здания, пронзенного лифтовой шахтой.
В кабину мы вошли во всеоружии. Поначалу Ричарда поразила фоновая музыка и высвечивающиеся номера этажей, но потом желудок ухнул в пятки, и ему стало уже не до мелодии «Love to Love You Baby» в исполнении оркестра Мантовани. Позеленев, он ухватился за меня, и казалось, еще чуть-чуть и его стошнит. Пятый этаж, я вытащил задыхающегося Ричарда наружу. Через минуту он покосился на меня украдкой: «Хорошо-о-о». Еще раз. Мы катались вверх-вниз. Ричард попросил не обсуждать лифт при других, если кто-то войдет: «А то подумают, что я только вчера из буша».
Он выяснил, что, нажав кнопку «два» или «три», на пятый этаж не доедешь. Потом я отправил его в самостоятельный рейс и трясся от волнения снаружи, как беспокойный родитель.
Я отвел усталого, но счастливого Ричарда к нему в номер, налил первую в жизни горячую ванну и оставил блаженно отмокать, напевая на родном кипсиги.
Через час я зашел его проведать. Он смотрел в окно на дорогу и выкрикивал советы водителям, проезжавшим пятью этажами ниже: «Осторожнее! Не гони! Грузовик пропусти!» «Как антилопы гну», — сказал он, показывая на машины. «Это потому что в Найроби нет буйволов», — ответил я. Когда я только привел его в номер и демонстрировал вид из окна, у него голова закружилась от высоты. А теперь он даже слегка подался наружу, хоть и придерживаясь для верности за стену правой рукой.
«Ну как, Ричард, что было сегодня самое интересное?» — спросил я. «Пожалуй, книжный магазин, и то, как мороженое засовывают в рожки». «Не лифт?» — удивился я. «Нет, не лифт». Странное дело. Вид у Ричарда был заговорщицкий. «Хочешь, открою один секрет?» Ну, еще бы! «Я уже ездил когда-то на лифте, только я этого не понял», — признался Ричард.
В самый-самый первый раз Ричард, как выяснилось, оказался в Найроби чуть раньше в том же году по совершенно кафкианскому делу. Он хотел поменять имя своему ребенку. Ричард, как человек современный, отправил свою жену со схватками ковылять несколько миль из их горной деревни в неизвестную окружную сельскую больницу, чтобы не рожать дома. Пока Ричард мчался туда за девяносто миль из заказника, ребенок уже успел появиться на свет. С самого начала Ричард (и, возможно, даже его жена — тут история умалчивает) собирался назвать его Джесси — в честь Джесси Джексона. Но по прибытии обнаружилось, что врач не стал ждать отца и поторопился заполнить свидетельство о рождении. В результате он (видимо, не поинтересовавшись мнением матери насчет имени для ее ребенка) записал младенца как Хилари (хотя теперь у меня закрадывается подозрение, что, возможно, врач как раз уточнил у матери и именно это имя она и хотела). Свидетельство было уже оформлено на Хилари, а Ричарду, который по неотесанности своей выразил робкое недовольство, врач пригрозил полицией. Пришлось Ричарду отправляться в поход на столицу и ее оплоты бюрократии и некомпетентности в надежде изменить имя (надежды, разумеется, не оправдались — Хилари именуется так по сей день и никому, видимо, не приходит в голову пойти против системы и называть дитя между собой Джесси).
О предстоящей экспедиции узнал администратор гостиницы, где квартировал Ричард. Он питал к Ричарду большую симпатию и мог позволить себе щедрый жест по отношению к сотруднику такого статуса (будь на месте Ричарда кто-то из персонала, могло бы показаться, что администратор заводит любимчиков). Он организовал Ричарду номер в найробийском отеле, принадлежавшем семье, которая владела туристским лагерем.
Ричард добрался до Найроби и по указаниям, которыми снабдил его администратор, нашел отель. Благодетелю хватило чуткости и предупредительности догадаться: Ричарду в городе понадобится помощь, но он постесняется за ней обращаться. Администратор найробийского отеля, ждавший Ричарда заранее, встретил его и тактично объяснил, что на ночь в распоряжении постояльца весь номер, включая ванную, и самое замечательное — ужин и завтрак входят в стоимость проживания, поэтому Ричарду за них платить не придется.
«А потом он повел меня в маленькую комнатку без окон. Сначала я подумал, что это и есть номер, но оказалось, что нет. Дверь закрылась, потом все заревело, живот свело так, что я решил, будто Найроби меня уже доконал. А этот человек даже не заметил ничего. Потом дверь открывается, а там все совсем другое! Вообще! Быстренько взяли и заменили все: людей нет, кресел нет, стойка администратора куда-то делась, а вместо этого длинная дорожка и много дверей. Я тогда не понял, как это вышло, а теперь знаю — там был этот ваш лифт».
Ричарда разместили в номере. Шторы были уже задернуты, трогать их Ричард даже не помышлял, поэтому не догадывался, что первый этаж остался далеко внизу. Он ополоснулся в раковине (ванна, рассудил он, слишком громадная, такую прорву воды на помывку одного человека никто тратить не будет, это, видимо, чтобы коров купать), понежился в кровати, всполошился и перенервничал, отвечая на звонок заботливого администратора (телефон Ричард видел на картинках, так что знал, как держать трубку).
Все было сказочно, пока Ричард не проголодался. Он облазил весь коридор в поисках столовой. Безуспешно. У него закралось подозрение, что превратить весь этаж в столовую наверняка должна та самая комнатушка, в которой переворачивается желудок, но он не знал, где отыскать ту самую дверцу, и как заставить ее открыться, и как сделать, чтобы за дверцей получилась столовая. Он поскитался по коридорам, стесняясь спросить у кого-нибудь, и вернулся в номер, голодный и раздосадованный. К полуночи добавился новый повод для тревоги — как выбираться утром, не говоря уже о том, чтобы раздобыть завтрак.
На рассвете Ричард поднялся — с заготовленным планом. Собрав вещи, он побродил по коридору до появления первого же постояльца, покидающего номер с дорожной сумкой. Пристроившись за ним, Ричард вскоре очутился в лифте. В животе все перевернулось, но Ричард постарался не подавать виду, и вот уже этаж превращен в вестибюль. Выдохнув с облегчением, забыв на время про голод, потому что главное сейчас было выбраться, он попрощался с администратором и сбежал. «Знать бы мне тогда, что все дело в этом вашем лифте. Еда-то, наверное, была хорошая в таком большом шикарном отеле. И мне сказали, что есть можно, сколько захочешь».
Вечером мы пошли и купили еще по мороженому в надежде смягчить боль воспоминаний.
21. Гора за супермаркетом
К страданиям животных я отношусь довольно стоически. Можно уйти в эвфемизмы и назвать меня прагматичным, не сентиментальным, адаптивным. Но на самом деле это закалка: я попросту уже не такой тонкокожий, как раньше. В юности до самого окончания колледжа мне хотелось только одного — жить в буше с дикими животными и изучать их поведение. В интеллектуальном отношении для меня не было ничего более благодарного, чем изучать их поведение само по себе, не было ничего более священного, чем просто находиться рядом с животными, и мысль о том, что им можно причинять боль, казалась невыносимой. Но потом в моих интересах произошел сдвиг, их поведения как такового оказалось уже недостаточно. «Какое удивительное поведение!» переросло в «Какое удивительное поведение, чем оно обусловлено?». Я начал интересоваться тем, что происходит в мозге, а вскоре — возникновением сбоев в его функционировании. К тому времени, когда обстановка в стаде стабилизировалась, я уже почти все свои лабораторные исследования посвящал заболеваниям мозга. Три четверти года я проводил в лаборатории, занимаясь экспериментами, и видеть страдания животных было мучительно. Они переносили инсульты, многократные эпилептические припадки, другие нейродегенеративные расстройства. И все это, чтобы выяснить, как умирают клетки головного мозга и как можно это предотвратить и хоть как-то помочь тем нескольким миллионам человек в год, которые получают церебральные нарушения в результате инсультов, припадков и болезни Альцгеймера. Мой отец старше меня почти на полвека. В прошлом художник, архитектор, декан архитектурного факультета, страстно увлеченный, разносторонний человек, тонкая натура и сложный характер. Но он перенес нейродегенеративное расстройство и временами уже не узнавал членов семьи, не понимал, где находится, ему стали недоступны те радости жизни, которые требуют активного, ясного, любознательного ума. Корпя в лаборатории, я не раз думал, что не остановлюсь ни перед чем, только бы выяснить, как погибает нейрон и как вернуть отца к нормальной жизни.
Я старался хоть чем-то компенсировать эти занятия, хотя вряд ли мог искупить свою вину. В Америке я не изменял вегетарианским принципам. В исследованиях срезал углы на каждом шагу, пытаясь свести к минимуму число подопытных животных и необходимость мучений, однако полностью избавить их от неиссякаемой адской боли не было возможности. На первом же занятии в колледже, когда нас учили оперировать мозг крысе, меня стошнило. Теперь, в докторантуре, мне предстояло самому обучать студентов. Я приходил в ужас, когда на очередном этапе исследований мои гипотезы не подтверждались, напрасно унося жизни сотен животных. Мне снились кошмары, в которых я превращался в доктора Менгеле: одетый в белоснежный лабораторный халат, я приглашал животных в «отель», и они слышали скрытый в этом слове подвох, даже несмотря на мой немецкий акцент. Но, в отличие от некоторых нацистов, я не просто выполнял приказы, а зачастую сам их отдавал и был сам себе начальником, однако я вел войну с инфарктами, ишемическим изменением клеток и паннекрозом в мозге отца и был готов на все, чтобы остановить его болезнь. За животных я переживал все меньше и меньше.
В результате с каждым годом мне все нужнее становилось возвращаться к павианам. К десяткам прочих причин добавлялась утешительная возможность побыть там, где животных не нужно резать и где я не отнимаю у них жизнь. Побыть там, где они обитают на воле, без клеток. Испытывать слегка извращенную радость от того, что здесь скорее они меня убьют, чем я их. И еще тешить себя тем, что я, может быть, даже принесу им какую-то пользу своими исследованиями: выясню, например, какие стрессовые факторы окружающей среды снижают у них плодовитость и повышают подверженность инфекционным болезням. Мелочь, а для разнообразия все же приятно.
Один из павианов погиб у меня во время анестезии. Кто именно и как это произошло, сейчас рассказывать не буду — об этом в последней главе. Он умер. Один из тех, кто был мне по-настоящему дорог. Стоит ли казниться, что за кого-то из павианов переживаешь больше, чем за остальных? Имеешь ли право желать, чтобы на его месте оказался другой? Он умер. И не как-нибудь, а у меня на руках, под анестезией. Я пытался его реанимировать. Я делал ему искусственное дыхание и интубацию трахеи. Я пробовал запустить сердце прекардиальным ударом, я вкатил ему лошадиную дозу эпинефрина. А он все не дышал. Он уже издал предсмертный хрип, и, когда я налегал ему на грудь, у него вырывалось тихое горловое бульканье, от которого у меня каждый раз пробуждалась надежда и все холодело внутри. Я бил его в грудь, откачивал, лупил и проклинал все на свете, пока окончательно не выдохся. Я догадывался раньше, что борьба за дорогую тебе жизнь — это эмоциональное испытание, но как-то не думал о ней как о физической битве.
Когда я сдался, он лежал на спине. Изнуренный и взмокший, я тоже повалился на спину, положив голову ему на живот, как в детстве, когда устраивался вот так с отцом. Если у него клещи, скоро они будут и на мне, подумал я, но не пошевелился. Наверное, надо его препарировать, пополнить его черепом свою коллекцию, подумал я, но не шевельнулся. Вместо этого сжал его коченеющую руку и, кажется, ненадолго уснул. Проснувшись, обнаружил обступивших меня ошеломленных масайских собирательниц хвороста из какой-то дальней деревни. Они показывали на мое лицо и с вопросительными жестами изображали слезы на щеках. «Он умер», — сказал я на суахили, но никак не развеял этим их недоумение и испуг. Ничего не вынеся из моих объяснений, они поспешили прочь.
Я все решил, пока спал. Я отнес его под любимое дерево и вырыл там яму. Я не оставлю его гиенам. Как масаи своих усопших. И умирающих. Одно время, рассказывая на уроке в американской школе, что в некоторых культурах такое принято и даже имеет свою логику, учитель гарантированно навлекал на себя неприятности от какого-нибудь южного сенатора, клеймящего культурный релятивизм или светский гуманизм. Да, для каких-то культур в этом есть своя логика, но все равно это жутко и горько. Лоуренс Гиенский наткнулся как-то раз на тело оставленной гиенам масайской девочки — лет двух, наверное. Она была завернута в старую накидку, под головой сосуд из тыквы. Чтобы утолить жажду на том свете? На самом деле, скорее всего, чтобы вместе с тыквой похоронить впитанную ею от девочки болезнь.
Я не собирался оставлять своего павиана гиенам, поэтому принялся копать. Неблагодарная работа заставила меня проникнуться уважением ко всем копателям и грабителям могил. Я думал, что физический труд меня очистит, а он только вымотал. Я прерывался и снова укладывался к нему на живот, гладил его по голове. Масайские женщины, возвращаясь обратно с хворостом, застыли, как громом пораженные, увидев, что я рою могилу для павиана. Когда они попытались подойти поближе, я замахал руками и завопил как ненормальный, и они пустились наутек.
Яма была готова. Побаюкав, я опустил его в землю. Вокруг выложил оливки и инжир, его главную пищу. «Это не потому, что я верю в загробную жизнь, это чтобы сбить с толку палеонтологов, которые его выкопают», — думал я. Я пропел над ним русские народные напевы из своего детства и «Песни об умерших детях» Малера, потом засыпал его и укрыл холмик колючими ветками акации, чтобы не совались гиены, а затем ушел в палатку и проспал до следующего дня.
Вот так у меня на руках умер первый павиан. Следующие несколько месяцев из-за беды, о которой я пока рассказывать не готов, я буду возвращаться к этому дереву снова и снова и хоронить одного за другим. Но этот был первым. Накрывшая меня катастрофа всколыхнула давнее интуитивное знание — почему, отказавшись от детской мечты стать приматологом и жить в поле, я провожу там лишь четверть своего времени. Слишком тяжело и тоскливо. Мне вполне хватало неудач в попытках предотвратить умирание отдельных клеток мозга. Неудачи в спасении целых видов и экосистем я бы уже не выдержал. Эту битву не удавалось выиграть ни одному известному мне приматологу, независимо от причин гибели его животных — будь то уничтожение среды обитания, конфликт с земледельцами, браконьерство, новоявленная человеческая болезнь или безмозглые, закосневшие в грехах государственные чиновники. Приматологи, которые занимаются чистой приматологией, всегда напоминали мне Иши — последнего представителя одного индейского племени, родной язык которого должен был умереть вместе с ним. А еще какого-нибудь фантастического собирателя снежинок, который заскакивает в теплую комнату поскорее рассмотреть неповторимый узор под микроскопом, пока снежинка не растаяла и узор не исчез навсегда. Занятие заведомо обреченное, очень печальное, это уже чересчур, поэтому как-нибудь без меня.
И вот под конец смутного времени, как раз когда Нафанаил отрекся от альфа-статуса, я отправился к редчайшим и уже почти растаявшим снежинкам — к гориллам Фосси и на ее могилу.
Ну что нового я могу сказать про Дайан Фосси? Она увековечена в фильмах и книгах, скоро наверняка пойдут посмертные видеокассеты с домашней аэробикой от Дайан Фосси. Она действительно была легендой. Внушительных размеров, далекая от изящества женщина — ни малейшего сходства с Сигурни Уивер. Как оказалось, мать одного из сотрудников моей лаборатории училась с Фосси в старших классах. По ее словам, Фосси уже тогда заметно выделялась среди других, была непростым и замкнутым человеком. Сотрудник как-то принес нам выпускной альбом. Семнадцатилетняя Фосси смотрела затравленным взглядом никем не принятого школьного изгоя, из каких получаются либо полевые биологи-отшельники, либо серийные убийцы. В достаточно позднем возрасте она прониклась любовью к Африке и горным гориллам — крупнейшим из человекообразных обезьян, открытым позже всех, изучавшимся в полевых условиях очень мало, окруженным легендами и ошибочными представлениями. Не имея никакого специального образования, она решила ехать в Африку и жить среди горилл. Она познакомилась с Луисом Лики, знаменитым палеонтологом и спонсором женщин-приматологов, убедила ученого отправить ее ненадолго в Лунные горы изучать горилл и осталась там на десятилетия. Она растворилась в гориллах полностью, нарушая все общеизвестные правила — не трогать их, не вступать с ними во взаимодействие, — и открыла много удивительного в их поведении. В процессе она становилась все более нелюдимой и трудной в общении, отторгала всех потенциальных сотрудников и коллег, замыкалась в себе. Она не демонстрировала заметных научных результатов, лишь делала невероятные наблюдения в силу одного только своего упорства и постоянства, при этом не скрывала презрения к большинству полевых исследователей и желала не так уж многого — стать гориллой.
Я видел ее один раз, в середине 1970-х, когда учился в Гарварде. Мои научные интересы тогда еще не заставили меня переключиться с горилл на павианов, и гориллы по-прежнему вызывали во мне все те же непередаваемые эмоции; во время накатывавших на меня многочисленных депрессий я грезил больше о гориллах, чем о людях. Стоит ли удивляться, что Фосси была одним из главных моих кумиров. На стене у меня висело написанное о ней стихотворение Адриенны Рич. Я думал, что при встрече с ней рухну в обморок от восторга.
В университете Фосси оказалась против воли. Несмотря на пренебрежительное отношение к науке и отказ от общепринятых в приматологии подходов, она разбиралась в гориллах как никто другой и представляла интерес для остальных приматологов. По сути, грантодатели Фосси принудили ее поиграть в обычного участника научного сообщества — дописать наконец диссертацию, опубликовать в научных журналах что-то из накопленного, прочитать пару лекций. Вот с такой принудительной вылазкой она и оказалась в Кембридже, недовольная и сердитая. Вечерний семинар устроили в гостиной старшего профессора приматологии, народу набилось битком. Очень скоро у слушателей возникало неловкое гнетущее ощущение подглядывания за медведем, которого вытолкнули на подмостки средневекового балагана. Она сидела, подтянув колени к груди, потом вдруг вскочила и начала расхаживать туда-сюда по комнате, ссутулившись и свесив руки до колен. В основном она бубнила себе под нос, а на вопросы отвечала на грани крика. Один раз крикнула по-настоящему. У кого-то из преподавателей на коленях сидел ребенок и время от времени издавал положенные четырехлетке звуки — Фосси, внезапно прервавшись, ткнула в него пальцем и прикрикнула: «Закрой рот, а то я сама тебе его закрою». Она долго рассказывала о своих гориллах, проявляя неосведомленность или незаинтересованность в большинстве модных тогда в приматологии вопросов, излагала мысли слегка бессвязно.
Я был заворожен и изрядно трепетал. После семинара я подошел к ней и задал вопрос, который готовил с десятилетнего возраста: можно мне поехать к ней в Руанду стажером-исследователем и посвятить жизнь гориллам? Бросив на меня хмурый взгляд, она сказала «да» и велела ей написать. Вскоре ее отпустили, я в неземной эйфории вернулся к себе в общежитие и к полуночи отправил ей письмо, на которое она так и не ответила. Уже потом выяснилось, что у нее это был стандартный способ отделываться от просителей и набивающихся в приспешники — на все отвечать «да», говорить, чтобы написали, а потом оставлять без ответа.
Так состоялась моя единственная встреча с Фосси. Вскоре после этого ее непростой нрав и непростые отношения с миром вылились в неприятности, оказавшиеся для нее роковыми. В дождевых лесах Руанды с незапамятных времен жило племя батва — охотники-собиратели, расставлявшие ловушки на лесную дичь. Время от времени в ловушку неизбежно попадала горилла. Гангрена, гибель. Есть свидетельства, что первые жертвы были случайными. Но Фосси обезумела. Она объявила войну охотникам, принялась уничтожать ловушки — источник пропитания для племени. И племя не осталось в долгу. Война разгоралась, вскоре местные уже намеренно убивали горилл Фосси и бросали их обезглавленные тела на тропах, ведущих в ее хижину по вулканическим высотам, а она в свою очередь похищала у племени детей.
Безусловно, часть охотников действительно занималась браконьерством в худшем его проявлении, убивая горилл ради продажи на сувениры, но остальные всего-навсего добывали пищу, как повелось в их племени издревле. Некоторых горилл убивали жестоко и намеренно, но часть гибла случайно. Разумеется, более уравновешенный и рациональный человек пытался бы действовать менее взрывоопасными методами, но более уравновешенный и рациональный просто не очутился бы в тех местах и не стал бы свидетелем происходящему.
Фосси в мгновение ока превратилась в экстраверта. Она металась по всему миру с лекциями об истреблении своих подопечных и требовала помощи. Ее гориллы на грани гибели, от них остались жалкие крохи, горная горилла — одно из редчайших, самых уязвимых животных на планете, и эта популяция числом в несколько сотен одна из последних. Фосси стала пускать к себе на полевую территорию студентов и желающих сотрудничать — кого угодно, лишь бы боролись с истребителями горилл. Вскоре в природоохранных кругах наметился раскол. Одни говорили: «Да, деньги вкладывать нужно, но давайте не в нее. Она слишком вспыльчивая, слишком дерзкая: пока она там, кровная месть не утихнет. Заберите ее оттуда, осыпьте деньгами нищее руандийское ведомство по заповедному делу, пусть пригонят на склоны вооруженных егерей и сделают там нормальный природоохранный заповедник». Другие говорили: «Дайте ей денег, дайте оружие: гориллы если и уцелеют, то лишь благодаря ей, остальным плевать». Победили первые. Деньги хлынули в Фонд Диджита, названный в честь любимца Фосси, чье изувеченное тело она нашла в окрестностях хижины. Была организована настоящая, действующая, надежная служба охраны заповедника, удалось пробудить у путешественников интерес к наблюдению за гориллами, так что туризм стал приносить доход и заповеднику, и местной экономике. Условия для горилл улучшились, стадо даже, возможно, начало расти. А Фосси оттуда убрали. Запихнули читать курс в качестве приглашенного адъюнкт-профессора в Корнелле, где, по большинству свидетельств, она скатилась в депрессию и алкоголизм.
Так началась последняя глава ее жизни. Как Фосси ни отговаривали, она вернулась в Руанду к своим гориллам. Она воевала с браконьерами и охотниками, воевала с охранниками, водившими по заповеднику ненавистных туристов, воевала с земледельческими племенами, которые своим подсечно-огневым методом сводили остатки дождевого леса, воевала с правительством. Ее здоровье было подорвано выпивкой, постоянным курением и эмфиземой, с которой она пыталась как-то существовать во влажном высокогорном климате. Она едва ходила, к хижине ее приходилось носить. Там, в хижине, ее и убили однажды ночью. Правительство Руанды неубедительно и топорно свалило вину на американского аспиранта, а потом заочно приговорило его к смерти, дождавшись, пока он уедет из страны, и всем было ясно, что убийство — дело рук браконьеров или государственных егерей. Фосси похоронили рядом с хижиной через неделю после Рождества. Проводивший панихиду миссионер сказал: «На прошлой неделе мир праздновал событие, много веков назад изменившее его историю — пришествие Спасителя. Здесь, у наших ног, покоится аллегория этого чудесного пришествия — Дайан Фосси, по собственному почину отказавшаяся от жизни в холе и неге и поселившаяся среди тех, кому грозила гибель… И если вы думаете, что Христос, принимая облик человека, перешагнул пропасть меньшую, чем пропасть между человеком и гориллой, вы плохо знаете людей. И горилл. И Господа». В соответствии с последней волей Фосси ее похоронили на кладбище убитых горилл рядом с Диджитом.
Я приехал к гориллам спустя полгода после ее убийства. За несколько лет до того я пытался добраться до Руанды автостопом — безрезультатно. Теперь я наконец преодолел тот этап взросления, когда для дальних путешествий на попутках уже не хватает времени, а на более скоростные способы передвижения еще не хватает денег. Я долетел с двумя друзьями до столицы Руанды, Кигали, и мы двинулись к гориллам. Разница с Кенией ощущалась во многом. Во-первых, все говорили на французском и звались Жан-Доминик или Бонифас, чем изрядно сбивали меня с толку. Во-вторых, межплеменная вражда здесь была жестко дихотомичной, что резко контрастировало с хаотичностью и переменчивостью племенных союзов в Кении. Здесь почти все принадлежали либо к хуту, либо к тутси, в воздухе почти буквально пахло междоусобицей, которая через несколько лет превратится в массовое истребление вторых первыми — в геноцид таких масштабов, от которого остальной мир содрогнулся бы, будь ему до них дело. Еще одно разительное отличие — ошеломляющая плотность населения, самая высокая на планете. Бесконечные холмы с бесконечными террасами и бесконечными плантациями, с которых кормится нищая страна, людей везде битком, распахан каждый клочок до крайнего запада, до самой дальней границы. Там, отделяя Заир на западе от Руанды и Уганды на востоке, пролегают Рувензори — знаменитые Лунные горы, на юге переходящие в Вирунгу, цепь гигантских вулканов между Заиром и Руандой: массивные, вздымающиеся выше 4500 м, накладывающиеся слоями один на другой; на макушках снежные шапки, питающие реку Конго, под ними дикие дождевые леса. Благодаря крутизне, которая даже самым отчаянным земледельцам не дает вырастить ни зернышка, эти седловины и склоны все еще служат приютом для последних горных горилл на земле.
Мы традиционно пободались с парковой администрацией, которая потеряла полученную мной больше года назад бронь на визит к гориллам, но немедленно ее нашла за умеренное вознаграждение. Решив не скупиться, мы ночевали в единственной настоящей гостинице в Рухенгери — городе у самого въезда в заповедник. Это была старая развалина, где все дышало ностальгией по колониальным временам. Паркетные полы, повсюду старинные гравюры с Нотр-Дам-де-Пари, обед из пяти блюд типа гратена из спаржи. Спали мы беспокойно, чувствуя себя как на вулкане, и к рассвету уже рвались в дорогу.
Мы поднялись наверх с егерями, каждый день отыскивающими горилл для тех восемнадцати туристов, которых пропускают посмотреть на три экспозиционных стада. Немногословные молчаливые стражи двигались плавно, без резких движений. За проведенную там неделю у всех егерей, часто бывающих в компании горилл, я заметил манеру скользить рядом с ними бесшумно и медленно.
Сначала мы идем через плантации, которые довольно круто забирают вверх даже на пологих склонах, еще до поднимающихся террасами уступов; мы лавируем между хижинами, рядами кукурузы и не обращающими на нас внимания детьми. Потом перед нами вырастает стена бамбука, прорезанная едва заметной тропкой. Петляя, тропка ведет нас все выше по крутым осыпающимся склонам. Повсюду бамбук и поросшие мхом стволы хагении, которые мне всегда казались нелепыми без туманного савана. Поднимаемся еще выше, на седловину одного из вулканов; впереди маячит лес, небольшое озерцо, поля кустарника. Шагаем, егеря с помощью мачете прорубают дорогу через заросли жгучей крапивы. Облака, туман, зябкий холод, жара — почему-то все это одновременно. Мы дрожим от озноба и обливаемся потом. Скользя, спускаемся в глубокую лощину, снова карабкаемся вверх уже с другой стороны, снова крапива, снова бамбук. Мы уже несколько часов в пути, а егеря движутся все так же слаженно и безмолвно. Один осматривает обломанные побеги бамбука, другой принюхивается к помятой траве. Да, это следы горилл, но вчерашние, заключают они.
Еще час. Морось, туман, но почему-то теплеет. Опять крапива. Вот уже что-то похожее на нормальную тропу, и слева от нее — утоптанный травяной пятачок. Посередине увесистые, волокнистые, распадающиеся кучи экскрементов — такие мог бы навалить профессиональный игрок в американский футбол, ударившийся в вегетарианство. Гориллы. Лежка свежая, со вчерашнего вечера.
Рвемся дальше, уставшие, возбужденные, охваченные нетерпением. Еще один спуск в лощину — один из егерей слышит бормотание на другой стороне. Мы замираем, прислушиваемся, готовые внушить себе этот звук, только бы гориллы оказались рядом, и вдруг до нас действительно доносится самое настоящее бормотание — сочное, гортанное, размеренное, покровительственное. Мы на цыпочках взлетаем на гребень — и там я впервые в жизни вижу горных горилл.
В стаде их было около десятка. Зрелый самец с серебристой спиной — вожак. Несколько самок с детенышами, несколько маячащих самцов помладше, несколько подростков. Вожак играл с молодняком. Матери кормились, вперевалку перемещаясь с детенышами на спине. Два молодых самца битый час валяли друг друга по поляне, прикусывая вполсилы и попеременно подминая под себя. Накувыркавшись и нащекотавшись до счастливого изнеможения, они, пыхтя, расходились по своим углам, отдышаться. Потом, отдохнув, кто-нибудь молотил себя по груди, и они снова начинали мутузить друг друга. В какой-то момент оба, подобравшись к нам, уселись рядом со мной и принялись сверлить взглядом — один наклонился так близко, что егеря утянули меня назад. От горилл пахло уютной сырой прелью — словно бы ты заглянул под крышку стоящего в заплесневелом погребе сундука, где хранятся забытые милые сердцу вещи.
На меня нахлынули мысли и ощущения. В первый миг я подумал, что сейчас зальюсь слезами, но мне тут же стало не до того, настолько я был поглощен зрелищем. Я гадал, какой статус был бы у меня, стань я горной гориллой. Я тонул в обезьяньих глазах — мимика у горилл оказалась менее выразительной, чем у шимпанзе и даже павианов, но в эти глаза хотелось окунуться. Я старался не встречаться с гориллами взглядом — не только потому, что в полевой практике это дурной прием, который нервирует приматов, но и потому, что я опасался, что сейчас начну признаваться в самых невероятных прегрешениях. Меня так и подмывало самоубийственно затесаться между ними с криком или бессвязным лепетом или кого-нибудь поцеловать, чтобы меня тут же затоптали насмерть и прекратили мое напряженное ожидание. «В социальном взаимодействии им далеко до павианов, — думал я, — и вообще они какие-то скучные — хорошо, что я не поехал их изучать, сейчас болтался бы на четырнадцатом курсе магистратуры». И все же я знал, что не в силах сойти с этого места.
Ночью, в палатке на горном склоне, мне приснился сон, отразивший мои чувства гораздо лучше, чем бодрствующее сознание днем. Сон был так трепетен, так нелепо сентиментален, так полон верований, которые я не исповедую наяву, что я до сих пор ему дивлюсь. Мне снилось, будто некая религия оказалась истинной. Мне снилось, что Бог, и ангелы, и серафимы, и бесы существуют в самом буквальном смысле, и у них такие же способности и слабости, как и у нас. И мне снилось, что дождевые леса Лунных гор — это место, куда Бог селит ангелов, родившихся с синдромом Дауна.
Мои друзья уехали на следующий день. Я остался еще на неделю, чтобы снова и снова наведываться к гориллам. Это было райское счастье, но с каждым днем мне становилось все тяжелее на душе. Гориллы были чудесны, однако груз утраченного, истребленного, замалчиваемого, неотвеченного, невосполнимого давил все сильнее. Он ощущался в административной части заповедника, где плакаты на тему его истории рассказывали больше о бельгийских колонистах, чем о Фосси. Ощущался в реакции егерей, которые говорили: «Да, мы знали Фосси» — и спешили сменить тему. Тот же груз не исчезал и при общении с гориллами: смотришь на мать с детенышем у бедра, объедающую бамбук, а на тебя льются звуки с плантаций, кудахтанье кур, гомон школьников в двухстах метрах ниже по склону, где наконец остановилось выжигание леса под пашню. Тот же груз ощущался на многомильных пустынных тропах дождевого леса, по которым давно уже не ходят гориллы. И тот же груз чувствовался на почти пятитысячной вершине горы Карисимби — самой высокой точке хребта, взобравшись на которую я своими глазами увидел, что массивная, бескрайняя, величественная, легендарная Вирунга почти исчезла, истаяла до узкой полоски леса, которую готовы были поглотить распаханные под посев уступы, бесконечно тянущиеся от Руанды до Уганды. Впору было заподозрить внутренний заговор среди земледельцев — бесконечного, плотно заселенного крестьянского мира, где каждый отчаянными усилиями добывает себе пропитание и где нет места для дождевых лесов и лунных гор и поэтому решено стереть их из памяти насовсем. Как если бы на задворках супермаркета 7-Eleven в каком-нибудь безобидном фермерском городишке в Айове возвышался окутанный туманом снежный пик 5000 м высотой, хранящий на самой вершине книгу с датами рождения и смерти всех, кто жил или будет жить на земле, и никто бы эту гору не замечал.
Там, на вершине, меня окончательно накрыло накопившимися за неделю впечатлениями и случился приступ африканской паранойи. На хребте нельзя разгуливать в одиночку. Полагается нанимать в провожатые егеря, но тащиться на вершину высочайшего в округе вулкана никому из них не улыбалось, поэтому обязанность свалили на самого младшего. Я заметил его еще в предыдущие дни, и он мне сразу не понравился. Остальные его тоже как будто избегали. Парень был угрюмый, с черными миндалевидными глазами на застывшем, словно маска, лице, от него веяло напряжением и агрессией. В лагере он по большей части отсиживался в сторонке, а если общался, то односложными предложениями. Отправляться с ним я совершенно не горел желанием, и он, насколько я сумел разглядеть его реакцию, испытывал аналогичные чувства.
Моя неприязнь к проводнику росла с каждым шагом. Сколько я ни пытался — на французском, суахили, английском и наборе из двадцати слов на киньяруанда, — я не мог добиться от него ничего, кроме нечленораздельного бурчания. Когда я упал, поскользнувшись на мокрых камнях, он засмеялся — с издевательским пренебрежительным подвыванием. Как-то раз он принялся швыряться камнями в пасущихся лесных антилоп — скорее всего, сразу ради двух целей: причинить им боль и лишить меня зрелища.
Я постепенно закипал, и он, судя по всему, тоже. Каким-то образом взаимная неприязнь переросла в молчаливое состязание, запальчивое детское упрямство. Мы ускорили шаг, почти перестали останавливаться, и вот мы уже гоним друг друга вверх по склону, дожидаясь, кто первым запросит передышку. Мы продирались все упорнее через дождевой лес, горный лес, клочковатое редколесье, заболоченную пустошь, в которой по колено вязли в грязи, к голым, подернутым инеем скалам, и за несколько часов взобрались с 2000 до 4000 м. Воздух стал более разреженным, ко мне начала подбираться горная болезнь, перед глазами поплыло, в груди закололо. Он поднимался в эти горы каждый день, мой рюкзак был тяжелее, но я все равно шел с ним вровень — на чистой ярости. «Fatigue?» — спрашивал он по-французски, и я выдыхал в ответ: «Non»[13]. В какой-то момент он выдал самую длинную свою реплику: «Je pense tu es fatigué. Tu es mzee ["старик" на суахили]»[14]. Я припустил за ним почти бегом, думая, что прикончу его на месте. В какой-то триумфальный момент я на целую минуту вырвался вперед и сумел выдохнуть такое же «Fatigue?», на которое он пропыхтел «Non».
Здесь не было даже намека на мифическое товарищество, которое якобы возникает между врагами в суровом испытании. Тупой жестокий пацан, швыряющий камни в животных в последнем дождевом лесу Руанды, — мне хотелось что-то ему доказать, хотя я сам не знал что.
Едва мы добрались до конечной цели — ржавого металлического приюта у самой кромки кратера, как над вулканом разразился ледяной ливень. Мы, повалившись, пытались отдышаться, а накрывший нас ливень молотил по кровле и продержал нас внутри с середины дня до следующего утра. Мы перекусили — рисом и французским батоном, но на такой высоте тошнит от любой еды, независимо от вкуса. Глаза ломит, в мошонке стреляет, голова раскалывается, каждый вздох вызывает боль, все дается с трудом. На такой высоте частота пульса в покое у меня равна 110, то есть после восстановительного сна просыпаешься загнанный, будто по лестницам бегал.
Мы лежали на дощатом полу, отодвинувшись друг от друга, насколько позволял тесный приют. Я попробовал поиграть на флейте, но дыхания не хватало, так что я в основном предавался размышлениям о гориллах. Проводник бубнил что-то себе под нос и выцарапывал свое имя — Бонавантюр — на металле острием мачете, не переставая курить в замкнутой хижине на высоте 4000 м, хотя я просил его прекратить.
Так прошло несколько часов, и примерно с наступлением ночи, которую я встретил по-прежнему лежа с закрытыми глазами, пульсирующими 110 раз в минуту, мне впервые пришло в голову испугаться. Мало того, что Фосси убили на этой самой горе каких-нибудь полгода назад и убил ее, скорее всего, никакой не американский аспирант, а наверняка государственный служащий и очень похоже, что егерь (осенило меня), и не какой-нибудь, а этот парень этим самым мачете, так что теперь, похоже, настал и мой черед. Сейчас кажется, что это глупость, преувеличение, фарс или просто паранойя, но тогда меня внезапно пробрал жуткий страх. Я тут один на каком-то вулкане в центральноафриканской стране, где не знаю ни души, под ледяным ливнем в хижине с егерем — у меня уже не осталось сомнений, что Фосси прикончили именно егеря. Я прокручивал в голове прошедший день, неделю: все одно к одному, каждым словом, каждым поступком я рыл себе могилу, убеждая наблюдающих егерей, что меня нельзя оставлять в живых.
Я перепугался не на шутку, я был почти в панике. Я отчаянно хотел сбежать. Я пытался дышать размеренно, думал позвать на помощь. Я пролежал без сна почти всю ночь, сжимая у бедра раскрытый складной ножик, мне всерьез казалось, что меня убьют. Егерь тем временем всю ночь разговаривал во сне — бормотал и резко сдавленно вскрикивал.
Рассвет принес облегчение, ощущение собственного идиотизма, злость и осознание, как мне на этот раз повезло. Мы принялись штурмовать обледенелые скалы и к семи утра были на вершине. Егерь сидел, в нетерпении пиная камни. Я окидывал взглядом Руанду, Уганду и Заир, пытаясь вообразить, будто они когда-то были сплошным дождевым лесом, полным горилл. Проводник явно желал немедленно отправляться обратно, я готов был остаться там навеки. От этой участи его спасли сгустившиеся тучи, которые закрыли весь вид и вынудили нас пуститься в обратный путь.
Если вчера главной задачей было загнать противника до инфаркта, то сегодня — устроить ему перелом. Мы молча летели вниз, прыгая по скалам, петляя и резко сворачивая на мокрой крутой тропе. Проводник явно торопился покончить с работой и снова засесть в угрюмом молчании у себя на станции. Я торопился оставить гору с моей бессонной ночью позади и избавиться от этого убийцы.
Мы пронеслись по обледенелым скальным уступам. Мы промчались через полузамерзшую вересковую топь, через рощи редколесья, через дождевой лес и бамбук. И уже в седловине, спускаясь по другой тропе, не по вчерашней, егерь замедлил шаг. Явно не от усталости и уж тем более не из заботы обо мне. В нем появилась настороженность, даже зажатость. Я впервые заметил у него на лице какое-то подобие эмоций.
Лес слегка раздался, открывая более далекие виды, рядом с тропой струился живописный ручей. Теперь мы шли медленно, по ровной земле. Через ручей перебрались по бревну. Еще минута, и за соседними деревьями наметился просвет. А потом, откуда ни возьмись, перед нами возникла хижина Фосси.
Простая, маленькая, заколоченная. На крыше реял руандийский флаг. Я двинулся к ней, егерь стал меня отгонять. Я подошел ближе, и этот великий немой начал объяснять по-французски, на суахили и даже на ломаном, но вполне понятном английском, что это запрещено. Я миновал хижину и, пока он не уволок меня прочь, целую минуту стоял у могил Фосси и остальных приматов.
Фосси, Фосси, чокнутая ты неуживчивая воинствующая мизантропка-самоубийца, посредственный ученый, морочащая голову преданным студентам, — не появись ты в Руанде вовсе, возможно, часть горилл осталась бы в живых; Фосси, ты и заноза в заднице, и святая, я не верю ни в душу, ни в молитвы, но я буду молиться о твоей душе, я буду помнить тебя до конца дней своих в благодарность за ту минуту у могил, когда я ощущал лишь светлую, очистительную печаль от возвращения к дому, где остались одни призраки.
Часть IV Зрелость
22. Павианы. Меченый
Меченого я недолюбливал, как недолюбливало его все стадо, — редко мне попадались настолько несимпатичные личности. Примерно в это время я как раз стал обращать внимание на индивидуальные особенности с научной, исследовательской точки зрения. До тех пор я много лет опирался на теорию о том, что ранг влияет на здоровье животных, что низкоранговые самцы больше подвержены различным стрессогенным заболеваниям. Ранг — это судьба, и все тут. Но более свежие наблюдения подсказывали, что в жизни павиана есть вещи поважнее ранга. Ранг действительно влиял на физиологические характеристики, и все же, как выяснялось, гораздо более важную роль играла обстановка в обществе, в котором этот ранг себя обнаруживал, — так, гормональные показатели у самца, имевшего высокий ранг в стабильной иерархии, сильно менялись в смутное время. И хотя ранг влиял на физиологию, куда важнее было иметь опору, которая позволит выжить в трудные времена, то есть обрасти социальными связями. Скажем, у тех самцов, которые больше остальных занимались взаимным грумингом и чаще подсаживались к другим, независимо от ранга отмечался самый низкий уровень стрессовых гормонов. Это была епархия Исааков и Нафанаилов. Но, пожалуй, самое главное — решающим параметром оказывались личностные характеристики. Например, в какой степени вы принадлежите к поведенческому типу А? Если ваш заклятый враг улегся вздремнуть в пятидесяти шагах от вас, вы продолжите заниматься своими делами или воспримете это как наглую провокацию, плевок в лицо и повод накрутить себя? Если вы из тех павианов, для которых прикорнувший в непосредственной близости соперник — личное оскорбление, то уровень стрессовых гормонов в покое у вас в среднем в два раза выше, чем у самца, который закрепился в своем ранге и в ус не дует.
Так что о личности и характере я думал много, а характер у Меченого был не сахар. По существу он оказался самой большой сволочью со времен Навуходоносора, только у него к сволочизму прилагались смекалка, выдержка и бесстрашие. Он был мелким и щуплым и непременно вызывал бы этим мое сочувствие, если бы не его непрошибаемая подлость, которая перечеркивала все достоинства. Он напоминал мелких, но крепких татуированных пацанов с жилистыми руками, которые в пьяной драке в баре уделывают рослых увальней с мягким пивным брюхом. Татуировок у него не наблюдалось, зато на косой морде красовалась отличительная метка.
Меченый пришел в стадо в смутное время. Он был еще подростком и на выкрутасы старших, играющих в кистоунских полицейских[15], смотрел с почти ощутимым презрением. «Ну-ну, погодите пару лет…» — читалось в его глазах. А пока он доминировал в своей возрастной категории. Когда пришла пора перебираться в высшие эшелоны, он действовал уверенно, твердо и самыми грязными методами. В одной из стычек он отделал пугливого Рувима, и тот, признавая поражение, задрал зад. Что это означает, известно любому павиану от мала до велика. Означает это «я сдаюсь, все, хватит, не надо больше». И, как известно любому павиану от мала до велика, победителю остается смерить этот зад взглядом, или оседлать его, или еще каким-нибудь общепонятным способом продемонстрировать превосходство — и все на этом. Таковы правила, это азбучная истина сродни тому, как в бейсболе каждой команде положено только три аута на иннинг. И вот Рувим выставляет зад, Меченый подходит засвидетельствовать, все по правилам, но в последнюю секунду Меченый, подавшись вперед, вонзает в подставленный зад клыки. Беззаботные годы ушли безвозвратно.
Меченый попросту не мог без подлостей. Дамы не питали к нему теплых чувств, особенно когда волей обстоятельств оказывались на несколько дней у него в наложницах. Он изводил самок, походя отвешивал оплеухи детенышам, донимал стариков — Хромого и Десну. В один памятный день он взъелся за какой-то проступок на бедную изнервничавшуюся Руфь и загнал ее на дерево. Обычно в таких случаях самка, пользуясь редкой возможностью сыграть на том, что она мельче и легче самца, повисает на самом дальнем конце тонкой ветки, спасаясь там от зубов преследователя, которому вес не позволит до нее добраться. Оставшийся с носом самец, как правило, в отместку старается хотя бы не дать ей слезть, и она так и висит, вереща, пока самцу не надоедает караулить. И вот Руфь стремительно взлетает на дерево, Меченый за ней, Руфь перелетает на спасительный край. Меченый проворно карабкается на более прочную и толстую ветку прямо над ней. И мочится ей на голову.
Что еще хуже, Навуходоносор как раз пребывал в самом расцвете сил и не думал смягчаться с годами. Он не пытался воевать с Меченым за статус альфы, ему достаточно было портить жизнь остальным. Спасать положение было практически некому. С Меченым мог бы справиться Рувим, но он по-прежнему выкидывал белый флаг в каждом решающем бою и даже мимо Навуходоносора ходил крадучись. Новоприбывшему Симу — мускулистому юнцу — до решающих сражений оставался еще год-другой, как и двум другим новичкам, Иессею и Самуилу. Слабаку Адаму и вовсе нечего было ловить в играх на доминирование. Даниил, Давид или Ионафан могли бы на равных потягаться с Навуходоносором, но не имели никаких шансов против Меченого. Исаака и Нафанаила эти игрища не интересовали, Вениамину и Иисусу Навину нечего было и соваться, покалеченный Саул наблюдал издалека.
По сути, единственной надеждой для стада оставался Гедеон — хотя сценарий, в котором была прописана его роль спасителя, строился исключительно на штампах. Гедеон был младшим братом Нафанаила и в стаде появился недавно. Я заметил его несколькими годами раньше у соседей — на редкость мускулистый детеныш, крутившийся рядом со старшим братом, тогда подростком Нафанаилом. Нафанаил первым мигрировал к нам несколько лет назад и, примерив ненужную ему мантию альфы, предпочел главную роль в сериале «Отец знает лучше». Следом за ним, как раз с началом эпохи террора, развязанного Меченым, в стадо перешел Гедеон. Вот вам и сценарий: Гедеон — молодой рыцарь-джедай, Нафанаил вынужденно возвращается из отставки и принимает роль Оби-Вана Кеноби, они образуют коалицию, свергают Меченого, истина и справедливость торжествуют, Хан Соло и принцесса Лея заводят брачные игры, конец фильма.
Одна загвоздка: Нафанаил ни в какую не соглашался участвовать. Гедеон, вызубрив сценарий, вызывает Меченого на бой и в решающий момент кидается к Нафанаилу за подмогой. Нафанаил принимается рассеянно обыскивать Гедеона, не обращая ни малейшего внимания на потасовку — ясно же, что младший братишка пришел поболтать о семейных вылазках на пикник. В другой раз Гедеон отчаянно бьется с Навуходоносором, удача улыбается то одному, то другому из противников, нашему герою только и требуется, что вовремя протянутая старшим братом рука помощи. Гедеон кидается к Нафанаилу за подмогой, а тот совершенно всерьез вручает ему кого-нибудь из облепивших его детенышей в надежде, что Гедеон остепенится наконец и поймет, насколько отцовство почетнее этих дурацких ристалищ. Гедеон обескураженно чешет в затылке. Что случилось с его кумиром? Нафанаил, старший брат, который сам его воспитывал, каких-то пару лет провел в новом стаде, и здрасте, приехали — мяса не ест, ходит на антивоенные демонстрации, обнимается со всякими девицами без лифчиков. Гедеон был в полнейшем замешательстве.
Итак, отвоевать главенство в иерархии Гедеону пока не удавалось, хотя он по-прежнему уверенно претендовал на звание «Новичок года». Гораздо менее триумфально обставил свой приход Авессалом. При взгляде на этого робкого вертлявого юнца никак не верилось, что он уже взрослый и пришел из другого стада. Я не помнил его ни по одному из соседних, а это значит, что он перебрался издалека и довольно долго болтался один, прежде чем пристроиться на самые скромные позиции к моим павианам. Его открытую бесхитростную физиономию портил большой нарыв рядом с пастью — наверное, болезненный, поскольку жевал он только противоположной стороной челюсти. Авессалом был нетипично дружелюбным и неумеренное количество времени проводил, играя бровями и строя рожи всем и каждому. На его приветствия никто, за исключением Вениамина и семейства Рахили, не обращал внимания. Как-то, расхрабрившись, он состроил рожу и мне — я ответил, несказанно удивив его тем, что говорю по-павианьи. Он состроил еще — я ответил, и у нас сложился почти ежедневный ритуал межвидового общения.
Недавно Авессалом обнаружил, что на свете существуют девочки, и погряз в подростковом вуайеризме. К подобной озабоченности стадо за последние годы уже успело в какой-то мере привыкнуть. Ионафан по-прежнему сходил с ума по Ревекке (которая, отвергая его, проявляла все большее неблагоразумие, потому что он вырастал в завидного жениха), Адам все так же следовал по пятам за Куцехвостой — и даже когда их пассии предавались любовным утехам с кем-то другим, Ионафан и Адам наблюдали за ними из укромного одинокого уголка. Но Авессалом вывел это занятие на новый уровень. Стоило хоть кому-то в стаде затеять брачные игры, как в ближайшие кусты непременно прокрадывался Авессалом в надежде почерпнуть что-нибудь полезное. Даниил заигрывает с Мариам, которая за всю жизнь не распалила всерьез ни одного самца, а в десяти шагах ошивается Авессалом, выворачивая шею, чтобы ничего не упустить, и всю дорогу теребя свой хвост. А уж когда начинался эструс у кого-нибудь из настоящих секс-бомб — у Деворы или Бупси, например, — Авессалом из кожи вон лез. Как-то раз Меченый с Деворой, чья половая готовность была очевидна, мирно обыскивали друг друга. Они сидели на отшибе, в уединении, явно настраиваясь на переход к полному интиму, и тут нависавшая над ними ветка, на которую бесшумно перетек Авессалом, чтобы совсем уж ничего не упустить, обломилась, и он с треском рухнул прямо на них. Надо ли говорить, что Авессалома, несмотря на всю его озабоченность, с момента прихода в стадо женская рука не касалась даже для обыскивания, а о более занимательных вещах и речи не было, и я лично убеждался при анестезии, что шерсть его кишит блохами.
Если Авессалом наверняка охотно перескочил бы через несколько лет, чтобы скорее вступить в пору грозной зрелости, то некоторые другие явно предпочли бы отсрочить удлиняющиеся закатные тени. Постаревший Саул пристрастился ковылять за четверть мили к гостинице и воевал с гостиничными павианами за отходы в мусорных баках и на свалке — так проще, чем часами искать себе пропитание в лесу. Аарон, постаревший и одряхлевший еще больше Саула, перешел в гостиничное стадо насовсем. Непостижимо, но сладострастная задорная Афган тоже выглядела потрепанной жизнью, как и Мариам, которую стремительно старило огромное потомство с его массовыми истериками. Сдавала и Руфь — ее, без сомнения, губили тревожность и пугливость, которые с годами только усугубились. Состарилась еще сильнее старуха Ноеминь, и даже Рахиль, еще не вышедшая из среднего возраста, все больше напоминала свою ветшающую мать — как-то раз я даже по ошибке записал ее Ноеминью в своих полевых заметках. И именно в этот сезон я с потрясением обнаружил и у Исаака, и даже у Иисуса Навина с Вениамином старческие вены — кожа делалась морщинистой, бумажной, вены под ней блуждали, в них становилось труднее попасть иглой, когда берешь кровь. И что еще печальнее, все трое покрывались старческими пигментными пятнами.
Со старением было связано и одно из самых примечательных наблюдений того периода. В числе действующих лиц оказался Десна, с которым за несколько лет пребывания в стаде не случалось ничего интересного и который, в принципе, кроме своей глубокой дряхлости, ничем не выделялся. Другой участницей была старуха Лия, мать Деворы, главная самка стада — строгая, непреклонная, суровая. До этого сезона я совершенно точно не видел, чтобы Лия и Десна удостоили друг друга хотя бы взглядом. И тем не менее эти двое влюбились — точнее, пали друг другу в волосатые объятия, точнее, учудили нечто невиданное мной ни до, ни после. Для начала они просто исчезли. Стадо ночевало в лесу, в роще, разросшейся на несколько акров, так что я легко мог упустить кого-то из виду в подлеске или во время кормежки на окраине чащи. Но когда во время сухого сезона стадо движется через открытое поле по голой стерне, все видны как на ладони. А Лия с Десной просто взяли и в одночасье растворились в воздухе. Для подростка или заматеревшего самца это было бы в порядке вещей — они переходят в другое стадо или по крайней мере исследуют такие возможности. Когда исчезает пожилая особь, подозрение падает в первую очередь на гиен и львов. Но чтобы два старейших пропали разом?
В соседних стадах они не показывались, у мусорных контейнеров гостиницы тоже ни следа. Не было их и в лесу, где они могли бы отлеживаться, больные и немощные, не в силах выбраться на поиски корма. Я проверил гиеньи логова на предмет костей и еле увернулся от буйвола в обмелевшем русле, где выискивал свежие черепа. Ничего. Отсутствие Десны в стаде не заметили (такова судьба почти всех самцов), а вот Девору пропажа матери явно сбивала с толку. День за днем прошла неделя, я уже махнул на обоих рукой, решив, что они просто одновременно попались в лапы хищникам.
Потом, когда миновало еще несколько дней, я оставил стадо средь бела дня и поехал в лагерь кружным путем, через пустошь за облюбованной павианами чащобой. И там, на дальней окраине, на лугу, куда павианы наведывались раз в пять лет, я и увидел эту парочку. Они не кормились, не обыскивали друг друга, просто сидели рядом. При моем приближении Лия, почти двадцать лет регулярно наблюдавшая человека в непосредственной близости, воззрилась на меня дикими глазами и на негнущихся ногах ускакала в ближайшие кусты — Десна за ней с таким же безумным взглядом.
На следующий день, когда стадо откочевало в противоположном направлении, удалившись от этой пустоши миль на десять, я вернулся к тому укромному уголку и выследил Лию с Десной еще дальше от края чащобы. Я разглядел их силуэты вдалеке, на продуваемом всеми ветрами склоне, где в изобилии водились дикие цветы и львы. Больше я их не видел.
Второе примечательное событие того периода претендовало на исключительность независимо от главного героя, но поразительная доблесть Вениамина, от которого ее совсем не ждали, перевела происходящее в разряд сверхъестественного. Был разгар дня, павианы бездельничали. Адская жара, у хищников в это время суток заведено отсыпаться, поэтому павианам можно ослабить бдительность. Стадо перебралось через обмелевшее русло и нарвалось на дремлющую львицу. Хаос, вопли, все кидаются врассыпную, львица вскакивает. Матерые самцы, разумеется, поступили как положено, то есть, задрав хвост, рванули на ближайшее надежное дерево. Самки, не в пример им, прежде чем спасаться на деревьях, кинулись хватать детенышей. У львицы разбегались глаза, как у ребенка в кондитерской, — то за одним погонится, то резко свернет за другим, обалдев от богатейшего выбора. Упустив в итоге всех, львица застыла посреди поляны, рассерженно сопя, в окружении павианов, верещащих на деревьях.
И тут все мы — львица, павианы и я — заметили двух детенышей. Два годовалых малыша на самом краю поляны, на тонком деревце, склонившемся под их весом почти горизонтально до жалких полутора метров над землей: такие помехи — львице секунд на десять. Матери детенышей Афган и Мариам остались на другом краю, отрезанные стоящей посередине львицей. Всеобщая истерия и паника, львица направляется к детенышам. Согласно устаревшим учебникам по приматологии, теперь, выполняя свой долг главы стада, на помощь должен ринуться альфа-самец. В действительности же, как я не раз замечал, руководящую роль играет генетический эгоизм — если кто-то согласен жертвовать собой, то только ради близкого родственника, носителя значительной доли общих с ними генов. Здесь этим двоим не повезло, ни у кого из них не было явного, «законного» отца — такого как Иисус Навин, который опекал Авдия, плод своих подростковых шашней с Руфью. Большинство матерых самцов возбужденно улюлюкали, имея отличный обзор сверху, самки тревожно кричали, Афган и Мариам лихорадочно метались вверх-вниз по стволу — и тут, как гром с ясного неба, грянул Вениамин. Непонимание современного эволюционного мышления он успел продемонстрировать еще во время своего недолгого альфа-царствования, пытаясь умыкнуть у грозного Манассии взрослую Девору, и теперь только подтверждал свое невежество: ни один из детенышей ни при каких обстоятельствах не мог быть его кровным отпрыском. Но вот он мчится с рыком, ревом и угрожающим ворчанием — и, опередив львицу, закрывает собой деревце. Львица приближается, Вениамин, оскалившись и выставив клыки, с рыком угрожающе подпрыгивает, готовый броситься. Я цепенею, столбенею, холодею от ужаса, как и все остальные. Львица все ближе, Вениамин начинает отступать за деревце, но почти ощутимым усилием воли выталкивает себя обратно. Он в любую секунду может отскочить и сбежать, но вместо этого кидается вперед с бешеным оскалом. И это действует. Львица останавливается в каких-нибудь пяти шагах, дергаясь от каждого Вениаминова выпада. Напружинивается перед прыжком, поднимает лапу… мгновение скребет когтями землю — и удаляется. Ну вас всех к лешему с вашим очумевшим павианом, пойду лучше вздремну. Двое детенышей, спрыгнув с деревца, несутся к своим мамам.
Не знаю, чего я теперь от них ожидал. Что Мариам и Афган будут до конца жизни обыскивать Вениамина или хотя бы устроят парад в его честь? Что все самцы будут хлопать его по плечу? Еще немного поверещав на львицу, стадо резко вернулось к кормежке, а Вениамин залез на дерево и пружинил в кроне, ломая ветки, — сбрасывал напряжение и выпускал пар. Остаток дня прошел без происшествий.
При Меченом большинство замен в составе стада происходило среди младшего поколения. Авдий, достигнув возраста самостоятельности, подался в дальние края, и больше его никто не видел. В стадо пришел Шрам, названный так за глубокую царапину на носу, — молодой, неловкий и заторможенный, он никак не продвинулся в иерархии, получал тычки даже от безобидного Адама и потому довольствовался апатичным доминированием над Авессаломом и Хромым. Еще один пришлый подросток, Иессей, познакомил стадо с новым поведением, подтверждая актуальность понятия «культурные различия» среди разных популяций одного вида приматов. Его прежнее стадо обитало через две территории к югу, у реки на кенийско-танзанийской границе, и явно привыкло обильно плескаться в ручьях. Иессей ввел обычай переходить водные потоки на задних ногах, выпрямившись. Было ли это его собственным изобретением или привычкой всего прежнего стада, имел ли этот способ адаптивную подоплеку (например, меньше подставляться водным паразитам) или просто позволял не мочить сразу все четыре конечности — я не знаю, но вскоре все молодые павианы принялись переходить ручьи на двух ногах.
В этом сезоне Ревекка родила первого детеныша (увы, почти наверняка не от страдающего по ней Ионафана, который, насколько я видел, за весь период ее эструса ни разу не смог к ней подобраться). Первородящие редко овладевают всеми материнскими навыками сразу, но Ревекка была просто катастрофой. Она забывала детеныша в кружке остальных самок, постоянно его шлепала, никак не могла правильно пристроить себе на спину, и он то и дело болтался где-то сбоку, цепляясь за основание ее хвоста. Как-то раз, когда она перепрыгивала с ветки на ветку, малыш, висевший на ней в таком вот ненадежном положении, сорвался и шлепнулся на землю с трехметровой высоты. Все видевшие это приматы продемонстрировали близкое взаимное родство, подтвердив своим восприятием и откликом, что мы, возможно, используем одно и то же количество синапсов в мозге, поскольку реакция была единодушной. Пять павианих и ваш покорный слуга разом ахнули. А потом замерли, впившись взглядом в детеныша. Минута, и он уже поднялся, оглянулся на сидящую на дереве мать и поскакал к приятелям. Мы же все в один голос облегченно зацокали языком.
Так прошел этот сезон: Ревекка осваивала тонкости материнства, Авессалом подглядывал по кустам, Меченый измывался над всеми подряд. Как-то раз он и мне указал на мое место в иерархии, причем достаточно обидным способом. Дело было в лесу ранним утром, я только что на редкость удачно анестезировал Рувима. Он топал сонный, еще не до конца проснувшийся, и я выстрелил ровно в тот момент, когда он показался в просвете между кустами — дротик угодил точно в бедро, когда голова и плечи уже скрылись за следующим кустом, поэтому он никак не мог видеть, откуда ему прилетело. По плану ему надлежало пройти несколько шагов до укромного места, удобно там усесться и вырубиться. Вместо этого Рувим кинулся на стоящего неподалеку Адама, зигзагом пронесся по зарослям и прямо перед носом угрюмого буйвола метнулся через глубокий лесной ручей на другой берег. Спасибо, удружил. Проследив за ним взглядом и убедившись, что анестезия действует и далеко павиан не уйдет, я пустился в пятиминутный объезд на ту сторону ручья, поскольку перебраться пешком мне мешал буйвол.
На повороте, уже разглядев впереди лежащего без движения Рувима, я вдруг заметил крупного самца, который стремительно к нему несся. Я напрягся. Меченый. За анестезированным павианом нужен глаз да глаз не только потому, что он может забрести в дебри и заблудиться в помутнении сознания или пораниться, отключаясь, но и потому, что, воспользовавшись минутной уязвимостью животного, его способен покалечить соперник. И вот теперь Меченый пулей летел в сторону вырубающегося Рувима, а я никак не успевал добраться до него и защитить.
Я завертелся в поисках еще одного дротика, чтобы выстрелить в Меченого, но павиан был слишком далеко. Может, выскочить из машины и завопить, размахивая руками? Я несколько раз нажал на клаксон — Меченый не остановился. Рувим, через силу приподняв голову, уставился на Меченого, которому оставались считаные шаги, и выдал полубессознательную гримасу испуга.
Медленно, с оттяжкой, Меченый возложил одну длань на плечо Рувима, другую — на бедро. А потом, откинувшись назад, протрубил победный клич на весь лес, чтобы слышал каждый павиан в каждой кроне. Постояв немного в триумфальной позе, Меченый маршевым шагом скрылся в подлеске.
Непостижимо. Эта сволочь приписала себе сраженного мной павиана.
23. Налет
По критериям каких угодно племен теперь я был взрослым. В Америке порукой тому служила кредитная карта. В племени высоколобых — настоящая работа, должность университетского профессора. А к масаи я вернулся во время царствования Меченого с самым наглядным из возможных доказательств — после стольких лет сбегания в палатку от любого намека на близость я наконец нашел ту, вместе с которой мне хотелось сбежать в палатку.
Я познакомился с Лизой ближе к концу постдиссертационной практики в Сан-Диего, перед самым переходом в Стэнфорд. В первой же нашей беседе я уже плел сети, уговаривая ее переехать в район Залива. «Вам Сан-Франциско понравится как никому другому», — заявил я, ровным счетом ничего не зная ни о ней, ни о Сан-Франциско, но решив, что такое заявление должно подействовать. Как выяснилось, подействовало.
Мы представляли собой забавное сочетание частичных совпадений. Оба оставили полевую биологию — я год от года все дольше работал в лаборатории, а Лиза, начинавшая как морской биолог, увязла в зубодробительном исследовании раков-отшельников или чего-то в этом роде и, успев осознать, что не готова посвятить себя этому целиком, ушла в клиническую нейропсихологию. Она, как и я, воспитывалась в семье «старых левых». У меня в Бруклине это подразумевало, что престарелые родственники ссорятся друг с другом на идише из-за предательства Троцкого Сталиным, а у Лизы в Лос-Анджелесе это означало знакомство с фигурами вроде Пита Сигера и Джоан Баэз. Мы оба были убежденными атеистами. Я пришел к этому через «бурю и натиск»[16], перепахав себя целиком, а для Лизы это было примерно как отказ от веры в пасхального кролика. Мы оба росли в мультикультурной среде, но у Лизы это были карнавалы на Синко де Майо[17], а у меня — выучивание всех этнических кличек в достаточно нежном возрасте.
У нее было восхитительно сардоническое чувство юмора, а еще она пела как соловей. Она понимала, в отличие от меня, как в действительности устроен этот мир, но понимание не лишало ее сентиментальности. Ее профессионализм и мягкость по отношению к пациентам с Альцгеймером и черепно-мозговыми травмами трогали меня до слез. У нас обнаружилась общая слабость к ветхозаветным именам. А еще она была красавицей. Вскоре мы уже коротали время на рейсе в Кению — Лиза сочиняла свадебные приглашения, а я прикидывал, что отвечу Соирове на вопрос, сколько коров я за нее отдал.
Я предвкушал, как буду открывать для себя Африку заново, смотря на нее глазами Лизы. Невозможно было устоять перед искушением показать себя стреляным африканским воробьем, учитывая мою многолетнюю закалку и опыт. Я попытался просветить Лизу насчет найробийского коварства и жульничества и тут же вляпался в совершенно новую мошенническую ловушку, которую Лиза раскусила в пять секунд. В лагере Лиза с крайней опаской ждала прихода муравьев-легионеров, и я со смехом заверил, что в ближайшие недели мы не увидим ни одного. Надо ли говорить, что уже на второй день началось пятилетие практически еженощных нашествий муравьиных полчищ, которые раз за разом выгоняли нас из палатки. А еще Лизе хватило пары недель, чтобы превзойти меня в стрельбе дротиками.
Присутствие Лизы многое представляло в новом свете. Лагерь вдруг наводнила ребятня из деревни, прибегающая поиграть, и только теперь я осознал, каким нелюдимым чудаком, наверное, казался им, когда сидел тут один. Рода с подругами теперь тоже наведывались ежедневно — тащили Лизе сплетни, которые для меня были сплошной абракадаброй: кто с кем спит, кто не спит с тем, на кого все думали, кто каждую ночь сбегает из хижины одной своей жены к другой и третьей, пытаясь застукать кого-то из них с другим… Что я во всем этом понимал? Вскоре Лиза получила первое приглашение на церемонию обрезания клитора — мне о таких делах никто до тех пор даже полслова не шепнул. Потом как-то раз в лагерь нагрянули две проститутки из административной части гостиницы в надежде раздобыть лекарство от заболевания явно венерического свойства, поразившего одну из них. И вот я, бесполезный белый мужчина, обложившись медицинской литературой и словарем суахили, мучительно выстраиваю фразу: «У вас были в последнее время выделения из влагалища?» И тут Лиза просто изображает сморкание, трясет рукой с воображаемыми соплями, а потом показывает, будто сопли текут у нее между ног, — и получает энергичное «Да!» от пациентки.
Позорно провалив попытку явить опыт и знания и тем сойти за стреляного африканского воробья, я решил напирать на традиции — нудить, что прежде все было не так, как нынче: «Вот когда я сюда только-только приехал, ближайшее икс было за сорок миль, а игрека и вовсе не водилось, и через каждые двадцать шагов на тебя кидался зет, а теперь тут просто Диснейленд какой-то». Лиза пропускала это все мимо ушей. И хорошо, потому что через считаные недели после ее прибытия нам вполне доходчиво продемонстрировали, как мало здесь на самом деле изменилось.
В тот год Самуэлли решил, что, пожалуй, ему нужна работа не только на три месяца моего полевого сезона. Он нанялся в местный туристский лагерь, делил с Ричардом комнату в поселке для персонала, следил за безопасностью, занимался ландшафтным дизайном, ремонтировал хижины, при необходимости отводил реку. При каждом удобном случае он по-прежнему заглядывал к нам, помогая разбираться с проблемами архитектурного свойства.
Соирова естественным образом переселился к нам в лагерь. С собой он прихватил дальнего родственника, парня по имени Уилсон, надолго приехавшего с другого конца масайской территории к родственникам Соировы. Вместе они представляли анекдотическую пару городского и деревенского кузенов. Соирова — почти классический типаж благородного немногословного масаи, который водит дружбу с людьми, вроде киногероев Роберта Редфорда. Уилсон же выглядел раздолбаем, по крайней мере по масайским меркам. Он происходил из другой ветви масаи — из клана, обитавшего к северу от столицы округа и давным-давно отказавшегося от традиционного уклада. Парень вполне сносно изъяснялся на английском, одевался на западный манер, а его семья гордилась своим умением выращивать кукурузу — куда уж менее масайское занятие. Мы подозревали, что в здешней деревне его считают слюнтяем. Недавний подросток, он был неловкий, нескладный, несуразный и совсем не по-масайски несдержанный в эмоциях. Расстраиваясь, впадал в безутешную скорбь; нервно хихикал, наблюдая, как я беру биопсию яичка у павианов; беспомощно всплескивал руками и суетился, когда Лиза его поддразнивала. Как-то вечером Соирова рассказывал нам о своей инициации — о том, как в качестве воинского испытания ему полагалось убить льва. Мы спросили Уилсона, участвовал ли он в таком же обряде. «Нет, — пожаловался он, — мне нужно было ходить в школу». Тогда мы заподозрили, что он приехал к своему дальнему родичу Соирове в надежде набраться настоящего масайства.
Так мы и жили: Соирова отважно уходил в кишащую буйволами чащобу за хворостом, когда всем остальным не хватало духу, Уилсон вне себя от счастья лазил под капотом, ежедневно проверяя свечи зажигания. А потом как-то утром поднялся вой.
Мы с Ричардом и Лизой стреляли дротиками на одном из самых наших нелюбимых участков, пробираясь между туристами, палатками и автомобилями за шатающимися по лагерной территории павианами. Мы уже почти прицелились в кого-то, и тут с хребта позади лагерей, где начинались деревни, донеслось завывание. Ричард, к этому времени уже достаточно хорошо знакомый с масаи, сразу же напрягся. «Беда», — сказал он. Вой продолжался и, казалось, завис в воздухе между двумя деревнями — сдавленный накатывающий волнами вопль, в котором лишь изредка слышалось что-то человеческое. Мы стояли в оцепенении, не дыша, пытаясь понять, что происходит; туристы, поддавшись нашему настрою, настороженно и озабоченно толпились у нас за спиной. «Может, пойти туда узнать, не нужно ли помочь?» — предложила Лиза. «Может, пора готовиться срочно драпать», — ответил я.
Из деревни потоком хлынули женщины, воя, размахивая руками над головой с аффектированной театральностью, и это приводило в еще большее смятение, поскольку масаи не свойственна ни аффективность, ни театральность. Видимо, в деревне разразилась какая-то особенно кровопролитная драка, и теперь перепуганные стенающие женщины пытаются укрыться у соседей, подумали мы, но потом заметили, что женщины носятся туда-сюда. Вскоре пронзительный вой раздавался из обеих деревень. Теперь, встревожив нас не на шутку, метались, словно обезглавленные куры, и мужчины. К стенающему хору присоединялись другие деревни, выше и ниже по реке. «Зовут на помощь», — сказал Ричард.
Мы смотрели на эту необъяснимую суматоху как на живые картины — нечто яркое, экзотическое, бурлящее, запечатленное в редкой хронике National Geographic. Мы стояли разинув рот. Туристы за нашей спиной тоже стояли разинув рот. А с лагерным персоналом за их спиной творилось нечто довольно устрашающее. Туристские фирмы обычно отправляют сюда в качестве поваров и руководителей туров найробийцев из земледельческих племен. Однако на черную работу — охранять лагерь, чистить картошку, ставить палатки — нанимают местных из масайских деревень вдоль реки. Они носят неизгладимый отпечаток кросс-культурного обмена — застиранную одежду с туристского плеча, шорты с эмблемой какого-нибудь университета, футболки с конкурса чили в Эль-Пасо; у бывших воинов появляется заискивающее выражение лица и цепкий взгляд охотников за подачками.
И вот мы с туристами стоим и смотрим, а хрестоматийный масаи, которого туристы только что для смеха учили танцевать летку-енку и который должен под эти всепроникающие завывания чистить картошку, — этот масаи становится сам не свой. Скрывшись за ближайшим кустом, он вдруг преображается: дырявую футболку «Вайкики Оупен» долой, завернуться в алую накидку, в руке теперь невесть откуда взявшееся копье, вперед. По всей реке, во всех лагерях заискивающие чистильщики картошки ныряют в кусты, выныривают в воинском облачении и с завываниями несутся в хронику National Geographic.
Это был налет куриа. Когда-то куриа ничем не отличались от других племен, регулярно притесняемых масаи. Но произвольно проведенная через Серенгети государственная граница сделала их танзанийцами и дала им неожиданный козырь. Танзания беднее Кении, армия там финансируется хуже, и кто-то из куриа смекнул, что за некоторую мзду военный может «потерять» личное оружие. Куриа, сами служившие в армии, тоже частенько теряли автоматы накануне увольнения. И теперь куриа наносили визиты масаи не с пустыми руками.
На этот раз они нагрянули безлунной ночью. Большинство коров находилось миль за двадцать к западу, во временном загоне. Там куриа и напали, устроили перестрелку, похитили коров. Гонец масаи, отмахав двадцать миль, прибежал как раз когда мы прицеливались дротиком, и вот тогда из деревни в деревню понесся вой.
У куриа имелась фора в несколько часов, но им приходилось топать с сотенными стадами через саванну, защищая скот от хищников и бросая по пути слишком медленно идущих коров с телятами. Воины масаи тем временем смыкали ряды, намереваясь дать совершенно традиционный, хоть и абсурдный, отпор: гнаться тридцать миль с гаком за куриа и своими коровами до самой танзанийской границы, а там отбивать свое имущество с копьями против автоматов.
Вокруг носились воины с копьями. Первый отряд промчался мимо нас, пересек реку и устремился в погоню. Остальные пока формировались. Мы с Ричардом и Лизой сделали самое логичное — загнали машину в густые заросли и затаились. Ясно как день, что наши соседи-масаи в любой момент могут нас обступить, потрясая копьями, и назначить добровольцами по доставке их на линию фронта. Во время последнего набега куриа у масаи погибли двое. В предпоследний раз, когда успели подойти кенийские охранники (преимущественно масаи), погибло двадцать два куриа. Нет уж, давайте без нас. Но что-то подсказывало мне, что отговорка про страховку, категорически запрещающую ввязываться в битвы с вооруженным автоматами противником, у масаи не прокатит. Поэтому мы спрятались в кустах.
В конце концов, горизонт вроде бы расчистился, и мы сбежали в лагерь. На половине дороги нам попался Соирова. Его коров тоже угнали, и он тоже собирался нестись в Танзанию с копьем наперевес. Обычно невозмутимый, Соирова рычал от ярости и трясся от бурливших в нем эмоций и предвкушения. Он ждал нас — не с просьбой подвезти (уже после мы с некоторым стыдом, но и с облегчением сообразили, что для масаи ловить нашу машину в качестве попутки до поля боя — такая же нелепица, как советоваться с нами насчет сцеживания коровьей крови, поскольку это сугубо масайские дела), а чтобы предупредить об уходе. «Я за своими коровами в Танзанию», — сообщил он, не забыв, прежде чем умчаться навстречу вражеским автоматам[18], успокоить нас, что хвороста он натаскал.
Потрясенные, взбудораженные, мы вернулись в лагерь, где оставшийся не у дел Уилсон заваривал чай. «Хей, Уилсон, что ты обо всем этом думаешь?» Он не местный, у него никто не угонял коров. «Эти куриа есть твою мать». Английские ругательства ему пока еще не очень давались. «Грозят оружием, забирают коров, и теперь масаи нужно бежать в Танзанию. Даже Соирове, у него всех забрали. Может, он погибнет, когда будет сражаться», — с неуместным смешком закончил он и долил нам еще чаю.
Весь день Уилсон жил обычной жизнью. Лизу же все увиденное потрясло до глубины души, и она забрасывала Уилсона вопросами.
— Масаи действительно будут бежать до самой Танзании?
— Да, дня два, может.
— Но как?
— Они воины, сильные.
— Вот так вот бегом в Танзанию сражаться? Уилсон, а у вас то же самое, вам тоже приходится отбивать коров, когда их кто-нибудь угоняет?
— Ну, нет, мы не такие, как эти масаи, которые бегают в накидках. Мы выращиваем кукурузу, — с гордостью заявляет Уилсон.
— Совсем никаких коров? Разве не у всех масаи есть коровы, масаи ведь их любят?
— Нет, у меня никаких коров. Я не люблю коров, не люблю этих грязных масаи, которые только думают про своих коров.
Лиза копнула глубже:
— Значит, тебе нет дела до коров и до куриа и ты не побежишь в Танзанию?
— Ну, нет! — вскинулся вдруг Уилсон. — Я бы тоже пошел, я бы прямо сейчас побежал в Танзанию.
— Тогда почему ты не бежишь?
— Кто-то должен смотреть за лагерем, — ответил он обиженно, как будто его заставляют упражняться на скрипке, пока остальные мальчишки улизнули мучить кошек. — Я бы тоже побежал в Танзанию биться с куриа.
— Но там же можно погибнуть, зачем тебе туда, это ведь не твои коровы?
— Я бы сражался, я не боюсь умереть.
— Но ты ведь не любишь коров?
— Нет, не люблю. Но я не боюсь умереть за коров.
Обозначив таким образом свою позицию, он вернулся к более насущным вопросам — напомнил Лизе, что она обещала научить его жарить гренки как французы.
24. Лед
О, счастье! Блаженство! Мы с Лизой взбираемся на африканскую гору и идем в земледельческую деревню, навьюченные гитарой и флейтой, чтобы посидеть вечерком у костра в тесном кругу поселян, разучивая с ними песни Поля Робсона. Феерия! Социалистический летний лагерь, плюс восточноевропейская деревенская гулянка, плюс митинг «Свободу Розенбергам!», плюс молитва на Песах о независимости Палестины, плюс «нет салату айсберг, нет бритью ног и подмышек» — это и есть рай земной! Сидеть плечом к плечу, держаться за руки, видеть вокруг озаренные костром вдохновенные лица, смотреть на спящих детей, уютно посапывающих на коленях у родителей, распевать «Go Down Moses», «Blowin' in the Wind», «Ни гроша за душой, паровозный гудок донесется до тебя за сотню миль»[19]. Никто здесь понятия не имеет, что такое грош — да и миля, если на то пошло, — но какая разница, я тоже не понимаю песни кипсиги, которым нас учат в ответ, это не-важ-но, это никому не мешает раскачиваться и хлопать в ладоши под «Не хочу войны опять»[20]. Нет, столько блаженства мне не вместить, окуните меня кто-нибудь в желатин, законсервируйте этот миг для музея естествознания, я буду эталоном ликующего либерала.
Едем в гости в родную деревню Ричарда и Самуэлли. Если это можно так назвать. Едешь через земли масаи, плоскую пустынную саванну, и вот через сотню километров начинаются вспаханные холмы, владения кипсиги, перерастающие в конце концов в покатые горные склоны, — и ни одного невозделанного клочка земли. Непонятно, что считать деревней. В каждой долине — фактория: родник, лавка с молоком, сахаром и мукой, школа и работающая раз в неделю амбулатория. А вокруг по всему склону глинобитные хижины с соломенной кровлей — одна на полдесятка акров кукурузы. Сложно сказать, что они подразумевают, говоря «моя деревня», — свои дома, дома ближайшей родни или весь горный склон. Все между собой в сложном родстве на грани инцеста, каждому склону положен один деревенский дурачок, один муж-тиран, один молодой выскочка, первым покрывающий дом жестяной кровлей, и один старик-шаман, а все остальные по уши в кукурузе, и кругом куры, дворняги, коровы, гуляющие по дому, ослы-водовозы, бесконечная ребятня и радостные восторженные приветствия. Подъем наверх занимает не один час. Сворачиваем с гравия, закончившегося пять километров назад, и продираемся по коровьей тропе, приводя в восторг высыпающих навстречу местных — до сих пор сюда ни одна машина не заезжала, и уж тем более с белыми, которым подавай спевки и хоровое исполнение песен борьбы и труда. С гиканьем и радостным гомоном люди бегут рядом с машиной, дети в школьных шортах оттаскивают камни с дороги, подталкивают в трудных местах, помогают пробуриваться на полном приводе вверх по склону через старое кукурузное поле. Наконец мы сдаемся и дальше топаем пешком — с процессией желающих понести спальники, гитару, коробку с гостинцами. Праздничная вереница вьется по склону, дальняя родня окликает с межи и зовет заглянуть на чашку чая, во главе гордо шествуют Ричард и Самуэлли — блудные сыновья, вернувшиеся не одни, а с белыми друзьями. Люди запевают еще на склоне, коровы подходят обнюхать вас. Счастье!
Вершина. Кукуруза, деревья, вид на все четыре стороны, тень под стенами Ричардова дома. Мы с Лизой пытаемся незаметно обняться — «невозможно вынести столько восторга разом», — и догнавшая нас ребятня, заливаясь смехом, тоже кидается обниматься. Все дарят цветы, здороваются за руку с родителями, сестрами, невестками и просто встречными и поперечными. Притаскивают горы печеной кукурузы, а мы еще даже не присели. Приводят больных детей, начинается раздача витаминов, антибиотиков и мазей под укоризненное цоканье языком и наставления насчет промывания глаз и обязательной ежедневной порции молока. Дарим воздушные шарики. Дети в испуге отскакивают, и мы показываем, как перекидывать их друг другу и хлопать по ним ладонью, только не сильно. Универсалия, выведенная из наблюдений за детьми кипсиги, масаи и Бруклина: все дети в течение десяти минут, необходимых, чтобы понять принцип надувания шарика, надувают очередной, не завязывая, подносят к заду своего приятеля, а потом выпускают воздух, имитируя неприличный звук. Кто-то делает открытие: если надуть шарик, а потом выпустить воздух через мою флейту, она заиграет, — человек только что заново изобрел волынку. Мы привязываем шарик к крыше зубной нитью и играем в тетербол[21]. Какой-то мальчишка отсиживается в стороне, надутый и разобиженный после устроенной родителями взбучки. Отдавая дань доземледельческим обычаям предков, он вырыл на тропинке яму, прикрыл листьями и пальмовыми ветками и благополучно поймал туда соседа-ровесника. Никаких отравленных кольев, ничего такого — просто немного детской радости и хорошая трепка. «Так ловят слонов, а не соседа Кимутаи!» Мальчишка еще шмыгает носом, но в конце концов тоже включается в игру.
Кроме шариков и зубной нити обитателям склона еще много с чем удается познакомиться — рис, арбуз, очки, лейкопластырь, мыльные пузыри. Возможности бесконечные. Ко второй половине дня Лиза уже помогает кому-то готовиться к выпускным экзаменам. Основы геометрии, английская грамматика, определить, как засеивать поле — рядами или контурным методом. Хороший вопрос. Я тем временем отбиваюсь от парня, решившего устроить мне географическую викторину. «Сколько километров в вашей реке Миссисипи? Сколько коров в вашей провинции Миннесота? Сколько тонн кукурузы производит ваш округ Нью-Джерси?» Утомившись, я решаю, что ему просто хочется обставить меня в знании Новой Англии и других частей Америки. В отместку обещаю научить его важным английским словам, без которых ему нигде ходу не будет, и скармливаю ему гангстерский жаргон 1920-х годов. Разборки. Малина. Ствол. Бутлегер. Дон. Синдикат. Угостить свинцом. Цыпочка. Ричард, присоединившись, с серьезным видом втолковывает ему, что все это обязательно надо вызубрить, и приятели его тоже пусть учат. Чуть позже, когда мы будем рассказывать заинтересованным слушателям, как анестезируем павианов дротиками, этот парень заявит: «А, так вы их свинцом угощаете!» Да-да, именно, поздравляем, молодец.
Дело к вечеру, пора фотографироваться. Вверх-вниз по склону, семьи высыпают навстречу в полном составе, мы делаем кадр за кадром и обещаем отдать всем снимки в следующий приезд. Фотографироваться здесь до сих пор не привыкли — у кенийцев с фотопортретами те же сложности, что и у американцев в начале XX века: все постановочное, никто не улыбается, сниматься положено только при полном параде. Люди переодевались весь день, вся нищая деревня стирала, шила и штопала. Групповые портреты, драгоценных младенцев поднять повыше, любимых коров в центр. Тем, кто учится в школе, непременно нужно запечатлеться с открытой книгой и воздетой к небу рукой, читающими Нагорную проповедь. И вот яркая, красочная толпа, бурлящая живой энергией, превращается в стопку убийственно серьезных, удручающих дагерротипов.
Вечер. Горы картошки и капусты, одного ребенка с осликом отряжают вниз в лавку за главным угощением — содовой для всех. Забивают козу. Нам, как почетным гостям, первым подносят всякие жутковатые неопознанные органы. Лиза, приехавшая в Кению такой же убежденной вегетарианкой, как и я много лет назад, и осознавшая, что выбор сейчас проходит между добродетелью воздержания от мяса и добродетелью уважения к устроителям пира, причмокивая от удовольствия, поглощает козью требуху. Радость, единение, все расслаблены и счастливы, все лопают от пуза. Мы запеваем, разучиваем песни. В ответных выступлениях солирует Джулиус, ангельского вида подросток, которого Лиза экзаменовала по геометрии, — нежным приглушенным голосом, сосредоточенно морща лоб, он выводит мелодии кипсиги. Трое суровых мужчин почти разбойничьего вида, дальние родственники, которые все это время сидели молча у самой стенки, ни в чем не участвуя, вдруг после долгих серьезных и напряженных перешептываний объявляют через Ричарда, что у них есть песня, особенная песня, и они хотят ее спеть. Это оказываются «Три слепые мышки», исполняемые с почти религиозным трепетом невероятной фальцетной трехголосицей. Поем дальше, нас учат церковным песнопениям — о Вавилоне, Сионе и встречах с Господом. Похоже, у миссионера, который вместо попыток лечить их от глистов, строить школы голыми руками или проповедовать теологию освобождения назло правоцентристским батальонам смерти, просто сидит и распевает песни в кругу радующихся людей, жизнь складывается вполне приятная и беззаботная.
Наконец спевки прерываются — наступает время главного события вечера. Я ненавижу фокусы, всегда ненавидел, не умею их разгадывать, и меня раздражает сам процесс. Но сейчас, куда деваться, мне предстоит исполнить фокус. Старое испытанное «исчезновение носового платка в кулаке, а на самом деле в незаметной накладке на большом пальце». Передо мной люди, которые никогда не смотрели кино, не видели телепередач и журналов, а из всех механических источников звука слышали разве что автомобиль, радио и установленную в лавке дробилку для кукурузы. Зрелище сражает их наповал. В свете керосиновой лампы я засовываю платок в кулак под пристальными завороженными взглядами. Поднимаю кулак ко рту, дую три раза, раскрываю — платка нет! Все ахают. Снова и снова — и каждый раз переполох, все отшатываются в изумлении. Я, не в силах удержаться, начинаю нагнетать таинственность, впадаю в дешевое балаганное паясничанье и низкопробное трюкачество. Я завываю и трясусь, когда платок исчезает в кулаке, булькаю горлом, делаю вид, что рука меня не слушается, корчу жуткие гримасы. Зрители хватаются друг за друга, кто-то из детей первым прячется под столом. В какой-то раз, вместо того чтобы вытащить платок из пустого — все видели! — кулака, я медленно, с усилием, тяну его из уха Ричарда (который знает этот фокус). Он хватается за голову, кричит: «Пусто, пусто!» — вызывая еще большую панику. В следующий раз я, дергаясь в конвульсиях, веду указующим перстом по комнате, пока не останавливаюсь на девчонке, которая весь вечер нам дерзила. Она трясется от страха, съеживается, но все бесполезно — я подхожу и с завываниями и всхлипами вытаскиваю платок у нее из уха. Она валится на пол, хватаясь за голову. Публика в исступлении просит повторить.
И под занавес — лед. Мы привезли из лагеря пенопластовую коробку с сухим льдом. Я чувствую себя эксцентричным персонажем Гарсии Маркеса или психопатом Джастина Теру — мы притащили на гору лед! Тащили запечатанную коробку, отгоняли любопытных детей, и вот теперь пришла пора явить содержимое на свет. Я кладу на стол кусок льда. «Горячо», — единогласно признают все, глядя на дымок. Подносят руки. «Горячо… ой, холодно?» Замешательство, волнение. Лед идет по кругу, каждый успевает подержать его на ладони секунду и потом, обжегшись, перебрасывает следующему. «Не убивайте моего брата!» — кричит старший сын Самуэлли, когда ледышка переходит младшему. Все в недоумении тянут шеи посмотреть, что же дальше. Я наполняю чашку водой. Демонстрирую всем, выливаю половину на пол. «Вода». Сомнений нет. Ставлю чашку в сухой лед, прошу всех сосчитать до ста, вынимаю чашку, переворачиваю — вода не льется. Вопли, визг, дети кидаются прочь из комнаты. Чашку передают по кругу. «Она стала камнем». — «Холодным камнем». «Это лед», — констатирует студент Джулиус. «Что такое лед?» «Не знаю», — признается он.
Финальный аккорд. У меня в кармане припасена пригоршня сухого льда. Беру полную чашку воды. Все подаются поближе. Я снова начинаю биться в конвульсиях и нести бессвязный бред. Бросаю в чашку горсть льда. Бурлящий дым растекается по всему столу — чудо реакции сухого льда с водой, подбивающее даже самых искушенных ученых бросить все и играть, пока играется (хотя, надеюсь, мне никто не задаст каверзный вопрос, на котором срезался Джулиус, поскольку я понятия не имею, что представляет собой сухой лед и откуда берется этот дым). «Это суп!» — кричит сын Самуэлли. Остальные в этом не уверены, и опять отшатываются. Потом остается только залезть в рукав — где я, понятное дело, припрятал кое-что. Это пластиковая змейка, примерно в локоть длиной. Запускаю руку в бурлящую чашку, аутично свешиваю голову набок, закатываю глаза под лоб, пускаю слюну и, корчась, вытягиваю из кипящих клубов змею. Отдернув ее в вытянутой руке, веду бой не на жизнь, а на смерть, и вот, взвыв напоследок, кусаю змею за голову и опрометью кидаюсь на улицу — изо рта свисает змеиный хвост, вслед несутся восхищенные вопли и визги.
Трудно поверить, но бывают случаи, когда сухой лед дарит нам еще больше радости. Мы делаем мороженое. Это мой самый дерзкий шаг в сторону от опостылевшего аскетичного рисово-бобово-скумбриевого рациона. Раннее утро, небо проясняется. Мы с Лизой и Ричардом держим совет. «Похоже, день будет жаркий». — «Ага, жаркий». — «Как раз для мороженого». — «Может быть». Быстрый подсчет — продержимся ли до следующей партии сухого льда, если сейчас разбазарить часть на мороженое. Ага. Постреляли дротиками в павианов, рысью вернулись в лагерь и прежде, чем браться за что-то еще, начинаем, как идиоты, бегать, высунув язык: «Мороженое, мороженое!» Наполняем стаканы водой, разводим в ней апельсиновый порошок, осторожно-осторожно ввинчиваем стаканы в неглубокие лунки в сухом льду. И ждем. Периодически заглядывать под крышку. «Готово?» — «Почти». — «Уже скоро». — «Мороженое!» — «Ага!» Наконец, к самой середине дня, когда жара становится испепеляющей и нигде ни клочка тени, мороженое застывает. Мы берем по стаканчику и начинаем скрести ложкой каменный кусок подслащенного льда. Боже-боже-боже, это такая вкуснотища, что хочется визжать, и пусть это длится вечно. Мы скребем и причмокиваем часами, прерываясь на пробы крови и раскручивание центрифуги.
Мы ударились в эксперименты с подачи Ричарда. «Если можно делать мороженое из апельсинового напитка, нельзя ли из содовой?» Попробовали — восхитительно. «Раз получается из содовой, нельзя ли из какао?» Сварили какао, остудили, заморозили. Было так вкусно, что мы кинулись обниматься. «Если можно какао, нельзя ли чай?» «Неплохо», — решил Ричард, но остальные приняли без восторга. На следующий день он предложил заморозить рагу из козлятины с луком и капустой — оставалось буквально полшага до изобретения замороженных обедов. Но Ричард поверил Лизе на слово, что результат его разочарует.
Мороженое. Мы мечтаем о нем, мы приканчиваем порцию и думаем, нельзя ли сделать еще, мы половину вечера предвкушаем завтрашний день. Наше увлечение разделяют не все. «Не-е, слишком холодно», — говорит Самуэлли, навестивший нас во время отгулов в туристском лагере, и растапливает свою порцию в тепловатую жижу. «Ты в своем уме? — вопим мы. — Мы тебе согреем порошковый сок отдельно, если хочешь, не трать зря наше мороженое, оставь нам!» Соирова и вовсе отказывается маяться подобной дурью. По крайней мере так мы считали до одного неурочно раннего возвращения в лагерь. Там мы наткнулись на Соирову, который выуживал со льда порцию мороженой коровьей крови. Большую гемолизированную глыбу. «Восхитительно» — так можно перевести его слова.
25. Джозеф
Лиза знакомила Ричарда с мюзиклами. У нее нашелся магнитофон и кассета с «Отверженными», и теперь они с Ричардом разбирали сюжет и тексты. Встречающиеся на каждом шагу скотство и бесчеловечность у него вопросов не вызывали. При известии о том, что белого злодея Жавера вывели на чистую воду, он возбужденно подпрыгнул. Его невероятно смешило, что полицейский — в здешних краях фигура, как правило, коррумпированная и злонамеренная, — тоже может петь. Лизины предисловия к каждой арии он слушал в завороженном предвкушении. Так, глядишь, и до большой оперы дело дойдет, может, даже до «Аиды» c ее слонами.
И как раз на том эпизоде, который никто из здешних бы не понял, — когда угнетенные поднимаются на борьбу против несправедливости и идут на баррикады — до лагеря докатилась весть: Джозеф сошел с ума! Джозеф, охранник-масаи в туристском лагере, не дающий соплеменникам совершать налеты, защищающий зазевавшихся туристов от слонов, тихий беззлобный человек, который вкалывал здесь столько лет, не давая ни малейших поводов для насмешек, — этот самый Джозеф сошел с ума.
Первым выступил Чарльз, занимавшийся стиркой белья в туристском лагере, соплеменник Ричарда и Самуэлли. Захлебываясь от возбуждения, он выдал несомненное свидетельство сумасшествия Джозефа. Ровно в этот день Джозеф взял и уволился — явное сумасбродство. Точнее, сказал, что уволился, сообщив о безумной выходке, когда увязывал свой нехитрый скарб в узел, поскольку по неизвестным причинам решил покончить с жизнью. И пропал.
Следом явился встревоженный Соирова. Джозефу он каким-то боком приходился родней — каким именно боком, так и оставалось для нас загадкой, несмотря на все объяснения. Джозеф действительно спятил и теперь носится вдоль реки, из деревни в деревню, заявляя, что сейчас покончит с собой. «Но почему?» — спросили мы. «Потому что он сошел с ума», — объяснил Соирова и с озабоченным видом удалился.
Потом прибежала перепуганная масайская ребятня. Джозефа действительно видели — безобидный тихий Джозеф шатался по пастбищу между деревнями. «До встречи в раю!» — кричал он детям, которые теперь вздрагивали, передавая его слова. Мы, озадаченно столпившись вокруг, раздали шарики и развели им порошкового сока в утешение.
Ближе к вечеру в лагере шушукалась, обмениваясь слухами и догадками, целая толпа. Он действительно может покончить с жизнью? Конечно, он же спятил. Но откуда известно, что он спятил? Так он ведь уволился. Но почему? Версии сыпались, как из мешка.
— Знаете, у Джозефа язва, он от нее сильно мучается, так что, может, он решил убить себя, чтобы перестать мучиться — это Ричард, у которого тоже язва.
— Но он столько пьет! Наверное, он уже не чувствует боль от язвы, — парирует Саймон, официант.
— От выпивки язва только больше болит, — возражает Ричард.
— Когда пьешь, язву перестаешь чувствовать, — отвечает Саймон.
Мы прислушиваемся к неразрешимому спору краем уха, пока Чарльз не выдвигает новое предположение: Джозеф спятил оттого, что слишком много пил.
Соирова подозревает, что здесь творятся гораздо более хитрые дела.
— На церемонии в деревне шаман сказал, что у Джозефа в тыкве-горлянке слишком много пива для одного и нужно поделиться с шаманом, а Джозеф отказался. Так что шаман навел на него порчу.
— Из-за пива?
— Но шаман у всех просит пива, и ему все отказывают.
— А Джозеф сказал, что не боится шамана, значит, шаман не может навести на него порчу.
— Конечно, может. Все он может. Захочет — превратит в гиену, а захочет — сделает так, чтобы у тебя пенис отсох, — заявляет Чарльз, уборщик номеров. Какая участь хуже, было не очень понятно.
— Этот шаман не такой сильный, он просто старый пьянчуга.
— Поэтому с него и станется навести порчу из-за пива.
И дальше в том же духе. Все горячатся, все увлечены, мы щекочем себе нервы, гадая, не придет ли Джозеф ночью в обличье гиены нас загрызть.
Новый день, новые слухи. Примчалась Рода с известием, что он по-прежнему намерен покончить с собой. Соирова сообщил, что Джозеф пытался занять денег на покупку яда из редкого растения. Причудливость идеи брать деньги в долг, обещая вернуть их после смерти, придавала этой истории своеобразную внушительность. Замеченные поблизости вооруженные егеря, патрулирующие окрестности, навели на мысль, будто обезумевший Джозеф стал опасен и теперь его можно усмирить не иначе, как оружием, но потом выяснилось, что те просто искали браконьеров. Замеченный поблизости управляющий, проезжавший по окрестностям на машине, навел на мысль, будто отлавливать обезумевшего Джозефа вызвали верховное начальство, но потом оказалось, что управляющий просто намеревался пообедать на халяву в туристском лагере. Многие уверяли, что видели Джозефа, но все в разных местах, говорил он вроде бы на разных языках и странно жестикулировал, в чем, возможно, был какой-то смысл.
На следующий день отовсюду начали поступать еще более сенсационные вести: Джозеф «как-то сумел стать белым человеком». Свидетели утверждали, что каким-то чудом он «побелел», а кожа стала «какой-то шершавой». В ходе усиленных перекрестных допросов удалось прийти к самому разумному объяснению: он вывалялся в белом песке, который встречается здесь на некоторых отмелях. И все же слышались утверждения, что как-то он стал белым человеком. Детей в тот день не выпускали из деревни, коров тоже.
На следующий день наступила развязка. На глазах у всех Джозеф явился из буша, почему-то вовсе не белый, купил билет на автобус до родного города и откланялся, ни словом не упомянув о том, чтобы свидеться в раю. «Джозеф, как ты?» — теребили его. «Со мной все хорошо». Значит, не сумасшедший, признали все.
Администратор туристского лагеря в ответ на расспросы сообщил, что Джозеф взял ежегодный отпуск и намеревался несколько дней погостить в соседней деревне, а оставшееся время провести в родных краях.
Кроме детей, которые иногда вздрагивали по ночам при мысли о предстоящей встрече на том свете, о происшествии больше никто не вспоминал.
Как раз в этот сезон мы с Лизой, которая дописывала диссертацию по клинической психологии, потратили ее отпуск на посещение всех до единой психиатрических клиник Кении. И каждому представителю персонала, которого удавалось найти, мы задавали один и тот же вопрос: «Как местное население определяет, что человек сошел с ума? Вот есть шизофреник масаи, представитель не самого многословного народа, большую часть дня проводящего наедине с коровами, а есть шизофреник из какого-нибудь прибрежного племени, передового, коммуникабельного, цивилизованного. Какой симптом становится последней каплей для масаи, вынуждая их наконец сдать своего многострадального отпрыска под надзор, а какой — для прибрежных племен? Как выглядит мания величия у погонщика верблюдов в пустыне? Может, он заявляет, что у него вдвое больше верблюдов, чем в действительности? Какие голоса людям слышатся? По поводу чего здесь возникает паранойя?»
И от каждого сотрудника мы получали примерно тот же ответ, что и от Роды много лет назад по поводу буйнопомешанной, растерзавшей зубами козу. Они просто ведут себя как сумасшедшие, говорили все. Когда человек сходит с ума, по нему видно. Ученые посвящают жизнь исследованию подобных культурных различий в симптоматологии, но здесь на наши расспросы никто не клюнул, никого это не занимало.
Крайне интересным оказался состав пациентов. Никаких страдающих депрессией старцев, которыми наводнены американские психиатрические клиники. Старости ждут не дождутся, это вершина почета и власти, депрессии там взяться неоткуда. Зато много депрессивной молодежи, которая вроде бы прилично себя чувствует. «Ну разве что у больницы нет денег закупить антидепрессанты, тогда бывает много самоубийств», — пояснил врач, водивший нас по клинике. Печально. Никаких пустоглазых подростков-социопатов, способных хладнокровно пришить старушку. Этих ищите в тюрьме, психиатрическая экспертиза для подсудимого здесь явление редкое. Много эпилептиков — в Америке эпилепсию классифицировали как психическое заболевание только в темные мракобесные времена. Много детей с церебральной малярией. Много параноидальных шизофреников.
Больше всего поражало отсутствие насилия. Наши рассказы о главной проблеме американских психиатрических больниц — нападении пациентов друг на друга и на персонал — здешние медики сочли выдумкой. Здесь такого нет. Больничные двери не запираются. Никто не пытается бежать. После первого же посещения стало ясно почему: у каждого своя койка, трехразовое питание. Неслыханная роскошь для большинства обитателей кенийского буша. Зачем убегать, зачем драться? Во дворе пациенты обоих полов, голые, с обритой головой бездельничают, спят, бессвязно лепечут, жестикулируют. Кто-то гоняется за курами, кто-то убегает от кур. Один из больных, согбенный старик с блестящими глазами, радостно проковылял к Лизе, словно черепаха, хранящая какую-то заветную тайну, и ухватил ее за руку. «Мама наконец пришла, мама наконец пришла!» — безостановочно лопотал он.
26. Чудеса да и только. Слепой ведет слепого
Бродим по Момбасе. Чудесное место. Древний порт на берегу Индийского океана, населенный черными мусульманами суахили. Минареты, базары, муллы, запряженные осликами тележки, одномачтовые лодки-дау, сплетенные из тростника. Чинные тонкокостные мужчины в белых одеяниях продают кислющий, аж скулы сводит, лимонад — спасение от одуряющего влажного марева, густого, как суп. Переплетение узких улочек, стиснутых многоэтажными домами, возраст которых измеряется столетиями, оштукатуренные стены полуметровой толщины, деревянные двери с такой тонкой резьбой, что уму непостижимо.
Один из величайших перекрестков мира. Арабы, индийцы, гоанцы, португальцы, суахили, африканцы из глубинных районов страны; упитанные дети всех цветов и оттенков, в изобилии созревающие в здешней расслабленной и томной атмосфере межрасовых браков.
Самое замечательное, что все здесь дышит довольством и достоинством, как ни в одном африканском городе внутри континента. Там город — это некое искусственное порождение, выросшее из основанного полвека назад колониального железнодорожного депо. Жители его бросили когда-то свое хозяйство и стыдятся собственного прошлого; половина застряла в окраинных трущобах, не имея возможности прокормиться в условиях денежной экономики, и стыдится собственного настоящего. Никто не знает, кто он, каждый пытается стать кем-то другим, а до тебя докатывается отрыжка — любители отобрать у тебя часы, уговорить продать им твои синие джинсы, отточить на тебе ломаный американский сленг, напялить футболку с Брюсом Ли, изобразить из себя крутых непонятно зачем. В Момбасе же каждый знает, кто он, никто не стыдится себя и не лезет в чужую шкуру. Это не искусственный город, он рос здесь столетиями. Здесь никого не отрывали от родной почвы — семья живет в одном доме из века в век. И еще кое-что, заметное мне как коренному ньюйоркцу: граничащая с высокомерием бесстрастность, превосходство и самодостаточность, свойственные портовым жителям. Португальцы со своим господством были и сплыли. Как и оманские арабы, как и Британская империя. Как и все временщики. А лодки-дау, минареты и резные двери остаются. Никто не считает тебя богачом только оттого, что на тебе электронные часы, и в кои-то веки к тебе никто не цепляется.
Поэтому, когда средь бела дня к нам на улице обратилась женщина, мы сильно удивились. Это была представительница какого-то из самых строгих, нетерпимых течений, закутанная в черную паранджу, — такие обычно скользят сквозь толпу безмолвно, никак не соприкасаясь с нами, неверными. А эта взяла и заговорила на скудном английском. Американцы? Да. Зайдите в мой дом на чай.
Она с такой целеустремленностью повела нас по закоулкам, что нам с Лизой стало не по себе. Дом у нее был старинный, темный, гнетущий, пропитанный запахом печеной козлятины и молитвами, которые читают по пять раз на дню из столетия в столетие. Нас усадили в вестибюле, где было полным-полно детей, наблюдавших за нами с безопасного расстояния. Она сняла чадру, явив на свет пирсинг в носу, узоры хной и сосредоточенное лицо. Нам вручили по чашке безбожно переслащенного чая и устроили допрос. «Как поживают ваши родители?» — «Очень хорошо, салям вам от них». — «Скоро обзаведетесь детьми?» — «Если получится». — «Привезете их сюда познакомиться?» — «Конечно». Ее не интересовали ни ответы, ни сами вопросы, она собиралась с духом для чего-то другого. Это было ясно как день и очень нервировало. Может, по ее сигналу сюда ворвется орда в бурнусах и, выхватив ятаганы, изрубит нас на куски? Словно подтверждая догадку, из соседней комнаты поплыли заунывные арабские песнопения, сгущаясь над четвертым по счету стаканом чая.
Она решилась. «А теперь идем внутрь», — сказала она, хватая нас за руки. Мы не сопротивлялись, мы готовились мужественно принять свою судьбу.
Соседнюю комнату под круглой купольной крышей освещала единственная голая лампочка. Под ней стоял старый видавший виды стол, за которым, вне всякого сомнения, держали бесчисленные семейные советы — о войнах, мятежах, рождении и смерти, обручениях, еретических поползновениях, кровной вражде, праздниках, неверности, финансовых махинациях. А на старинном столе размещалось оно. Помесь мороженицы, кухонного комбайна, печки-гриля, многофункциональной овощерезки и мясорубки с насадкой для набивки колбасы. Агрегат был прислан учившимся в Германии братом хозяйки год назад и с тех пор стоял на столе, неприкосновенный и овеянный благоговейным трепетом. Никто понятия не имел, как с ним обращаться и вообще для чего он.
— Вы американцы, вы должны говорить по-немецки.
К агрегату прилагалась пухлая книжка с подробнейшей инструкцией, пестревшей умляутами, ахтунгами насчет многочисленных острых лезвий и бессчетными объемными схемами, показывающими в разрезе электрические внутренности прибора. Вокруг, словно по волшебству, мгновенно собрался кагал соседок — посмотреть, не выйдет ли чего интересного.
От единственной розетки отключили холодильник, воткнули агрегат, и до самого вечера мы в окружении осмелевших детей поглощали неотвратимый приторный чай и безуспешно трудились, ничего не смысля в немецком, электричестве и набивке колбасок. Хозяйка, оказывается, тоже не питала особого пристрастия к колбаскам, равно как и к изготовлению сливочного мороженого, равномерному обжариванию курицы со всех сторон, шинковке овощей для салата прямо в салатницу и запеканию фаршированных картофельных лодочек. В какой-то момент мы заставили ножи закрутиться в смертельном вихре под восторженные возгласы, поддались на уговоры кинуть внутрь кусок какого-то мяса, который был мгновенно изрублен и раскидан по всей комнате, потому что улавливающую емкость мы установить забыли, — и хозяйка нашими стараниями утвердилась в нужном статусе среди соседок. Все прониклись, благодарная и довольная хозяйка стискивала наши перемазанные мясом руки. А мы, вернувшись в петляющие древние закоулки, принялись пробираться в сумерках через груды мусора полутысячелетней давности.
27. А был ли старик?
Для Рахили этот сезон вышел нелегким. Сперва исчезла ее мать Ноеминь, старейшая представительница стада, — наверняка окончила свои дни в зубах хищника. Рахиль ходила подавленная и хмурая. Потом Исаак, друг Рахили, начал подолгу пропадать в соседнем стаде, явно подумывая о переходе, и это после того, как я Лизе все уши прожужжал про его редкую для самца чуткость. «Вот именно сейчас, когда Рахиль отчаянно в нем нуждается, — кипятилась Лиза, — ему приспичило клеить старшеклассниц из соседнего стада…» «Что поделать, дорогая, им свойственно иногда вести себя, как павианам», — выдвигал я слабые оправдания. В результате он решил никуда не переходить, остался у нас, но выставил себя в данном эпизоде той еще скотиной.
И вот мы сидим в лагере на рассвете, обсуждая за чаем недостойное поведение Исаака, прежде чем выдвинуться к павианам. Как раз прибрел Ричард, прошагав к нам около мили со своего участка. «Как ты?» — «Как ночь прошла?» — «Сегодня вроде не так холодно». — «Как спали?» — «Хорошо». — «Слышали слонов?» — «Хочешь чаю?» Все как обычно. Но когда мы допиваем чай и уже собираемся идти, Ричард роняет, словно между прочим: «Есть одна проблемка». Да? Какая?
Ниже по реке располагался кемпинг, где разрешалось вставать с походными палатками. Территорию охраняли масаи, двое поваров стряпали еду для общего стола. Преимущество для туристов — экономичное сафари, и вообще куда веселее, чем останавливаться в заповеднике в гостиницах для сибаритов. Последняя туристская группа уехала несколько дней назад, и охрана с поварами перекантовывалась в ожидании следующей. Ричард буднично сообщает, что ночью в палатку старого повара пролезла гиена и пыталась утащить его на ужин, но добычу с боем и большими потерями отвоевали.
Мы вскакиваем, переполошившись. «Как там старик? Нужно его забрать, поехали туда сейчас же, бери медикаменты, срочно!» Ричард, само спокойствие, говорит: «Не волнуйтесь, он сам сейчас придет».
Мы бежим к броду — и действительно, вот он, щуплый старик, хромая, ковыляет к лагерю. Кидаемся навстречу. Он весь растерзан, на руках, на груди, на лбу рваные раны. «Господи боже, как ты, что с тобой?» — «Я хорошо, как у вас ночь прошла? Как спалось? Как родители поживают?» Вопреки всякой логике он умудряется протащить нас через все положенные формулы приветствия и только потом перейти к насущному — его подрала гиена.
Мы приводим его в лагерь. Мы носимся как сумасшедшие — вытаскиваем из палатки все медикаменты, мы готовы сделать что угодно. Может, его срочно отвезти в административную часть и пусть за ним пришлют вертолет санитарной авиации? «Да нет, — говорит он, — не так все страшно, я поправлюсь». — «Не так страшно? Да на тебе места живого нет, ты истекаешь кровью, тебя штопать и штопать, тебе нужен морфин». Ричард, отрываясь от второй чашки чая, предлагает выдать старику аспирин. «Да-да, аспирин самое то», — соглашается старик.
Не в силах сделать ничего полезного, сбитые с толку этой беспечностью, мы покорно выдаем ему таблетку аспирина и наливаем чаю. Он делает глоток. «Ах, да, еще кое-что — вы не могли бы приставить мне палец обратно?»
Он начинает разматывать обрывок ветоши, которым перевязан пораненный, как мы думали, безымянный палец. Но под повязкой пальца не оказывается вовсе. А где же твой палец, дружище?
Он роется в кармане. («Готовься к худшему!» — говорим мы с Лизой друг другу.) На свет появляется палец. В полиэтиленовом пакете. Засыпанный солью. Старик свое поварское дело знает хорошо, он умеет хранить мясо, и, когда гиену в кромешной ночной тьме прогнали прочь, он пошарил в траве с фонариком, отыскал палец и засолил.
Нам приходится его огорчить. Увы, мы не умеем пришивать пальцы. Он принимает известие мужественно: «Ничего, можно мне еще чаю?» — и убирает пакет.
Пока он наслаждается чаепитием и капает кровью на все и вся, мы уговариваем его доехать с нами до административной части, чтобы оттуда его эвакуировали вертолетом. «Да нет, не нужно». Перед тем как прошагать три мили до нашего лагеря, он сходил в другой кемпинг и договорился со знакомым водителем, которые сегодня возвращается в Найроби, чтобы тот подбросил его до найробийской больницы. Мы предлагаем довезти его до этого самого кемпинга — он соглашается, только сначала нужно заехать в его кемпинг, для визита в большой город необходимо переодеться в парадное, а то нечего будет нещадно заливать кровью все шесть часов пути.
По дороге мы узнаем некоторые подробности. Гиена ворвалась в палатку около полуночи, схватила его и потащила, намереваясь употребить на ужин. Он отбивался, потом прибежали охранники масаи и закололи ее копьями. Мы слушаем с возрастающим страхом. Если мы спокойно спим по ночам, то лишь благодаря непоколебимой уверенности, что, забравшись в палатку, перестаем существовать для диких зверей. Снова и снова мы внушаем себе, что звери неспособны вычислить, куда ты скрылся, они еще не достигли той стадии интеллектуального развития по Пиаже, когда объект осознается как существующий, даже если он недоступен органам чувств, а значит, мы в безопасности. А теперь нас обрадовали рассказом про гиену, прорвавшуюся в палатку. Тревожно.
Мы приезжаем в кемпинг и, пока старик переодевается во все самое лучшее, осматриваем палатку. И озадачиваемся. Следы крови повсюду, по всему лагерю, но палатка совершенно нетронута. Целехонькая. Мы начинаем расспрашивать, старик юлит и мямлит, но в конце концов все выясняется. Имея за плечами битых десять лет работы в буше, прекрасно усвоив все «можно» и «нельзя», этой ночью он по неизвестной причине решил прикорнуть в продуктовой палатке среди сосисок. В палатке, у которой по столь же неведомой причине не было пола, так что любопытной гиене ничто не мешало поднырнуть под стенку и разорить холодильник.
Ага, получается, спал он в продуктовой палатке, гиена проскользнула и принялась грызть его, а потом подоспели масаи с копьями. Мы облегченно восстанавливаем пошатнувшуюся веру в безопасность закрытой палатки и поражаемся безрассудству старика.
Значит, старик просто ночевал не в той палатке, беспокоиться не о чем. Однако вскоре возникает осложнение. Он продолжает переодеваться под бдительным присмотром охранников-масаи, которые молча и недвижно стоят в карауле, — герои нашей истории, два незнакомых нам парня, живущих за несколько деревень отсюда. В сторонке топчется второй лагерный повар, младший, принадлежащий, как и оставшийся без пальца старик, к земледельческому немасайскому племени. Его явно что-то беспокоит. Пока мы треплемся с масаи, Ричард успевает с ним поговорить. Выясняется: охранники-масаи старика не отбивали. Они покинули пост, надрались в деревне в стельку и пошли куролесить. На выручку примчался он, второй повар, вмешался в самый разгар борьбы и отогнал гиену, приложив камнем по голове. А теперь масаи, опасаясь лишиться работы, грозят прикончить повара, если кто-то узнает о самоволке.
Ну, чудесно. По тому, как нам все это рассказывается, масаи в два счета вычислят, что мы в курсе. Чтобы слегка обезопасить собственную шкуру, мы заискиваем перед ними и их копьями, восхищаемся их храбростью и героизмом, они настоящие воины и все такое. Вроде бы напряжение спадает, мы ясно дали понять, что стучать на них не собираемся. Старика увозит знакомый, второй повар успокаивается, бравые вояки возвращаются в деревню продолжать надираться до беспамятства, а мы все утро рассказываем встречным и поперечным в обе стороны по течению, какие молодцы эти парни, закололи зарвавшуюся гиену.
Значит, старик спал не в той палатке, а масаи ушли в загул, но беспокоиться вроде по-прежнему не о чем. Однако ближе к вечеру возникает осложнение. Судя по всему, после того как второй повар приложил гиену камнем по голове, зверюга дала деру, пробежала милю до масайской деревни, задрала козу и напала на человека, который действительно ее заколол. И вот теперь посреди взбудораженной цокающей языками деревни лежит труп гиены с единственной колотой раной. Возвратившиеся к вечеру в кемпинг пьяные герои снова угрожают прикончить беднягу второго повара, так что вырабатывается новая версия событий, совместимая с некстати возникшей уликой в виде «экспоната А» — мертвой гиены. Теперь всем рассказывают, что храбрые воины ввязались в битву с гиеной, не успев даже схватиться за копья. И это они, оказывается, приложили ее камнем по голове.
Остаток дня мы прилежно продвигаем эту версию, пересыпая ее бесконечными дифирамбами доблестным бойцам. Значит, старик спал не в той палатке, охрана ушла в загул, первая версия легенды не сработала, но вторую вроде принимают на ура и беспокоиться не о чем.
Осложнение возникает два дня спустя. Из Найроби прилетает наш знакомый, пилот малой авиации, и передает нам свежую газету. На третьей странице с фотографии из больничной палаты нам улыбается старик, демонстрируя покалеченную руку и уже овеянный славой полиэтиленовый пакет. Кто-то из больничного персонала, почуяв сенсацию и возможность подзаработать, позвонил в газету, откуда прислали корреспондента. «Лагерный повар в одиночку отбивается от гиены в заповеднике». По этой версии старик спал у себя в палатке, внутрь пробралась гиена, второго повара и охраны поблизости не оказалось, и теперь старик сам, лично схватил булыжник и отдубасил обидчицу. Почему-то уже через час про газетную заметку становится известно всем, даже охранникам-масаи, в жизни не видевшим ни одной газеты.
Итак, старик спал не в той палатке, охрана ушла в загул, первая легенда не сработала, а теперь официальная версия идет вразрез со всем ранее сказанным. Вся река в обе стороны бурлит раздражением — только-только удалось общими усилиями выработать приемлемую версию, спасающую лицо охраны, и вот старому дурню приспичило урвать минуту славы и всех оконфузить. А поскольку новость теперь в газете, она непременно дойдет до туристической компании в Найроби, и кому-то устроят выволочку.
Через несколько дней высказывается туристская компания. Как ни странно, тоже через газету, которую доставляет все тот же пилот, снова пролетающий через заповедник. В газете сообщается, что компания категорически отказывается признавать старика своим сотрудником и вообще первый раз о нем слышит. Наверняка этот человек просто случайно забрел в те края, напился в масайской деревне, а потом, шатаясь по окрестностям, подвергся нападению гиены. А теперь называет себя сотрудником, чтобы компания оплатила ему медицинское обслуживание. А может, прозрачно намекнула компания, он и палец отрубил себе сам, а сотрудником представился, чтобы получить с компании страховые выплаты. Но компания не позволит так открыто себя облапошивать. И поскольку старик на компанию не работает, она парадоксальным образом имеет полное право уволить его без всяких на то оснований. Проблема улажена, живущим на реке больше беспокоиться не о чем — не было никакого старика, не было никакой гиены.
28. Последние воины
В первый год моей жизни в буше мне пришлось изрядно попотеть в хижине Роды, исполняя безнадежную роль посредника между женской кликой Роды, сражающейся за оплату обучения детей в школе, и мужчинами, бьющимися за право тратить каждый шиллинг на выпивку. И вот теперь, почти пятнадцать лет спустя, мы с Лизой участвуем в церемонии, доказывающей, что сторона Роды победила и времена действительно меняются. Когда я только начал сюда ездить, до ближайшей школы было миль пятьдесят. Теперь же школа располагалась прямо у реки. Был последний день учебного года, и, чтобы отметить это событие, учитель Саймон устроил детям экскурсию. Отойдя на милю от школы, они перебрались через реку и пришли в лагерь посмотреть на Меченого, которого мы в тот день анестезировали. Дети (сплошь мальчики, за исключением дочери вождя) обступили павиана, сыпали вопросами, громко хихикали над его пенисом и непроизвольным опорожнением кишечника. Все они были в школьных шортах и свитерах. Я показал им, как брать кровь, Лиза продемонстрировала работу центрифуги. Вопросов задавали много: может ли павиан спариться с человеком, есть ли у них свой язык, пожирают ли они своих покойников. В завершение Саймон разразился нетривиальной мотивирующей речью, в которой хвалил детей за упорство, за то, что они проучились целый год, и призывал двигаться по тернистому пути знаний дальше, чтобы когда-нибудь тоже зарабатывать на жизнь изучением павианов. Дети были замечательные, воспитанные, увлеченные и благодарили нас на прощание, они отлично отметили завершение года, а я радовался, что поучаствовал. Дальше все оказалось безрадостно.
В тот сезон, когда Рода набросилась с поленом на пьяного Серере и разожгла великий спор об образовании, старшие братья предполагаемых школьников стали воинами, и я присутствовал на церемонии их посвящения. Лет до двенадцати масайские мальчики проводят в поле — пасут коров и коз, охотятся на птиц, добывают мед из диких ульев. Потом, после нескольких лет подготовки, в которой я ровным счетом ничего не понимаю, наступает воинский этап, который длится около десяти лет. Жизнь у них в этот период — военная и общинная. Воины живут вместе в отдельном помещении, питаются тоже всегда вместе. И только исполнив в течение положенного срока свой воинский долг, они становятся старейшинами — лет в двадцать пять, — берут себе первых жен (девочек лет четырнадцати), обзаводятся домом и детьми и ворчат, что нынче воины пошли не те.
И вот на упомянутой церемонии посвящения один воинский клан увольнялся, а другой заступал на службу. Несколько дней деревня пировала, выпивка лилась рекой. Будущие воины в головных уборах из птичьих перьев, символизирующих длинные волосы, которые им еще предстояло отрастить, устраивали экстатические пляски. Крики, метание копий, гортанный хор и солирующие фальцеты, напоминающие шансонье 1950-х, танцы, песнопения, в центре старейшины в звериных шкурах и охряном раскрасе. Меня охватило тревожное замешательство — последний раз я испытывал такое в восемь лет, когда впервые пришел один в синагогу на еврейский новый год и не понимал, что происходит. Старики сказали, что мне выпала честь открывать занавес, когда из ковчега будут доставать Тору, а я не знал, когда именно должен наступить этот момент, с какой стороны висит шнур, открывающий занавес, нужно ли мне что-нибудь говорить и почему я ничего не знаю о процедуре, и как раз, когда я уже собирался сбежать и расплакаться, кто-то из стариков взял меня за руку, подвел к ковчегу, открыл со мной занавес и сказал, что я молодец, а все остальные старики благодарили меня торжественным рукопожатием и я плавился от гордости. И вот теперь меня обуревала та же тревога — я не представлял себе процедуру, не знал, что позволено и что ожидается (если ожидается) от меня, что я вообще делаю на этом масайском сборище. И когда я уже собирался смыться под благовидным предлогом, кто-то из стариков — возможно, тот же самый, что и много лет назад в синагоге, — схватил меня за руку и втащил в круг, и стало понятно: пляши, как хочешь, все будет весело, забавно, похвально и правильно, и мы отплясывали до вечера, и я еще несколько недель чувствовал себя масаи, и это поколение воинов навсегда осталось «моими парнями».
Больше такие церемонии здесь не проводились ни разу. На землях масаи настал кризис. Правительство объявило воинов вне закона.
Поймите меня правильно. Я не собираюсь ратовать за консервирование культуры и создание живых музеев. При таком раскладе мне самому полагалось бы жить сейчас в польском местечке, зарабатывать починкой обуви и брать в жены сосватанную мне мастерицу резать кур по всем правилам обряда. Нет уж, увольте.
Мало того, я покривил бы душой, горюя об исчезновении воинов, потому что натерпелись здесь от них немало. В первые свои приезды я жил на дальней горе, и масаи были для меня редкими гостями с равнины. Как же я от них балдел в тот первый год! Я бы все отдал, чтобы стать масаи, пить кровь и молоко, знать прорву разных названий для коров и интересоваться коровами настолько, чтобы мне требовалась вся эта прорва, сохранять собственную гордость, не меняться, не поддаваться западным веяниям. Соирова выдал мне мое первое копье, и я упражнялся, пока не стер ладони в кровь. Я метал его в старую шину, лежавшую рядом с палаткой. Потом шину стали запускать через луг, и я должен был попасть, пока она катилась мимо. Потом следующий уровень — шина катится на меня и следующий — шина подкатывается со спины, отрабатываем предательское нападение сзади. Я чувствовал, как с каждым днем становлюсь худее, выше, чернее и костлявее.
Но в последующие годы, когда я переселился на равнину и стал жить в непосредственной близости от масайских деревень, нанизанных вдоль границы заповедника, мое отношение к масаи сделалось не таким однозначным. Я близко подружился с Родой и Соировой, так что с деревней мы обычно ладили неплохо. Но по большому счету мне открывалось то, что каждому африканскому земледельцу известно испокон веков: высокие костлявые пастухи — та еще боль в пятой точке. Как и их родичи динка, нуэры, тутси и зулу, масаи со своим скотом — или их часть — в силу своей склонности к грабительским войнам успешно терроризировали всю Африку. С незапамятных времен прославленные воины, устраивая набеги на земледельцев, грабили, разбойничали и угоняли скот. Масаи убеждены, что все коровы на свете принадлежат масаи и на чужие земли забрели по недоразумению, поэтому задача воинов — это недоразумение исправить. Соответственно, воинский долг заключается в том, чтобы сеять ужас среди чужаков. Иногда по-крупному: дед Ричарда и Самуэлли был заколот насмерть в собственной деревне во время масайского набега каких-нибудь десять лет назад, и их народ до сих пор строит жилища по традиционной антимасайской конструкции. А иногда на смену культовым, освященным временем межплеменным битвам приходят обычное хулиганство и бандитизм — до Ричарда воины начали докапываться в первый же месяц работы у меня и из чистого издевательства разбили ему бинокль. Воины заваливались в лагерь и, окинув беглым взглядом мой скарб, требовали сувениров, вынуждая меня отказывать человеку с копьем. Мелкое воровство, угрозы, принуждение туристских лагерей к сотрудничеству по всем законам рэкета: нанимайте масаи ночными сторожами, иначе… всякое может случиться, вдруг на вас возьмут и нападут масаи.
Если остальные развивающиеся страны постепенно впадали в подражание самым низкопробным проявлениям западной культуры, этот народ и родственные ему кочевые племена сохраняли свою красоту и величие, в том числе и за счет способности столетиями брести через чужую культуру и оставаться на выходе неизменными, неподвластными стороннему влиянию. Но, как я теперь понимаю, обязательным условием для такой невосприимчивости выступает глубочайшее презрение ко всем чужакам.
Остальная Кения, земледельческое большинство, меняется с космической скоростью — деньги, образование, западная одежда, часы, курсы по ремонту телевизоров, спутниковые ретрансляторы, мороженое, плакаты с лозунгами о вреде кариеса. Представьте себе этот сюр, это абсурдное смешение: какой-нибудь найробийский щеголь, передовой бизнесмен, приезжает навестить отчие пашни, а у них там, здрасте пожалуйста, масаи войной прошли. Ну как можно-то, на дворе не XIX век, у вас здесь и от язвы, что ли, ничего не продают?
И вот примерно после того, как масайские воины по всей реке, похватав копья, умчались в Танзанию отвоевывать своих коров, в парламенте свершилось нечто небывалое. Персоны в деловых костюмах при поддержке полиции, армии и прочих немыслимых институтов сотворили то, чего не могли добиться их деды луками и стрелами и что не снилось британцам даже в самых радужных империалистических снах: один росчерк на листе бумаги — и все, с воинами покончено. Только покажись с копьем или намазанными охрой волосами — и сидеть тебе в кутузке, а может, и штраф выпишет мировой судья с физиономией банту-земледельца под пудреным париком.
Как тут относиться однозначно? Я очарован воспоминаниями о воинах — теперь, когда из устрашающей действительности они стремительно превращаются в воспоминание. Но все остальные рады с ними покончить, я это вижу. Может, воинов нужно было сохранить, учредить какие-нибудь свирепые масайские Олимпийские игры и тем самым направить нерастраченную энергию в мирное русло: состязания сделать достаточно опасными, не пустяковой забавой, пусть в них гибнет примерно столько же молодых парней, сколько и прежде, когда воин должен был прикончить льва в подтверждение своей мужественности. Я читал, что такие игры довольно популярны у новогвинейских охотников за головами, соседствовать с которыми теперь несколько приятнее. Больше всего меня поразило, как быстро все покорились. К тому моменту, когда школьники притопали ко мне в лагерь хихикать над пенисом Меченого, воины уже остались в прошлом. А на мой вопрос, намерены ли они когда-нибудь податься в буш и убить льва, мальчишки презрительно зафыркали.
Конечно, покорились не все. Кризис на землях масаи связан с тем, что никто не знает, как быть со стариками, которые, окопавшись в буше, похищают мальчиков и втайне растят из них воинов. Об этом все знают и все молчат, и поди угадай — стыдятся ли этих стариков из буша или гордятся ими безмерно, окончательно выдохлись мятежники или все только начинается.
* * *
Примерно месяц спустя, уже после визита школьной экскурсии, мы с Лизой сидели в лагере, обрабатывая анестезированного Иисуса Навина, а рядом крутился один из наших любимых масайских ребят. Замечательный мальчик лет, наверное, двенадцати, все эти годы росший на моих глазах. Бритая голова; искусственно вытянутые по-масайски мочки ушей, которые он, правда, заворачивает, словно пытаясь спрятать. Под масайской накидкой — школьные шорты. Когда Лиза запускает центрифугу, он говорит на суахили: «Птица просыпается» — это устойчивое выражение, означающее запуск самолетного двигателя, с ним он сравнивает рокот центрифуги. Откуда он знает про самолетные двигатели? Он пускает мыльные пузыри, играет с подаренным воздушным шариком, и вот ему уже пора гнать коров домой. Мы видим, как он перебирается через реку и сворачивает к полю за лагерем, и тут, откуда ни возьмись, налетает отряд воинов. У них копья, длинные выкрашенные охрой волосы, сами они — орда головорезов и прекрасно это знают. Мальчишка кидается бежать, но его окружают в два счета. Он сопротивляется. Его пытаются схватить, оторвать от земли, он молотит руками и отбивается, пока не получает по голове и, по всей видимости, теряет сознание. Его уносят. Мы видим их на горизонте, их тонкие длинные ноги в знойном мареве кажутся еще длиннее и чужероднее. Мальчишку утаскивают в буш, делать из него воина. С тех пор мы его не видели.
29. Мор
В один из приездов я решил на некоторое время отвлечься от павианов и повидаться с исследователями их других кенийских заповедников. Я навещал и сотрудников, работающих с павианами, и изучающих экологию, и занимающихся слонами. О слонах я знаю очень мало, но трогательны они невероятно, как и привязанность к ним элефантологов. Эти ученые одержимы своими животными не меньше, чем приматологи, и это вполне объяснимо: достаточно посмотреть на слонов — огромные и умные, они живут три четверти века, а все их дни заполнены непростыми семейными делами и заботой друг о друге. Я приехал к элефантологам в разгар недели, когда у них случилась беда, которая у любого полевого биолога наверняка вызовет горячее сочувствие. Пропала самая любимая слониха — наиболее изученная в стаде, одна из родоначальниц, мать беспомощного семимесячного детеныша. Целые дни они проводили в поисках и очень волновались за испуганного и слабеющего слоненка. Мы все тревожились и воображали самое худшее.
Спустя несколько дней мы стояли над ее телом. Найти ее оказалось не так сложно, она погибла в двух-трех сотнях метров от мусорной свалки у главной туристской гостиницы. Она успела съесть изрядное количество отходов — остатки овощей и фруктов, особенно крахмалосодержащих как самых аппетитных, — отошла от свалки и упала замертво. К нашему приходу падальщики уже успели привести ее тело в знакомое элефантологам состояние зияющих останков: череп заметно возвышается над остальным, большинство самых лакомых органов выгрызены. Желудок слонихи и кишечник были порваны, содержимое разбросано на несколько метров вокруг верхней части туши: охапки листьев и травы, уже почти превратившиеся в слоновий помет, верхушка ананаса с листьями — без сомнения, любезно предоставленная гостиничной свалкой. И здесь же причина гибели: осколки стекла, разбитая бутылка кока-колы, бутылочные горлышки, куски металла — тоже любезно предоставленные гостиничной свалкой. Элефантологи к тому времени уже который месяц упрашивали владельцев гостиницы обнести свалку забором, даже помогли соорудить ограждение (которое никто из персонала не заботился запирать), обращались к управляющему. Когда я уезжал, судьба слоненка еще была неясна.
Не стану называть имена тех ученых и не уверен, что обнародование названия гостиницы и имени ее мерзавца-хозяина повлияет на его будущее поведение. Самим элефантологам предстоит избрать стратегию, чтобы избежать повторения таких трагедий. Однако я решил, что настало время рассказать о том, как закончилась жизнь моих павианов. На протяжении этой книги я старался придать литературную форму рассказам, прибегал к писательским приемам. Здесь я не буду даже пытаться. События развивались бессистемно и хаотично. Были злодеи, но недостаточно очевидные. Не было финального поединка. Не было упорядоченного и стройного хода событий. И рассказ об этом тоже не будет отличаться стройностью.
В тот год я по большей части работал один: у Лизы накопились профессиональные дела, и она осталась в Штатах, у Ричарда дома вся семья не вылезала из болезней, Хадсон по-прежнему работал с другими павианами на противоположном конце страны. Соирова, Лоуренс Гиенский, Рода и Самуэлли временами меня навещали, но в основном я целые дни проводил в одиночку.
Туристическую гостиницу в Олемелепо за прошедшие годы я приучился обходить стороной. Ричард жил не в ней — он облюбовал небольшой палаточный лагерь километрах в пяти, в излучине реки. Гостиница в Олемелепо, одна из крупнейших в заповеднике, походила на город: огромный и беспорядочный. Она вмещала сотни туристов и втрое больше прочего люда — работники, их супруги, дети, учителя детей, няни, начальство, охранники, проститутки, чьи-то бесчисленные кузены и племянники, толпящиеся тут же в надежде получить работу. В мой первый сезон, в 1978 году, я с удовольствием проводил здесь время. Сюда мне присылали почту, и я прикипел к этому месту. Здесь можно было бесцельно болтаться уйму времени в надежде (ни разу не оправдавшейся) напроситься к какой-нибудь группе туристов на дармовой обед. Когда-то мне льстила вздорная перспектива перезнакомиться со всей обслугой, стать завсегдатаем, без церемоний заглядывать на чай к кому-нибудь домой. С годами — когда я и вправду стал завсегдатаем — притягательность этой идеи для меня поблекла. Теперь стоило мне там появиться, как меня обступал народ: один хочет денег взаймы, другой допытывается насчет стереомагнитофона, который в прошлом году просил привезти из Штатов, кто-то требует немедленно доставить его за шестьдесят километров в деревню на какую-то церемонию, кто-то нацелился купить мои часы и джинсы сию же минуту. Просят уроки вождения, работу для младших братьев, стипендии на обучение в моем университете. Вполне понятные просьбы, особенно при общем экономическом упадке, однако свою притягательность для меня гостиница утратила, я старался ее избегать.
В тот год я не появлялся здесь довольно долго. Через некоторое время пилот воздушного шара, обслуживающего туристов, вскользь упомянул о больном павиане, которого он видел у себя на заднем дворе. У меня были другие дела, мне не очень хотелось болтаться в Олемелепо, выслеживая больного павиана, к тому же я предположил, что на самом деле это была зебра, и ее чихание там слышали как-то вечером. Однако, когда пилот напомнил о павиане в третий раз за неделю и даже специально для этого остановил мою машину посреди дороги, я все-таки решил проверить.
В тот же день пилот привел меня на свой задний двор. Павиан не выходил оттуда уже несколько дней и прятался между задней стеной дома и какими-то дизельными бочками, постоянно кашляя. Я покружил у обоих концов прохода, образованного бочками, ничего не увидел, лишь расслышал периодический кашель, сухой и слабый. В конце концов, я протиснулся между бочками и оказался в нескольких шагах от самки павиана.
Она принадлежала к стаду, которое соседствовало с моим и жило на территории, окружающей гостиницу. Нескольких животных оттуда я знал, но эту обезьяну идентифицировать не смог: даже будь я прекрасно знаком со всем стадом, узнать ее было бы невозможно, слишком уж она изменилась. Одни кости почти без мышц, обширные очаги облысения, по всему телу крупные участки кожи поражены некрозом. Огромные горящие глаза. Мы смотрели друг на друга вблизи, и я понял, что она безумна. Уставленный на меня взгляд, казавшийся расфокусированным, время от времени прояснялся, словно обезьяна вдруг замечала меня в первый раз. В такие мгновения она слегка напрягалась и испуганно откидывала голову; на большее она вряд ли была способна. Потом она начинала кашлять, и взгляд вновь становился расфокусированным.
Я решил обездвижить ее стандартной инъекцией: если животное хорошенько осмотреть, то я — при моих самых зачаточных познаниях в этой области — возможно, смогу хоть как-то определить болезнь. А если взять образцы крови, слюны и слизи, то можно их законсервировать и потом показать ветеринарам, знающим диких животных и способным разобраться.
Вводить анестетик я собирался вручную шприцем: метать дротики из духовой трубки не позволяла теснота. Однако обезьяна была настороже и успевала отпрянуть. Некоторое время мы так и ходили друг за другом: она — усиленно меня избегая, я — усиленно пытаясь всадить в нее шприц. Подозреваю, что на самом деле я старался вытеснить ее из-за бочек на открытое место, где можно стрелять дротиком из трубки: я не на шутку опасался, что она меня укусит и я сам к утру превращусь в безумца с некрозом кожи. Я успел заметить, что при кашле у нее отхаркивается кровавая пена.
Наконец самка выбралась на открытое пространство, я приготовил духовую трубку. На зрелище успела во множестве собраться гостиничная обслуга — меня это никак не радовало, поскольку глазеющая толпа достигла того возбуждения, когда с готовностью ринулась бы затаптывать либо меня, либо обезьяну. К тому же болезнь могла оказаться заразной.
Я выстрелил дротиком с небольшого расстояния, под тусклым взглядом ее остекленелых глаз. Она отошла на несколько шагов; я заметил, что кисть одной руки у нее тоже поражена некрозом. Упала она резко и беззвучно. Я достал лабораторный костюм, маску и перчатки. Пульс и дыхание были крайне слабыми, температура 40,5. Пока я готовил пробирку для образца крови, обезьяна умерла.
Я решил, что благоразумнее это не афишировать. Я накрыл животное мешковиной «для тепла», объявил всем, что забираю его к себе в лагерь на обследование, и поспешил унести ноги.
В лагере меня ждал Лоуренс Гиенский, который тут же подключился к планировавшемуся вскрытию. Признаюсь: мы радовались такой возможности и предвкушали его. Конечно, я вполне способен испытывать отвращение к смерти, но для биолога определенного типа чаще всего за ней следует увлекательное занятие. Удалить кожу, анатомировать тело, изучить работу мускулатуры; выскоблить череп и выставить на обозрение, собрать скелет; оттренировать на мертвом теле хирургические навыки до автоматизма. А на этот раз было даже интереснее: перед нами была загадка, и нам предстояло не просто анатомировать тело, но и попытаться решить научную головоломку.
Мы решили действовать тщательно, как подобает людям науки, и определили правила. Мы располагали некоторым количеством медицинских справочников, которыми постоянно пользовались при попытках выяснить причину очередной нетипичной лихорадки или расстройства желудка. Однако на этот раз мы постановили не заглядывать в книги, а сначала полностью закончить анатомирование, записать факты и выдвинуть все возможные гипотезы, чтобы наблюдать непредвзято и не подгонять наблюдения под вычитанный в справочнике диагноз.
Мы вскрыли брюшину моим складным швейцарским ножом за неимением более пригодного инструмента. Вся брюшная полость была заполнена мерзкой жидкостью — делайте что хотите, я не патологоанатом, она попросту была мерзкой. Мы начали вскрывать органы. Обычно это одно из самых тяжелых испытаний для обоняния. Кишечник, естественно, пахнет калом, и запах стоит настолько сильный и вязкий, что под конец кажется, будто дерьмо повисает даже на глазных веках. Однако самое удивительное всегда — желудок, который неизменно пахнет овощным салатом: ароматная смесь листьев, травы и фруктов сдобрена желудочной кислотой ровно до такой степени, чтобы дать отдаленный эффект уксусной заправки для салата.
Впрочем, желудок относительно приятно пахнет только в стандартных случаях, на этот раз ни желудок, ни кишечник ничем не пахли. Самка ничего не ела несколько дней.
Мы везде находили мелкие темные узелки: в кишечнике, в желудке, в печени, а поджелудочной железе. Мы прорезали брюшину дальше до паха — узелки были и там, на лимфатических узлах. Твердые, тугие. По обыкновению патологоанатомов, имеющих извращенную привычку описывать самые отвратительные вещи пищевыми сравнениями, мы решили, что узелки похожи на арбузные косточки. «Может, она переела арбузных косточек», — мрачно предположили мы. Дальше в том же духе: «Ах, арбузные косточки даже на лимфатических узлах. Как же они туда попали, герр профессор?» — «Значит, то были эктопические арбузные косточки». (Слово «эктопический» используется для описания того, что находится не на своем месте. Если у вас на лбу вырастет шесть пальцев, то знаток, который будет описывать их первым, может назвать это эктопическим полидактилизмом или как-то в этом роде.) «Однако же, досточтимый коллега, — продолжали мы, — откуда взялись эти косточки, если арбузы здесь не растут?» — «Ах, пустяки, по моему диагнозу пациентка страдает от идиопатических эктопических арбузных косточек» (то есть от арбузных косточек, оказавшихся не на своем месте по непонятным причинам) — выяснения окончены, дело закрыто. Так мы развлекались.
Несколько узелков мы вскрыли. Внутри они были зернистые, рыхлые и более светлого оттенка. Мы тщательно все записали, но никаких умных выводов придумать не могли. Я начал все зарисовывать: узелки в кишечнике и желудке, бисерные блестки на вуали соединительной ткани. Поковыряв тем же швейцарским ножом позвоночник, мы умудрились вырезать два позвонка. Узелки обнаружились и на спинном мозге: заражена центральная нервная система. Нам стало самую малость не по себе. Мы надели по второй паре перчаток и заметили, что под маской как-то слишком уж жарко — еще бы, препарировать обезьяну на солнцепеке. От тела начало попахивать, особенно от руки, пораженной некрозом.
Мы начали вскрывать грудную клетку. Прорезали кожу, пропилили ребра чем-то из Лоуренсова арсенала автомобильных инструментов. Обычно при рассечении диафрагмы вся грудная клетка попросту раскрывается как по волшебству, и перед глазами предстает роскошная пара легких и под ними сердце. Мы прорезали диафрагму по положенным линиям — грудная клетка не сдвинулась с места. Мы тянули ее по всем возможным направлениями, пока не увидели, что легкие полностью приклеены ко всему: к диафрагме, ребрам, сердцу. Картина была явно ненормальной. Мы дернули грудную клетку, слегка подрезали снизу, дернули еще, и внезапно она отошла вместе с прилипшим к ней легким.
Мы отскочили назад. Ужасу не было предела. Во все стороны хлынула жидкость — густая, молочная, зловонная, волокнистая, комковатая, с кусками тканей. Если оказаться в аду, захотеть пить и заказать молочно-содовый коктейль с кровью и вишенками, то именно такое вам и подадут. Потом до нас дошло: это не просто какая-то жидкость вытекает из легких. Это вытекают сами легкие: нижние доли попросту растаяли, превратились в жидкость.
Всю браваду как рукой сняло. Некоторое время мы собирались с духом — нам еще предстояло исследовать остатки легких. Узелки обнаружились повсюду: на стенке грудной клетки, на трахее, на трахеобронхиальных лимфатических узлах. Но сами легкие… Узелки, да. И еще комки, кровоизлияния, повсюду следы эксплозии крови и гноя, местами имплозии, и опять вытекшие легкие. Немного погодя мы их тронули. Легкие были твердыми, как кость. Может, даже не как кость. Они имели что-то вроде хрящевой суперструктуры с каменно-твердыми «карманами», остальные фрагменты походили на твердую яичную скорлупу, которая лопалась, выпуская очередную порцию легкого. Все было до безумия ненормальным — таким же ненормальным, как если бы вам пришлось есть йогурт, периодически вытаскивая из него кости. Мы принялись тщательно анатомировать, вскрывать, прощупывать и скоблить. Находили сгустки хрящеобразной ткани, которые ничто ни с чем не соединяли. Фрагменты белые, черные, кроваво-красные после кровоизлияний, яркие желто-зеленые. Твердые сферы, из которых при раскрытии вытекала густая желтая жидкость, оставлявшая после себя мелкие мягкие ядрышки коагулированной крови с серой зернистой сердцевиной. И тут же сферы с обратным порядком слоев. Оставшееся легкое срослось со всеми окружающими тканями, доли уже не распознавались. В трахее — зияющие отверстия, в нижней части — пробка из крови, мокроты и рвотных масс. Сплошной хаос, разобраться в этом было невозможно — мы записывали и зарисовывали, совершенно не понимая, что делаем. Наконец мы решили, что дело закончено, и похоронили самку на дальнем конце поля. Лабораторные костюмы развесили на дереве, нож оставили на изгибе ветки того же дерева, подальше от лагеря.
Слово «туберкулез» первым пробормотал Лоуренс: помывшись после вскрытия, мы сразу же засели за справочники, и описание последней стадии туберкулеза подошло идеально. Любой, кто работает с содержащимися в неволе приматами, боится туберкулеза как огня. В большинство приматологических центров нельзя даже ступить без анализов на туберкулез — так опасаются здесь туберкулезных вспышек. Болезнь мгновенно разносится от клетки к клетке, из одного помещения в другое, уничтожает целые колонии. Развивается она не так, как у людей — у Томаса Манна в «Волшебной горе» Ганс Касторп симулирует болезнь несколько лет, не уставая разражаться зубодробительными философскими монологами. В приматологических лабораториях туберкулез развивается стремительно. Я понятия не имел, протекает ли он так же стремительно среди диких приматов. Началом ответа на этот вопрос стал момент, когда местный охранник несколько дней спустя остановил меня на дороге и сказал, что в гостинице Олемелепо видели больного павиана.
Второй случай по большей части походил на первый. На этот раз заболел зрелый самец из того же стада. Усыпление дротиком он перенес благополучно, и я, почти не раздумывая, ввел ему дополнительную дозу и сделал полевое вскрытие. На этот раз обнаружилось больше узелков в пищеварительном тракте и в печени и, возможно, чуть меньше разложения в легких.
Третий случай подоспел несколькими днями позже — безумная, с воплями и кашлем самка павиана за водонасосной станцией гостиницы. Симптомы были хуже прежних: выгнутая горбом спина, кисти рук настолько некрозные и сгнившие, что, пытаясь от меня убежать, она опиралась на локти. Очевидно, спина выгибается в попытке добавить объема легким, а руки сгнивают оттого, что при дисфункции легких и сбое кислородного обмена нарушается приток кислорода к периферийным тканям. Самка умерла через минуту после усыпления дротиком, через час в углу моего поля ее легкие растекались на глазах. В ту ночь у меня впервые случился кошмар — мне снилось, что я не могу дышать.
Все эти павианы были из стада при гостинице Олемелепо. Они жили в одном лесу с моим стадом и по утрам расходились в разные стороны: олемелепское стадо добывало пищу в окрестностях гостиницы. Именно это стадо вытеснило моих павианов из леса в смутное время. С ростом Олемелепо в гостинице появлялось все больше отбросов, их вываливали без лишних церемоний, и вскоре гостиничное стадо питалось исключительно отходами. Немного погодя павианы перебрались спать на деревья, растущие прямо над свалкой, и проводили целые дни за поеданием отбросов. Поведение животных совершенно изменилось, необходимость добывать пищу ушла в прошлое, так что я, преисполненный отвращения, умыл руки. Рано или поздно дело не могло не принять дурной оборот. Туристы ради эффектного кадра время от времени бросают павианам еду с веранды и делают снимок, а если потом павиан из тех, что поагрессивнее, кидается на еду — необязательно ему предназначенную, — туристы разражаются истеричными воплями. В тот же день является егерь с винтовкой и убивает павиана-другого. Или бывает так: в поселке для персонала какая-нибудь женщина поленится дойти до мусорного бака, чтобы выбросить в него остатки кукурузной каши, и вместо этого отдает их поджидающему у дома павиану, а на следующий день, когда она готовит такую же кашу во дворе, на кашу кидается тот же самец, еще не постигший тонкую разницу между состояниями кукурузной каши до и после того, как люди решили, что она им уже не нужна. Опять поднимаются вопли, и опять егерь убивает пару павианов. В предыдущем году проститутка, работающая при столовой для персонала, родила ребенка-калеку, и по округе пошел слух, будто ее изнасиловал павиан. Я не шучу! И егеря опять застрелили парочку.
Вот таким было это стадо. И теперь в нем тут и там вспыхивал туберкулез. Как я уже упомянул, я понятия не имел, как распространяется туберкулез среди диких приматов, а из бегло просмотренных за предыдущую неделю книг я вынес впечатление, что этого не знает никто. По всей видимости, мне-то и предстояло это выяснить. И без того я половину ночей проводил в мыслях о том, скоро ли туберкулез доберется до моих павианов.
Я связался по рации с приматологическим центром в Найроби. В это время там шел процесс преобразования благотворительного заведения и забавы колониальных матрон — приюта для умилительных ручных обезьянок-сирот — в первоклассный исследовательский институт. Директором в нем был американский ветеринар Джим Элс, человек с потрясающими организаторскими способностями. Я питал к нему симпатию и уважение — надеюсь, что взаимно. В тот раз сквозь треск эфира, пропадающий звук, необходимость после каждой фразы жать на кнопку и говорить «прием» я прокричал Джиму о симптомах, вскрытиях и вырисовывающихся закономерностях и даже сквозь треск и металлические монотонные интонации расслышал озабоченность в его голосе. «Да, — сказал он, — похоже на туберкулез, но для подтверждения совершенно необходимо взять легкое на посев». Поскольку я ученый, то распознал в его голосе нотки ученого: «совершенно необходимо, ведь это может оказаться интересно и информативно» (то есть что-то вроде «будет занимательно»). Но поскольку я не клинический врач, то не смог толком определить, были ли в голосе ветеринара нотки «совершенно необходимо, ведь это может быть началом эпидемии». В любом случае его просьба была ясна. Для посева необходима легочная ткань. Значит, от меня требовалось привезти в Найроби живого больного павиана.
Иными словами, павиан должен быть болен, но на ранней стадии — тогда он вынесет транспортировку. Я уже умел худо-бедно распознавать симптомы, так что надеялся выследить павиана с начальными признаками болезни, однако все в целом представлялось делом непростым. Тогда я еще не подозревал, что главная сложность будет в людях.
В Олемелепо уже все знали: с павианами что-то не так. Меня начали спрашивать, не опасны ли павианы, не нужно ли их всех поубивать. Затем, по древней традиции казнить гонца, доставившего дурную весть, в народе стали поговаривать, что павианы заболели по моей вине — дескать, если павианы принадлежат мне, то я властен исправить положение, и тогда выходит, будто я намеренно решил бездействовать и поставил людей под угрозу. И теперь я изрядную часть каждого дня тратил на разъяснения: нет, животные не мои; нет, не все они больные; нет, пока не известно, опасна ли болезнь для людей; да, я стараюсь принимать меры и так далее.
Обнаружился еще один случай заболевания, притом слишком запущенный — павиан не дожил даже до переноски в мой лагерь, не то что до перевозки в Найроби. На следующее утро, оглядывая свалку в поисках подходящего животного, я заметил там жующих Саула, Сима и Ионафана — они явно улизнули из родного стада ради быстрого набега на свалку: силы им было не занимать, и разжиревшие на свалке местные самцы не были для них серьезными соперниками. У меня по спине пошел холодок: вот вам и канал, по которому туберкулез может перекинуться к моему стаду. В тот же день я увидел, как несколько рабочих Олемелепо бросают в павианов камни, пытаясь отогнать их от гостиницы.
На следующий день принцип «убить гонца» нашел свое дальнейшее развитие. Гостиничный управляющий в Олемелепо объявил, что не желает меня больше видеть на территории гостиницы. Знакомый охранник встретил меня у входа и виновато объяснил, что мне больше нельзя туда приходить и пускать дротики в павианов.
Я менял машины, тайком появлялся в Олемелепо только на рассвете и в сумерках, на самой границе гостиничной территории, в надежде найти подходящее животное. На третий день я выследил взрослую самку павиана: отчетливо выгнутая спина, кашель, один участок облысения, остальное более-менее в норме.
Я усыпил ее дротиком на берегу ручья, текущего в Олемелепо. Состояние самки оставалось стабильным, она вполне могла перенести путешествие в Найроби. И тут началась мучительная эпопея с добыванием разрешения на транспортировку животного.
Сложности в основном были связаны с типичной для всех заповедников мира враждой между начальством и учеными. Эти два типа людей живут в совершенно разных мирах. Первые — правительственные бюрократы, которые в полевых условиях надевают военную форму, а в офисе носят костюм с галстуком; вторые, напротив, предпочитают джинсы. Первые только и мечтают увеличить приток туристов в заповедник; вторые с радостью избавились бы от надоедливых туристов навсегда, лишь бы изучать свой драгоценный вид муравьев в идиллической тишине и покое. Первые — по большей части реалисты и прагматики, живущие в мире «реальной политики»; вторые склонны к истерикам и спорам и гордятся отсутствием навыков общения. Первые обычно имеют диплом по менеджменту в сфере заповедного дела, вторые щеголяют престижными дипломами знаменитых университетов и при этом, к неконтролируемому раздражению первых, предпочитают жить в протекающих палатках, как нецивилизованные свиньи. А главное — первые, по всей видимости, существуют лишь для того, чтобы ссылаться на запретительные законы, а вторые — чтобы плевать на любые запреты, если это сойдет им с рук.
Итак, эти две группы людей обычно не питают друг к другу теплых чувств и не склонны идти на жертвы ради благополучного сотрудничества. Знание об этом должно было подготовить меня к дальнейшему развитию событий.
Два дня подряд я приходил к офису главного управляющего в надежде взять разрешение на вывоз больного животного в Найроби, и два дня подряд мрачный егерь с винтовкой говорил мне, что управляющий патрулирует территорию и надо прийти завтра. На третий день тот же егерь сообщил мне, что управляющий всю неделю дома в отпуске. Тем временем состояние самки, сидящей в клетке у меня в лагере, ухудшилось: начался жар и усилился кашель, не дававший нам обоим спать по ночам. Я купил несколько головок капусты и кормил ее с руки через прутья клетки. Она меня боялась, особого аппетита у нее не было, но мало-помалу начала брать у меня пищу.
Я не мог сидеть и дожидаться возвращения управляющего. Я попробовал поговорить с начальником противобраконьерского подразделения; тот заверил меня, что выдаст мне разрешение на вывоз самки из заповедника, если я ему назавтра принесу подарок. Я принес. И начальник радостно сообщил мне: он, дескать, только что обнаружил, что не имеет права выдавать разрешение на вывоз. В тот же день после полудня, вернувшись в лагерь, я обнаружил там нескольких егерей, которые с хохотом тыкали в самку палками сквозь прутья клетки. К вечеру того дня она уже не очень меня боялась — то ли привыкла, то ли затуманилось сознание, — с готовностью ела капустные листы и позволяла мне себя обыскивать. Она уже не могла пользоваться левой рукой из-за некроза.
Наутро я случайно выяснил, что управляющий уже два дня как вернулся. Об этом мне сказал все тот же егерь, брезгливо дававший мне неверные сведения всю неделю. На этот раз я уже знал, что управляющий на месте. Он продержал меня в приемной час, потом велел передать мне, что он слишком занят и не сможет меня принять; все это время из кабинета доносился хохот и голоса, в том числе голос управляющего, и звук открываемых бутылок. К вечеру самка уже плохо двигала правой рукой и стала кашлять кровью.
На следующий день при встрече с управляющим я с улыбками и расшаркиваниями выпрашивал у него разрешение на вывоз обезьяны в Найроби. Управляющий с каменным лицом сказал: «Нет, разумеется, ведь это разбазаривание природных богатств Кении». «Вы смеетесь, что ли? — ответил я. — Она через считаные дни погибнет». «Нет, — заявил управляющий, — если вы ее вывезете, то это браконьерство, мы вас поймаем». И это из уст человека, которого на протяжении его блистательной карьеры уже дважды арестовывали за браконьерство, а через год повяжут за незаконную охоту на носорога (и который благодаря мощным родственным связям с масайской политической верхушкой в результате получит повышение). Ту ночь самка провела в бреду, бессильно привалившись к стене клетки.
Наконец сквозь эту блокаду сумел прорваться Джим Элс. Я каждый день сообщал ему по рации об очередных проволочках, и он, со своей стороны, яростно пытался пробить этот лабиринт власти и косности. Насколько я понимаю, он добился того, чтобы его начальник Ричард Лики, тогдашний директор национального музея (частью которого был приматологический центр), вытряс нужное разрешение у главы департамента по делам заповедников. Моему управляющему передали распоряжение по рации, он артачился и требовал его в письменной форме, в конце концов бумагу, уполномочивающую меня на транспортировку в Найроби больных павианов в количестве до трех штук, доставили самолетом во второй половине того же дня.
Дорога из заповедника была опасной, ехать в ночь было нельзя. К вечеру самка впала в кому; я не знал, доживет ли она до Найроби. Я поспешил выехать еще до рассвета, и в довершение эпопеи был остановлен на границе района невменяемым охранником пропускного пункта. «О, да у вас тут павиан!» — возгласил он. «Да, да, больная самка, умирает, вот разрешение». Он изучает бумагу и вдруг заявляет:
— Тут написано, что вы везете трех павианов, где остальные два?
— Нет-нет, там написано, что я могу везти до трех павианов.
— Нет, тут написано, что у вас должно быть три павиана, два отсутствуют, что вы с ними сделали, бвана? Продали? Дело серьезное.
Проклятье! Самка слабеет на глазах, я раздумываю, не прикончить ли охранника на месте, а он, злорадно отвесив челюсть, потешается надо мной. Наконец он дает понять, чего хочет:
— Бвана, у вас неправильное разрешение. В нем написано «три павиана», а должен быть один, поэтому вы должны заплатить штраф за неправильное разрешение.
Мерзавец ты продажный, отчего ж ты раньше не сказал, что просто хочешь взятку. Я отдал деньги, дал по газам, дальше несся на сумасшедшей скорости, в Найроби попал в час пик и торчал в пробках, непрестанно слыша, как тяжелое неровное дыхание самки временами останавливается вовсе. У ворот лаборатории я долго препирался с охранником, который не хотел меня впускать из-за того, что меня не было в списках. И вот наконец я добрался до здания, где находилось отделение патологии.
Не могу объяснить, что меня заставило убрать с губ самки ошметки капустных листьев, которыми я ее кормил, и вытереть ей глаза, слезившиеся после пыльной дороги. Коротко мелькнула антропоморфическая мысль: «Она из гостиничного стада, не из моего, поэтому без имени». Затем я на руках отнес ее в здание и — несколькими минутами позже — ассистировал при вскрытии грудной клетки. И вновь легкие растеклись у нас на глазах.
Джим заранее предупредил, что посев даст результаты лишь через несколько недель, и тогда микробиолог сможет сказать, туберкулез это или нет. Однако сами ветеринары единогласно назвали диагноз в ту же секунду, когда потекло легкое; то же подтверждали и кожные симптомы, и первый же сделанный ими гистологический анализ. Микробиологам оставалось лишь уточнить конкретный тип туберкулеза, но в тот конкретный момент тип был не важен.
На следующий день мы с Джимом и группой его сотрудников-ветеринаров обсуждали ситуацию. Никто не сомневался, что речь идет о туберкулезе, и все знали, что угрозы людям он не несет. Люди к нему относительно невосприимчивы, и в Олемелепо те, кто сыт и хорошо одет, туберкулезом не заразятся. У остальных он, скорее всего, и так есть, Кения для туберкулеза — дом родной. Джим сделает все возможное, чтобы в заповеднике всех оповестили о том, что для людей никакой угрозы нет.
Однако для павианов угроза была, и еще какая! Ситуацию мы обсуждали часами. Случись такая вспышка туберкулеза в лаборатории по изучению приматов — процедура была бы очевидной: все обезьяны в том отсеке, где обнаружился туберкулез, были бы убиты в тот же день. Остальных животных в колонии, всех до единого, проверили бы на наличие заболевания, и в каждом случае вместе с обнаруженным больным животным уничтожались бы все обезьяны в том же отсеке. Иначе болезнь разнесется со скоростью лесного пожара. Тошнотворное слово всплывало вновь и вновь. Остановить пожар может противопожарная вырубка. Убить всех обезьян из зараженного отсека и всех животных, на которых падет хоть малейшее подозрение: всех, дышавших тем же воздухом. Вырубить часть леса, чтобы пламя не перекинулось на другие участки.
Однако дело происходило не в лаборатории, где обезьяны живут тесно. Как я и предполагал, никто из ученых не знал динамику распространения туберкулеза среди диких приматов. И теперь — вот такое нам выпало неслыханное счастье — нам предстояло это выяснить. Может, в природе туберкулез распространяется медленнее — ведь там нет такой скученности павианов, как в лаборатории. Или, наоборот, быстрее — ведь в природе павианы постоянно друг с другом взаимодействуют. Или медленнее — ведь иммунная система у них не угнетена стрессом пребывания в неволе. Или быстрее — ведь питание у них хуже лабораторного.
Так мы и ходили кругами, не зная, что предпринять. Лечить заболевших павианов было невозможно: при туберкулезе нужен ежедневный прием препаратов в течение полутора лет. Оставалось лишь не дать болезни распространиться. Для этого нужно было знать, откуда она взялась. В последнее время в заповеднике Мара не было замечено вспышек смертности среди павианов, и нынешние случаи заболевания не походили на нечаянно обнаруженные отголоски эпидемии, составляющие верхушку айсберга. Самой правдоподобной казалась гипотеза, что какой-нибудь зараженный туберкулезом самец-павиан пришел к нам из Танзании и присоединился к гостиничному стаду — на нашей стороне это стадо было следующим после приграничного. При той неразберихе, которая царила тогда в Танзании, вымирание павианов на танзанийской части саванн вполне могло остаться незамеченным.
Если этот павиан-эмигрант принес заболевание в наш заповедник и я уже отследил тот канал, по которому оно способно перекинуться от олемелепского гостиничного стада к моему, то туберкулез может распространиться по всему заповеднику. С другой стороны, ситуация могла быть и иной: возможно, туберкулез в Маре многие годы тлел в скрытом рассаднике, проявляясь лишь время от времени, и при этом у большинства павианов к нему природная устойчивость. Тогда это не новое заболевание, а вспышка старого, уже знакомого. В то же время в лабораторных колониях туберкулез не тлеет в рассадниках, и к нему не существует природного иммунитета. Но опять же гостиничное стадо — не лабораторная колония.
Круг за кругом, сплошное хождение кругами. Ветеринары, которые натасканы на медицине в условиях зоолабораторий и у которых при слове «туберкулез» включаются все сирены пожарной тревоги, настаивали на самых агрессивных мерах. Слово «вырубка» всплывало все чаще. Убить всех павианов из гостиничного стада. Убить всех павианов из сопредельных стад. Очистить от павианов часть территории и тем самым остановить заболевание, пока оно не разошлось по всему заповеднику. Но ведь это мои павианы! Это они станут жертвой «вырубки»! И пусть я не ветеринар, не клиницист и полный профан в туберкулезе, я все-таки ученый — и я хорошо понимал, что ничего научного в таком подходе нет. Лабораторная биология не то же, что полевая биология, — именно из-за этого научного обстоятельства я и изучал павианов в дикой природе, а о том, как распространяется туберкулез в дикой природе, никто тогда не знал.
Я одержал временную победу. Мы не станем делать «вырубку». Мы проведем что-то вроде научного расследования наряду с клиническим вмешательством. Мне предстояло вернуться в заповедник и начать метать дротики во всех павианов, до каких смогу дотянуться, брать у всех пробу на туберкулез и потом немыслимые четыре дня держать каждого в клетке. Если зараженных павианов окажется в гостиничном стаде больше половины — значит туберкулез на грани эпидемии, тогда будет смысл прибегать к жестким мерам. Однако мне предстояло отслеживать и альтернативное направление, и обнаружение нужных данных дало бы надежду на более оптимистичный исход: если найти хоть один случай туберкулеза в любом из дальних стад — таких, которые в заповеднике существуют годами и которые, по моим наблюдениям, не претерпевают сейчас катастрофического сокращения численности, — то этим мы докажем, что в дикой природе туберкулез не всегда распространяется со скоростью лесного пожара. Это будет значить, что болезнь передается более медленно, как у людей, и заражает лишь уязвимых особей, а не сметает с лица земли сразу всю популяцию. Если заболевание не распространяется как лесной пожар, то и «вырубка» не нужна.
Ветеринарам такое решение не очень-то нравилось. «Наука наукой, — читалось в их словах, — но поверь, мы-то с туберкулезом знакомы: если он начался, то все павианы в Маре погибнут, ты сам об этом пожалеешь». Джим и остальные взяли с меня логичную клятву: любого павиана, у которого по анализам обнаружится туберкулез, я должен буду убить, даже если он будет из моего стада.
С тех пор мои собственные исследования приостановились: я только и делал, что стрелял дротиками в павианов. Я обещал начать со своего стада, но для начала сосредоточился на гостиничном — просто посмотреть, многие ли заражены, — и на стаде в другом конце заповедника в отчаянной надежде обнаружить там одного больного павиана на целое стадо здоровых.
Пока не начинаешь стрелять в незнакомых павианов, не замечаешь, насколько хорошо изучил своих. У чужих не знаешь характера: не можешь предвидеть, кто после попадания дротика подскочит, оглядится и сядет обратно, кто полезет на дерево, кто пробежит километр, кто кинется тебя убивать. Не знаешь, кто с кем враждует и кого от кого надо защищать в тот миг, когда подстреленный падает в бесчувствии. Не знаешь вес павианов и особенности их метаболизма, количество анестетика для шприц-дротика отмеряешь на глаз. Не знаешь окрестностей и опасных мест, облюбованных буйволами или змеями. Павианы тебя тоже не знают, поэтому на привычно близкое расстояние к ним не подойдешь.
И все же я мало-помалу начал стрелять. Из приматологического центра я привез несколько клеток и туберкулин для анализов. Препарат полагалось хранить в холодильнике, которого у меня не было; в сухом льду для него температура слишком низкая, в закопанном в землю пенопластовом контейнере — слишком высокая. К счастью, после разъяснений Джима о том, что вспышка неопасна для людей, народ в Олемелепо вновь ко мне расположился, и помощник управляющего разрешил хранить флакон у него в холодильнике. Стреляешь в павиана, бежишь за препаратом, отмеряешь миллиграммы и потом вкалываешь туберкулин в глазное веко. Если делать аналогичную диагностику на человеке, то пациента потом можно осмотреть вблизи, поэтому инъекция делается подкожно в руку. А если имеешь дело с обезьяной, которая вблизи раздерет тебя в клочья, то вкалываешь препарат в веко, чтобы результат был виден издалека. Ждешь четыре дня, и если организм поражен туберкулезом и успел выработать антитела, то в месте инъекции кожа даст воспалительную реакцию. Набухшее веко закрывает весь глаз, такую опухоль видно даже за двадцать метров. У кого глаз заплыл — тому не жить.
Жизнь превратилась в сущий кошмар. Стреляешь в радостного здорового павиана, который обыскивает родственника или приятеля. Потом он четыре дня сидит у тебя в лагере, запертый в тесной клетке, по соседству с полудюжиной таких же вопящих и взлаивающих особей, — все вокруг загажено экскрементами, вонь стоит непередаваемая. Гниющая капуста, лужи мочи, ночные стоны испуганных и недовольных павианов. Каждое утро одному-двум наступает срок для вынесения вердикта. Может, глаз будет нормальным — и тогда в следующий миг павиан, выпущенный на волю, вприпрыжку помчится к компании своих дружков, готовых обыскивать его и слушать рассказ о невероятном приключении. А если глаз опух и не открывается, я должен как-то ввести анестетик мечущемуся по клетке животному. А потом ему дорога на другой конец поля, под нож.
Мне не хватало припасов, все заканчивалось. Недоставало масок и перчаток для вскрытия — даже при общей стойкости людей к туберкулезу им не рекомендуется целые дни торчать без маски в дюйме от чьих-то туберкулезных легких в терминальной стадии, и я начинал беспокоиться о моем собственном здоровье[22]. Недоставало анестетика, так что я не мог вводить повышенное, смертельное количество препарата и начал прибегать к тошнотворной практике вводить усыпляющую дозу, а потом перерезать горло. Теперь мои ночи были наполнены воспоминаниями о влажном, свистящем, судорожном хрипе павианов, пытающихся дышать без горла. А потом у меня пропал нож.
Я по-прежнему оставлял его на изгибе дерева, тень которого осеняла мой морг. Мне не хватало дезинфицирующих средств для обработки ножа перед каждым новым животным, и я отправил его в постоянную ссылку в тот угол лагеря. И однажды я не обнаружил его на месте.
У меня был другой нож, без инструмента я не остался. Беда была в другом. Нож взяли масайские мальчишки-пастухи, накануне проходившие через мой лагерь со стадом коз. Они знали, чем я занят, поглазели издалека на вскрытие — и, по-видимому, решили улучить момент и прибрать нож к рукам. Ценная находка, для масаи очень полезная — отличный острый нож для вскрытия коровьей вены и собирания крови. С одной оговоркой: этот нож соприкасался с туберкулезным легким, а коровы крайне чувствительны к заразе, так что пастухи мелкой кражей подвергали риску эпидемии всю свою деревню.
И теперь я не только кормил павианов в клетках, ежедневно кого-нибудь убивал или постреливал шприц-дротиками в разных концах заповедника, — я пустился в переговоры. Рода и Соирова сразу же убедили меня, что мальчишки из их деревни нож не брали, так что мне пришлось объясняться с народом из примыкающих деревень, где я почти никого не знал. Мне было плевать на нож, я не злился за кражу, я лишь объяснял, что нож опасен, от него могут погибнуть коровы. Я даже не требовал нож обратно, пусть бы они его попросту выбросили. И каждый раз меня встречали негодованием: «Красть? Да ни за что! Мы, масаи, о таком даже и не помышляем!» Снова и снова, каждый день я только и делал, что уговаривал местных выбросить нож, и это стало постоянным фоном, лишним поводом для метаний и беспокойства.
Прошла неделя, больных туберкулезом павианов в дальнем стаде пока не обнаружилось, зато гостиничных заражено было порядка 50 процентов. «Вырубка» казалась неотвратимой. Ни дня не проходило без убийств. У одних павианов я находил только узелки, у других — узелки и распад легких. Ужасы, подобные первым случаям, больше не повторялись, — правда, сейчас мне в руки попадали животные с виду здоровые. К моему недоумению, поголовно у всех обнаруживались узелки в пищеварительном тракте, иногда даже при чистых легких, еще не тронутых болезнью. Судя по книгам, которые я теперь читал, такая картина была нетипичной.
В один из дней, когда я в очередной раз охотился с дротиками на гостиничных павианов, дело не задалось. Я выстрелил в крупного самца, и, пока анестетик действовал, павиан успел перебраться на другой берег. Я не знал, каков его характер и много ли у него врагов. Пока я переходил реку вброд, самца успели порвать — на теле красовалиось с десяток ран от клыков. Я притащил его в лагерь и из жалости к его ранам ввел ему смертельную дозу анестетика, изрядно сократив и без того тающие запасы препарата. А потом, во время вскрытия, я отчаянно надеялся обнаружить признаки патологии. К счастью, я нашел небольшой пораженный участок на левом легком и узелки в кишечнике: через четыре проверочных дня, которые ему предстояло бы провести у меня в клетке, ему все равно пришлось бы погибнуть от моей руки.
В ту ночь, острее прежнего осознав риск усыпления чужих павианов, я решил наконец обследовать собственное стадо. На следующий день я поразил дротиком Иисуса Навина с Деворой и еще двоих павианов из гостиничного стада. С чужими павианами обычно не знаешь, что за животное и где его потом искать, поэтому чужих я на испытательные дни сажал в клетку, а павианов из своего стада я нашел бы с легкостью, и держать их четыре дня в заточении не было нужды.
Поэтому я просто ждал. Назавтра я сделал инъекцию Иессею и Адаму, еще через день Даниилу, после настал черед Афган и Бупси. В ту ночь я почти не сомкнул глаз, из головы не шел будущий вердикт Иисусу Навину и Деворе: я представлял себе, каково мне будет перерезать им горло, вскрыть грудную клетку, закопать их тела.
Однако они оказались здоровы. И остальные павианы в моем стаде — тоже. Меня охватила эйфория, впервые за много недель хотелось улыбаться. Через несколько дней я заметил, что павианы из гостиничного стада тоже вдруг стали проходить туберкулиновый тест на ура. Даже та самка, у которой за четыре дня, проведенных в клетке, проявились несомненные симптомы туберкулеза. Что-то было не так.
На следующий день все выяснилось. Я влетел к помощнику управляющего олемелепской гостиницей, чтобы взять туберкулин, и застал там уборку: парень из гостиничной прислуги наводил порядок в доме — и в холодильнике тоже. На подоконнике, жарясь под лучами экваториального солнца, красовались молоко, сыр, бутылки с пивом и, разумеется, туберкулин. Парень был новичок, работал всего первую неделю, уборку делал ежедневно. Туберкулин не годился в дело, результаты теста — тоже. Я принялся ждать, пока мне самолетом привезут новую порцию препарата, мне снились извергающиеся лавой легкие.
Потом опять стрельба шприц-дротиками; заболеваемость в гостиничном стаде приближалась к 70 процентам. Число вскрытий становилось угрожающим, меня на них едва хватало. Два ветеринара из приматологического центра, Росс Тарара и Мбарук Сулеман, вызвались помочь и, вероятно, попытаться убедить меня в необходимости «вырубки». Я приготовился к их приезду — к их помощи, их обществу, их соболезнованиям, их профессиональным знаниям о туберкулезе, которых мне отчаянно не хватало. А потом, за день до их приезда, тест впервые показал наличие туберкулеза и в моем стаде — у Сима.
Этого мига я никогда не забуду. К тому времени я только-только собрался с мужеством и вновь начал тестировать свое стадо, сделал пробы на Исааке, Рахили и затем на Симе. Первые двое оказались чисты — в те же дни проба на павианах из гостиничного стада показывала зараженность туберкулезом, так что этому результату я доверял. В то утро, войдя в лес, я немедленно наткнулся на сидящего Сима, у которого глаз полностью заплыл. Я давно уже задавался вопросом, бывает ли при таких тестах пограничный результат, когда зараженностью под вопросом. В этот раз сомнений не было — у Сима был туберкулез.
Дротики я в тот день отложил и занимался до самого вечера лишь наблюдениями за поведением — впервые за долгое время. Ходил за павианами, бездумно собирал стандартные поведенческие данные, что-то им пел. К горлу подкатывал комок каждый раз, когда Сим с кем-то общался — приветствовал самца, обыскивал самку, оборачивался на кого-то посмотреть. И все это в последний раз в жизни. А я все не притрагивался к дротикам и раз за разом пропускал возможность его усыпить и перерезать ему горло.
В тот вечер я сбежал к Лоуренсу за советом и утешением. Мне никогда не хватит слов воздать ему должное за то, что в этот безумный период моей жизни он был неисчерпаемым кладезем здравомыслия и братской надежности. Он долго и терпеливо слушал мои излияния, а потом поступил единственно правильным образом — перефразировал то, что я ему говорил, и повторил мне как приказ:
— Ты знаешь не хуже меня, что насчет здешнего туберкулеза твои ветеринары ни черта не понимают, да и никто не понимает. Если они правы, то павианы все перемрут и без твоего вмешательства, так что убивать этого твоего самца совершенно незачем. А если неправы — то, может, нескольких зараженных можно спасти, вдруг все-таки обнаружится устойчивость к болезни. Не убивай его.
На следующий день, когда я ехал в Олемелепо встречать самолет с Россом и Сулеманом, я видел Иессея — глаз у него заплыл, павиан был заражен. Ни о нем, ни о Симе я ветеринарам ничего не сказал.
Мы приступили к работе, коллеги оказались невероятно ободряющим подспорьем. Приятные и общительные, Росс и Сулеман мне нравились еще по предыдущему знакомству; и они тут же с готовностью взяли тон ученых, получающих от работы удовольствие и не склонных к сантиментам: «Ну и ну, надо же, какой бардак творится в легких». Такой чисто клинический интерес к тому, что составляло для меня трагедию, я предвидел и заранее опасался, что он будет меня раздражать, однако средство оказалось на удивление умиротворяющим. Мы сообща взялись за работу, и дело пошло быстрее: я теперь по большей части стрелял в павианов дротиками (чего ветеринары не умели), а гости в основном занимались вскрытиями — своей профильной работой. Мы продвигались все дальше, я избегал вопросов о своих павианах, дальнее стадо по-прежнему показывало ноль процентов заболеваемости, зато среди гостиничных — процент достиг семидесяти. Среди дня я на время ускользал и тайно обследовал своих павианов; обнаружились еще двое зараженных — Давид и Ионафан. В один из дней я усыпил дротиком Вениамина и понял, что у меня не хватит решимости ввести ему туберкулин для анализа.
Работа шла в изнуряющем режиме, который не оставлял времени на отвлеченные размышления, и мне это только шло на пользу. Огромный объем дел, повторяемость рутинных действий, слишком короткий сон — все это вкупе создавало обезболивающий эффект. Стрелять дротиками, кормить павианов в клетках, проверять результаты туберкулиновой пробы, вкалывать анестетик, уговаривать очередную масайскую деревню, убивать, вскрывать, записывать наблюдения, проводить вечера за обсуждениями «вырубки». В некотором смысле это была академическая работа — по крайней мере применительно к гостиничному стаду: нам все равно предстояло уничтожить в нем почти всех — частями ли или одним махом в результате заранее обдуманного окончательного решения. Гибнущие животные одно за другим проходили через наши руки, работа изматывала донельзя, и каждый вечер дневные труды увенчивались зрелищем, которое я теперь вспоминаю с тоской, впустую расточаемой на давние, со временем изживающие себя кошмары, — огромная вырытая нами яма и горящие тела павианов, политые бензином.
Скучную заурядную жизнь моего концлагеря и крематория и умиротворяющую грусть, навеваемую запахом гари, вдруг нарушил Джим Элс, вызвавший меня по рации. Получены результаты микробиологического анализа — совершенно непредвиденные. Туберкулез оказался бычьим, не человеческим.
Туберкулезом в действительности называют целый ряд заболеваний. Во всех случаях туберкулез порождается бактерией, которая активизируется в организме. Чаще всего он начинается в легких, куда попадает при дыхании, а потом кровь и лимфа могут разнести его по всему телу. Вторичный туберкулез может возникнуть практически в любом органе — в центральной нервной системе, в мочеполовой системе, в костях. Обычно же он локализуется в легких. По большей части он вызывается одним типом бактерий — Mycobacterium tuberculosis, это человеческий туберкулез. Однако существуют и более редкие разновидности: M. kansasii, M. scrofulaceum, M. fortuitum, M. bovis — разновидности «птичьи», «бычьи», «почвенные» и так далее. Тип живых существ, указанный в названии, не обязательно означает, будто данная разновидность туберкулеза возникает исключительно среди них, скорее, он указывает на то, в каких организмах эта разновидность впервые обнаружена или чаще встречается. В основном распространен M. tuberculosis, и чаще всего это легочная форма. Однако сейчас мы имели дело с M. bovis — бычьим туберкулезом, — а он в первую очередь развивается в кишечнике. Павианы заражались туберкулезом не друг от друга при дыхании. Туберкулез попадал в организм с пищей.
Работа остановилась, мы сидели и чесали в затылке. Я наведался в несколько мест, позадавал вопросы, выдумал несколько безумных гипотез, которые день от дня становились все правдоподобнее. И наконец однажды знакомый из Олемелепо предложил мне немного покатать его на машине по заповеднику. Как только мы выехали за территорию гостиницы, он в очень осторожных выражениях подтвердил мои подозрения.
Он опасался выступать в роли информатора, и я не назову ни имени, ни занятия, по которому его можно было бы опознать. Знакомый этот происходил из племени, враждующего с масаи, и был не прочь указать на некоторых пальцем. А поскольку имел образование и когда-то работал помощником ветеринара, то понимал, о чем говорит.
Дело было очевидным. Бычий туберкулез — болезнь крупного рогатого скота. Если он поражал корову, масаи опытным глазом мгновенно это отслеживали. В давние времена коров никогда не убивали. Их держали ради того, чтобы питаться их молоком и кровью, их чтили, воспевали, холили и лелеяли. А если корова заболевала, за ней ухаживали до самой ее смерти, и только тогда могли пустить на еду, да и то с большой неохотой. Однако прагматичные масаи, легко приспосабливающиеся к обстоятельствам даже там, где дело касается их драгоценных коров, придумали кое-что новое. Стоило какой-нибудь корове на масайской территории, окружающей заповедник, выказать признаки туберкулеза, ее в тот же день грузили в пикап, отвозили в Олемелепо и продавали Тимпаи — мяснику-масаи. После соответствующей взятки ветеринарно-санитарному инспектору, тоже масаи.
Мой знакомый знал, как выглядит заболевшая туберкулезом корова. Он видел, как Тимпаи отводил больных коров на дальнее поле, вырезал легкие и другие зараженные органы и бросал их гостиничным павианам, которые теснились вокруг в ожидании обрезков. А остальное мясо Тимпаи продавал работникам гостиницы. Вскоре я и сам стану свидетелем этого ритуала, и даже украдкой сделаю несколько мутных снимков длиннофокусным объективом. Я увижу, как Тимпаи — толстый, похожий на доброго дядюшку, с массивными мясницкими руками — разрубает тушу, радостно запускает руки по локоть в кровь и плоть (и, несомненно, в туберкулезные бугорки и в поврежденные болезнью ткани), роется во внутренностях вместе с масайскими помощниками из буша и швыряет нечто неприглядное павианам, собравшимся вокруг. Крупные самцы дерутся за увесистые ломти, самки шмыгают между ними и подбирают куски помельче, детеныши пугливо выхватывают ошметок-другой. Обрекая себя на неминуемую гибель. И, конечно же, здесь временами мелькали то Сим, то Саул, то Иессей, пытающиеся в свободное от обязанностей время урвать в драке свою долю добычи.
Я полыхал убийственным гневом против масаи и не пытался его сдерживать. Я прекратил всякие попытки вразумить их насчет туберкулезного ножа. Капля в море, пусть идут к черту: я просто возвращаю им бычий туберкулез, который они напустили на моих павианов. Теперь я испытывал странное облегчение. Мы получили объяснение нетривиальному варианту туберкулеза и нетривиальной симптоматологии. Мы примерно знали, что делать. Избавиться от санитарного инспектора, прекратить махинации с мясом — и тогда, возможно, туберкулез утихнет и часть животных будет спасена. Я почти впал в эйфорию: у нас появились ответ, возможность, надежда.
Россу и Сулеману пора было уезжать, возвращаться к собственным делам. Я передал с ними письмо для Джима. В нем я подробно описал цепочку, ведущую к мяснику, обрисовал очевидное: нам, возможно, вместе с Ричардом Лики надо немедленно встретиться с владельцами сети гостиниц «Сафари» — головной организации для Олемелепо, призвать их к действиям, а в случае отказа пригрозить оглаской и покончить с проблемой.
Письмо ушло к адресату, и на следующий день я весь в радостном возбуждении получил от Джима приказ по рации: немедленно прибыть в Найроби. Я выехал наутро, готовый ринуться в бой, уже предвкушая благополучную развязку. А на следующий день за закрытыми дверями Джим сказал мне, что ничего подобного не произойдет.
Туризм — самый крупный в Кении ресурс для притока иностранной валюты. В пересчете на местные реалии эта отрасль крупнее, чем стальная, автомобильная и топливная промышленность в США, вместе взятые. Сеть гостиниц «Сафари», принадлежащая видной семье британских колониалистов, — одна из крупнейших в стране, и Олемелепо — один из ее флагманов. А мы находимся в той части света, где люди, обладающие властью, творят что пожелают. Где вдова правительственного функционера возглавляет бизнес по нелегальной охоте на слонов, где егеря с винтовками каждый раз в день зарплаты вымогают деньги у гостиничных служащих, где министр правительства однажды, пользуясь служебным прогнозом на неурожайный год, скупил за свои деньги весь урожай и держал его в закрытых хранилищах ради прибыли, устроив голод собственному народу. И, по словам Джима, ни я, ни Джим, ни даже Ричард Лики, самый известный в мире гражданин Кении, не пойдем к владельцу сети «Сафари» с требованием свернуть махинации с мясом. И не будем предавать огласке торговлю туберкулезным мясом в Олемелепо. Я умолял, мы спорили, наконец Джим велел мне возвращаться в заповедник и продолжать изучать туберкулез, а он попробует что-нибудь сделать по своим каналам.
Я был полон злости и яда, никогда в жизни не испытывал такого разъедающего чувства бессилия перед предательством. Как и просил Джим, я вернулся в заповедник, остался один на один с бушующей во мне яростью, никому ничего не сказал, кроме Лоуренса. Целые дни напролет я, как одержимый, изобретал все новые способы отомстить всем подряд. Даже начал готовиться к воплощению в жизнь некоторых из них. Я был намерен защитить моих павианов, спасти их, защитить себя самого, отомстить виновным. Я вернулся к прежним занятиям — стрелял дротиками в павианов и методично документировал дальнейшее распространение болезни, собирая данные для блокнотов наблюдения, которым, по всей видимости, предстояло лежать запертыми в столе у Джима. Одновременно я начал заниматься и другим. Фотографировал животных, толпящихся вокруг разделываемых туш и дерущихся за отходы у гостиничной свалки. Потратив целое утро, я тайно отснял еще одну пленку, выслеживая туберкулезного павиана на последней стадии болезни, который брел, шатаясь, по берегу реки, впадающей в Олемелепо. Потом он упал и умер, и я сфотографировал его лежащим на фоне гостиницы. На собственные деньги я заказал обед в гостиничном ресторане, хотя обычно предпочитал правдами и неправдами добиваться того, чтобы меня угостили очередные туристы; я не столько ел, сколько выискивал самые алые участки говядины и, улучив подходящий момент, закидывал кусочки в принесенную с собой небольшую емкость с формалином. Для тех же целей я покупал мясо у Тимпаи и выдал емкости с формалином своему боязливому информатору на случай, если тот отследит явно больную корову. Я решил собрать доказательства, в мечтах уже видел заголовки американских газет: «Крупнейшая туристская гостиница в Кении угощает туберкулезным мясом стоматологов из Огайо». Я намеревался добыть информацию и спасти своих павианов независимо от властей предержащих, или, если уж мне придется потерять павианов, я был настроен отправить им вслед все остальное: Олемелепо, гостиничную сеть «Сафари» с ее владельцами, Тимпаи, туристскую индустрию Кении, всю их проклятую страну — мои павианы были достойны отмщения.
Я попробовал предпринять некоторые логичные ходы. Например, отправился поговорить с Тимпаи. Если искать на свете человека, который единолично олицетворял бы самые яркие и противоречивые черты африканцев, то лучше Тимпаи никого не найти. Чудесный, очаровательный, ангелоподобный, ни дать ни взять масайский Тевье-молочник из Олемелепо. Силач, поэтому толстым его не назовешь, у него огромный колышущийся живот, круглое лукавое лицо, будто сложенная из чугунных плит грудная клетка и такие же руки. При взгляде на него немедленно вспоминаешь образы с картин Томаса Харта Бентона в духе американского реализма — мужчины, способные унести на плечах наковальню, быка или пару рельсов. Живописности ему добавляла почти невиданная среди местных борода — густая, хорошей формы, кое-где с проблесками седины.
Добрый, смешливый, щедрый, он был одним из старейшин среди местных масаи, вечно давал ночлег не одному, так другому поселянину, приехавшему в Олемелепо из масайской деревни и застрявшему в ожидании обратной оказии, вечно угощал всех чаем. Он даже обнимал людей при встрече в знак приветствия — непривычный жест для жителей здешней округи. Совершенно архетипический образец щедрого и радушного деревенского персонажа, уважаемый и востребованный мясник, мудрый и гостеприимный — таков был Тимпаи. При этом типично в африканском духе он был насквозь порочен, причем в эдакой простодушно-безнравственной манере. Официально он работал в Олемелепо метеорологом, по должности ему полагалось ежедневно снимать показания с дождемера и заносить их в журнал. Однако к метеорологии он и близко не имел отношения уже много лет и сваливал всю работу на подручных, которых слезными письмами выпросил себе у правительственных служб. Рабочие часы он полностью отдавал незаконному занятию мясницким делом. Тимпаи был из тех, кто с радостью обведет вас вокруг пальца и потом с не меньшей радостью заговорщически в этом признается. Самый крупный случай его мошенничества едва не закончился смертельным отравлением половины народа в гостинице. Какие-то окрестные масаи везли ему старую, дряхлую, почти коматозную корову: они погрузили ее в кузов нанятой машины, довезли до места и тут обнаружили, что корова часа два как сдохла. Даже успела окоченеть. Пустяки! Масаи скинули цену, вручили сколько-то наличными Тимпаи и санитарному инспектору — и окоченевший труп «забили» в поле. Мясо продали куда надо, все попробовавшие слегли. Пришла полиция, Тимпаи и санитарный инспектор дали подобающую взятку, тем дело и закончилось.
И теперь, прихлебывая чай Тимпаи, я ненавязчиво поинтересовался: может ли забиваемая корова оказаться больной?
— О нет!
— Почему ты так уверен?
— Потому что санитарный инспектор мне говорит, что она здоровая.
— А он откуда знает?
— О, уж он-то знает!
И тут, указав рукой на сияющего полуголого инспектора-масаи, сидевшего на полу в пьяном оцепенении, Тимпаи выдал одну из самых памятных фраз в копилке моментов черного юмора в моей жизни:
— Когда корова сюда попадает, инспектор осматривает ее сердце, желудок, печень, легкие, мозг, кишки, и если что-то не так, то он не даст мне ее забить, — светясь от радости, сообщил Тимпаи. — Инспектор прекрасный человек и приносит нам много пользы, потому что бог благословил его и скот быть такими прекрасными.
Так что Тимпаи не собирался отказываться от своей «пользы» ради какого-то там спасения павианов. Видимо, логичнее было бы затеять скандал в Олемелепо и всеобщими усилиями прикрыть этот мясной бизнес. Взобраться на импровизированную трибуну и провозгласить: вот, мол, люди добрые, тут у нас непорядок, ваш сосед Тимпаи вместе с санинспектором заражают вас туберкулезом — и воспылает местью яростная толпа, и больше ни куска зараженного мяса не будет скормлено людям. Как бы не так! Никакие призывы не подействуют, потому что никому нет дела. Когда Тимпаи устроил всем отравление, скормив народу окоченевшую корову, он вызвал лишь легкое раздражение, не более того. Ничего похожего на возмущение или гнев. Я спрашивал людей: «А что было потом? Разве вы не оскорбились?» И мне отвечали: «Ну, Тимпаи и тот инспектор теперь научены опытом и уже знают, что если они так с нами поступят, то заплатят полиции кучу денег, поэтому они, наверное, на такое еще раз не пойдут». Я не отступался: «Но они ведь вас отравили, вы и ваши дети могли погибнуть!» Мне отвечали, что да, это плохо, и добавляли на суахили слово покорности: «дунья». «Таков мир, так устроена жизнь». В тот период, когда я пытался состыковать в своем восприятии Тимпаи как воплощение чистого зла и Тимпаи как давнего щедрого знакомого, именно понятие «дунья» вывело меня на нужную мысль. Отравить ближнего — не такое уж крупное злодеяние, если ближний на это всего лишь досадливо поморщится. Даже если объявить, что Тимпаи с инспектором заражают народ туберкулезом, то всем будет плевать — ведь никто и не ждет ничего другого от таких людей — это их работа.
В тот же тягостный период я выяснил кое-что важное. Одна самка павиана из гостиничного стада, вполне здоровая внешне, по результатам анализов оказалась заражена туберкулезом. Я перерезал ей горло, сделал вскрытие — и ничего не нашел. Никаких узелков в кишечнике или желудке, никаких повреждений легочной ткани. Настороженный и взволнованный, я исследовал каждый дюйм ее легких, и в правом верхнем углу нашел один-единственный высохший туберкул. Ни створаживания, ни разжижения, ни сращения. Всего лишь мелкий «карман» гнилостной ткани, заключенный в нечто вроде хрящевой оболочки и изолированный от остального легкого. Больше во всем теле ничего не нашлось. То есть заразиться, пройти начальный этап патологии и выздороветь — вполне возможно: значит, в дикой природе существует естественная устойчивость к туберкулезу.
Я задокументировал находку наряду с аналогичными, однако к тому времени я был уже слишком осторожен и искушен, чтобы питать какие-либо надежды. К тому же пришла пора уезжать — сезон закончился, мне предстояло на девять месяцев засесть за лабораторные исследования, дальше дело будет идти без меня.
Я собрал вещи и подытожил факты:
• Около 65 % павианов из гостиничного стада заражены туберкулезом и мрут как мухи. В дальнем стаде не обнаружено ни одного зараженного животного. В моем собственном стаде две трети самцов либо заражены туберкулезом, либо были замечены мной в драках за ошметки мяса во время вылазок на территорию гостиницы.
• В принципе, не все потеряно. Заболевание распространяется не так, как в лабораторных условиях. Возможна (по крайней мере в одном случае) природная устойчивость к туберкулезу или как минимум ремиссия; в отличие от человеческого туберкулеза среди павианов не происходило вторичного заражения от особи к особи через кашель. Среди гостиничных павианов не было зарегистрировано ни одного случая чисто легочной инфекции без повреждения тканей кишечника. Более того, в моем стаде заражались только самцы, замеченные мной на территории гостиницы в месте разделки туш, в то время как самки, а также слишком молодые и слишком старые самцы по результатам анализов оказались незараженными. Туберкулез не передавался от павиана к павиану, по крайней мере так быстро, как в лаборатории. Во всех случаях заболеваемость была связана с мясом. Если ликвидировать источник туберкулеза, то новых случаев заболевания, по-видимому, не появится. И даже среди инфицированных павианов некоторые еще смогут выжить. Главное — избавиться от санитарного инспектора и прекратить махинации с мясом.
• Делать «вырубку» нет нужды. Если в условиях дикой природы не происходит или почти не происходит вторичной передачи заболевания от особи к особи, то нет опасности массовой эпидемии среди павианов в данной местности. И даже если при наличии вторичного заражения истребить гостиничное стадо и соседние стада, включая мое собственное, и при этом не избавиться от туберкулезной говядины, то рано или поздно на бесплатную раздачу мяса, устраиваемую Тимпаи, станет собираться следующее ближайшее стадо павианов. То есть и в этом случае нужно избавиться от санитарного инспектора.
• Однако ничто не говорит о намерении санитарного инспектора куда-то уехать. Джим попробует что-нибудь сделать, но обещать ничего не может. Он вновь попытается действовать через Ричарда Лики, но мне велено не очень-то надеяться. Пока что Джим дал мне отмашку начинать писать отчеты о вспышке туберкулеза, которые потом должен будет отцензурировать Лики, чтобы не звучали слишком уж недипломатично. И еще Джим велел мне молчать.
Я провел последнее утро с павианами и, как всегда, поспешил вернуться в свой привычный мир. Я нежился под горячим душем, которого мне так не хватало в лагере, кидался на любую еду, отличную от риса, бобов и скумбрии, встречался с друзьями и забрасывал их рассказами об африканских приключениях, ни словом не упоминая туберкулез. Мало-помалу жизнь вошла в обычную колею, я начал анализировать образцы павианьей крови, сочинил для спонсоров бодрое объяснение малому объему выполненной за сезон работы, тоже без упоминания туберкулеза. Я даже умудрился восстановить в памяти беспорядочные эксперименты, которыми занимался в лаборатории перед отъездом в Кению, и вновь запустить их. И я всеми силами скрывал от Лизы свое беспокойство из-за туберкулеза.
Новостей не было. На мои потоки писем и межконтинентальных телефонных звонков Джим отвечал, что Ричард Лики прилагает все усилия, но пока никаких сдвигов. Мой информатор временами присылал письма, которые, никак не оправдывая ожиданий, оказывались неинформативными: павианов и мясницкий промысел он почти не упоминал, зато разливался соловьем насчет радиоприемника, который очень хотел от меня получить.
Я изучал туберкулез, читал литературу о приматах по теме. Статьи по патологии концентрировали внимание на том, какие повреждения тканей возникают в каких местах; из них я узнал научные названия того, что видел при вскрытии. Статьи по эпидемиологии в основном следовали шаблону «в рамках ветеринарного обследования 1947 года мы обработали [то есть подстрелили дротиками] столько-то обезьян в верховьях Замбези и обнаружили туберкулез в стольких-то процентах случаев». Эти статьи лишь подтверждали, что динамика распространения туберкулеза в природных условиях — вопрос неизученный и о нем никто ничего не знает. Статьи по экспериментальным исследованиям фокусировались на том, как туберкулез передается от одной лабораторной обезьяны к другой: берешь больного примата, перенаправляешь от него еду, воду или воздух здоровому примату и смотришь, заболеет тот или нет. Такие статьи неминуемо заканчивались противоречивыми прогнозами. Одни утверждали, что в дикой природе туберкулез должен распространяться менее активно, чем в лаборатории, где выше плотность популяции. Другие — что в дикой природе туберкулез должен распространяться более активно, чем в лаборатории, из-за более тесных взаимодействий животных. Никто ничего не знал.
И я, и Джим со своими ветеринарами начали работать над нашими собственными статьями о туберкулезе, детально обрисовывая патологию и эпидемиологию; черновики отправляли Ричарду Лики на утверждение. Формулировки оттачивали с особой тщательностью, так чтобы неясно было, о какой части Кении идет речь и где конкретно находится гостиница. Статьи вышли в Journal of Wildlife Diseases («Журнал о заболеваниях в дикой природе») и Journal of Medical Primatology («Журнал о медицинской приматологии») — две публикации, которым, надо полагать, надлежало украшать каждый кофейный столик в Америке. Я втайне надеялся, что зоркий читатель разглядит между строк реальную подоплеку, научная общественность воспылает гневом и разразится призывами к немедленным действиям. Однако на деле, скорее всего, максимум полдесятка читателей этих неприметных изданий лениво скользнули взглядом по заголовку и краткому содержанию статьи, так что последовавшая за этим тишина лишь усилила снедающие меня ярость и чувство одиночества.
Я по-прежнему тратил бездну времени на мечты о мести. В своих фантазиях я уже убил санитарного инспектора и шантажом заставил гостиничную сеть «Сафари» подчиниться моим требованиям. Гостиница служила одной из резиденций для британской королевской семьи во время государственных визитов (в те чудные колониальные времена, когда эта территория была одним из мест королевской охоты), и я мечтал завербовать в союзники королеву Елизавету. Я даже придумал первую фразу письма: «Вашему величеству, вероятно, будет интересно узнать, что во время вашего недавнего визита в Восточную Африку вас могли накормить туберкулезным мясом». Я, разумеется, отлично знал, что говядину для королевских обедов уж точно поставлял не масайский мясник Тимпаи, но решил, что начать письмо броской фразой не помешает. И, конечно, надо щедро накидать туда собственных титулов, чтобы письмо не отбраковала армия королевских секретарей. Королева неминуемо ужаснется и проникнется состраданием к моему рассказу (на тот период я стал роялистом), она велит схватить британских владельцев «Сафари» вместе с санитарным инспектором и заточить их в лондонском Тауэре. Я и вправду составлял черновики такого послания.
Были у меня и другие планы. Деятельность Лоуренса Гиенского недавно удостоилась внимания научного обозревателя The New York Times. Теперь я планировал пойти к той же журналистке и поведать ей свою историю, даже придумывал заголовки. Однако я не стал ни связываться с журналом, ни писать королеве. Я ничего не предпринимал — только мучился от беспокойства да звонил Джиму ради очередной новости о том, что новостей нет. Все больше я понимал неизбежность вывода, что трагедия моих павианов — не такое уж большое дело. Павианы не принадлежат к исчезающим видам, не являются объектом особенной любви. Нынешняя эпидемия туберкулеза почти не несет угрозы людям, да и туберкулез среди африканцев — привычное дело, не стоящее особого внимания просвещенного мира. Вся история с павианами — всего лишь частный случай коррупции в чудовищно коррумпированной стране. Поэтому я просто ждал, надеялся и терзался. А потом пришло время ехать в Кению на очередной летний сезон.
Когда приходит время возвращаться в Кению, я всегда не нахожу себе места от нетерпения: мчусь в аэропорт, наспех со всеми прощаюсь. Умудряюсь ощущать спешку даже в самолете, где тянутся бесконечные часы бездействия. В Найроби наскоро заканчиваю необходимые дела, на бешеной скорости гоню джип через столичные пригороды, через рифтовую долину, через пыльные тропы на подъезде к заповеднику. Спешно продираюсь сквозь неизбежные приветствия, бесконечные рукопожатия, дежурный обмен любезностями на въезде и у каждой из гостиниц. Я мчусь вдохнуть наконец родной запах палатки, обомлеть, обнаружив, что прошлогодние горы по-прежнему на месте, и увидеть своих павианов.
Если повезет, то в первый день они благосклонно выходят на открытое поле, можно окинуть их взглядом, полюбоваться всеми сразу. Перед этим успеваешь передумать много всякого странного — были ли здесь павианы хоть когда-нибудь, не выдумал ли я их, не выдумал ли всю здешнюю местность? Вдруг начинает казаться, будто за мое отсутствие выпали из памяти главные и самые простые подробности: а есть ли у павианов хвосты, бывают ли рога — может, про рога я просто забыл? А может, я не узна́ю никого из павианов, а они не узна́ют меня?
И вдруг они заполняют собой все вокруг, так что немеешь от восторга и окунаешься в них с головой — видишь, кто ничуть не изменился, кто постарел, кто заработал себе новый шрам, у кого в преддверии зрелости наросли новые мускулы. Смотришь на новых детенышей, резвящихся без матерей, и пытаешься угадать, кто чей. Соревнуешься сам с собой — насколько быстро определишь нового альфа-самца. Оцениваешь, кто по-прежнему в друзьях, чей союз укрепился, кто с кем враждует. Видишь, какая самка из вчерашних детенышей вступила в мучительную пору созревания и теперь на каждом шагу позорится перед самцами, какой мелкий юнец перешел в агрессивную стадию взросления. Пытаешься присмотреться к новым самцам, перешедшим из других стад, прикинуть их характер и убедить себя, что не нужно их считать паршивцами лишь потому, что они новые и незнакомые. А в ближайшие недели наведываешься в соседние стада и смотришь, куда перешли прошлогодние самцы-подростки и где теперь будет протекать их взрослая жизнь. И, конечно же, видишь, кого не стало.
В этом году все было так же. Обмен приветствиями в гостинице, приветы от всех американцев, обсуждения погоды и видов на урожай, разговоры — бесконечные, раздражающие, знакомые, успокаивающие, необходимые, задерживающие: егеря, управляющие, официанты, механики, помощник управляющего, связист, водители экскурсионных автобусов. И Тимпаи. И санитарный инспектор. Мы разбили лагерь, починили палатки-кладовые, развалившиеся в прошлом году, вырыли яму под уборную, прокопали сточные канавы, протестировали центрифугу, вычистили духовую трубку, расставили банки со скумбрией, закончили все возможные хозяйственные дела — дальше откладывать было некуда.
Павианы и в этот раз устроили мне подарок к возвращению и на рассвете вышли на самое открытое поле. За тот день и ближайшие недели я узнал, как прошел для них предыдущий год. Я убедился, что вторичной передачи заболевания от особи к особи, как в лаборатории, здесь почти нет. Туберкулез совершенно точно не распространяется со скоростью лесного пожара. И я набрал дальнейшие свидетельства того, что в естественной среде возможны случаи природной устойчивости к туберкулезу, как я и предположил после того единственного случая в предыдущем году. И я выяснил, что туберкулезное мясо в качестве первичного фактора заражения представляет ощутимую опасность для моих оливковых павианов, называемых по-латыни Papio anubis.
И стало так, что болезнь унесла Саула, умершего у меня на руках, как я уже поведал ранее, много историй тому назад.
И болезнь унесла Давида.
И Даниила.
И Гедеона.
И Авессалома.
И болезнь унесла Манассию, который умер в мучительных судорогах перед толпой хохочущей гостиничной обслуги.
И болезнь унесла Иессея.
И Ионафана.
И Сима.
И Адама.
И Шрама.
И болезнь унесла моего Вениамина.
Я пишу эти строки годы спустя, и за все время я так и не нашел поминальной молитвы для тех павианов. Ребенком, когда я еще почитал веру своего народа, я выучил каддиш — заупокойную молитву. Однажды я произнес ее вслух — оцепенело, механически, как дань традиции — над незасыпанной могилой моего отца, но эта молитва прославляет деяния и прихотливую волю бога, который для меня не существует, так что для моих павианов она не годится. Мне говорили, что в приматологических исследовательских центрах Японии читают синтоисткие молитвы за погибших обезьян, совмещающие в себе молитву за убитого животного, возносимую удачливым охотником, и молитву за убитого врага, возносимую удачливым воином. Но хотя я выслеживаю этих животных со своей духовой трубкой и люблю из нее стрелять, клянусь — никогда не воспринимал это занятие как охоту и павианы никогда не были для меня врагами. Так что и эта молитва для них не годится. В мире, который издавна полнится словами плачей и горьких стенаний, никакие слова ко мне не приходят. И те павианы остаются пеплом на мою голову. Вместе с пеплом деменции моего отца и моей науки, так медленно спешащей ему на помощь. С пеплом моих предков в лагерях смерти. С золой слез моей Лизы, пролитых из-за меня. С прахом подопытных крыс, умерщвленных в моей лаборатории. С руинами моих депрессий и больной спины, которая с годами дает о себе знать все ощутимее. С пеплом голода, застывшего в глазах масайских детей, которые смотрят, как я печатаю эти слова, и пытаются угадать, накормят их здесь сегодня или нет.
* * *
С годами я научился, как говорят, смотреть на вещи более отстраненно. Я больше не пылаю яростью по ночам от воспоминаний о том времени, не составляю мысленные списки тех, кого хочу найти и прикончить. Я не пишу эти слова в надежде, что они окончательно подорвут кенийскую экономику, местный туризм или хотя бы покой гостиницы в Олемелепо, чьи управляющие по-прежнему приглашают меня на обед, чьи продуктовые фургоны привозят мне долгожданную почту и чью туалетную бумагу я по-прежнему регулярно утаскиваю с собой. В знак того, что не желаю никому зла, я даже не привожу здесь подлинных названий гостиницы в Олемелепо и гостиничной сети «Сафари». Тимпаи и санитарный инспектор ушли на покой, с тех пор вспышек туберкулеза больше не было. Прокатывающиеся по Африке волны СПИДа, превращение степей в пустыни, войны и голод — это тот фон, на котором моя непритязательная мелодрама выглядит пустяком, трагедией благополучного белого американца, который в силу обеспеченности и привилегий может позволить себе сентиментальность и сострадание несчастным животным на другой стороне земного шара. И все же я невыразимо тоскую по тем павианам.
Я начал работать с новым стадом в отдаленном, пустующем углу заповедника. Ричард трудился как каторжный в попытках обустроить им жизнь, вскоре к проекту присоединился и Хадсон. Как и следовало ожидать, в этом уголке заповедника сейчас красуются новенькая гостиница и туристские палаточные лагеря, наведываются сюда и масаи. Один из самцов уже пал первой жертвой туберкулеза, еще несколько открыли счет тех, кого ради забавы убивают скучающие охранники в палаточных лагерях, когда там нет туристов. А масаи нашли себе новое развлечение, с которым я пока не нашел способа справиться. Буквально на текущей неделе к нам пришел один из масаи с рассказами о том, как какой-то бродячий павиан выскочил из кустов и прикончил его козу. В ходе допроса с пристрастием, которому мы его подвергли, всплыли явные нестыковки, так что стало ясно: павиан был не наш, а то и вовсе не было никакого павиана. Однако к полудню нагрянула пестрая делегация старейшин, которые упирали на серьезность дела и намекали, что удержать безутешного хозяина козы от ответного удара копьем — задача трудная и надолго их не хватит. Мне неизбежно придется уплатить за воображаемую козу и тем самым спасти некоторое количество павианов, но даже после этого масайские дети, обучаясь искусству держать копье, будут по-прежнему практиковаться на павианах и кабанах-бородавочниках, как только я уеду. Мы поторговались, я подавил в себе ярость, эхо которой осталось еще со времен туберкулезной эпидемии, и в тот же час вернулся к работе. И все же, даже несмотря на такой прагматизм и отстраненность, я тоскую по тем павианам.
Новое стадо дало мне интересный материал для исследований. Мне нравятся эти животные, но не более того, и каждый год я все меньше занимаюсь наблюдениями за поведением и все больше упираю на физиологию, отчасти потому, что мне не хочется узнать нынешних павианов слишком близко и привязаться к ним. Я уже не тот, каким сюда приехал впервые, и давно закончилась та пора жизни, на которую пришлись мои первые здешние шаги. Тогда я был двадцатилетним юнцом, и боялся разве только буйволов, и приехал сюда ради новизны ощущений, ради приключений, ради того, чтобы побороть собственные депрессии; и у меня был бесконечный запас любви, которой я одаривал все стадо павианов. Теперь, более двадцати лет спустя, я не меньше боюсь нестыковок в бюджетных отчетах по гранту и приезжаю сюда ради того, чтобы на свежую голову обдумать лабораторные эксперименты, добрать нужное количество сна и сбежать подальше от нескончаемых ученых заседаний. И хотя я по-прежнему тоскую по своим павианам, мой нынешний запас безграничной любви предназначен для Лизы и двух наших драгоценных детей, наших собственных Вениамина и Рахили — Бенджамина и Рейчел.
То первое стадо по-прежнему существует — небольшая горстка павианов, в тесной связке друг с другом добывающих пропитание и имеющих на удивление низкий уровень агрессии между собой. Их слишком мало, поэтому исследовать на них мне почти нечего, да и половины из них я уже не знаю. Моих прежних знакомцев — Руфи, Исаака, Рахили, Меченого — уже нет, из начального стада выжил лишь один. Каким-то чудом Иисус Навин умудрился не соблазниться туберкулезным мясом и потому уцелел во время мора. Кроме того, за исключением той богатой неожиданностями весны в период смутного времени, когда он успел недолго побыть альфой и затем поддерживал тогдашнего альфу Вениамина, он всегда избегал сражений, обходясь без ран от клыков и прочих увечий, которые в итоге доводят самца до гибели. Теперь он древний-древний старик, и его старший сын Авдий в каком-нибудь дальнем стаде уже наверняка вышел в тираж. Иисус Навин посиживает в окружении играющих детенышей, рассеянно приветствует каждую самку, его обходят агрессивные неуправляемые юнцы, при передвижении стада он методично плетется в самом конце — так что мы каждый раз волнуемся, не слишком ли он легкая добыча для хищников. Теперь, в старости, он то и дело выпускает газы в невероятных количествах. Он нисколько не дряхл, и его жизненная склонность к спокойствию с годами только усилилась.
В нынешнем году мы — с чувством вины и большим трепетом — анестезировали его шприц-дротиком: его данные были крайне важны для работы. Мы заботливо носились вокруг него, пока он отходил от анестезии, похрапывал, слегка исходил слюной и в изобилии выпускал газы. А когда пришло время выпускать его из клетки, он повел себя очень непривычно. Обычно, когда я вспрыгиваю на клетку поднять решетку и открыть выход, находящийся внутри павиан ревет, буйствует и вертится как сумасшедший. И когда дверь открывается, он либо пускается бежать со всех ног, либо — очень редко — пытается наброситься на меня, намереваясь растерзать.
В этот раз наклоненная клетка стояла позади дерева, и пока я подходил — Иисус Навин спокойно поглядел на меня с одной стороны от дерева, затем с другой, как в тех безумных переглядываниях с Вениамином много лет назад. Когда я вспрыгнул на верх клетки и начал отцеплять удерживающую веревку, он не двинулся с места, только через боковую решетку высунул руку вверх и накрыл ладонью мою ногу. А когда дверь открылась, спокойно вышел и присел поблизости.
Мы с Лизой поступили совершенно непрофессионально, но нас это не очень-то заботило. Мы сели рядом с Иисусом Навином и угостили его печеньем. Обыкновенными английскими крекерами. И угостились сами. Он ел медленно — осторожно брал каждый крекер самыми кончиками изломанных пальцев, беззубыми деснами откусывал по маленькому кусочку и задумчиво прожевывал, время от времени выпуская газы. Так мы сидели под согревающими лучами солнца, ели крекеры и смотрели на жирафов и облака.
Примечания
1
В оригинале слово ranger — сотрудник заповедника, отвечающий за охрану живой природы, борьбу с браконьерами и т. д. Наиболее подходящий русский эквивалент — егерь-смотритель или просто егерь. — Прим. ред.
(обратно)2
Горы Катскилл, они же Еврейские Альпы, — знаменитое курортное место с сетью отелей для отдыха ньюйоркцев. — Прим. пер.
(обратно)3
Отсылка к шутке знаменитого американского комика Граучо Маркса: «Однажды утром я застрелил слона в моей пижаме. Ума не приложу, как он влез в мою пижаму». — Прим. пер.
(обратно)4
Альберт Швейцер (1875–1965) — немецко-французский мыслитель, миссионер, врач, музыкант. Во время жизни в Африке основал там больницу и лепрозорий для местных жителей. — Прим. пер.
(обратно)5
Ричард Бёртон и Джон Спик — известные британские путешественники XIX века, прославившиеся своими исследованиями Азии и Африки. Озеро, обнаруженное Спиком в ходе совместной экспедиции Бёртона и Спика в Восточную Африку в 1856 году и названное Викторией в честь британской королевы, Спик считал истоком Нила, но Бёртон отрицал это. — Прим. ред.
(обратно)6
Знаменитый американский телеведущий, автор передач о дикой природе. — Прим. пер.
(обратно)7
Очевидные варианты объяснений к происшедшему:
а) карниворологи только на словах утверждают, будто не общались больше с полковником Чаком, а на самом деле они по уши с ним в сговоре, но дали подписку о неразглашении;
б) вся конференция для полковника Чака и его присных была учебно-тренировочным мероприятием по подкупу, запугиванию, умасливанию и корыстному использованию ученых, карниворологи были всего лишь подопытным материалом, и теперь военные проворачивают тот же трюк с разработчиками аэрокосмических технологий;
в) полковник Чак и его армейские дружки были на самом деле замаскированными травоядными, которые пытались собирать сведения об охотничьих стратегиях плотоядных хищников. — Прим. авт.
(обратно)8
«Записки примата» изданы на английском уже в 2002 году; а в 2011-м Южный Судан был провозглашен независимым государством и получил суверенный статус. — Прим. пер.
(обратно)9
«Mares Eat Oats and Does Eat Oats» («Кобылы едят овес и лани едят овес») — песня-обманка, сочиненная Милтоном Дрейком, Элом Хоффманом и Джерри Ливингстоном в 1943 году. Слова припева представляют собой абракадабру, которая, однако, расшифровывается во втором куплете. — Прим. пер.
(обратно)10
Джерри Рубин (1938–1994) — американский общественный деятель и предприниматель, активист антивоенного движения 1960-1970-х годов, призывал не верить никому старше тридцати. — Прим. пер.
(обратно)11
Первая строка патриотической песни «America the Beautiful» («Прекрасная Америка»). — Прим. пер.
(обратно)12
Хедда Хоппер (1890–1966) — американская актриса, обозреватель светской хроники и светская персона. Большая любительница экстравагантных шляпок и головных уборов. — Прим. пер.
(обратно)13
«Устал?» — «Нет» (фр.).
(обратно)14
«По-моему, ты устал. Ты mzee» (фр., суахили).
(обратно)15
Кистоунские полицейские — некомпетентные сотрудники полиции в немых комедиях начала XX века, снимавшихся киностудией Keystone Kops. — Прим. пер.
(обратно)16
Аллюзия на одноименное литературное движение в Германии XVIII века. — Прим. ред.
(обратно)17
Cinco de mayo — Пятое мая (исп.) — национальный мексиканский праздник, отмечающийся также в США на бывших мексиканских территориях, куда входит и Калифорния. — Прим. пер.
(обратно)18
Масаи-егеря и масаи-воины добрались до куриа почти одновременно и разбили их наголову: один раненый масаи, два погибших куриа, из коров потеряны всего шесть.
(обратно)19
Из песни «500 Miles» американской рок-группы The Hooters. — Прим. пер.
(обратно)20
Из песни «Down by the Riverside», спиричуэлса времен войны Севера и Юга, подхваченного впоследствии как песня протеста против войны во Вьетнаме. — Прим. пер.
(обратно)21
Игра с мячом, привязанным на веревке к шесту. Два игрока, стоя друг против друга, поочередно ударяют по мячу, стараясь раньше соперника закрутить его вокруг шеста. — Прим. пер.
(обратно)22
Годы спустя я обнаружил возможный ответ на вопрос о том, почему я не заразился: выяснилось, что я носитель генной мутации, вызывающей болезнь Тея-Сакса, что при всех рисках дает в то же время иммунитет к туберкулезу. — Прим. авт.
(обратно)
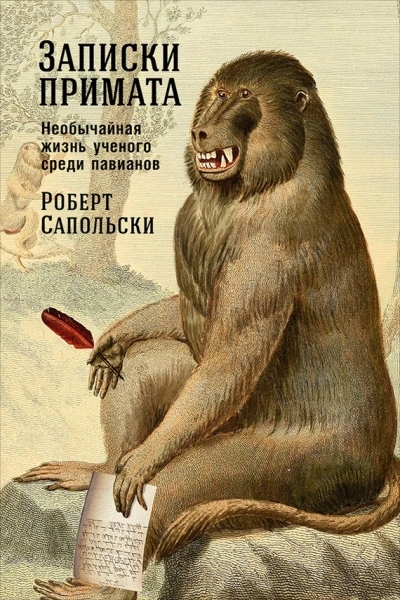

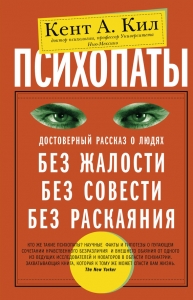
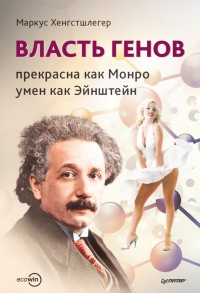
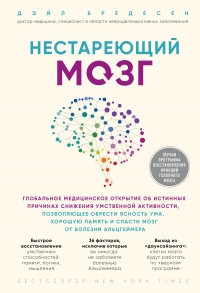


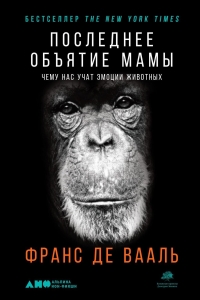
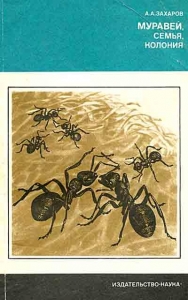
Комментарии к книге «Записки примата: Необычайная жизнь ученого среди павианов», Роберт Сапольски
Всего 0 комментариев