Станислав Дробышевский Достающее звено. Книга 1. Обезьяны и все-все-все
© С. Дробышевский, 2017
© Р. Евсеев, иллюстрации, 2017
© Е. Мартыненко, иллюстрации, 2017
© И. Мурашев, иллюстрации, 2017
© О. Федорчук, иллюстрации, 2017
© Д. Хайдаров, иллюстрации, 2017
© А. Бондаренко, оформление, 2017
© ООО “Издательство АСТ”, 2017
Издательство CORPUS ®
* * *
Посвящается Инге, Володе и Маше – моей любимой семье
…а также муравьеду и руконожке
Рассказ о цепях коротких и длинных, непрерывных и оборванных, магистральных и параллельных, прямых и извилистых, о том, из каких звеньев они составлены, и о том, все ли звенья достают, как люди достают эти звенья и как звенья достают людей, о звеньях прочных и не очень, о звеньях главных и второстепенных, о звеньях между звеньями и рядом со звеньями, неотвратимости и случайности, о наследии и следах, много о прошлом, в меру о настоящем и немножко о будущем…
Пролог, в котором автор ведет себя прилично, мило улыбается, много раз говорит спасибо и даже не ехидничает
К написанию этой книги меня сподвигли несколько обстоятельств. Во-первых, преподавательская деятельность, коей я занимаюсь, создает склонность к популярному и доступному объяснению. Во-вторых, большое количество обращений за разъяснениями глобальных или каких-либо частных вопросов антропогенеза со стороны студентов, знакомых и представителей средств массовой информации показало мне, что многим людям эти вопросы небезынтересны. В-третьих, изобилие непрофессиональных, часто просто неграмотных и ошибочных изложений антропогенеза в последнее время зашкаливает: иногда в книгах с заглавием “Антропология” о таковой не говорится вовсе ничего.
Непосредственным толчком к созданию книги послужило предложение Александра Соколова дать интернет-интервью на тему антропогенеза. На самом деле, уже настойчивостью и терпением в вытряхивании из меня этого интервью Александр сделал огромное дело! Как и подавляющее большинство ученых и преподавателей, я сам мог бы очень долго мечтать о написании такой книги и никогда бы не собраться начать реальные действия. Это вообще дело хлопотное и специфическое. Таких, как я, надо сильно тормошить, и за это Александру огромное спасибо! Первая версия книги опубликована на сайте “Антропогенез.ру” ( ), созданном опять же усилиями в основном Александра. Без этого сайта, даже если бы книга и была когда-нибудь написана, она была бы заметно бледнее и в ней сохранилось бы больше ляпов.
С самого начала интернет-портал “Антропогенез.ру” затевался как популяризаторский, направленный на продвижение знаний в народ и борьбу с лженаучными и околонаучными мифами, с чем Александр успешно справляется. Нельзя не отметить его недавно вышедшую книгу “Мифы об эволюции человека”, уникальную и единственную в своем роде (Соколов, 2015). Ее можно читать параллельно с той, что вы держите в руках, – они не повторяют, а дополняют друг друга.
Образцом научно-просветительского творчества, на который стоит ориентироваться всем популяризаторам, являются книги, лекции и статьи на сайтах и , созданные А. В. Марковым и Е. Б. Наймарк. За это и за важные замечания по содержанию книги им огромное спасибо!
Многие идеи, особенно касающиеся экологических аспектов эволюции, почерпнуты из книг и лекций К. Ю. Еськова, за что я ему бесконечно благодарен.
Неподражаемый стиль книг Л. Б. Вишняцкого и В. Р. Дольника в немалой степени определил настрой и моего творения. Не всем нравится, когда высоконаучные темы обсуждаются как бы не вполне серьезно, некоторые люди даже искренне считают, что чем ближе фраза к бессмертным образцам “при гулярной ундуляции нет ничего глупее латерального сжатия”, “доминирующая положительная анаболия ведет к девиации” и “вторичную хондрификацию эндоскелета можно рассматривать как гистологическую фетализацию, присущую анамниям”, тем она научнее. Но у меня есть два оправдания. Во-первых, используя человеческую речь вместо “высокой латыни”, я могу надеяться, что труд мой будет-таки осилен до конца большинством читателей, а во-вторых, я сам не засну и не брошу его на полпути. Для любителей подробностей есть приложение в конце книги, тысячи статей и вставленные в книгу “уголки занудства”, для сторонников иных крайностей – “минутки фантазии”, к которым, конечно, не стоит относиться чересчур серьезно.
Отдельное спасибо хочу сказать Дмитрию Владимировичу Богатенкову – моему сокурснику и соратнику в популяризации антропологии. Совместно написанный с ним учебник по антропологии был в свое время издан слишком маленьким тиражом, но его части, посвященные антропогенезу, послужили костяком настоящей книги (кстати, об учебниках: дабы не превращать сию книгу в один из оных, я, скрепя сердце преподавателя, все же проигнорировал просьбы пояснять по ходу текста такие термины, как “цитоплазма” и “АТФ”, – для этого есть школьный курс).
Книга стала, несомненно, лучше после того, как ее критически прочитали и оценили замечательные рецензенты. Я глубоко признателен Светлане Анатольевне Бурлак, благодаря ей текст стал не только корректнее, но и грамотнее. Спасибо Валентине Владимировне Росиной и Ирине Николаевне Грибковой – они взглянули на многие спорные места с неожиданной стороны, отчего удалось прояснить их и, надеюсь, уменьшить число вопросов, которые могли бы задать мне читатели.
И самое большое Спасибо всем читателям нашего портала “Антропогенез.ру” за горячую поддержку и помощь в написании и редактировании этой книги, за вдохновение, которое они в меня вселяют. Без их вопросов, комментариев и советов книга вышла бы гораздо более блеклой, сухой и скучной.
Введение, в коем возвышенным слогом поясняется, почему книга называется так, как она называется
Эта книга посвящена вроде бы человеку, но речь в ней пойдет далеко не только о нем. Эту странность стоит пояснить. Человек интересен сам себе; следуя незабвенному завету К. Линнея, он усиленно изучает именно себя любимого. Да и странно было бы, если бы основатель систематики глубокомысленно изрек: “Человек, познай выхухоль!” или “Человек, познай пеночку-теньковку!”. Нет, все же речь шла о самом себе. С другой стороны, антропология – биологическая наука, антропологи неизбежно биоцентричны. Антрополог не может мыслить антропоцентрично по определению, как бы странно это ни звучало. Человек – неотделимая часть биологического мира, понять его можно, только разобравшись с иными живыми существами и взаимосвязями между ними.
Начиная с первой публикации книги Ч. Дарвина “Происхождение видов путем естественного отбора” (несмотря на то, что в ней ничего прямо не говорилось об эволюции человека), среди естествоиспытателей пошли споры о “недостающем звене” – промежуточной форме между обезьяной и человеком. Особенно активно пропагандировал существование этого звена Э. Геккель, предположивший существование в прошлом вида Pithecanthropus alalus – “обезьяночеловека бессловесного”, название которого частично использовал Э. Дюбуа в 1894 году для описания Pithecanthropus erectus – “обезьяночеловека прямоходящего”. Однако Э. Геккель своего “обезьяночеловека” придумал, а Э. Дюбуа – нашел на острове Ява, в виде черепной крышки и бедренной кости.
Сначала казалось, что картина эволюции человека окончательно прояснилась, тем более что позднейшие ступени тоже представлялись известными, ведь еще в 1857 году немецкий учитель К. Фульрот явил миру найденного годом ранее неандертальца – как многие тогда считали, прямого предшественника современного человека, не имевшего уже почти никаких обезьяньих черт. Цепочка “обезьяна – питекантроп – неандерталец – сапиенс” выглядела вполне достаточной и полной для окончательного торжества научной точки зрения над ортодоксальной религиозной (характерно, что современные школьные учебники недалеко ушли от воззрений конца XIX века). Однако сомнения никогда не оставляют человеческий разум: тогда как К. Майер доказывал, что скелет из Неандерталя является останками русского казака-дегенерата, умершего в пещере от тягот погони за Наполеоном (слишком покатый лоб он объяснял врожденной патологией, а слишком кривые ноги – постоянной верховой ездой), Э. Краузе обосновывал принадлежность костей с Явы гигантскому гиббону (объясняя этим опять же слишком покатый лоб и “слишком” прямую бедренную кость). Новые находки развеяли этот туман, но загадали новые загадки. В первые десятилетия XX века питекантроп перестал казаться таким уж обезьяноподобным, но тут встал закономерный вопрос: а где же в таком случае “недостающее звено” между питекантропом и обезьяной? С этих пор погоня за “недостающим звеном” уже не прекращалась. Не помогло ни описание Р. Дартом австралопитека из Южной Африки, ни открытие “с другого конца” эволюционной линии – африканских проконсулов. Весь XX век разрыв между “обезьяньим” и “человеческим” концами сокращался, но сближение это напоминает погоню Ахиллеса за черепахой в апории Зенона – всегда кажется недостаточным, неполным, незавершенным.
Время тоже оказалось каким-то “резиновым”: если сначала на всю эволюцию человека отводилось около ста тысяч лет, к середине XX века говорили о четырех миллионах, а к концу речь пошла уже о десяти миллионах. Как следствие, пробелы, которые, как казалось, можно заполнить одной-двумя удачными находками черепов, стали еще шире даже после открытия целых видов, например Homo habilis. Как нарочно, с ряда наиболее известных, образцовых и, казалось бы, надежных кандидатов на роль человеческого пращура это почетное звание было снято, и они оказались представителями линий, не оставивших потомства (так случилось и с яванскими питекантропами, и с неандертальцами, и с европейскими дриопитеками, и с азиатскими сивапитеками). Ровная магистраль из нескольких последовательных эволюционных стадий обратилась щетинистым кустом бесчисленных тупиковых ветвей, среди засохших колючек которых едва различима тонкая нить нашей истинной родословной.
В итоге эволюционная линия человеческих предков и предшественников известна лучше, чем для какого-либо иного вида живых существ, но именно антропологам приходится чаще всего слышать сетования насчет чрезмерного теоретизирования и частой подмены пробелов в познании сомнительными реконструкциями. Конец XX и особенно начало XXI века ознаменовались открытием целого ряда “недостающих звеньев” по всей длине эволюционной линии, а прежде всего – ранних австралопитеков. Остановит ли этот поток находок гонку за “недостающим звеном”?
На заре исследования антропогенеза исследователи были склонны в любой находке ископаемых приматов видеть прямого предка человека, включая зубы гесперопитека из Небраски, оказавшиеся на поверку останками плиоценовой свиньи-пекари. Отчасти это объяснялось стремлением ученых стать первооткрывателями, отчасти – немногочисленностью находок. В наши дни антропологи более осмотрительны и разборчивы. Уже далеко не каждая находка получает гордое собственное латинское наименование и титул Великого Предка. И хотя в популярных заметках о новейших находках традиционные восторженные фразы о “перевороте в науке” и “новом, самом древнем предке” остаются почти обязательными, в научных статьях их не встретишь.
Так какова же эта длинная цепь, на конце которой находимся мы? Каковы причины ее возникновения, причудливых ответвлений и зигзагов? Как мы вообще можем узнать о прошлом? Кто этим занимается и на что при этом опирается? А может, все было и не так?
Методы познания бытия Часть первая, немножко занудная, в коей повествуется о самых очевидных вещах, но присутствие коей совершенно необходимо
Антропогенез (от греческих слов anthropos – человек и genesis – развитие) – это процесс эволюции предшественников современного человека, палеонтология человека; так же называется наука, изучающая этот процесс.
Вопрос о собственном происхождении всегда волновал людей. С древнейших времен и до наших дней люди не устают выдвигать все новые и новые предположения о собственном прошлом, о своих истоках. Зачастую разные точки зрения противоречат друг другу и разгораются жаркие споры на эту тему. Казалось бы, далекая от повседневной жизни тема оказывается столь волнующей умы людей, что дело доходит даже до судебных разбирательств и введения специальных законодательных актов. Вместе с этим поразительно, как мало большинство людей знает о собственных предках. Наука за последние 150 лет сделала в этом направлении огромный рывок, определила все основные стадии и группы дочеловеческих существ и теперь готова предложить стройную и отлично аргументированную схему эволюции человека. Конечно, многие детали этого процесса и ныне остаются невыясненными, но безграничность познания заранее определяет невозможность поставить точку в науке об антропогенезе. В настоящей книге изложены основные моменты учения о происхождении человека.
Глава 1 Концепции антропогенеза
Мировоззрение человека по природе своей антропоцентрично. Человек занимает центральное место как в мифологии и религиях всех народов, так и в современной науке. Сколько существуют люди, столько они спрашивают себя: “Откуда мы? Каково наше место в мире?” У разных народов в разные времена возникали разные ответы на эти вопросы.
Существуют три глобальных подхода к познанию мироздания и, соответственно, три основные точки зрения на возникновение человека: религиозный, философский и научный.
Религиозный подход опирается на веру и предание, обычно он не требует каких-либо дополнительных подтверждений своей правоты. Более того, анализ реальности обычно не только не поощряется, а даже строго противопоказан. Предание может жить в устной форме или быть зафиксировано в неком священном писании – Торе, Библии, Коране, Ведах, Упанишадах и прочих.
Философский подход опирается на некий первоначальный набор аксиом, из которого путем умозаключений философ строит свою картину мира. Знаю, что философы воспротивятся отделению от науки, но нельзя отрицать, что их подход к познанию мира отличается от того, которым пользуются, например, антропологи.
Научный подход опирается на факты, установленные в ходе наблюдений и экспериментов. Для объяснения связи этих фактов выдвигается гипотеза. Для ее проверки собираются новые наблюдения и, по возможности, ставятся эксперименты. Если эти новые данные противоречат гипотезе, то она отвергается и выдвигается новая, если же новая информация укладывается в исходное объяснение, то гипотеза становится теорией. В дальнейшем новые факты могут опровергнуть теорию, в этом случае выдвигается следующая гипотеза, лучше отвечающая всей совокупности наблюдений. В этом огромная сила научного подхода – он предполагает постоянное уточнение и улучшение наших знаний. Однако, с точки зрения многих людей, в этом же минус науки: ученый всегда сомневается в собственных словах, постоянно говорит “возможно” и “вероятно”, после каждого утверждения ставит кучу вопросительных знаков. Как можно верить человеку, если он сам не уверен в своих словах?! Другое дело – религиозная догма: она может быть стабильна тысячи лет! Секрет в том, что ученый знает, насколько он чего-то не знает, он может оценить свое незнание и просчитать истинность и достоверность собственных утверждений. С одной стороны, мечта каждого настоящего ученого – опровергнуть устоявшиеся взгляды, предложив более адекватное объяснение реальности, с другой – чем дальше идет прогресс, тем труднее это сделать.
И религиозные, и философские, и научные взгляды со временем менялись, влияли друг на друга и причудливо переплетались. Иногда крайне сложно разобраться, к какой области культуры отнести ту или иную концепцию. Количество существующих взглядов огромно. Невозможно в кратком изложении рассмотреть хотя бы их треть. Ниже мы попробуем чуть подробнее разобраться лишь с самыми главными из них, наиболее повлиявшими на мировоззрение людей.
Сила Духа: креационизм
Креационизм – религиозная концепция, согласно которой человек был создан неким высшим существом – Богом или несколькими богами – в результате сверхъестественного творческого акта.
Религиозное мировоззрение является, видимо, древнейшим. Религий в мире великое множество, немногим меньше, чем народов; кроме того, религии сами меняются со временем. Соответственно, чрезвычайно разнообразны и способы, которыми люди создавались богами или самозарождались согласно разным преданиям. Племена с примитивной культурой обычно выбирали себе в предки разных животных: индейцы делавары считали своим родоначальником орла, индейцы осаги – улитку, айны и папуасы из бухты Морсби – собаку, древние датчане и шведы – медведя. У некоторых народов, например малайцев и тибетцев, бытовали представления о возникновении человека от обезьяны. Напротив, южные арабы, древние мексиканцы и негры берега Лоанго считали обезьян одичавшими людьми, на которых рассердились боги. Конкретные способы создания человека, согласно разным религиям, очень разнообразны. Согласно одним религиям, люди появились сами по себе, согласно другим, их создали боги – из глины, из дыхания, из тростника, из собственного тела и мыслью единою.
В целом креационизм можно разделить на ортодоксальный (или антиэволюционный) и эволюционный. Теологи-антиэволюционисты считают единственной верной точку зрения, изложенную в предании, скажем, в христианстве – в Библии. Ортодоксальный креационизм не требует иных доказательств, опирается на веру, а научные данные игнорирует. Согласно Библии, человек, как и другие живые организмы, был создан богом в результате одномоментного творческого акта и в дальнейшем не изменялся. Сторонники этой версии чаще всего просто игнорируют доказательства длительной биологической эволюции. Реже они считают их результатами других, более ранних и, возможно, неудачных творений (хотя могут ли быть неудачи у Творца?). Некоторые теологи признают существование в прошлом людей, отличных от живущих сейчас, но отрицают какую-либо преемственность их с современными.
Теологи-эволюционисты признают возможность биологической эволюции. Согласно им, виды животных могут превращаться один в другой, однако создание первого живого вещества и направляющая сила эволюции определяется волей бога. Человек также мог возникнуть от более низко организованных существ, однако его дух оставался неизменным с момента первоначального творения, а сами изменения происходили под контролем и по желанию Творца. Западный католицизм официально стоит на позициях эволюционного креационизма. Энциклика 1950 года папы Пия XII Humani generis допускает, что бог мог создать не готового человека, а обезьяноподобное существо, вложив, однако, в него бессмертную душу. После это положение подтверждалось другими папами, например Иоанном Павлом II в 1996 году, который в послании Папской академии наук писал, что “новые открытия убеждают нас в том, что эволюцию следует признать более чем гипотезой”. Новейшее папское подтверждение той же идеи появилось в 2014 году: папа Франциск официально признал Большой взрыв и эволюцию и пояснил, что бог не маг с волшебной палочкой. Забавно, что для миллионов верующих мнение папы римского в этом вопросе значит несравненно больше, чем итоги трудов тысяч ученых, посвятивших науке всю жизнь и опирающихся на изыскания других тысяч ученых, работавших на протяжении многих поколений.
В православии единой официальной точки зрения на вопросы эволюционного развития нет. На практике это приводит к тому, что десять опрошенных православных священников, скорее всего, проинтерпретируют возникновение человека десятью способами – от сугубо ортодоксального варианта с сотворением человека на шестой день через разнообразные протестантские версии с “днями” в виде миллионов или миллиардов лет до похожего на католический эволюционно-креационистский подход с вдыханием души в эволюционировавшего из обезьяны человекоподобного предка.
Многие современные креационисты проводят исследования с целью доказать отсутствие преемственности древних людей с современными или же существование полностью современных людей в глубокой древности. Для этого они используют те же материалы, что и антропологи, однако смотрят на них под другим углом зрения. Как показывает практика, креационисты в своих построениях опираются на палеоантропологические находки с неясными датировками или условиями нахождения, игнорируя большую часть остальных материалов. Кроме того, нередко креационисты оперируют некорректными с точки зрения науки методами. Их критика обрушивается на те области науки, что еще недостаточно полно освещены – так называемые “белые пятна науки”, – или те, что незнакомы самим креационистам. Обычно такие рассуждения наивны, скучны или даже вовсе безграмотны с точки зрения профессиональных биологов, хотя могут произвести впечатление на людей, недостаточно знакомых с биологией и антропологией. Большей частью креационисты занимаются именно критикой, однако на критике своей концепции не построишь, а своих собственных независимых материалов и доводов у них нет. Впрочем, надо признать, что ученым от креационистов есть некоторая польза: существование и влияние креационистов служат хорошим индикатором понятности, доступности и популярности результатов научных исследований среди широкой публики, дополнительным стимулом к работе.
Стоит заметить, что число креационистских течений весьма велико. В России они представлены не так богато, как, например, в США, но нельзя не признать, что даже некоторые ученые-естествоиспытатели склоняются к подобному мировоззрению.
Главный минус креационизма – бездоказательность. Вера – это здорово, но, как бы ни хотелось креационистам, даже самая глубокая вера не может поменять реальность. Даже если я, скажем, совершенно искренне буду верить, что у меня зарплата – миллион, а я – президент Луны и живу в золотых чертогах, то реальность, к моему сожалению, останется прежней. Бухгалтерия предъявит выписку о зарплате, географы и дипломаты удостоверят, что государства “Луна” не существует, а геологи рассчитают, что добытого на планете золота недостанет для возведения такого огромного дворца, как мне хочется.
Сила мысли: философские концепции антропогенеза
С античности начала развиваться философская мысль. Философские построения обычно основаны на некой первоначальной аксиоме, от которой путем логических или умозрительных умозаключений исследователь приходит к неким выводам. Относительно происхождения человека часть философов склоняется к религиозной традиции, часть – к научным воззрениям. Зачастую философская мысль вдохновение черпает из религии, а стройность построений заимствует у науки. Собственно вопрос происхождения обычно мало занимает философов, и детали процесса они чаще опускают, больше рассуждая о месте человека во Вселенной, его значении, предназначении и будущем.
Античные авторы уделяли возникновению человека сравнительно мало внимания, занимаясь в основном более глобальными проблемами. В любом случае человек всегда рассматривался как нечто совершенно отличное от мира животных. Впрочем, Лукреций Кар в I веке до нашей эры написал целую поэму о естественном происхождении человека – “О природе вещей”:
…Так как в полях еще много тепла оставалось и влаги, То повсеместно, где только к тому представлялось удобство, Выросли некие матки, корнями к земле прикрепившись, Кои раскрылись, когда их зародыши в зрелую пору От мокроты захотели бежать и нуждались в дыханьи…[1]Понятно, что доказательства существования “неких маток” даже не предполагались.
Начиная с XVIII века до современности вопрос о природе человека стал весьма популярным у философов, возникли оригинальные взгляды на эту проблему.
Наиболее интересно трактует вопросы эволюции довольно разнородное направление, называемое глобальным эволюционизмом. Согласно ему, весь мир представляет собой единую систему, развивающуюся по одним законам. Человек является частью Вселенной и занимает в ней вполне определенное место, либо достаточно скромное, либо венчающее весь процесс развития мироздания. Представителями глобального эволюционизма являются К. М. Бэр, В. И. Вернадский, П. Тейяр де Шарден, И. Р. Пригожин, Н. Н. Моисеев.
В 1834 году К. М. Бэр сформулировал “всеобщий закон природы”, согласно коему материя развивается от низших форм к высшим. В приложении к человеку это означало, что он произошел от неких низших животных и в процессе длительной эволюции достиг современного уровня.
Идею непрерывного усложнения Вселенной активно развивали в первой половине XX века В. И. Вернадский и П. Тейяр де Шарден. Их концепции весьма схожи, в частности, в обеих поминается особая “энергия” – модное для того технократического времени слово, коим можно было объяснять что угодно (индустриализация, открытие ядерной энергии, строительство гидроэлектростанций мощно влияли на настрой всех мыслителей; из этой же серии и “пассионарная энергия” Л. Н. Гумилева). Различаются в трудах П. Тейяра де Шардена и В. И. Вернадского движущие силы эволюционного процесса: у первого это Творец, потусторонний мыслящий центр, у второго – силы Природы. Независимо от вида “энергии”, венцом эволюции материи – космогенеза – является антропогенез, а венцом антропогенеза – ноосфера, мыслящая оболочка планеты с отделением мыслящего духа от своей материальной основы. Надо заметить, что П. Тейяр де Шарден был профессиональным палеонтологом и в числе немногих исследовал оригиналы черепов синантропов, утерянные впоследствии.
Одним из новейших – 1990 года – вариантов глобального эволюционизма является концепция Н. Н. Моисеева. Согласно ей, Вселенная представляет собой суперсистему, включающую в себя множество подсистем. Человек в ходе эволюции достиг уровня, когда прекратилось совершенствование морфологии индивидов, но начался отбор социальных групп – популяций, племен и народов. Совершенствование Вселенной в целом и человеческого общества в частности является процессом самопроизвольным. Как и К. М. Бэр, Н. Н. Моисеев считал процесс эволюции мира направленным, идущим от простого к сложному. Движущей силой называется отбор систем на устойчивость к воздействиям внешней среды. Довольно странно в конце XX века слышать об окончании морфологической эволюции, но, к сожалению, такая позиция стандартна для небиологов.
Относительно деталей процесса эволюции человека сторонники глобального эволюционизма чаще склоняются к научной точке зрения. И П. Тейяр де Шарден, и Н. Н. Моисеев, кроме направленности эволюционного процесса, признавали большое значение для происхождения человека естественного отбора и конкуренции. Впрочем, чаще всего при попытках уйти в конкретику философы вопиющим образом искажают факты и научные гипотезы, так что у антропологов могут зарониться обоснованные сомнения – можно ли, не зная фактов, строить обобщающие объяснения их взаимосвязей?..
Сила доказательств: научные концепции антропогенеза
Научный этап изучения антропогенеза начался фактически только с конца XVIII века, до этого преобладал религиозный подход. Но и на протяжении XVIII–XIX веков наука не была четко отделена от философии, а ученые обычно назывались натурфилософами или естествоиспытателями. Некоторые из них – Д. Дидро, К. Гельвеций, Ж. Бюффон, Д. Монбоддо – уже в XVIII веке высказывали мнение о “перерождении” одних организмов в другие, в том числе – обезьяны в человека. Изучение анатомии и морфологии самых разнообразных животных приводило к мысли о большем или меньшем их сходстве. Часто это представлялось в виде так называемой “лестницы существ”, ведущей от низших организмов к высшим, с человеком на вершине. Самый ее известный вариант – система К. Линнея – стал основой современной классификации и в мало измененном виде преподается даже в современных школах, а также преобладает в бытовом сознании многих людей, далеких от биологии. Раз человек – вершина эволюции, то логично его полное отделение от прочих животных, выделение в отдельный отряд или даже царство, что, собственно, и производилось вплоть до середины XIX века. Результатом стали, например, отряды Inernis Blumenbach, 1779, Bimana Blumenbach, 1797, и Erecta Illiger, 1811, включающие одного только человека и ставшие таксономическим памятником человеческой гордыни.
Концепция постепенного изменения живых существ – биологической эволюции – со временем приобретала в трудах натуралистов все более отчетливые очертания. Впервые стройное обоснование гипотезы эволюции опубликовал Ж. Б. Ламарк в 1802 и 1809 годах, указав, что человека следовало бы поместить в системе природы как венец “четвероруких” (приматов), если бы он не был создан Творцом совершенно отдельно от животных. Однако механизмы эволюционных изменений, предложенные Ж. Б. Ламарком, выглядят с современной точки зрения наивными. Он считал, что органы животных меняются под воздействием тренировки. Классический “жирафий” пример ламаркистских воззрений выглядит так: тянулся короткошеий предок к верхним веткам, от этого его потомки рождались с чуть более длинной шеей, они, в свою очередь, тоже тянулись – вот и стали в итоге длинношеими. Даже у современников ученого эта теория в своем законченном виде не получила широкого признания. Наследование приобретенных в течение жизни признаков, согласно данным современной генетики, невозможно, поскольку нет механизма записи информации из белков в РНК или ДНК. Есть, правда, несколько вариантов так называемого эпигенетического наследования, но там меняется не ДНК, а ее активность. Кроме того, эпигенетические эффекты являются скорее исключением, а не основным механизмом эволюции.
Куда более сильный научный и общественный резонанс вызвала теория эволюции Ч. Дарвина, опубликованная в 1859 году в книге “Происхождение видов путем естественного отбора”, в 1871 году в книге “Происхождение человека и половой подбор” и в других работах. С момента опубликования теория эволюции получила как горячих сторонников, например Т. Г. Гексли и Э. Геккеля, так и яростных противников – епископа Б. С. Уилберфорса и натуралиста Дж. Майварта. Концепция продолжала развиваться: в первой трети XX века ученые открыли основные законы генетического наследования, а к середине столетия две половинки – генетика и теория отбора – нашли друг друга. Так была окончательно сформулирована синтетическая теория эволюции. В последние же десятилетия XX века и первые XXI-го накопилось огромное количество исключений, дополнений и уточнений к синтетической теории эволюции, так что сейчас биология переживает “новый синтез”. Важно подчеркнуть, что современная теория – это далекое развитие классического дарвинизма. Полтора века не прошли зря, так что спорить с Ч. Дарвином, как это часто делают не самые продвинутые “критики”, столь же глупо, как спорить с астрономами или физиками середины XIX века. Хотя, надо признать, Ч. Дарвин сумел описать все основные формы отбора и привести столько примеров и доказательств, что в этом его поныне не превзошел никто.
Краткая суть синтетической теории эволюции заключается в следующем. Наследственная информация хранится в клетках живых существ в виде сложных молекул РНК или ДНК, отрезки которых, кодирующие определенные белки или управляющие их синтезом, называются генами; на более высоком уровне ДНК может быть оформлена в комплексы – хромосомы. Гены случайно и ненаправленно изменяются под воздействием разнообразных факторов, такие изменения называются мутациями. Для эволюции значимы те мутации, что происходят в половых клетках и передаются потомству. За счет мутаций возникает изменчивость. Это принципиальный момент, часто недооцениваемый людьми, далекими от биологии: на самом деле, почти все виды живых существ весьма изменчивы. Например, ланцетники одной популяции, несмотря на то что для людей они “все на одно лицо”, генетически могут отличаться больше, чем самые отличающиеся друг от друга люди на всей планете. При половом размножении изменчивость еще усиливается за счет рекомбинации – перемешивания генов родителей. За счет рекомбинаций разнообразие создается даже в отсутствие новых мутаций, да при этом и безопаснее, ведь гены родителей уже прошли проверку жизнью, а смесь двух хороших вариантов, скорее всего, будет тоже неплохой.
Мутации чаще всего оказываются вредными или нейтральными, но секрет в том, что условия окружающей среды не остаются постоянными. Меняется климат, движутся материки, сами живые существа не сидят на месте. В новых условиях новые признаки могут дать индивиду некое преимущество в сравнении с исходным вариантом. Преимущество (приспособленность, адаптивность) по большому счету измеряется числом оставленных генетических копий. Существенно, что при этом необязательно выживать самому: например, осьминоги и лососи после размножения погибают, но если из потомков останется хотя бы двое, то это уже неплохая приспособленность. В вульгарном изложении часто приходится слышать фразу “выживает сильнейший”, однако если этот сильнейший выжил и забодал всех вокруг, но детей не оставил, то для эволюции он ноль или значим лишь как фактор отбора других особей, которым он устраивал трудности при жизни. В этом смысле он не отличается, скажем, от погоды или упавшего метеорита.
Важно и то, что при всем этом необязательно кто-то должен умирать: пресловутая “борьба за существование” не всегда сопровождается кровавыми разборками и горами трупов. Обычно все ограничивается просто статистикой и чистой математикой. Чьи гены в большем числе представлены в следующем поколении, те наверняка будут представлены и в послеследующем (пока условия не изменятся и преимущество не перейдет к другим везунчикам).
Как ни странно, для того чтобы оставить свои гены, даже не обязательно размножаться. Например, если некая тетя сама детей не имеет, но активно помогает выращивать потомство десятку своих сестер (а без помощи они бы не справились), то она может оставить собственных генных копий больше, нежели у нее были бы свои чада. Секрет в том, что ее гены и гены сестер примерно одинаковые. И не так важно, из чьего тела взялась цепочка нуклеотидов, главное – их последовательность. Главное – “дополнительные” дети, выжившие благодаря усилиям героической тети, могут математически считаться ее собственными (конечно, все чуть сложнее, но не станем занудствовать).
Условия среды могут измениться так, что полезнее оказываются признаки, бывшие до того нейтральными или даже вредными, тем более что регулярно условия сменяются на вообще противоположные. Скажем, при похолодании лучше будут выживать мохнатые, при потеплении – лысые; колебания климата отразятся в смене мохнатых на лысых, а потом снова на мохнатых. Однако в генетическом плане “новая мохнатость”, скорее всего, будет кодироваться иными комбинациями генов, чем первая, так как геном очень велик и вероятность возвратных мутаций, хотя и не нулевая, все же очень мала. За множество поколений изменения накапливаются и существо превращается во что-то совсем новое. Понятно, что интенсивность эволюционных преобразований сильно зависит от жесткости условий, темпов природных изменений, скорости мутаций и длины поколения. Для крупных животных, к которым относится и человек, эволюция свершается за очень длительное время – многие тысячи лет, тем более что и условия редко меняются резко.
Отбор, происходящий в природе, называется естественным.
Кроме внешних условий, признаки отбираются другими животными того же вида, но другого пола: это называется половым отбором. Как правило, отбирающим является тот пол, который тратит больше энергии на выращивание потомства (чаще это самки – им не надо доказывать, что они нужны, ведь это они будут растить детей), а отбираемым – пол-халявщик, поставляющий только гены (обычно это самцы – они должны доказать, что именно их личные гены достойны перейти в следующее поколение). Половой отбор нацелен на выявление особо ценных генетических комплексов, но парадоксальным образом – через их явное преобладание над бесполезными или даже вредными признаками, проявляющимися во внешности или поведении. Например, если у самца павлина огромный яркий хвост, мешающий летать, но до сих пор красавца не съела ни одна кошка, то другие гены явно перевешивают, одаривая везунчика идеальным слухом, отличной реакцией и мощными грудными мышцами. Самки, выбирающие самых хвостатых самцов, будут оставлять больше генов, так как птенчики, кроме вредного в общем-то хвоста, унаследуют и все несомненные достоинства отца. Потом все повторяется, так хвост будет расти от поколения к поколению. Ясно, что самка делает выбор не сознательно, просто птенцы самки, избравшей захудалого самца, с большей вероятностью погибнут и “гены выбирания захудалых самцов” не получат распространения. Поэтому половой отбор в итоге может создавать откровенно вредные признаки, которые потом уравновешиваются естественным отбором.
Многие признаки вообще не имеют большой адаптивной ценности, они могут меняться довольно случайно, по статистическим законам, называющимся генетико-автоматическими процессами, варианты которых – генный дрейф, “эффект основателя”, “эффект бутылочного горлышка” – проявляются в некоторых специфических, хотя и нередких, условиях. Нейтральных признаков великое множество, не стоит искать глубокий смысл в каждой мелкой особенности. К примеру, мочка уха бывает свободная или приросшая – никому еще не становилось хорошо или плохо от обладания каким-то из этих вариантов, но в популяциях их частоты могут существенно различаться. На человеческом разнообразии изучать генетико-автоматические процессы особенно занимательно (подробнее об этом можно прочитать в соответствующих книгах: Дробышевский, 2014б).
В настоящее время синтетическая теория эволюции в ее современной версии фактически является единственной научной теорией развития жизни. Ее придерживается подавляющее большинство биологов – вероятно, гораздо больше 90 %. Такой успех явно неслучаен: у теории эволюции сильнейшая доказательная база, она подтверждается практически всеми биологическими исследованиями, включая прямые эксперименты. Немногочисленные альтернативы синтетической теории эволюции рассматриваются биологами скорее как ее дополнения. Это, например, разнообразные варианты мутационизма. Согласно им, изменения наследственности происходят не в течение длительного времени, а практически одномоментно и сразу дают новую форму организмов. Впрочем, развитие генетики и молекулярной эволюции в последние десятилетия фактически похоронило такие концепции. Иногда высказываются мысли о некой направленности эволюции, исходящей, например, из “внутреннего стремления к прогрессу”, но вообще-то теория прекрасно обходится и без таких излишеств.
Наш обзор, разумеется, слишком краток, упрощен и не может дать полного представления о принципах и механизмах эволюции. Любознательный Читатель может подробнее узнать об этих интересных материях во множестве замечательных книг (например: Докинз, 2010, 2012; Марков, 2010, 2012а, б; Марков, Наймарк, 2014).
В приложении к человеку теория эволюции называется антропогенезом. Наши предки, будучи частью окружающей природы, тоже постепенно видоизменялись вслед за сменой внешних условий. Особенность человека в том, что с некоторого момента существенной силой его эволюции стала социокультурная составляющая, причем чем ближе к современности, тем она оказывается значительнее. Нельзя сказать, чтобы человек в этом отношении был чересчур уникален, но специфика антропогенеза все же довольно сильна.
Глава 2 Поиски истины: методы исследования антропогенеза
Палеоантропологические методы
Как же мы можем узнать о том, откуда взялся человек? Законный вопрос Читателя: “Откуда автор понабрал своих утверждений, почему я должен верить ему, а не кому-то еще?” Религия предлагает наиболее простой путь решения: все сказано в Священном Писании. Философы выводят свои заключения, исходя из своей логики. Ученые же пытаются доказать свои положения, обосновав их с помощью известных фактов. Когда фактов не хватает, ученые проводят специальные исследования, восполняя наши знания об окружающем мире. Критерий проверки информации, изложенной в нашей книге, очень прост: каждый читатель может взглянуть на древние черепа в книге, музее или на сайте “Антропогенез.ру”, прочитать специализированные статьи и книги, пересчитать содержащиеся там цифры, в конце концов, посмотреть на себя в зеркало. Взаимная перекрестная проверка цифр, фактов и их объяснений сотнями независимых друг от друга людей позволяет надеяться, что итоговые концепции адекватно описывают реальность.
Как уже говорилось, специфика антропогенеза заключается в существенном влиянии поведения человека на собственную эволюцию, тесной связи биологии с формированием общества – социогенезом. Это значительно расширяет горизонты исследований. Изучая прошлое человечества, невозможно ограничиться рассмотрением только биологической его стороны или только социальной. Человек – это биосоциальное существо, он не может существовать вне общества, равно как и общество состоит из отдельных индивидов. Потому-то антропогенез и является переплетением множества разнообразных научных дисциплин, а исследование эволюции человека похоже на детективное расследование, где любой мельчайший факт может изменить картину. Впрочем, не стоит переоценивать уникальность человека в этом отношении. Всем прекрасно известны, например, муравьи, пчелы и термиты, кое-кто может вспомнить голых землекопов и даже эусоциальных ракообразных.
Антропогенез – мультидисциплинарная наука. Соответственно, и комплекс подходов к изучению прошлого человечества весьма богат. В фундаменте биологических наук лежит анатомия – наука, описывающая план строения организма; особенное внимание антропологи уделяют сравнительной анатомии. Надстройками анатомии являются морфология, изучающая изменчивость организма, а также физиология, наука о том, как организм работает. Естественно, крайне важна эмбриология. Огромнейшее значение имеют генетика и неотделимая от нее молекулярная биология, повествующие о самых основах жизни. Своего рода венцом общебиологических дисциплин можно назвать сравнительную этологию, дающую знания о поведении животных.
Для того чтобы понять, чем же человек уникален, нелишне познакомиться с его родней. Кто в окружающем мире наиболее похож на человека? По всем признакам: строению, особенностям развития, поведению и просто внешне – нашими ближайшими родственниками являются обезьяны. Тут на помощь приходит приматология, включающая палеонтологию приматов, современную приматологию, а также этологию приматов.
По большому счету частным случаем палеоприматологии является палеонтология человека, которой будет посвящена бóльшая часть книги. Тут стоит сделать пояснение. Когда человек, далекий от естественных наук, видит фотографии неких палеоантропологических находок, он часто бывает разочарован их фрагментарностью. Ну что это – кусочек челюсти, обломок лучевой кости, осколок вообще непонятно чего. Соответственно, и отношение к реконструкциям, интерпретациям подобных находок бывает подчас очень скептическим. “Вот найдут пару зубов, пару косточек – а дальше нафантазируют…” – такую фразу антропологам приходится слышать слишком часто. Но у большинства людей об этом явно искаженное представление.
На самом деле в настоящее время большинство групп ископаемых предшественников человека представлены сотнями, а иногда и тысячами находок. Зачастую это и вправду обломки и фрагменты, зато их много. Мало-помалу по таким кусочкам набирается серьезная статистика: имея сотни фрагментов, несложно собрать из них целые кости и даже скелеты. Даже по австралопитекам – самым древним из прямоходящих – имеются тысячи находок. Да и целых черепов и скелетов известно уже немало. Возникла даже своеобразная проблема – ученые часто незаслуженно пренебрегают фрагментами, недооценивают их значимость, предпочитая работать с комплектными находками, отчего огромное количество потенциально полезной информации остается незадействованной. На самом деле ныне у антропологов сложность не с недостатком, а с избытком информации: находок так много, что ими уже трудно оперировать, даже специалисты нередко упускают какие-то отдельные находки или не знают о них, потому что одному человеку трудно охватить всё сразу. Про особенности строения черепа разных видов австралопитеков известно чуть ли не больше, чем про различия и сходства черепов разных рас современного человека.
Можно еще добавить, что эволюция человека сейчас изучена лучше, чем эволюция какого-либо иного вида. Нет отдельной науки про эволюцию, например, лошади или собаки (хотя они тоже отлично исследованы), а для человека есть свой собственный антропогенез! Такой непрерывной линии с таким количеством со всех сторон рассмотренных, измеренных, просвеченных рентгеном и томографом и только что не облизанных находок, как для человека, никто ни для каких иных живых существ не рисовал.
Кстати, об облизывании…
В начале XX века археологами практиковался замечательный метод определения древности – лизнуть ископаемую кость: бытовало мнение, что если она липнет, значит, ее возраст не самый почтенный, если не липнет – весьма достойный. Так что немалое число находок было облизано в самом буквальном смысле слова.
Важно знать и помнить, что антропологи строят свои выводы не на пустом месте, они могут математически оценить степень своего невежества и достоверность выводов. В этом им помогает биометрия – дисциплина об измерении живого. В приложении к человеку биометрия обычно называется антропометрией. Антропологи измеряют все, что можно измерить (“лучше один раз померить, чем сто раз увидеть”), а что трудно – описывают и оценивают в баллах по стандартным шкалам. Слава классикам, в конце XIX – первой трети XX века нашлись великие ученые, например Р. Мартин, П. Брока и В. В. Бунак, создавшие универсальные методики измерения и описания скелета и тела человека, понятные и известные антропологам всей планеты. Более того, такая ситуация фактически уникальна для науки и безгранично удобна: любой исследователь всегда точно знает, что имел в виду другой, измеряя, скажем, “размер 8 по Мартину”. Иногда можно даже не знать языка публикации (много ли русских антропологов знают китайский? а испанских – русский?), но это не мешает свободно пользоваться измерительными данными и делать собственные заключения. Измерениями тела занимается соматометрия, описанием – соматоскопия, для скелета это остеометрия и остеоскопия. Поскольку голова и череп всегда привлекали больше внимания и часто объективно более информативны, то для их измерения и описания есть свои термины: цефалометрия – цефалоскопия и краниометрия – краниоскопия.
Сотни и тысячи цифр загоняются антропологами в безумные матрицы, постичь смысл коих помогает статистика. Простейшие методы называются одномерной статистикой, а более хитрые – многомерной. Взирая на полученные графики, всяческие канонические переменные, факторы, главные компоненты, их нагрузки и оценки вероятности ошибки, исследователь, наконец, делает обоснованные выводы. То есть современный антрополог не берет идеи с потолка и не высасывает их из пальца, а получает математическими способами. Антропология – это более чем наполовину математика, цифры, цифры и цифры. Конечно, совсем без доли фантазии обойтись нельзя и творческое начало всячески приветствуется, но любое положение антрополог должен подтвердить статистически.
Впрочем, человеческий мозг покамест не может быть полностью заменен компьютером. Техника обсчитывает только те данные, что мы в нее вводим, а разум – даже то, что сознание порой не всегда может четко вербализовать. По сути, мозг работает как мощнейший сверхкомпьютер, проводящий сверхмногомерный анализ. Поэтому часто опытному антропологу достаточно лишь посмотреть на черепа или лица, чтобы сделать выводы, которые расчеты потом только узаконят. Но проблема в том, что, во-первых, мозг может и ошибиться, а во-вторых, профессионализм – штука трудноуловимая и сложнодоказуемая. Посему любая истинно научная статья – будь она по филогении, систематике или этологии – сопровождается массой расчетов, таблиц и графиков, без них никуда. Оттого же все, что будет изложено далее, имеет мощнейшее обоснование в виде миллионов цифр, полученных сотнями антропологов за последние полторы сотни лет. Такова современная наука. Кому-то это может показаться скучным и даже нетворческим, но что делать. Конечно, дабы избавить Читателя от излишних мук, я не буду злоупотреблять статистикой, но помнить о великом математическом базисе Читатель должен.
Смежные науки
Для понимания факторов и причин эволюции человека антропологу необходимо разбираться в палеонтологии – науке о древних живых существах и условиях их существования. Многочисленные фауны, жившие когда-то, исчезли, но от них остались окаменевшие кости, древняя флора преобразилась в уголь и отпечатки. Заглянуть в прошлое можно разными способами. Важнейшими для нашей темы разделами являются палеонтология позвоночных, палеоботаника (в том числе ее подраздел – палинология) и палеоэкология. Особое значение имеет тафономия – наука о захоронении ископаемых остатков.
Кроме собственно биологических дисциплин, антропология широко использует данные других наук. Геология (геоморфология, геофизика, стратиграфия, геохронология) дает бесценные знания о времени и условиях жизни наших предшественников. В этом ей помогает химия.
В широком смысле физическими являются многочисленные методы датирования: датировки составляют принципиально необходимую нить, на которую нанизываются события антропогенеза, без них антропологу жить грустно. В целом методы датирования разделяются на относительные и абсолютные.
К относительным относятся стратиграфические и типологические методы, они позволяют оценить только последовательность событий, но не их точный возраст. Стратиграфия – наука об образовании и порядке напластования геологических отложений. В самом простом варианте логика стратиграфии элементарна: чем глубже что-то залегает в земле, тем оно древнее, чем ближе к поверхности, тем моложе. Бывают, конечно, случаи нарушения естественного залегания слоев (перекоп, обвал, размыв), отчего это простое правило выполняется не в обязательном порядке, но на то и геологи с археологами, чтобы распознать подвох. Сопоставляя схожие слои в разных местах, геологи делают выводы о синхронности, асинхронности и последовательности происходивших в древности событий.
Типологические методы позволяют сравнивать находки, происходящие из разных слоев. Наилучшим образом типология развита в археологии: слои с одинаковыми или очень похожими вещами условно считаются синхронными. Сейчас построены длинные типологические ряды для самых разных вещей, позволяющие датировать археологические слои иногда с точностью до нескольких лет. В меньшей степени типология применима по отношению к находкам останков живых существ – этому посвящены сравнительно-флористический и сравнительно-фаунистический методы, – поскольку изменения организмов в процессе эволюции совершаются, как правило, очень медленно. Погрешность тут может достигать даже миллиона лет. Тем не менее очень часто слои датируются только на основании биостратиграфии – науки о последовательном изменении фаун и флор во времени.
Абсолютные методы датирования позволяют получить точную дату. Подавляющая их часть – радиометрические: радиоуглеродный, калий-аргоновый, торий-урановый и другие. Они основаны на явлении радиоактивности химических элементов: за определенный период времени один изотоп элемента превращается в другой или даже в иной элемент. Поскольку период полураспада у разных элементов и изотопов разный, постольку разные методы имеют свои границы определения возраста. Например, радиоуглеродный метод дает наиболее точные датировки от современности до 30–40 тыс. лет назад.
Уголок занудства
Самый известный радиометрический метод – радиоуглеродный, или 14C: в живых организмах накапливаются изотопы 12C, 13C и 14C в той же концентрации, в какой они содержатся в атмосфере и биосфере, а после смерти стабильные изотопы 12C и 13C сохраняются, а нестабильный 14C постепенно распадается. Определяя содержание 14C в древней органике, зная изначальные концентрации и скорость распада, а также учитывая позднейшие загрязнения, можно определить время гибели организма. Кроме радиоуглеродного, есть множество иных методов, наилучший результат они дают при совместном использовании и взаимной проверке.
Из нерадиометрических методов абсолютного датирования очень широко используется термолюминесцентный. Весьма употребительна дендрохронология – дисциплина об определении возраста по кольцам деревьев. Известно, что каждый год ствол дерева прирастает на одно кольцо, а ширина колец зависит от погоды. В случаях, когда имеется большое количество хорошо сохранившейся древесины, можно построить последовательные серии колец для многих лет подряд, вплоть до нескольких тысяч лет.
Другим нерадиометрическим абсолютным методом является определение последовательности ленточных глин, накапливающихся год от года в некоторых спокойных северных водоемах. В зависимости от температуры в озерах более или менее интенсивно размножается планктон, оседающий затем на дно слоями разной толщины. По числу и рисунку полос этих слоев можно определить возраст предмета, упавшего на дно, с точностью до года.
Впрочем, в антропогенезе последние два метода почти не используются, поскольку антропологи обычно имеют дело с десятками, сотнями тысяч и миллионами лет – периодами, за которые любая древесина исчезла бесследно; ленточные же глины формировались не в тех областях, где жили наши предки.
Биосоциальная сущность человека позволяет применять к его исследованию социальные науки. Прежде всего это, конечно, археология – наука об образе жизни, социальном устройстве, материальной и духовной культуре прошлого. Люди в прошлом, как и сейчас, оставляли на Земле следы своего пребывания – причем иногда в самом прямом смысле. Люди жгли костры, делали орудия, строили жилища. Все это со временем разрушалось, но в земле сохранялись некоторые остатки – свидетельства этой жизни. Надо только их найти и суметь расшифровать. Иногда археологию понимают как “доисторию”, изучающую культуры, для которых неизвестны письменные свидетельства – до античности или до средневековья. В реальности же археологи часто изучают и письменные культуры, даже весьма близкие к нам по времени, – Античность, Средневековье и даже Новое время. При этом порой удается получить данные о таких элементах культуры, о которых не говорят никакие летописи. Впрочем, для нашей темы столь поздние времена не очень важны.
Оживляет пыльные археологические находки сравнительная этнология или этнография, хотя в антропогенезе ее применимость довольно спорна. Теоретически много данных может дать и психология, хотя на практике ее плодотворный контакт с антропологией пока как-то не состоялся.
Так, по фрагментам, собирается информация о прошлом Земли и прошлом человечества. Антропологи пытаются сложить из этих кусочков единую мозаику, грандиозную картину прошлого, восстановить былое во всех его деталях. Не все еще известно, возникают все новые вопросы, процесс познания продолжается.
Глава 3 Парад участников
Чтобы неподготовленный читатель с первых же страниц не запутался в обилии названий древних предшественников и предков человека и не захлопнул в сердцах книгу, полезно для начала провести парадный смотр (немало интересного можно найти также в таблицах в “Приложении” в конце второй книги).
Уголок занудства
Геохронологическая шкала подразделяется на иерархически подчиненные друг другу отрезки времени: эоны (эонотемы) делятся на эры (эратемы), те – на периоды (системы), периоды – на эпохи (отделы), а они, в свою очередь, – на века (ярусы). Наш эон – фанерозой, он делится на три эры: палеозой (кембрий, ордовик, силур, девон, карбон, пермь), мезозой (триас, юра, мел) и кайнозой. Практически вся история приматов укладывается в последний, каковой делится на три периода: палеоген, неоген и антропоген, который часто называется четвертичным периодом. Палеоген включает палеоцен, эоцен и олигоцен; неоген – миоцен и плиоцен; антропоген – плейстоцен и голоцен. Есть предложение выделить антропоцен, но пока эта эпоха не является формальной.
Тупайи Scandentia: современные похожие на белок существа, живущие в Юго-Восточной Азии; в современной классификации обычно не включаются в приматов, но явно их родственники.
Шерстокрылы Dermoptera: современные похожие на огромных летяг, но родственные лемурам существа, живущие в Юго-Восточной Азии; в современной классификации обычно не включаются в приматов, но явно их ближайшие родственники.
Плезиадаписовые, или плезиадапиформы, Plesiadapiformes: жили с нижнего палеоцена по верхний эоцен (65–42 млн лет назад) в Европе, Северной Америке и Азии. Ископаемые предки приматов.
Полуобезьяны, или “мокроносые”, Strepsirrhini, или Prosimii: примитивные приматы, преимущественно ночные, часто насекомоядные. Включают адаписовых, лемурообразных, лориобразных и руконожковых.
Адаписовые Adapiformes, или Adapoidea: жили с нижнего эоцена по верхний миоцен (56–7 млн лет назад) в Северной Америке, Европе, Северной Африке и Азии. Ископаемые полуобезьяны, предки современных лемуров.
Лемурообразные Lemuriformes: Мадагаскар; лориобразные Lorisiformes: Африка и Юго-Восточная Азия; руконожковые Chiromyiformes: Мадагаскар. Современные полуобезьяны, примитивнейшие из современных приматов.
Обезьяны, или “сухоносые”, Haplorrhini: высшие приматы. Более продвинутые, чем полуобезьяны, в том числе по строению мозга и поведению. Включают долгопятообразных и обезьян-антропоидов.
Долгопятообразные Tarsiiformes: специализированные ночные насекомоядные обезьяны, имеющие, однако, множество черт полуобезьян. Включают омомисовых и долгопятовых.
Омомисовые Omomyiformes: жили со среднего палеоцена по нижний миоцен (60–34 млн лет назад) в Северной Америке, Европе, Северной Африке и Азии. Ископаемые предки долгопятовых и, возможно, антропоидов.
Долгопятовые Tarsiiformes: современные долгопяты Юго-Восточной Азии, крайне своеобразные приматы.
Антропоиды, человекоподобные, или обезьяны в узком смысле, Anthropoidea, или Simiiformes: высшие обезьяны, почти всегда дневные и растительноядные. Ископаемые парапитековые Parapithecoidea, эосимиевые или амфипитековые Eosimiiformes, проплиопитековые Propliopithecoidea и плиопитековые Pliopithecoidea – предки современных обезьян-антропоидов: широконосых и узконосых.
Широконосые Platyrrhini, или Ceboidea: обезьяны-антропоиды Центральной и Южной Америки.
Узконосые Catarrhini: обезьяны-антропоиды Африки и Азии, в древности также Европы. Включают мартышкообразных и человекообразных.
Мартышкообразные Cercopithecoidea: мартышковые Cercopithecinae и толстотелые Colobinae. Обезьяны Африки и Азии, в древности также Европы. Преимущественно древесные, реже наземные, почти полностью растительноядные.
Человекообразные, или гоминоиды, Hominoidea, или Anthropoidea, или Anthropomorpha: Африка и Азия, в древности также Европа. Крупные обезьяны с развитым интеллектом, без хвоста, древесные и редко наземные, почти полностью растительноядные. Проконсуловые Proconsulidae – древнейшие человекообразные и предки прочих человекообразных. Гиббоны Hylobatidae – сравнительно мелкие, сугубо древесные растительноядные обезьяны Юго-Восточной Азии. Орангутаны Pongo pygmaeus – крупные рыжие жители Суматры и Калимантана, сугубо древесные вегетарианцы. Гориллы Gorilla gorilla – самые крупные современные обезьяны, живущие в Западной и Центральной Африке, почти наземные, растительноядные. Обыкновенный шимпанзе Pan troglodytes и карликовый шимпанзе, или бонобо, Pan paniscus – среднего размера обезьяны Западной и Центральной Африки, преимущественно древесные и в основном растительноядные, самые близкие родственники человека.
Гоминиды Hominidae: в узком смысле включают прямоходящих приматов с маленькими клыками (в нашей книге мы будем использовать именно такое определение); в широком – также горилл и шимпанзе.
Австралопитековые Australopithecinae: гоминиды с множеством типичных обезьяньих черт, с обезьяньей головой и наполовину человеческим телом; иногда выделяются в самостоятельное семейство Australopithecidae. Орудийная деятельность зачаточная.
Ранние австралопитеки: 7–3,9 млн лет назад, Африка. Обладали наиболее примитивным строением, большинство черт обезьяньи. Каменных орудий труда не изготовляли. Выделяют несколько родов и видов ранних австралопитеков: Sahelanthropus tchadensis (7,2–6,8 млн лет назад, Чад), Orrorin tugenensis (5,88–5,72 млн лет назад, Восточная Африка), Ardipithecus kadabba (5,8–5,2 млн лет назад, Восточная Африка), Ardipithecus ramidus (4,51–4,32 млн лет назад, Восточная Африка), Australopithecus anamensis (4,2–3,9 млн лет назад, Восточная Африка).
Грацильные австралопитеки Australopithecus: 3,8–2,0 млн лет назад, Африка. Имели сравнительно небольшие размеры, обезьянью голову, множество обезьяньих черт строения руки, но были полностью прямоходящими. Каменных орудий труда почти никогда не изготовляли (кроме позднейших). Australopithecus afarensis (3,8–2,9 млн лет назад, Восточная Африка, наш прямой предок), Australopithecus bahrelghazali (3,58 млн лет назад, Чад), Australopithecus deyiremeda (3,5–3,3 млн лет назад, Восточная Африка), Kenyanthropus platyops (3,5–3,2 млн лет назад, Восточная Африка), Australopithecus africanus (3,1–2,6 млн лет назад, Южная Африка), Australopithecus garhi (2,5 млн лет назад, Восточная Африка, изготовлял каменные орудия труда), Australopithecus sediba (2 млн лет назад, Южная Африка, имел примерно половину признаков Homo, так что может быть описан и как Homo sediba).
Массивные австралопитеки, или парантропы, Paranthropus: 2,6–1,0 млн лет назад, Африка. Очень массивно сложенные специализированные формы с крайне развитыми челюстями, маленькими передними и огромными задними зубами, при этом полностью прямоходящие. Могли изготовлять каменные орудия труда. Paranthropus aethiopicus (2,7–2,3 млн лет назад, Восточная Африка), Paranthropus boisei (2,5–1,1 млн лет назад, Восточная Африка), Paranthropus robustus (2,0–1,5 млн лет назад, Южная Африка).
Гоминины Homininae: гоминиды без обезьяньих черт, включают все последующие группы.
“Ранние Homo”: первые представители нашего рода, не очень сильно отличавшиеся от австралопитеков, но имевшие в среднем больший мозг и изготовлявшие каменные орудия труда. Обычно выделяют два следующих вида.
“Люди рудольфские” Homo rudolfensis: 2,4–1,85 млн лет назад, Африка; культура галечная. Возможно, уже на этой стадии некоторые люди впервые покинули Африку и дошли до Кавказа.
“Люди умелые” Homo habilis: 1,85–1,65 млн лет назад, Африка; культура галечная.
“Люди Диналеди”, или наледи, Homo naledi: нет датировки, Южная Африка. Отнесение этого вида к “ранним Homo” оправдано морфологически, но его статус и эволюционное положение пока неясны.
Преархантропы, или “люди работающие”, Homo ergaster: 1,65–1,4 млн лет назад, Африка; культура галечная, появляется ранний ашель. Специфически обезьяньи черты уже исчезли, пропорции тела современные, но череп примитивный, средний объем мозга равен минимальному нормальному у современного человека.
Архантропы, или “люди прямоходящие”, или эректусы Homo erectus: 1450–400 тыс. лет назад, Африка, Азия, Европа; культура средний ашель. Расселились по тропической зоне Старого Света, дошли до Явы и даже Флореса. Примитивные люди с размером мозга вдвое-втрое большим, чем у шимпанзе и австралопитеков, но в полтора раза меньшим, чем в среднем у современных людей. Региональные варианты имеют массу названий: питекантропы (Ява), синантропы (Китай), атлантропы (Северная Африка), довольно моден синоним Homo antecessor (Европа). Название “прямоходящий” не значит, что эти люди были первыми прямоходящими, просто для Э. Дюбуа, давшего название в XIX веке, это было так; сейчас ясно, что прямохождение возникло за 5–6 млн лет до архантропов.
Препалеоантропы, или “люди гейдельбергские”, или гейдельбергенсисы, Homo heidelbergensis: 700–130 тыс. лет назад, Африка, Азия, Европа; культура поздний ашель. Расселились в числе прочего в зоны умеренного климата. Строение черепа по-прежнему очень примитивное, но объем мозга почти достиг современных средних значений. В некотором роде сборная солянка, потому что на этом этапе географически удаленные варианты могут сильно отличаться друг от друга. Европейские гейдельбергенсисы являются предками неандертальцев; африканские – предки сапиенсов – часто описываются под собственными названиями вроде Homo rhodesiensis.
Денисовцы: ?800 –?30 тыс. лет назад, Азия. Загадочные люди, известные почти только по ДНК из Денисовой пещеры на Алтае. Возможно, это азиатские гейдельбергенсисы. Не были нашими прямыми предками, но могли ограниченно смешиваться с первыми сапиенсами.
“Люди флоресские”, или “хоббиты”, Homo floresiensis: ?900–190–50 тыс. лет назад, Индонезия, остров Флорес. Карликовые потомки яванских архантропов-питекантропов, пережившие всех близких родственников и вымершие, возможно, от рук сапиенсов.
Неандертальцы, или палеоантропы Европы и Западной Азии, Homo neanderthalensis: 130–28 тыс. лет назад, Европа и Западная Азия; культуры микок и мустье. При наличии примитивных и специализированных черт строения имели мозг не меньший, чем у современных людей. Развили крайне примитивные формы искусства, погребали умерших, были самыми главными хищниками своего времени. Не были нашими прямыми предками, но могли ограничено смешиваться с первыми сапиенсами.
Палеоантропы Африки Homo helmei, Homo sapiens idaltu: 200–50 тыс. лет назад, Африка. Предки людей разумных, имевшие почти современное строение, но сохранявшие и архаичные черты, доставшиеся от предков; в силу переходности часто расцениваются как “архаичные Homo sapiens” или даже называются “анатомически современными Homo sapiens”. Выходившие за пределы Африки около 100 тыс. лет назад Homo sapiens palestinus на Ближнем Востоке могли смешиваться с неандертальцами, но эти первые внеафриканские миграции, скорее всего, окончились вымиранием. Одна или две миграции, имеющие прямое отношение к современным внеафриканским людям, были совершены предположительно от 100 до 45 тыс. лет назад, причем более вероятны поздние цифры.
Современные люди, или “люди разумные”, Homo sapiens: 50 тыс. лет назад – современность (древнейшие представители – кроманьонцы: 50–10 тыс. лет назад, эпоха верхнего палеолита), вся планета. Собственно, мы.
Особая обезьяна Часть вторая, ученая, из коей любознательный Читатель узнает, почему он обезьяна и почему он человек
Глава 4 Что в нас обезьяньего?
Многим людям кажется, что человек очевидно уникален. Как же – он безволос, двуног, невероятно умен, по крайней мере, это он рассуждает о своей уникальности, а не лемуры с мартышками. Однако зоология неумолима.
Принадлежность человека к отряду приматов подтверждается всем сводом наших знаний как о человеке, так и о приматах – генетикой, биохимией, эмбриологией, анатомией, этологией и палеонтологией. По подавляющему большинству параметров человек ближе всего к шимпанзе, по меньшему – к горилле, еще дальше от нас орангутан, еще дальше – гиббоны. Более того, по массе свойств шимпанзе больше похожи на людей, чем на орангутанов, как бы странно это ни звучало для человека, обращающего внимание лишь на внешность. Внешность, как известно, обманчива. На самом деле важнее всего генетика – именно в ДНК содержится самая наша суть.
В настоящее время геномы всех крупных человекообразных обезьян полностью расшифрованы, так что порядок их эволюционного ветвления и масштаб отличий известны. У шимпанзе с человеком общий геном составляет от 94 до 99 % в зависимости от способа подсчета. Показательно, что, поскольку мужчина от женщины отличается на целую хромосому, а она составляет больше 2 % генома, то генетические различия мужчин и женщин человека больше, чем мужчин и самцов шимпанзе! Кроме того, при желании можно найти двух людей, отличия которых по числу неодинаковых нуклеотидов – кирпичиков ДНК – будут сопоставимы по масштабу с разницей между шимпанзе и человеком. В среднем же два человека отличаются примерно на 0,1 % генома при подсчете по нуклеотидам, а человек и шимпанзе – на 1 %.
Однако стоит помнить, что разница разнице рознь: примитивный подсчет отличий по нуклеотидам не дает адекватного представления о сути этих отличий. Различие между человеком и шимпанзе кроется в кодирующих последовательностях, а между двумя людьми – большей частью в незначимом генетическом мусоре. К тому же у обыкновенного шимпанзе на одну хромосому больше, чем у человека. У предков человека две хромосомы слились вместе; последствия такого контакта можно видеть в морфологии второй хромосомы человека – на ее длином плече есть остатки центромеры и рудиментарные теломеры. Набор генов от этого, впрочем, никак не поменялся, информация осталась принципиально той же, что на двух хромосомах человекообразных обезьян, но возможности скрещивания человека и шимпанзе, по-видимому, оказались утерянными (все, на самом деле, не так однозначно, но к этому мы еще вернемся).
Иногда в литературе можно встретить утверждение, что якобы у бонобо две хромосомы “частично слиты” и потому эти приматы представляют наглядный переход от шимпанзе к человеку. Автор этих строк, некритично восприняв информацию, некоторое время тоже был носителем сего заблуждения. Однако в действительности бонобо не отличается в этом отношении от своего более крупного собрата – обыкновенного шимпанзе.
Прямой результат работы генов – белки, а те, в свою очередь, порождают и прочую биохимию. Учитывая помянутое сходство генетики, неудивительно, что биохимические показатели человека и большинства приматов чрезвычайно сходны. Всем известно, что у человека и других обезьян, в том числе, конечно, и шимпанзе, совпадают группы крови. Даже слово “резус”, которое у большинства людей ныне твердо ассоциируется с фактором крови, на самом деле обозначает вид макаки. Впервые резус-фактор крови был открыт именно у макак-резусов, а после выяснилось, что такой же имеется и у людей.
Кстати, о почках…
В свое время производились опыты по переливанию крови как от человека к шимпанзе, так и от шимпанзе человеку, делались даже пересадки печени, сердца, почек и костного мозга от павиана человеку. Эксперименты по пересадке почек от шимпанзе людям проходили поначалу вполне успешно, и почки работали, иногда месяцами. К сожалению, большинство таких попыток заканчивались довольно скорой – в течение двух-трех месяцев – смертью пациентов, но не из-за несовместимости органов, а из-за инфекций (ведь иммунитет искусственно подавлялся для предотвращения отторжения) и, видимо, в немалой степени от того, что пересадки делались людям с крайними формами заболеваний, приведших, собственно, к необходимости ксенотрансплантаций. Кроме прочего, стоит учесть, что подобные операции проводились давно, когда и пересадки органов от человека человеку далеко не всегда оказывались успешными. Тем не менее в одном случае пациентка – школьная учительница – прожила после операции 9 месяцев, причем отторжения шимпанзиных почек за это время так и не произошло.
Фундаментальные биохимические показатели определяются так называемыми структурными генами, однако гораздо важнее гены регуляторные, задающие активность выработки белков и скорости роста. А темпы развития отражаются прежде всего в эмбриологии.
Эмбрионы и плоды человека и шимпанзе чрезвычайно сходны вплоть до рождения. Не говоря уж о жабрах и хвосте на ранних стадиях развития, у обезьяньего и человеческого эмбрионов почти идентичны общие размеры и пропорции. Например, первичная шерсть лануго у человеческого плода сохраняется до рождения, а иногда и дольше. После рождения разница между человеком и шимпанзе начинает усиливаться: у шимпанзе быстрее растут руки и челюсти, у человека – ноги, мозг и мозговой отдел черепа. Сами элементы строения те же самые, но скорости их роста разные. Тут мы можем, кстати, уловить одну из самых важных особенностей человека – позднее зарастание швов черепа, позволяющее расти головному мозгу. Результат эмбрионального развития – анатомические структуры взрослого индивида. И тут многие готовы воскликнуть: “Ага! Вот тут-то мы и видим очевидную разницу!” Но не все так просто.
Анатомически человек, понятно, заметно отличается от обезьян, но эта разница бросается в глаза, только если рассматривать человека в целом. Если же сравнение проводить по отдельным органам, костям или тканям, то отличия найти будет не так легко, разница только в пропорциях, но не в строении как таковом. Это создает трудности для палеонтологов, поскольку в ископаемом виде обычно сохраняются лишь отдельные элементы скелета. Например, отличить плечевую кость человека и того же шимпанзе бывает сложно даже специалисту; то же можно сказать и о многих других костях и органах. Моляры человека настолько похожи на зубы орангутанов, что некоторые ископаемые находки из Юго-Восточной Азии и Индонезии остаются неопределенными – не то человек, не то орангутан. Примером может служить моляр из пещеры Там-Хан во Вьетнаме. А ведь орангутан далеко не самый похожий на человека примат!
Кто-то скажет: “Ну как же – человек лыс, а любая обезьяна волосата!” Однако концентрация волосяных луковиц на коже у человека и обезьян почти одинакова: внешне очевидная разница по степени “волосатости” обусловлена почти исключительно толщиной волос – тонких и часто обесцвеченных у людей и толстых и пигментированных у обезьян.
Анатомическое сходство человека и других приматов настолько велико, что в Средние века и в начале эпохи Возрождения врачи изучали человеческое строение на обезьянах. Скажем, двенадцатиперстная кишка получила свое замечательное биометрическое название по размерам у макаки, а не человека. Собственно, проще перечислить отличия человека от других приматов, чем выписывать их многочисленные сходства.
Поведение человека может показаться резко отличным от поведения обезьян, но лишь до того момента, как мы начинаем подробно изучать его у приматов или обращать внимание на обезьяньи черты собственного образа жизни. Корректно проведенные сравнительные исследования показывают, что у человека и высших человекообразных обезьян принципиально сходны формы заботы о детях-детенышах, формы обучения трудовым операциям, половое поведение, виды приветствия (включая рукопожатие и похлопывание по плечу), способы выражения эмоций – страха, агрессии, недовольства, расположения, удовольствия, скуки, радости, озабоченности и прочих. Шимпанзе могут кооперироваться для охоты, изготовляют и используют орудия труда, умеют шутить (хотя и довольно топорно по человеческим меркам), обманывать и ругаться, имеют представление о прошлом, настоящем и будущем, проявляют прогностические способности, обладают отличной памятью, легко обучаемы. Гориллы в природе менее креативны, поскольку слишком велики и сильны, но в неволе проявляют удивительный интеллект. В родных лесах за ними никто не замечал использования орудий, кроме разве что пары случаев, но когда в зоопарках стали устанавливать камеры скрытого наблюдения, выяснилось, что гориллы занимаются этим с завидной регулярностью.
В условиях неволи орангутаны, гориллы и шимпанзе могут выучивать множество слов, причем воспринимают их разными способами, в том числе на слух. Хотя строение гортани не позволяет им произносить слова членораздельно, обезьян неоднократно обучали речи с помощью демонстрации геометрических фигур, компьютерной клавиатуры и жестового языка. Примечательно, что обезьяны могут учиться и друг от друга, например детеныши у матерей, хотя без помощи человека эти навыки затухают в следующем поколении. Очевидно, обезьянам для общения между собой вполне хватает иных средств. Самые талантливые обезьяны выучивали до трех тысяч слов и могли выражать разнообразные понятия на уровне двух-трех-, а по мнению некоторых ученых – даже пяти-шестилетних детей.
Тут мы можем выявить одно из ключевых отличий поведения обезьян от человеческого: обезьяны не такие зануды, как человек, они быстро теряют интерес, переключаются на новые темы, менее усидчивы и не могут долго сосредотачиваться и концентрировать внимание. Кстати, все те же свойства характеризуют человеческого ребенка до семи лет, почему и в школу люди идут именно в этом возрасте. До семи лет человек – все та же обезьянка. Обезьяны не учатся и, что важнее, – не учат долго и целенаправленно, ограничиваясь больше наблюдением между делом за поведением других обезьян и людей. В частности, у шимпанзе довольно туго обстоят дела с указующим жестом, они редко применяют его, хотя для людей он универсален и его адекватно воспринимают даже совсем маленькие дети.
Палеонтологические данные свидетельствуют о достаточно плавной эволюции приматов во всем их многообразии. Этому вопросу в нашем изложении посвящены отдельные главы, здесь можно указать лишь, что вопрос о “недостающем звене” уже более полувека не стоит в научной повестке дня; сейчас известны и подробно описаны практически все переходы от непосредственных предков приматов до современного человека. Это, конечно, не значит, что все вопросы палеонтологии человека уже решены, но общая схема эволюции приматов с появлением новых находок уже давно не меняется, а только обретает все более четкие очертания.
Глава 5 Что отличает нас от обезьян?
Все же, сколько бы мы ни были похожи на своих родственников, нельзя отрицать, что есть и сугубо человеческая специфика. Для основных столпов человечности даже есть красивый термин “гоминидная триада”. Она включает, во-первых, прямохождение, или бипедию, и весь комплекс морфологических адаптаций к ней; во-вторых, кисть, приспособленную не только к использованию, но и к изготовлению орудий; в-третьих, высокоразвитый мозг и сложное поведение.
На самом деле, конечно, сугубо человеческие свойства гоминидной триадой не ограничиваются. К ней можно добавить такой надежный признак, как маленькие клыки, не выступающие за линию других зубов. Более того, видимо, именно эта особенность была первой в ряду тех, что определенно повели к появлению человека.
Современные и ископаемые человекообразные обезьяны имеют крупные клыки, далеко выступающие за край резцов и премоляров. Кроме того, для успешного смыкания зубных рядов имеются диастемы – промежутки между резцом и клыком на верхней челюсти и между клыком и премоляром на нижней. Чтобы огромному верхнему клыку было где поместиться, изменена форма первых нижних премоляров, они асимметричные – секториальные. Изменения размеров клыков можно подробно прослеживать, поскольку зубы – это то, что чаще всего сохраняется от приматов. Некоторая редукция клыков наблюдается у дриопитековых и сивапитековых приматов. Впрочем, еще вопрос, какой эволюционный процесс преобладал – редукция или увеличение клыков? Дело в том, что древнейшие человекообразные – проконсулы – имели не такие уж большие клыки. Если посчитать по модулю отличия размеров клыков в парах проконсул – шимпанзе и проконсул – человек, то в первой паре разница будет больше. Это значит, что если мы за меру прогрессивности будем брать размер отличий от предка, то клыки шимпанзе и гориллы прогрессивны, а наши – примитивны!
Древнейшие известные прямоходящие обладали клыками сравнительно небольшими по обезьяньим меркам, но внушительными в человеческих масштабах. Размеры клыков австралопитеков помещают их посередине между шимпанзе и человеком, причем в хронологическом ряду австралопитеков мы можем видеть закономерное приближение именно к человеческим значениям.
Большой вопрос – уменьшение клыков вызвало изменения в поведении или, напротив, этологические сдвиги привели к редукции устрашалок во рту. Как бы там ни было, с уменьшением размеров клыков в группах обезьян должна была возникнуть проблема недопонимания, поскольку демонстрация маленьких клыков далеко не столь впечатляюща: одно дело, если скалится павиан, чьи клыки длиннее, чем у иного леопарда, а другое – австралопитек, у которого не поймешь – он злится или просто дружелюбно улыбается? Но выражать свои богатые чувства хочется, что и привело к усилению и развитию других коммуникационных способов – мимики, жестикуляции и речи. Все они на порядок лучше развиты у человека, нежели у других приматов. Конечно, не стоит абсолютизировать значение именно клыков, были и другие причины. Но уменьшение размеров клыков имело грандиозные последствия, и его нельзя недооценивать.
Прямохождение
Широко известно полуанекдотическое определение человека как “двуногого без перьев”. Но человеку мало двуногости – он еще и ходит выпрямившись, в отличие от, скажем, птиц или тушканчиков, позвоночник которых расположен горизонтально. Прямохождение обеспечивается целым рядом специальных признаков.
Первый – положение большого затылочного отверстия на затылочной кости, через которое спинной мозг соединяется с головным. У четвероногих животных оно находится в задней части основания черепа и повернуто назад, так как позвоночник прикрепляется если и не строго сзади, то по меньшей мере наискосок; у прямоходящих существ отверстие расположено в центре длины основания черепа и открывается вниз, так как позвоночник подходит снизу, а передняя и задняя части черепа должны быть уравновешены. Соответственно, существенно меняются и места прикрепления шейных и спинных мышц, конфигурация затылка, укорачивается основание черепа.
Вариант промежуточного типа известен уже у Sahelanthropus tchadensis около 7 млн лет назад, заметно более продвинутый – у Ardipithecus ramidus 4,4 млн лет назад, а окончательно “прямоходящий” – у Australopithecus afarensis 3,5 млн лет назад.
Позвоночник четвероногих получает примерно равную нагрузку спереди и сзади, отчего размеры позвонков вдоль длины более-менее одинаковы, а центральная часть представляет собой равномерную дугу – аналог арочного моста. Крестец – часть позвоночника, к которой крепится таз, – имеет сильно вытянутую узкую форму, а его позвонки могут либо вообще оставаться независимыми, либо сливаться не полностью. У прямоходящих позвоночник ориентирован вертикально, а потому имеет характерные изгибы – лордозы вперед и кифозы назад; в итоге вся конструкция становится более-менее устойчивой и работает как пружина, а нагрузка стучит не строго по нижележащим позвонкам, а частично распределяется в стороны. Размеры позвонков у прямоходящих закономерно увеличиваются сверху вниз, самыми крупными оказываются нижние поясничные и верхние крестцовые, так как тут расположен центр тяжести организма. Крестец широкий и короткий, его элементы капитально сливаются между собой. У австралопитеков Australopithecus afarensis и Australopithecus africanus изгибы, вероятно, были как у современного человека, но некоторые детали строения позвонков (например, вытянутость тела позвонков спереди назад) сближают их с обезьянами.
Рис. 1. Основание черепа и большое затылочное отверстие шимпанзе (а), австралопитека (б) и человека (в).
Строение крестца у австралопитеков – начиная с Ardipithecus ramidus и Australopithecus afarensis – типично гоминидное. Конечно, не стоит абсолютизировать помянутые признаки. Например, у гориллы есть поясничный лордоз, но его появление связано не с прямохождением, а с огромным весом животного.
Строение таза очевидно разное при разных типах передвижения: у четвероногих обезьян таз узкий, высокий и вытянутый вдоль позвоночника, а у прямоходящих – широкий и низкий. Конечно, стоит помнить, что форма таза обусловлена еще и нуждами деторождения, но, судя по тому, что у австралопитеков голова была фактически обезьянья (а проблемы при родах создает как раз голова – она большая и плохо сжимается), а таз – человеческий, фактор локомоции играл определяющую роль.
Уголок занудства
На человеческой тазовой кости отлично выражена передняя нижняя подвздошная ость (костный выступ на переднем крае таза, читатель без труда может найти у себя верхнюю подвздошную ость – на ней держится ремень, нижняя скрыта мышцами; у обезьян нижней подвздошной ости фактически нет), а ушковидная поверхность и подвздошная бугристость, обеспечивающие соединение с крестцом, занимают значительную площадь. Седалищный бугор у человека могуч, а седалищная ость длинна и остра, тогда как у других обезьян первый короток, а второй вообще почти нет.
На передней нижней подвздошной ости крепится прямая мышца бедра (часть четырехглавой мышцы бедра), разгибающая колено. Но она же сгибает бедро в тазобедренном суставе, то есть поднимает ногу вперед (или опускает тело, если нога прочно стоит на земле). Получается противоречие: одна и та же мышца одновременно держит тело вертикально в одном суставе, но наклоняет его в другом. У четвероногих животных такой странной проблемы нет, ведь у них нога вертикальна, а тело горизонтально, мышца совершенно логично выполняет шаг вперед. Чтобы нога у человека была выпрямлена и в тазобедренном суставе тоже, четырехглавой мышце бедра противостоят целых три ягодичные мышцы – большая, средняя и малая, которые разгибают бедро, удерживая тело в вертикальном положении. Особенно преуспевает в этом большая ягодичная мышца. Но у обезьян она расположена не сзади, а сбоку и занята иным делом – отводит бедро в сторону, а потому развита умеренно, почему и зад у обезьян тощий, совсем нечеловеческий, а выпрямить ноги они не могут. Кстати, совершенно обезьяний вариант типичен для новорожденных младенцев. Поэтому они лежат в позе “куренка табака” – растопырив в стороны согнутые ножки, а свести вместе их практически не могут. Только потом четырехглавая мышца “переползает” на человеческое место – в “пятую точку”; если же по какой-то причине замедленный рост сухожилий и фасций препятствует этому перемещению, могут возникнуть проблемы с умением ходить.
Раз у человека пропала отводящая функция большой ягодичной мышцы, должна быть какая-то компенсация: отведением бедра в сторону у него усиленно занимаются верхняя и нижняя близнецовые мышцы, отчего место их крепления на седалищной кости чрезмерно увеличивается и становится седалищной остью. Но еще важнее человеку приводить бедро, то есть сводить ноги вместе, чтобы стоять прямо; этим, среди прочих, заняты квадратная мышца бедра и большая приводящая мышца, крепящиеся к седалищному бугру, который оказывается заметно крупнее, чем у обезьян.
Тазовые кости сохраняются плохо, но радует, что у Ardipithecus ramidus 4,4 млн лет назад мы видим строго промежуточный “четвероного-двуногий” вариант – одновременно и широкий, и вытянутый в длину. У Australopithecus afarensis 3,5 млн лет назад таз был не только полностью “прямоходящий”, но по расширенности пропорций даже более человеческий, чем у современного человека. Это не значит, что мы сколько-нибудь вернулись к четвероногости. Ясно, что сей парадокс связан с так называемыми аллометрическими закономерностями. При изменении общих размеров тела разные части тела меняются неодинаково: при росте от малых размеров к средним длиннотные размеры увеличиваются быстрее, чем широтные (а вот если увеличивать человека до масштабов слона, то, наоборот, широтные начнут расти быстрее, иначе скелет не выдержит огромного веса). Поэтому от австралопитеков к нам и высота таза несколько подросла.
Рис. 2. Таз проконсула (а), шимпанзе (б), австралопитека (в) и человека (г).
Строение длинных костей ног отражает бипедию, наверное, лучше всего. У четвероногих приматов руки длиннее ног, колени разведены в стороны “колесом” и всегда полусогнуты, стопы разнесены друг от друга. Слабые мышцы не могут свести ноги вместе, да и форма нижних концов бедренных костей этому никак не способствует, туловище как бы “проседает”. Так как стопы при двуногом хождении оказываются далеко от центра тяжести, обезьяна компенсирует неустойчивость сильными боковыми колебаниями туловища, двигается очень неуклюже, враскачку, характерной походкой заправского бывалого морячка и того гляди норовит помочь себе руками. У прямоходящих ноги длинные, тазобедренные суставы сильно разведены друг от друга вследствие большой ширины таза, а колени сведены вместе, так что бедренные кости при взгляде спереди наклонены, а кости голени вертикальны, стопы сближены. Колени выпрямлены и при взгляде сбоку.
Более-менее бипедальное строение бедренных костей известно начиная с Orrorin tugenensis 5,88 млн лет назад.
Уголок занудства
У прямоходящих меняются места прикрепления и направления действия ягодичных и медиальных мышц, что очевидным образом отражается на рельефе как таза, так и костей ног. Новую форму приобретают верхний и нижний концы бедренной кости, а также межмыщелковое возвышение большой берцовой кости и поверхности голеностопного сустава. Шейка бедренной кости у человека длинная и ориентирована более вертикально; у обезьян она короткая и горизонтальная. Мыщелки бедра у человека повернуты относительно длинной оси кости, дабы колени могли сходиться, тогда как у обезьян они смотрят ровно вниз.
Большая ягодичная мышца обезьян отводит ногу вбок, а не выпрямляет ее. Также у них слабы мышцы медиальной группы бедра, отчего обезьяна не может свести ноги вместе, когда стоит на двух ногах. У человека эта способность развита несравненно сильнее, поэтому и соответствующие мышцы могучи. Это ярко отражается во внешнем виде: у шимпанзе бедро заметно сужается к тазу, а у человека оно чем выше, тем толще. Мышцы медиальной группы присоединяются к шероховатой линии на задней стороне бедренной кости, отчего у обезьян эта поверхность почти ровная, а у человека линия обычно развита в виде мощного костного гребня – пилястра. Показательно, что при врожденных параличах пилястр у человека не формируется, поскольку мышцы не используются и не воздействуют на кости. Большая ягодичная мышца у человека расположена сзади и крепится на небольшом участке в верхней части бедренной кости – на ягодичной бугристости, а у шимпанзе и гориллы она охватывает бедро сбоку и крепится намного ниже и почти по всей длине диафиза бедренной кости.
Строение стопы – отличный показатель типа передвижения, хотя в ископаемом виде эта часть тела сохраняется плохо. Четвероногие обезьяны имеют плоскую стопу с длинными изогнутыми подвижными пальцами, приспособленными для цепляния за ветви. Особенно выделяется большой палец, сильно оттопыренный в сторону, способный хватать даже лучше, чем большой палец руки. Это отражается в большей длине его мышц и характерной форме суставов.
Рис. 3. Стопа шимпанзе (а), австралопитека (б) и человека (в).
У прямоходящих продольный и поперечный своды (подъемы) стопы выражены хорошо, что позволяет перераспределять нагрузку тела более равномерно: половина на пятку, половина на пять головок плюсневых костей. Если для простоты расчета прикинуть, что человек весит 100 кг, то каждой ноге достается по 50 кг, а своды делят их так, что на пятку и переднюю часть приходится по 25 – условно по 5 кг на каждую плюсневую кость (в реальности, благодаря поперечному своду, на первую приходится львиная доля, немало и на пятую, а на три средних совсем чуть-чуть). Без сводов же – при плоскостопии – все 50 кг будут ударять в одну точку – переднюю часть пяточной кости, куда нагрузка в норме вообще не должна прилагаться. Нога будет болеть. У четвероногой же обезьяны и без сводов на каждую ногу будет ложиться по четверти веса, при общем весе 100 кг – по 25 кг, как у нас на каждую пятку, что вполне терпимо.
У двуногих пальцы стопы прямые, короткие, способные легко отгибаться наверх; большой палец не отведен в сторону и малоподвижен, а его суставы плоские; все плюсневые связаны мощными поперечными связками, чтобы не расползались в стороны.
Превосходство над Винни-Пухом, или Как все же украсть мед?
Тва и эфе любят мед. Почему? Кто поймет? Только чтоб его достать, Надо ножки им сгибать.В журнале Национальной американской академии наук в 2013 г. вышла статья, посвященная способностям людей к древолазанию (Venkataraman et al., 2013). Исследователи наблюдали за тем, как забираются на деревья представители разных экзотических племен охотников-собирателей. Особое внимание было обращено на пигмеев Центральной Африки, которые в поисках меда (чего же еще?!) регулярно карабкаются на высоту до полусотни метров (в статье приводится удивительно точная цифра 51,8; интересно, как ее измеряли?). Правда, пчелы тоже нечасто селятся на такой верхотуре, так что в среднем пигмеям приходится лезть только до отметки 19,1 м, что, конечно, тоже немало. В необоримом стремлении к меду доблестные конкуренты Винни-Пуха регулярно повторяют его способ спуска, так что, например, у пигмеев ака на падения с деревьев приходится 6,6 % смертности. Заметно успешнее аэта с Лусона, у которых аналогичная цифра составляет 1,7 % (а может, на Филиппинах просто мед правильнее, пчелы ниже гнездятся или веток на деревьях больше?). Но всех превзошли угандийские пигмеи тва. Они не падают никогда! Видимо, любят мед больше всех. В качестве контроля были взяты соседи тва – бакинга, “нелазающие земледельцы”, как они определены в статье, а также филиппинские собиратели аэта и земледельцы манобо.
Для того чтобы разобраться, как сии феноменальные способности тва отражаются на их ножках, был использован метод ультрасонографии. Измерялись длина мышечных волокон в мышцах ноги и углы сгибания суставов ноги. Длина волокон у тва и аэта оказалась заметно выше, чем у бакинга и манобо. Голеностопный сустав у собирателей сгибается намного лучше, чем у земледельцев, почти столь же сильно, как у шимпанзе. Обезьяны при взбирании на деревья сгибают ногу в среднем на чуть больший угол, чем это уже опасно для связок нетренированного (“индустриализированного”, по терминологии статьи) человека. Пигмеи при древолазании тоже попадают в “зону риска”, но редко превосходят опасные для горожанина величины сгибания лодыжки.
Авторы исследования померили также целых шесть больших берцовых костей пигмеев из леса Итури в поиске неких костных особенностей, позволяющих им столь сильно сгибать ногу при древолазании и столь успешно доставать мед. Измерялась, правда, почему-то “передняя дистальная ширина” этой кости (классики остеометрии плакали бы на этом месте). График получился на удивление непоказательный: собиратели занимают на нем крайнее положение вместе с “мальчиком из Нариокотоме” и южноафриканскими грацильными австралопитеками, в средней позиции находятся земледельцы с восточноафриканскими австралопитеками, а противоположный край оккупирован шимпанзе и гориллами.
Выводом из всего этого стало утверждение, что способности к древолазанию не обязательно отражаются на костях, а могут иметь основу в мышечных особенностях. Отсюда уже следует заключение, что мы можем недооценивать способности древних гоминид (в частности, австралопитеков) к древолазанию, рассматривая лишь их кости.
Красивые выводы! Но…
Во-первых, кто бы сомневался! Ясно, что на костях отражается далеко не все. Во-вторых, выводы звучат так, как будто пигмеи вообще живут на деревьях, а шимпанзе постоянно ходят прямо. А ведь на графике средний угол сгибания ноги у пигмеев все же недотягивает до такового у шимпанзе. Невозможно промолчать и о методе определения угла: измерялись фотографии, сделанные со случайного ракурса, от точек, определенных фактически произвольно. Например, на приведенной фотографии точка на колене взята, несмотря на надетые штаны! А ведь для измерения угла крайне важна ориентация объекта и точка зрения. При минимальном смещении искажение будет в несколько градусов – сопоставимое с обнаруженными различиями. Да и количество измерений было крайне малым. Далее: в исследовании было задействовано всего 6 костей современных пигмеев, причем не тех, кого наблюдали вживе. Вовсе не факт, что те пигмеи, чьи кости были исследованы, лазали по деревьям (может, это были женщины, например). Вообще-то, давно известен, скажем, замечательный “комплекс положения на корточках”. Когда человек много сидит на корточках, на всех костях таза и ноги появляются характерные изменения суставных поверхностей. В принципе, при сидении на корточках тоже происходит чрезмерное сгибание суставов, как и при древолазании. Думается, что у всех пигмеев поголовно этот комплекс развит в полной мере, ибо стульев у них не замечено. Запросто может быть, что развитие “комплекса положения на корточках” заметно способствует усиленному сгибанию стопы при лазании по деревьям. Взятые для контроля “индустриализированные” люди, ясно, такого комплекса не имеют, так что их способности к сгибанию ног вовсе не показательны. Думается, если бы были исследованы йоги, циркачи или гимнасты, у них способности были бы не хуже пигмейских. А уж если бы под наблюдение попали студенты биофака МГУ осенью, в сезон созревания яблок вокруг биофака, думается, выводы были бы совсем иными. А если бы на костях рассматривалась не “передняя дистальная ширина”, а изучались следы прикрепления мышц и особенности суставных поверхностей, то, возможно, были бы найдены соответственные изменения, следы которых можно было бы прослеживать и на останках древних гоминид.
Что, собственно, доказано? Что у пигмеев повышена подвижность суставов? Это было известно уже в XIX веке, а некоторые предполагают, что и древним египтянам. Оно и не странно, учитывая малые размеры тела и образ жизни пигмеев. Захочется медку в тропическом лесу – и не так ноги согнешь, и не туда залезешь. Функциональные изменения организма никто не отменял, а они не отменяют генеральных адаптаций, локомоторных в том числе. Кстати, гибкость мышц и подвижность суставов прямо зависят от возраста, а этот фактор совершенно не учитывался в исследовании. Пигмеи в среднем живут очень недолго, так что с большой вероятностью сравнивались молодые пигмеи с более пожилыми представителями контрольных групп. В любом случае этот момент остался покрытым мраком.
Так что, несмотря на пафосные выводы, статья не может служить образцом научного исследования. А способности наших предков к древолазанию от всего этого вовсе не меняются.
Кстати: для проверки положений статьи я, в жизни не залезавший на деревья выше трех метров и при наличии аллергии к меду, без малейшей подготовки согнул ногу на фантастический угол, побив рекорд всех пигмеев и шимпанзе, а также, возможно, орангутанов и гиббонов! Это если верить измерению угла на фотографии…
Наш большой палец стопы малоподвижен, но его мускулатура в целом осталась прежней, обезьяньей, независимой от мускулатуры остальных четырех пальцев. Поэтому при необходимости человек может разработать хватательную способность до невероятной ловкости. Известен удивительный прецедент, когда безрукая от рождения женщина Пелагея Семенова подарила И. В. Сталину обшитый бисером чернильный прибор – ручку, пресс-папье, подставку под чернильницу, причем низала бисер она ногами.
В некоторых культурах отдельные виды деятельности предполагали придерживание чего-либо большим пальцем ноги, например древка копья при его шлифовании. От этого палец разрабатывался и торчал в сторону очень далеко. Когда в XIX веке высокопросвещенные европейцы в белых пробковых шлемах приплывали на экзотический остров, скажем, на Филиппинах и обнаруживали там людей со стопой “как у обезьяны”, они глубокомысленно рассуждали о примитивных низших расах, застрявших на пути очеловечивания. Однако ныне те же аборигены забыли про копья, ходят в китайских кроссовках и имеют вполне стандартные человеческие стопы. Функциональная гипертрофия – великая сила!
У Ardipithecus ramidus 4,4 млн лет назад уже присутствовали своды стопы, но пальцы были длинные и изогнутые (это типично вообще для всех австралопитеков), а большой палец мог отводиться далеко в сторону. В стопе Australopithecus anamensis около 4 млн лет назад, судя по строению большой берцовой кости, большой палец был малоподвижен. У Australopithecus afarensis 3–3,9 млн лет назад своды стопы хорошо выражены, большой палец мог слегка противопоставляться другим, но намного слабее, чем у современных обезьян, отпечаток ноги был почти как у современного человека. В стопе Australopithecus africanus и Paranthropus robustus большой палец был несколько сильнее отведен от других, а пальцы – очень подвижные, что позволяет не считать их нашими предками. У Homo habilis стопа уплощенная, без выраженного свода (впрочем, она известна лишь по одной комплектной находке), но пальцы прямые, короткие, а большой палец полностью приведен к остальным. Видимо, совсем человеческая стопа сложилась лишь у рослых архантропов, хотя тут у нас имеется досадный пробел в материалах.
Стопа невиданного гоминида
Сложности изучения и интерпретации морфологии стопы хорошо видны на примере исследования стопы из эфиопской местности Ворансо-Милле. Этот район исследуется сравнительно недавно, но уже успел порадовать антропологов ценнейшими находками. Чего стоит один только скелет KSD – VP-1/1 – самый рослый среди афарских австралопитеков! Здесь же найдены челюсти, совмещающие черты анамских и афарских австралопитеков. Среди 54 тысяч окаменелостей нашелся повод и для новой сенсации – фрагмент уникальной стопы BRT-VP-2/73 из локального местонахождения Бартеле-2 (Haile-Selassie et al., 2012). Сохранились плюсневые кости с первой по четвертую и четыре фаланги правой стопы. К сожалению, нет никаких других останков скелета, которые могли бы быть отнесены к этому индивиду.
Находка имеет датировку 3,4 млн лет – самый средний возраст для афарских австралопитеков. Однако морфология костей заметно отличается от известного для этого вида. Причем отличается в примитивную сторону и во многом напоминает состояние ардипитека, жившего 4,4 млн лет назад – на целый миллион лет раньше! Новоявленная стопа обладает странным набором свойств: поперечный свод был выражен, а продольного не было, плюсневые и фаланги не слишком длинны и изогнуты, но большой палец короткий, сильно отведен и имел хорошую хватательную способность, а при ходьбе не загибался вверх, тогда как другие пальцы – загибались. Одна черта оказалась, по-видимому, очень примитивной: II плюсневая короче, чем IV; такое соотношение встречается у мартышковых и проконсула KNM-RU 2036, тогда как у современных понгид, ардипитека, афарских австралопитеков и человека соотношение всегда обратное.
В целом авторы первоисследования отмечают, что стопа BRT-VP-2/73 была столь же приспособлена к древолазанию, как и у Ardipithecus ramidus, хотя отличий от этого вида, как и от Australopithecus afarensis, тоже хватает. Главным выводом стало то, что в Эфиопии 3,4 млн лет назад существовали как минимум два вида: один – хорошо изученный прямоходящий Australopithecus afarensis, а второй – почти неизвестный полудреволазящий-полупрямоходящий, возможно, мало изменившийся потомок ардипитека. К сожалению, классификация гоминид строится в основном на признаках черепов и зубов, так что дать название новому виду авторы не решились.
Но, как всегда, возникают вопросы. К сожалению, авторы статьи не сравнили новую находку с Stw 573 – “Маленькой Стопой” или “Синдереллой” (то есть “Золушкой”) из грота Сильберберг Стеркфонтейна в Южной Африке. А ведь эта стопа имеет массу сходств с BRT-VP-2/73 при датировке от 2 до 4,2 млн лет назад со средней в 3,5 млн лет назад – практически синхронной с датировкой Бартеле (последняя опубликованная цифра для грота Сильберберг как раз и есть 3,67 млн лет назад). При первоначальном описании Stw 573 особое внимание уделялось значительному отведению большого пальца и его хватательной способности (Clarke et Tobias, 1995), хотя в последующем этот вывод был поставлен под основательное сомнение (Lovejoy et al., 2009). Показательно, что разнообразные индексы и показатели отдельных костей BRT-VP-2/73 весьма близки к таковым южноафриканских находок из Стеркфонтейна и Сварткранса, хотя таких сопоставлений сделано очень мало. Может, Australopithecus africanus, более архаичные, нежели Australopithecus afarensis, мигрировали из Южной Африки в Восточную?
Также несколько удивляет, что в многомерные анализы не попали никакие ископаемые материалы, кроме самой стопы BRT-VP-2/73. Вследствие этого вывод о необычайном сходстве новой находки с гориллами может оказаться преувеличенным. Не так уж сильно BRT-VP-2/73 отстоит от современных людей, чтобы не оказаться похожим на австралопитеков. Представлен лишь один график метрического сопоставления, в котором есть данные об афарском австралопитеке, и то только в дополнительном приложении – там расхождение BRT-VP-2/73 и AL 333–160 действительно велико. В статье упор сделан на описательные признаки. А ведь потенциально материалы для сравнения имеются. С другой стороны, стопа афарских австралопитеков доселе была известна лишь по изолированным и не слишком многочисленным костям, самый полный комплект – AL 333–115 – включает меньше фрагментов, чем BRT-VP-2/73. Нет ли здесь некоторого раздувания сенсации? Может, афарские австралопитеки и не были в строении стопы так уж продвинуты, как до сих пор считалось?
Как обычно, в конце приходится ссылаться на необходимость новых находок, которые якобы прольют свет на все темные места. Пока тайн лишь прибавилось, в соответствии с классическими аллегориями про фонарик в темной комнате и увеличение границ непознанного при расширении области познанного. Горизонты познания безграничны… Хватит ли костей в эфиопской земле?
Строение рук связано с прямохождением косвенно. У высших человекообразных руки приспособлены к хождению по земле с опорой на фаланги согнутых пальцев, что выражается в расширенности и особой мощности средних фаланг и особой скошенности суставной поверхности лучевой кости. Также у разных приматов имеются многочисленные морфологические адаптации к цеплянию за ветви, включая варианты с редукцией большого или других пальцев или с превращением пальцев в единый “крючок”, как, например, у паукообразных обезьян, колобусов или гиббонов. У полностью прямоходящих гоминид руки не приспособлены к хождению по земле или лазанию по деревьям, руки короткие, фаланги пальцев прямые.
Черты приспособления к хождению по земле или лазанию по деревьям в строении рук есть у австралопитеков Orrorin tugenensis, Ardipithecus kadabba, Ardipithecus ramidus, Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, Paranthropus robustus и даже Homo habilis. Видимо, только Homo ergaster окончательно избавились от древесного прошлого в своих руках.
Относительно происхождения прямохождения выдвинуто огромное множество гипотез. Про это написана не одна книга и безумное число статей. Двумя важнейшими и ныне чаще цитируемыми являются миоценовое похолодание и социальная гипотеза, но история науки помнит и иные.
Трудовая концепция Ф. Энгельса с позднейшими вариантами, широко известная и вошедшая во все советские учебники, связывает возникновение прямохождения со специализацией руки обезьяны для трудовой деятельности – переноса предметов, детенышей, манипулирования пищей и изготовления орудий. В вульгарном изложении прямохождение возникло для того, чтобы освободить руки для трудовой деятельности. После труд привел к возникновению языка и общества, “сделал из обезьяны человека”. Однако трудовая концепция сталкивается с непреодолимой преградой в виде фактов: по современным данным, прямохождение начало возникать не менее 6 млн лет назад, в полностью завершенном виде сложилось уже 4 млн лет назад, а древнейшие орудия из Гоны в Эфиопии имеют датировку в самом оптимистичном варианте 2,7 млн лет, а из Ломекви – 3,3 млн лет. Скорее уж наоборот, освобождение рук из-за прямохождения способствовало развитию трудовой деятельности, зачатки коей можно наблюдать даже у вполне четвероногих шимпанзе и орангутанов.
Социальные концепции предполагают возникновение прямохождения еще в тропическом дождевом лесу и связывают его не с климатом, а с изменениями поведения приматов. Наибольший вклад тут внес, несомненно, О. Лавджой (например: Lovejoy, 2009). Согласно его разработкам, прямохождение появилось в связи с особой стратегией размножения, из-за удлинившегося детства и ослабления межсамцовой агрессии. Гоминиды в течение очень длительного времени выращивают одного, максимум двух детенышей. Такие животные не могут себе позволить большую детскую смертность. Самка должна постоянно заботиться о своем ненаглядном чаде, она оказывается скована и ограничена в возможностях питания и защиты от хищников. Носить крупного детеныша трудно, надо придерживать его руками, что дает почву для возникновения прямохождения. Отцы, в свою очередь, должны защищать вынужденно малоподвижных самок, бросаясь в хищников разными предметами, а также обеспечивать матерей пищей, а приносить ее, конечно, удобнее опять же в руках. При этом, когда говорится “должны”, не имеется в виду, что кто-то объяснял им права и обязанности гражданина или что они сами догадались и прониклись важностью своего предназначения, просто группы, где самцы не защищали и не кормили самок, банально вымирали. Косвенным последствием такой заботы много позже стало использование орудий труда. Для того чтобы такая система работала, надо, чтобы самец был как можно сильнее привязан к самке, то есть возникает крен в сторону моногамии (хотя и у современных людей, даже при строжайших религиозных ограничениях, моногамия никогда не бывает поголовной). Это достигается со стороны самок – скрытой овуляцией, так что самец не может угадать, на какой стадии созревания находится яйцеклетка (да и самка порой не может); а со стороны самцов – ослаблением конкуренции, что выражается в редукции размеров клыков и ослаблении полового диморфизма. И ведь мы действительно видим уменьшение клыков с самого начала становления прямохождения!
Согласно О. Лавджою, прямохождение возникло еще в тропическом лесу, а в саванны переселились уже двуногие гоминиды. Карликовые шимпанзе, живущие в джунглях Конго, в зачаточной форме демонстрируют те свойства, что предполагаются для предков человека.
У социальной концепции есть два явных минуса. Во-первых, ее крайне трудно подтвердить объективными свидетельствами: фактически единственным обоснованием является оценка полового диморфизма, сделанная в основном по размерам клыков. Во-вторых, тогда как прямохождение связывается с изменениями поведения, остаются неясны причины изменения самого поведения.
Миоценовое похолодание уже сто лет является одним из основных объяснений развития бипедии. Суть концепции в том, что в середине и конце миоцена в результате глобального похолодания климата произошло значительное – в несколько раз – сокращение площадей тропических лесов и увеличение площади саванн. В новых условиях у многочисленных живших тогда в тропических лесах человекообразных обезьян наметились три варианта дальнейшей судьбы. Первый вариант – самый печальный, но которому последовало большинство, – вымирание: в это время исчезло подавляющее большинство гоминоидов. Второй – сохранение в более-менее неизменном виде в оставшихся лесах: потомками этих везунчиков стали современные гиббоны, орангутаны, гориллы и шимпанзе. Впрочем, часть даже тех гоминоидов, что пережили миоценовое похолодание, вымерла уже в более поздние времена, примером чего могут служить гигантопитеки. Третий вариант – переход части гоминоидов к наземному образу жизни в расширяющихся саваннах.
Вообще-то, в саванну можно выйти и на четвереньках, что успешно сделали павианы и мартышки-гусары. Но крупные человекообразные пошли своим путем. Жизнь в саванне диктует свои условия. Для начала, тут есть довольно высокая трава, в которой сложно ориентироваться и искать пищу. Кроме того, в траве могут прятаться хищники, а смотреть поверх нее удобно, вставая на две ноги. Этим часто занимаются самые разные животные – те же мартышки-гусары, суслики, газели-геренуки и другие вкусные и пугливые создания. Если же хищник уже близко, то его можно попытаться устрашить: прямоходящее существо имеет психологическое преимущество перед четвероногим, поскольку смотрит свысока и, таким образом, кажется крупнее и сильнее, хотя может и не иметь реального подтверждения своей мощи. Поднимание уровня взгляда для усиления впечатления на противника является универсальным способом среди всех позвоночных животных, поскольку в первом приближении работает принцип “кто выше, тот больше, а кто больше, тот сильнее”. Связь чувства превосходства с ростом ощущает на себе каждый; впрочем, с разных сторон, в зависимости от того, какой рост имеет он сам. Для приматов в саванне этот аспект мог иметь немаловажное значение.
Кроме того, экспериментально и на математических моделях доказано, что двуногое передвижение на большие расстояния со средней скоростью энергетически более выгодно, чем четвероногое: двигать надо в два раза меньше ног. Правда, это преимущество становится действительно преимуществом только в своем законченном варианте, а переходные от четвероногости к двуногости стадии оказываются энергетически проигрышными.
Важнейший момент – терморегуляция. Лесные приматы были животными дневными, тот же распорядок дня они перенесли и в саванну. Это по-своему выгодно, ведь все хищники активны в сумерках или ночью, когда можно залезть на дерево и спокойно почивать там, пока тебя ищут в траве. Тем более, двуногие приматы очень медленные, они не умеют резво убегать, а днем убегать и не надо. Кроме того, днем гораздо меньше конкурентов, можно не спеша кормиться, не отпихивая локтями посягающих на те же травки-зернышки. Но ведь отсутствие полуденной бурной жизни в саванне тоже сложилось не просто так. Сиеста нужна, чтобы пережить самое жаркое время и не спечься. Днем же надо как-то решать проблему перегрева. В саванне (а дело происходит в Африке близко к экватору) солнышко печет прямо в макушку, так что двуногий примат нагревается гораздо меньше четвероногого, под солнечные лучи попадают только его голова и плечи, а не вся спина. Ту же сложность можно так же эффективно преодолеть с помощью потения. Обезьяны, конечно, потеют и в лесу на деревьях, но без особого фанатизма, а в саванне это становится важным процессом. Но из-за пота слипается шерсть, а суточные перепады температуры в саванне бывают весьма ощутимыми; мокрая шерсть по ночам может привести к переохлаждению и простуде. Поэтому шерсть катастрофически укорачивается; сколь-нибудь существенное оволошение остается только на макушке, где припекает солнце, да на подмышках и в паху – для концентрации запаха. Редукция же шерсти создает новую сложность. В тропическом лесу длинная шерсть выполняет у обезьян две функции: во-первых, защищает от почти ежедневных дождей, а во-вторых, за нее цепляются детеныши. В саванне дожди идут только во влажный сезон, так что первое назначение шерсти теряет смысл. Со вторым сложнее. Хватательный рефлекс прекрасно сохранился и у современных детишек, это прекрасно известно всем родителям, у которых ненаглядные чада регулярно выщипывают клочки волос своими цепкими ручонками. Однако на волосах головы ребенка далеко не унесешь. Логично, что проще всего нянчить беспомощных малюток на руках. К этому добавляются те же факторы, что уже рассмотрены выше в социальной концепции: матери становятся медлительными и уязвимыми, тем более что саванна не лес, спасительные деревья тут растут далеко не на каждом шагу, добежать до них с ребенком на руках непросто. Опять же самцы должны кормить и защищать самок, опять же двуногим существам делать это гораздо проще.
Минусом гипотезы возникновения прямохождения в результате миоценового похолодания является факт, что некоторые из древнейших известных прямоходящих приматов жили в тропических лесах, а из современных приматов живущие в дождевых тропических лесах бонобо очень часто прибегают к прямохождению. Впрочем, палеоэкологические реконструкции – что дышло, какие данные учтешь, то и вышло.
Кстати, о пейзажах…
Одно из новейших исследований на эту тему, видимо, дает самую достоверную и масштабную картину (Cerling et al., 2011b). Изучение 1300 образцов ископаемой почвы из всех основных восточноафриканских местонахождений за последние 6 млн лет на предмет соотношения изотопов углерода показало, что Ardipithecus ramidus жили в весьма открытых местообитаниях, где кроны деревьев закрывали менее 60 %, скорее 20–40 % земли, а то и меньше. Иначе говоря, передвигаться только по ветвям в таком “парке” уже никак не получалось. Правда, ардипитеки держались, видимо, самых лесистых мест, но “самые лесистые” все же были далеко не такими густыми, как им, может быть, хотелось, а островки деревьев окружала и вовсе открытая саванна. Крайне интересно, что после 4 млн лет леса снова стали наступать, так что ключевой вид так называемых грацильных австралопитеков – Australopithecus afarensis – жил в более густых зарослях с покрытием кронами 40–60 %. Около 3 млн лет назад начинается новое сокращение лесов, так что первым представителям нашего рода Homo надо было опять осваиваться в саваннах.
Однако не всех исследователей удовлетворяют доводы “саванной” концепции.
“Гипотеза водной обезьяны” рисует совсем иную картину. Очень подробно ее разрабатывал, например, Я. Линдблад (Линдблад, 1991). Согласно ей, к прямохождению предков человека подтолкнули сложности жизни рядом с водой. Нельзя не признать, что в умеренном варианте “гипотеза водной обезьяны” имеет много сильных моментов. Действительно, находки восточноафриканских австралопитеков почти всегда обнаруживаются в водных отложениях, вероятно, они обитали недалеко от рек и озер и добывали в воде часть своего пропитания (впрочем, это может значить только то, что тут они просто хорошо сохранялись; кости ардипитеков и южноафриканских форм нашли свой покой в сухих местах). Древние гоминиды могли вставать на задние ноги, чтобы переправляться через водные преграды; примеры подобного поведения мы видим среди обезьян-носачей и горилл. В строении человека есть ряд признаков, свидетельствующих о значительной адаптации человека к плаванию и нырянию, в отличие от орангутанов, горилл и шимпанзе: положение волос на теле по направлению от макушки к ногам – по течению воды при нырянии, ориентация ноздрей вниз – для сохранения воздуха в носовой полости, способность задерживать дыхание, редуцированный волосяной покров на теле, неэкономное расходование воды организмом, что крайне нетипично для животных саванны, небольшие перепонки между пальцами. В конце концов, человек просто не боится воды, а многие жить не могут без купания! Это сильные стороны “водной гипотезы”. Проблема в том, что в крайнем варианте ее сторонников заносит чересчур далеко, вплоть до утверждений о происхождении человека от дельфинов или миллионах лет питания икрой, яйцами птиц, моллюсками и рыбой. “Водная гипотеза” – классический пример идеи, “в которой что-то есть”; она многократно подвергалась критике с разных сторон и в целом хуже согласуется с фактами, чем другие концепции, но некоторые ее положения нельзя игнорировать (например: Langdon, 1997).
Подводя итог, очевидно, что прямохождение возникло не по одной какой-то причине, а под воздействием целого комплекса условий и предпосылок.
Интересные параллели и аналогии человеческому прямохождению можно наблюдать среди многих современных обезьян. Лемуры-сифаки и гиббоны, будучи крайними древолазами, по земле передвигаются на двух ногах, ибо их руки уже не годятся для опоры о землю. Сифаки при этом скачут боком приставными шагами или подобно кенгуру. Мартышки-гусары и павианы, живущие в саванне, часто приподнимаются на задние ноги, чтобы сориентироваться или высмотреть опасность. Калимантанские обезьяны-носачи, обитающие в прибрежных мангровых зарослях, переходят затопленные участки на задних ногах, держа передние над водой, хотя группы, живущие в глубине острова, вообще никогда не слезают с деревьев. Похоже ведут себя гориллы в заболоченных джунглях долины Конго в Западной Африке: на сочных лугах, где нет деревьев, разрастаются травы, на них пасутся слоны и карликовые лесные буйволы. Гориллы же, как бы они ни были велики, встав на четвереньки, рискуют погрузиться в эти травы до ушей, а потому они часами ходят на двух ногах.
Интересно, что двуногость неоднократно возникала не только в самых разных группах животных – от динозавров и птиц до кенгуру и тушканчиков, – но и среди приматов. Так, из итальянских угольных шахт в Тоскане известны скелеты своеобразных обезьян Oreopithecus bambolii. Они удивительно хорошо были приспособлены для ходьбы на задних ногах, удобной в уникальном ландшафте – заболоченных кустарниковых зарослях, по которым ореопитеки передвигались, придерживаясь руками за нависавшие над топью ветви.
Итак, прямохождение возникло около 7 млн лет назад, но еще долго отличалось от современного варианта. Походка австралопитеков, вероятно, была несколько семенящей, с маленькой длиной шага. Некоторые австралопитеки и даже Homo habilis использовали и другие виды передвижения – лазание по деревьям, а некоторые, возможно, и хождение с опорой на фаланги пальцев рук. Полностью современным прямохождение стало только около 1,5 млн лет назад.
Рука, приспособленная к использованию и изготовлению орудий
Рука человека заметно отличается от руки обезьяны. Морфологические признаки рабочей руки не являются вполне надежными, в немалой степени оттого, что определить их по скелету не так уж легко: мышцы на кисти крепятся часто на фасции и хрящи, а на костях могут не оставлять никаких следов. Кроме того, одно из главных препятствий – плохая сохранность и фрагментарность находок. Кости кисти невелики, даже если они сохранятся в отложениях, их еще надо суметь найти. Но нет таких крепостей, какие не брали бы палеоантропологи! Поэтому можно выделить следующий трудовой комплекс.
Сильное запястье определяется шириной относительно пясти. У австралопитеков, начиная с Ardipithecus ramidus и Australopithecus anamensis, строение запястья промежуточное между обезьянами и человеком. Почти современный вариант наблюдается у Homo habilis 1,8 млн лет назад. У человека по сравнению с другими обезьянами резко увеличена головчатая кость, расположенная более-менее в центре запястья, к которой крепится третья пястная, которая, в свою очередь, является основанием среднего пальца.
Большой палец человеческой кисти удлинен и противопоставлен остальным. В немалой степени благодаря этому человек способен выполнять точечный захват, то есть сводить все пальцы в одну точку или прикоснуться большим пальцем к любому другому (строго говоря, к точечному захвату способны и макаки, но они пользуются им редко). Это обеспечивается седловидной формой сустава между первой пястной костью и костью-трапецией. Первая пястная кость работает при этом фактически как еще одна фаланга, из-за седловидности сустава она может двигаться только в двух направлениях, не проворачивается, а как бы застревает в нужном человеку положении, позволяет удерживать тяжелые предметы без лишних усилий. У гориллы, скажем, этот же сустав потенциально может вертеться, но его фиксируют мощнейшие мышцы, что по-своему удобно, но резко снижает точность движений.
Рис. 4. Кисть шимпанзе (а), австралопитека (б) и человека (в).
Противопоставлять большой палец могли уже Ardipithecus ramidus, Australopithecus afarensis и Australopithecus africanus, хотя его длина у них была пока еще заметно меньшей, чем у нас. Противопоставление было полностью развито у Paranthropus robustus и Homo habilis 1,8 миллиона лет назад. Любопытно, что неандертальцы Европы в гораздо более поздние времена имели не седловидную форму первого запястно-пястного сустава, а плоскую или шаровидную. Раньше это расценивалось как их примитивный признак, но теперь ясно, что дело в специализации.
Кстати, об игуанодонах…
Юрские и меловые птицетазовые динозавры-орнитоподы игуанодонтиды Iguanodontidae имели своеобразное строение кисти. Большой палец у них превратился в здоровенный шип, которым можно было пырнуть хищника, три следующих несли копыта для опоры, а вот мизинец был тонким, длинным и, как предполагалось раньше, противопоставлялся остальным. Долгое время палеонтологи считали, что игуанодонтиды могли ухватывать им ветви растений и притягивать их ко рту (сейчас от этой идеи отказались). Эх, если бы не примитивный мозг размером с батарейку – какие перспективы открывались! Но прогресс не определяется одним признаком, без комплекса не станешь ни трудолюбивым, ни разумным, ни вечным, разве что добрым…
Широкие, уплощенные и укороченные конечные фаланги пальцев помогают удерживать предметы. У обезьян фаланги обычно длинные и изогнутые, даже при полном распрямлении пальцы оказываются несколько скрючены, чтобы легче было цепляться за ветви.
У древнейших прямоходящих гоминид – Orrorin, Ardipithecus и Australopithecus – форма фаланг была практически строго промежуточной между обезьяньим и человеческим вариантами. Видимо, эти виды могли использовать предметы как орудия, но не изготовлять каменные артефакты. Это логично: с одной стороны, простейшие деревянные орудия могут делать и шимпанзе безо всякой специализации кисти, а двуногие существа со свободными руками должны были развивать подобные способности, с другой – никаких археологических свидетельств орудийной деятельности для времени раньше 3,3 млн лет назад мы не знаем. Очень широкими – подчас даже более расширенными, чем у современного человека, – фаланги были у Paranthropus robustus, Homo habilis и всех более поздних гоминид. Не факт, что этот признак всегда связан с орудийной деятельностью. Например, южноафриканские парантропы по расширенности фаланг даже обгоняли “людей умелых”, хотя останки парантропов обычно залегают в слоях, не содержащих орудий, а нашим предком был все же Homo habilis.
Трудовая кисть в целом сформировалась около 1,5 млн лет назад. Весьма примечательно, что древнейшие известные каменные орудия обнаруживаются более чем за 1,5 млн лет до появления трудовой кисти. Иначе говоря, из трех с лишним млн лет трудовой деятельности более половины срока кисть еще не была приспособлена к труду. Очевидно, это время понадобилось для работы отбора. Надо думать, на первых порах отбор по строению кисти был очень слабым, поскольку вряд ли жизнь тогда сильно зависела от использования орудий, австралопитеки вполне могли обойтись и без них. Но те, кто использовал булыжники для раскалывания орехов или соскабливания мяса с костей, оказывались в среднем чуть более успешными. Не исключено, что тут поработали и факторы престижа, поскольку дележ мясом у современных шимпанзе – статусное занятие. Кто умел быстрее отделить мясо от туши, мог и сам наесться, и других оделить, получив через это почет, уважение и более высокий ранг, а стало быть – шанс оставить больше потомков. Впрочем, тут нам приходится больше сочинять, строго доказать мы этого не можем, а предполагаем, исходя из наблюдений за шимпанзе.
Орудия используют разные приматы, но специфика человека в том, что только он не может полноценно существовать без орудий. Это наша специализация, в омут которой первыми угодили хабилисы и эргастеры, и на этом месте стоит задуматься, ведь избыточная специализация ведет в тупик…
Пястная кость из Каитио: умелая ручка первого пролетария
Кисть “людей умелых” была почти совсем, но еще не совсем трудовой, поскольку имела и некоторые обезьяньи черты. К тому же от кисти хабилиса OH 7 сохранились далеко не все элементы. До самого недавнего времени в летописи гоминид оставался досадный пробел – для полного счастья антропологам остро не хватало кистей преархантропов и архантропов. Потому важной находкой явилась третья пястная кость KNM-WT 51260, найденная в Западной Туркане, в местонахождении Каитио (Ward et al., 2014). Датировка ее – 1,42 млн лет назад, то есть время перехода от Homo ergaster к Homo erectus. Кость сохранилась отлично, даже идеально. Казалось бы – невелика кость, но сколько ценной информации она несет! Самый важный признак – развитие шиловидного отростка. Этот треугольный выступ на основании кости направлен в сторону запястья. Он соединяется с похожим отростком на основании второй пястной кости, а вместе они входят в зазор между трапециевидной и головчатой костями запястья. Смысл такой конструкции – укрепление запястно-пястного сустава. Третья пястная кость при этом становится центральной опорой всей кисти, а весь средний луч (пястная с пальцем) оказывается достаточно жестко заклинен и минимально подвижен в стороны. Такой кистью, может, не так удобно хвататься за ветки, где нужны более свободные боковые движения при раскачивании, но очень хорошо удерживать что-то тяжелое более-менее неподвижно.
Неспроста у человекообразных обезьян, афарских австралопитеков и седиб шиловидного отростка третьей пястной кости нет, а у неандертальцев и современных людей он велик. К сожалению, на кисти Homo habilis OH 7 третья пястная не сохранилась, зато есть вторая, а на ней отросток, долженствующий соединяться с шиловидным третьей, развит очень слабо, в противоположность человеческому варианту. Можно предположить, что хабилис OH 7 имел почти обезьяний вариант строения основания III пястной кости.
Таким образом, “человек работающий” имел “трудовую кисть” – закономерно и логично. Более того, он приобрел ее впервые, даже “человек умелый” был в сравнении с трудягой жалким неумехой (не в пору ли переименовать его в “человека неумелого”?!). Неспроста, видимо, Homo ergaster смог усовершенствовать галечные орудия до ашельских. Дело не только в развитии мозга, как обычно считается. Своими мозолистыми ручищами этот человечище не мог уже так ловко хвататься за сучья, как его недавние предки, но ему это было и не надо. Взамен он приобрел способность крепко и уверенно держать в руке булыжник – оружие трудового человека. Минула пора, когда надо было спасаться от хищников в кронах, пришло время уже самим хищникам поджать хвосты и бежать от вооруженного человека. Торжество прогресса в действии! Заря пролетариата!
Но: язвительная натура антрополога не позволяет за здорово живешь согласиться даже со столь простыми, наглядными и логичными выводами. Чутье подсказывает, что наверняка не все так просто. И что же: недолго порыскав по закромам, мы обнаруживаем, что гораздо большего размера шиловидный отросток III пястной имеется у гориллы! Конечно, очевидно, что у этой гигантской обезьяны кисть укреплена для поддержания огромного веса при хождении с опорой на фаланги пальцев, а к трудовому процессу никоим образом не причастна, тогда как эргастер не бегал на четвереньках. Однако гориллий феномен лишний раз показывает, что схожие структуры могут возникать независимо и по разным поводам и иногда не стоит спешить с глубокомысленными заключениями и широкими обобщениями на основании одной лишь черты строения.
А антропологам и палеонтологам, работающим в Африке, пожелаем найти не только пястную кость, но и целую руку, крепко сжимающую для пущей убедительности ашельское рубило.
Мозг
Мозг современного человека сильно отличается от мозга человекообразных обезьян по размерам, форме, строению и функциям, однако, сколь бы ни был высокоразвит он у нас, непреодолимой преграды с другими приматами все же нет, и среди ископаемых форм можно найти множество переходных вариантов.
Однако изучать мозг трудно. Современный устроен чрезвычайно сложно – сложнее, чем что-либо еще во всей Вселенной. А ископаемый нам недоступен. Поэтому антропологи вынуждены исследовать эндокраны – слепки внутренней полости мозговой коробки. Специальные исследования показали, что общая форма при этом сохраняется, хотя размеры эндокрана несколько больше размеров самого мозга, а борозды и извилины практически не прослеживаются. Однако отпечатки венозных синусов и швов черепа делают возможным разграничить доли, а во взаимном расположении артерий и извилин мозга есть несколько закономерностей, которые позволяют прикинуть ход по крайней мере основных борозд. По данным палеогенетики, в ближайшем будущем будет возможно оценить и внутреннее строение мозга как минимум неандертальцев и денисовцев, но пока в этом направлении делаются лишь робкие первые шаги.
Типичные признаки мозга человека следующие.
Большие общие размеры мозга надежно отличают современного человека от приматов. Существует даже понятие “мозгового рубикона”, он обычно определяется около 700–800 граммов или кубических сантиметров (плотность мозга едва превышает единицу – 1,038–1,041 г/см³, так что измерение объема и массы дает почти одинаковые цифры). “Мозговой рубикон” символизирует сразу три важные границы: во-первых, он разделяет современных людей и обезьян; во-вторых, нормальных людей и микроцефалов – индивидов с патологически уменьшенным мозгом; в-третьих, ископаемых предков человека, еще не умевших изготавливать каменные орудия труда – австралопитеков, – и тех, кто уже был на это способен – “людей умелых”. Правда, все три границы неидеальны, но тенденции очень сильны.
Так, наименьший из достоверных размеров мозга психически нормального человека (46-летнего мужчины-европейца) – 680 г, а наибольший объем мозга гориллы – 752 см³. Понятно, что здоровенный самец гориллы не был интеллектуальнее того европейца, жившего всю жизнь спокойно обычной жизнью и не знавшего о своем рекордсменском статусе. Строение все же имеет значение. Также нет резкой границы между Australopithecus и Homo: так, у грацильных австралопитеков максимум достигает 500–550 см³, а у “людей умелых” минимум – 450–500 см³. Собственно, было бы странно, если бы между ними обнаружился резкий разрыв значений. Но австралопитеки каменных орудий почти никогда не делали, а хабилисы – вполне и даже зависели от них.
Рис. 5. Мозг шимпанзе (а), австралопитека (б), хабилиса (в), эректуса (г), хоббита (д), неандертальца (е) и человека (ж).
Заметным исключением из общей картины является “хоббит” – Homo floresiensis, живший в Индонезии по геологическим меркам еще совсем недавно, 50 тыс. лет назад. Его объем мозга – 426 см³ – почти в два раза меньше “мозгового рубикона”, что не мешало ему изготавливать каменные орудия труда. Видимо, тут дело в истории вида. “Хоббиты” возникли из гораздо более мозговитых – в среднем больше 900 см³ – Homo erectus и за без малого миллион лет эндемичной эволюции на Флоресе катастрофически уменьшились в размерах как всего тела, так и головы. Однако убыль мозга шла, видимо, неравномерно, за счет “лишних” участков – тех, что оказались неактуальны при жизни на уединенном острове при отсутствии конкуренции и минимуме хищников. Самые же важные участки, ответственные в числе прочего за орудийную деятельность, очевидно, сохранялись. Можно привести аналогию с собаками: мастифы или сенбернары не интеллектуальнее чихуахуа или той-терьеров, но размеры их мозгов различаются более чем в три раза – 140 против 45 г. Мозг волка еще крупнее, чем у самого выдающегося волкодава. Очевидно, что катастрофическое уменьшение размеров далеко не столь радикально сказалось на функциях. А вот если бы мозг волка изначально был как сейчас у чихуахуа, то столь сообразительными они вряд ли могли бы стать.
Размеры мозга в ходе эволюции менялись неравномерно. От проконсулов до шимпанзе и австралопитеков они мало изменились и составляли примерно 320–550 см³. У первых Homo порядка 2 млн лет назад мозг заметно подрос, но после, вероятно, опять несколько уменьшился. В целом же в дальнейшем происходил бурный рост величины вплоть до современных значений. Homo ergaster достигли “мозгового рубикона”, а у Homo heidelbergensis средний размер мозга был уже почти современным (на сотню граммов меньше, чем в среднем по сапиенсам, но как у некоторых нынешних популяций). Неандертальцы обладали очень большим мозгом, а первые кроманьонцы превзошли и их.
Причины резкого увеличения объема мозга у “ранних Homo” кроются в изменениях диеты. Последние, в свою очередь, явились следствием перемен экологии. Около 3 млн лет назад климат в очередной раз стал суше, а местообитания открытее. Многие представители мегафауны, более зависимые от воды и обильной растительности, вымерли, что привело к исчезновению и многих крупных хищников – саблезубых тигров и их неизбежных спутников – гигантских гиен-пахикрокут. Временно освободившуюся нишу падальщиков и хищников поспешили занять предки нынешних гиен, шакалов и леопардов (древнейшие леопарды известны как раз около 2 млн лет назад). Туда же устремились грацильные австралопитеки, теснимые из привычной экологической ниши собирателей семян гигантскими геладами. С мелкими падальщиками наши предки уже вполне могли конкурировать. Предыдущие миллионы лет жизни в саванне закалили австралопитеков, тем более что и прежде они были тоже не абсолютными вегетарианцами, если судить по приматам вообще и шимпанзе в частности.
Питание мясом привело к ряду заметных изменений в строении тела и поведении. Известно, что добывание мяса требует больших интеллектуальных усилий, чем растительноядное существование. Трава не сопротивляется и не прячется, а мясо обычно не хочет, чтобы его съели, – убегает, лягается и всячески активно избегает хищника. К тому же мясо гораздо более калорийно, чем фрукты и тем более листья растений. Чтобы наесться, надо съесть немножко мяса или целый день жевать растения. Неспроста хищники большую часть времени проводят в отдыхе, а травоядные постоянно жуют. Кроме того, растительная клетка имеет целлюлозную клеточную стенку, которую тоже надо разрушать – жевать, жевать и жевать, стирая зубы и напрягая челюсти. Мясо же есть намного проще. Поэтому жевательный и вообще пищеварительный аппарат мясоедов всегда меньше, чем растительноядных существ, а интеллект – выше. С эволюционной точки зрения вегетарианство – не путь к успеху; впрочем, и специализированными хищниками наши предки не были, оставшись всеядными.
Поскольку жевать надо было меньше, зубочелюстной аппарат уменьшался, а вслед за ним ослабевал рельеф черепа в виде костных гребней, служащих для прикрепления жевательных мышц. Происходило это не оттого, что маленькие челюсти были полезнее, а потому, что перестали быть вредными: теперь индивиды с маленькими челюстями не страдали от голода и спокойно выживали. Снижение биомеханического стресса привело к уменьшению толщины стенок черепа, а стало быть – массы головы. Поскольку плотность кости вдвое превосходит плотность мозга, открылись небывалые возможности для роста последнего: когда кость уменьшалась на один кубический сантиметр, мозг мог вырасти на два с сохранением общей массы головы и без усиления шейных мышц, поддерживающих голову. То есть кость уменьшалась немножко, а мозги пухли как на дрожжах! Эти изменения мы и наблюдаем: у разных видов австралопитеков масса мозга практически не менялась в течение нескольких миллионов лет, но с момента 2,5 млн лет у группы “ранних Homo” начала резко увеличиваться.
Возникали, конечно, и проблемы: более древние предки не были специализированными мясоедами, они не имели природных средств для охоты – больших когтей или клыков. Но они уже наверняка периодически использовали орудия труда (точно мы не можем это утверждать, но шимпанзе используют, а австралопитеки находились в более располагающих для этого условиях). Для охоты и срезания мяса с костей они стали использовать каменные чопперы. Многочисленные следы орудий на костях, частью поверх следов зубов хищников, свидетельствуют об активном использовании “ранними Homo” падали. Кстати, стоит помнить, что в африканских условиях понятие падали не так страшно, как это может представлять северный человек: туша погибшего животного часа за два уничтожается до костей гиенами, грифами, марабу и прочими любителями, так что мясо там всегда первой свежести. Иногда, напротив, следы зубов хищников обнаруживаются поверх следов орудий, так что наши пращуры были не чужды и активной охоты.
Второй сложностью были конкуренты. Хотя крупные хищники временно исчезли, мелкие никуда не делись, а при росте австралопитеков и “ранних Homo” от метра до полутора даже шакал выглядит вызывающе. Приходилось бороться с ненасытными антагонистами, что опять же способствовало социализации и развитию орудийной деятельности.
Таким образом, питание мясом давало потенциал роста мозга и оно же настоятельно требовало увеличить и усложнить нервную систему: люди смогли есть мясо, его калорийность позволяла уменьшить челюсти, уменьшение челюстей позволяло увеличить мозг, а добывание мяса побуждало увеличение мозга. Что и произошло. Трудно сказать, что тут было причиной, а что следствием: одно вызывало другое, а обратная связь усиливала проявление первого. Получилось как в известной байке про козу и дом, и даже лучше – тост из “Кавказской пленницы” реализовался за два миллиона лет до появления этого замечательного фильма: возможность чудесным образом совпала с необходимостью и реализовалась в выдающемся результате.
Одновременно происходили и структурные перестройки нервной системы. Несомненно, это было вызвано вторым важнейшим следствием перехода к мясоедению – преобразованием социальной структуры, усилением и усложнением общения между особями. Правда, про эту сторону эволюции нам остается больше догадываться, нежели оперировать фактами.
Приятно, что теоретические выкладки совпадают с наблюдаемыми признаками реальных находок: в палеонтологической летописи мы наблюдаем изменения фауны, в ряду “ранних Homo” уменьшаются размеры челюстей и растут размеры мозга, рука становится трудовой, а в слоях появляются многочисленные каменные орудия труда.
Антивеган: первые шаги
В последнее время обсуждение пользы и вреда вегетарианства, сыроедения и прочих стратегий питания стало очень модным. Терабайты забиты дискуссиями на темы, что лучше: есть только капусту с морковкой или можно пить хотя бы молоко, плоха ли диета из одних растений и допустимы ли яйца в рационе. А ведь такие проблемы вставали перед приматами еще миллионы лет назад. Одни стали сугубыми вегетарианцами, как колобусы, другие, напротив, увлеклись насекомыми, как долгопяты. Большинство же представителей нашего отряда придерживаются золотой середины: фруктовый салат они не забывают украшать кузнечиками, яйцами, антилопами и даже ближайшими родственниками.
В человеческой линии переходы от диеты к диете происходили неоднократно. Одним из последних и ключевых достижений наших далеких предков на стадии становления рода Homo был переход от преимущественной растительноядности ко всеядности. Чем больше мяса попадало в желудки пращуров, тем умнее они становились. В целом картина рисуется вполне последовательная: питание мясом выгодно в плане соотношения калорийности и необходимости жевания, но требует напряжения мозгов для добывания упрямой добычи, борьбы с зубастыми конкурентами и – в случае со вчерашними вегетарианцами – некой орудийной деятельности хотя бы для соскабливания мяса с костей.
Картина последовательная в целом. Но…
Доселе в археологии существовал досадный разрыв: древнейшие каменные орудия труда датировались временем около 2,6 млн лет назад (а то и все 2,7!), а следы этих орудий на костях животных – примерно 1,8 млн лет. Было и несколько исключений, древнейшим из которых числились две обломанные кости из Дикики в Эфиопии с датировкой 3,39 млн лет, царапины на коих были интерпретированы как следы галечных орудий. Впрочем, другие исследователи подвергли это заключение основательной критике. Таким образом, доныне оставалось совершенно непонятным: зачем первые каменных дел мастера кололи свои чопперы? Получается, без малого миллион лет каменные орудия использовались вовсе не для резки бифштексов. Расхождение с вышеизложенной концепцией очевидно. Но на то и наука, чтобы искать ответы на вновь возникающие вопросы. Этим и занялась международная группа исследователей, опубликовавшая результаты своего изыскания в электронном журнале PLoS ONE (Ferraro et al., 2013).
Ученые обратили внимание на ряд проблем. Главной из них является малое количество доступного материала. В местонахождениях, образовавшихся во временном интервале 2,6–1,8 млн лет, найдено не так много подходящих для изучения данной проблемы костей животных. А наука, как известно, зиждется на статистике. Другая сложность: длительность формирования отложений. Если она слишком велика, то и выводы будут размытыми. Наконец, всегда остается вопрос: насколько наблюдения в одном конкретном месте отражают общую тенденцию прогресса? Или же мы имеем лишь локальный феномен? Местонахождение Канжера Южная, расположенное на юго-западе Кении, оказалось близко к идеалу во всех указанных отношениях. Здесь было найдено много костей разных видов зверей – счет идет на сотни. Животные преимущественно саванные (антилопы, лошади, свиньи), но встречены и некоторые водные (бегемоты и крокодилы). В целом среда реконструирована как саванна; отсутствие “лишних” экологических вариантов свидетельствует о достаточно узком интервале образования отложений; вместе с тем имеется как минимум три слоя, дающих возможность проследить хронологические изменения и проверить достоверность выводов. Время формирования местонахождения определено достаточно надежно как по фауне (верхнюю границу задают архаичный слон-дейнотерий с примитивной свиньей, а нижнюю – лошадь), так и магнитометрически и составляет примерно 2 млн лет назад. И самое главное: масса костей несет на себе очевидные следы разделывания каменными орудиями!
Следы надрезок имеются на фрагментах, происходящих из всех трех слоев; более того – на 1,9–6,3 % всех антилопьих костей конечностей. Это огромный процент, означающий, что каждая пятидесятая или даже шестнадцатая антилопа была съедена гоминидами. Для сравнения, следы зубов хищников имеются на менее чем 17–25 % костей конечностей, притом что хищники представлены, понятно, многими видами. То есть наши предки составляли неслабую конкуренцию когтистым и клыкастым.
Надрезки расположены не где попало, а в определенных местах костей, из чего следует, что охотники выполняли две главные операции: срезание мяса с костей и расчленение суставов. Ели, понятно, преимущественно некрупных животных: надрезки на ребрах имеются на 9,7–12,9 % ребер мелких антилоп и только 5,0–7,5 % среднеразмерных. Исследование соотношений надрезок и отпечатков звериных зубов – когда они встречены на костях вместе – привело исследователей к выводу, что наиболее вероятен сценарий, по которому первыми потребителями мяса были именно гоминиды, а хищники получали лишь объедки. Этот момент был проверен с особой тщательностью путем сравнения с разными известными вариантами в современной и древней Африке.
Настораживает, правда, тот факт, что среди остатков среднеразмерных антилоп, съеденных гоминидами, преобладают нижние челюсти и черепа, а длинных костей конечностей намного больше, чем кончиков ног, позвонков и ребер. В случае с мелкими антилопами картина иная, там разница по частям скелета не столь очевидна, а преобладают более аппетитные части типа плечевых костей и лопаток. Исследователи предлагают два возможных объяснения. Согласно первому, гоминиды могли относиться к мелким и среднеразмерным антилопам одинаково, но в последующем возникла разница из-за падальщиков, то есть гиены могли сгрызть мелкие части среднеразмерных антилоп. Не очень ясно, правда, почему они тогда игнорировали те же элементы мелких антилоп? Более вероятно, что мелкую антилопу древние охотники легко могли дотащить до обеденного стола и целиком, не тратя время на разделывание, тогда как от более крупных отрезали самые ценные части, оставляя тяжелые, но непитательные копытца на съедение жадным падальщикам. Как видно, особенно ценились головы: следы на внутренней поверхности нижних челюстей и мозговых полостей недвусмысленно указывают, что древние гурманы особенно любили языки и мозги. Наконец, обращает на себя внимание, что среди всех находок преобладают осколки диафизов, причем, судя по некоторым признакам, кололись свежие, а не сухие кости. Логично предположить, что гоминидам пришелся по вкусу и костный мозг.
Как итог: мы можем гордиться своими предками! Находки в Канжере Южной являются древнейшими достоверными и притом массовыми следами хищнического поведения древних гоминид. Они на 200–500 тыс. лет (вдумайтесь в эту цифру!) старше, чем изученные доныне аналогичные археологические комплексы в Олдувае и других местах. Стоит особенно подчеркнуть, что речь идет именно о хищничестве, а не поведении падальщиков. Таким образом, образ Великого Предка – Отважного Охотника (для начала хотя бы и на мелких антилоп, потом дойдет очередь и до слонопотамов!) реабилитирован. Ведь сколь много говорилось (в том числе и автором этих строк) о том, что первые мясоедческие опыты гоминид были сделаны в компании вонючих гиен и трусливых шакалов, а не благородных львов, роскошных леопардов и стремительных гепардов. Теперь можно снова вернуться к эпическому варианту.
Впрочем, между первыми изготовителями каменных орудий и временем гоминид из Канжеры Южной по-прежнему остается как минимум 600 тыс. лет, а то и больше миллиона… Что делали эти люди, как жили? Загадка ждет своего решения… Так что – до новых открытий!
Человек антилопе – лев
Анализ следов жизнедеятельности древнейших людей в Олдувайском ущелье всегда был плодотворным. Ему посвящены уже сотни статей. Много лет исследователи спорят: могли ли первые люди активно гоняться за газелями и антилопами, или же их хватало только на подбирание падали за львами и гиенами? В качестве аргументов приводилось множество наблюдений. В частности, археологи очень тщательно разглядывали царапины на окаменевших костях, пытаясь понять, перекрывают ли следы от орудий отметины зубов хищников или сами перекрываются ими? Но даже в случае, если первичны царапины от чопперов (примитивных каменных орудий), оставалось неясным, поймали наши пращуры зверюшку или нашли уже готовую тушку раньше грифов и гиен? Бесспорной добычей был, правда, один древний еж, на челюсти которого имелись четкие следы отрезания мяса (вряд ли наши предки отважно отбивали его у оскалившейся стаи гиен), но еж – не слон и даже не газель.
Очередная работа археологов пролила свет на способности наших предков к охоте (Bunn et al., 2012). Исследователи определили индивидуальный возраст добытых антилоп и газелей, на костях которых сохранились следы зубов хищников и каменных орудий; кости были найдены в Олдувайском ущелье (конкретнее – в локальном местонахождении FLK Zinj) и имеют датировку около 1,84 млн лет назад. Если бы возраст в обоих случаях оказался одинаковым, это могло значить, что Homo habilis подбирали остатки добычи хищников. Однако выяснилось, что картина иная.
Кости мелких антилоп со следами орудий принадлежали только старым самцам. Современные леопарды предпочитают мелких антилоп в расцвете сил. Это ясно свидетельствует в пользу того, что Homo habilis не пользовались остатками трапез леопардов. Но тут все же возможны две интерпретации: либо Homo habilis ловили старых антилоп потому, что те медленнее бегают, либо находили туши животных, погибших собственной смертью.
Последняя версия, однако, не проходит в случае с крупными антилопами. Охотясь на них, Homo habilis выбирали только взрослых, но нестарых особей, тогда как львы ловят животных всех возрастов без разбора. Если бы Homo habilis отбивали добычу у львов, в FLK Zinj тоже имелись бы кости крупных видов антилоп всех возрастов. Но, видимо, крупная антилопа вкуснее, когда она средних лет и самого большого размера. Молодые – мелкие, старые – жесткие. Хорошо бы поинтересоваться у современных африканских охотников – так ли оно?
Конечно, новое исследование не может отменить всех предыдущих, в которых неоднократно было показано, что добыча падали и отбивание добычи у хищников занимали немаловажное место в жизни древнейших людей, но, как бы то ни было, всегда приятно осознавать, что наши предки все же были не совсем законченными коллегами гиен, а хоть временами, но сами – ловко и умело – ловили антилоп и газелей. Иначе как бы они стали людьми?
Кстати, о малярии…
Примерно 2,7–2,8 млн лет назад у предков человека произошла и закрепилась в популяции мутация одного из генов, поменявшая сиаловые кислоты в составе гликокаликса – надмембранного комплекса эритроцитов (Chou et al., 2002; Varki et Gagneux, 2009). Секрет в том, что молекулы именно этих кислот являются мишенями для малярийных плазмодиев – паразитов, разрушающих эритроциты. Мутация позволила нашим предкам избавиться от малярии, но создала новые проблемы. У всех прочих млекопитающих сиаловые кислоты остались прежними, посему при поедании мяса зверей в человеческом организме возникает пусть несильный, но иммунный ответ. Парадоксальным образом именно в это время предки Homo начали есть все больше мяса. Как обычно, понятие пользы и вреда относительно: из двух зол естественный отбор оставил меньшее. Впрочем, около 10 тыс. лет назад плазмодии приспособились-таки к человеческим сиаловым кислотам, появился новый вид Plasmodium falciparum (у горилл и шимпанзе свой плазмодий – Plasmodium reichenowi, безопасный для человека). Вероятно, плазмодиям помогла скученность и оседлость первых земледельцев и скотоводов. Так что после 2 млн лет отдыха человек вернулся на исходные позиции. Пришлось изобретать серповидно-клеточную анемию, эволюция продолжается…
Мозг рос два миллиона лет. Однако в последние примерно 25 тысяч лет он снова стал уменьшаться.
Глупеем ли мы?
Мозг верхнепалеолитических людей и даже неандертальцев был в среднем заметно больше современного. Средний мозг мужчин поздних неандертальцев по самой низкой оценке имел объем 1460 см³, чаще же приводятся цифры больше 1500 см³ (возможная разница обусловлена составом выборки, неточностями в определении объема мозга у фрагментарных находок и применением разных методов измерения). В верхнем палеолите показатели примерно такие же, около 1500 см³, может, даже большие, чем у палеоантропов. Для современных же мужчин всех рас средний размер равен примерно 1425 см³, а для мужчин и женщин – 1350 см³. Уменьшение мозга началось примерно 25 тыс. лет назад и еще около 10 тыс. лет назад продолжалось вполне ощутимо. Этот факт разные исследователи объясняют по-разному. Одни, особенно гордящиеся собственной разумностью, склонны туманно рассуждать о важности количества и качества межнейронных связей, о соотношении нейронов и нейроглии, о непринципиальности абсолютной массы мозга, об отсутствии корреляции между этой массой и уровнем интеллекта, о различиях массы мозга и объема мозговой полости черепа, о тонкостях методик. Однако о нейронах неандертальцев и кроманьонцев мы ничего не знаем, а о размере мозга – знаем.
Есть и второй вариант: древние люди были умнее нас. Этот вывод обычно удивляет слушателей и ставит в некоторое замешательство. Главных аргументов “против” два: во-первых, если неандертальцы с кроманьонцами были умнее, почему же они имели более низкую культуру, во-вторых, разве объем мозга жестко связан с интеллектом?
На первое возражение ответить проще. Древние люди жили в гораздо более сложных условиях, чем мы сейчас. К тому же они были универсалами. В одной голове один человек должен был хранить сведения обо всем на свете: как делать все орудия труда, как добыть огонь, как построить жилище, как выследить добычу, как ее поймать, выпотрошить, приготовить, где можно добыть ягодки-корешки, чего есть не следует, как спастить от непогоды, хищников, паразитов, соседей. Помножьте все это на четыре времени года. Да еще добавьте мифологию, предания, сказки и прибаутки. Да необходимость по возможности бесконфликтно общаться с близкими и соседями. Поскольку не было ни специализации, ни письменности, все это человек носил в одной голове. Понятно, что от обилия такой житейской премудрости голова должна была “пухнуть”. К тому же оперировать всей этой информацией древний человек должен был быстро. Последнее, правда, несколько противоречит большому размеру: чем длиннее и сложнее межнейронные связи, тем дольше идет сигнал. Мозг мухи работает быстрее нашего в немалой степени из-за своего мизерного размера. Но и задачи у мушиного мозга попроще человеческих.
Современная жизнь резко отличается от палеолитической. Сейчас человек получает все готовое: и пищу, и вещи, и информацию. Крайне мало современных цивилизованных людей способны сделать какое-либо орудие труда из природных материалов. В лучшем случае человек комбинирует уже готовые элементы, например, прилаживает лезвие топора на топорище. Но он не изготавливает топор с самого начала – от добычи руды и срубания палки для топорища (тем более срубания орудием, лично изготовленным). Современный человек дров не носил, палок не пилил, руды не копал, железо не ковал – вот и нет ему ничего в смысле мозгов. Специализация – это не проблема XX века, как часто приходится слышать. Она появилась еще в раннем неолите, с первым большим урожаем, позволившим кормить людей, занимающихся не добычей еды, а чем-то еще. Появились гончары, ткачи, писцы, сказители и прочие специалисты. Одни стали уметь дрова рубить, другие – печь топить, третьи – кашу варить. Цивилизация сделала мощнейший рывок вперед, и количество общей информации сказочно выросло, но в голове каждого отдельного человека знаний заметно поубавилось. Цивилизация столь сложна, что один человек в принципе не может уместить в голове даже малой части общей информации – обычно он и не пытается, ему и не надо. Роль винтика устраивает подавляющее большинство цивилизованных людей.
В окружении множества людей не так страшно что-то забыть или вообще не знать. Всегда есть возможность научиться у знатока, скопировать, подсмотреть, украсть мысль (что и было сделано автором этих строк, в чем он честно признается: мысль о воровстве мыслей сворована). Подражание – одно из любимых занятий обезьян, неспроста существует слово “обезьянничать”. Многочисленное постнеолитическое общество вкупе с повышенными способностями к обучению дает для этого широчайшие возможности, гораздо более богатые, чем есть у обезьян (собственно, вместо “обезьянничать” лучше бы говорить “человечничать”). Когда большинство людей могут жить годами, не особо напрягая интеллект, отбор на разумность оказывается ослаблен. Это не значит, что миром серых посредственностей правят некие выдающиеся гении или что мы обречены на тотальное поглупение. Просто интеллект распределяется по всему коллективу.
Древний человек до всего доходил своим умом. При этом возможности обучения у него были минимальны. Продолжительность жизни была мала, отчего умудренных опытом стариков, да еще с педагогическим даром, было катастрофически мало. Вообще людей в группе было немного. Посему многие вещи приходилось постигать на личном опыте, причем очень быстро, да еще без права на ошибку.
Сейчас же каждого сапиенса с рождения окружают толпы специально выдрессированных лекторов, наперегонки спешащих поведать обо всех тайнах мироздания (в которых, как правило, сами ориентируются только с надежной картой в виде статей, монографий и баз данных, накопленных долгими предшествующими поколениями).
Современный человек берет нусом – коллективным разумом. У кроманьонцев нус не дорос, так что каждому приходилось работать своими мозгами. С усилением же специализации можно спокойно жить и с маленькой головой, это не критично. Пропал стабилизирующий отбор на крупные мозги, и генофонд стал разбавляться “малоголовыми генами”.
А при всем при том мозг – энергетически жутко затратная штука. Большой мозг пожирает огромное количество энергии. Неспроста палеолитические люди часто имели мощное телосложение – им надо было усиленно кормить свой могучий разум, благо еще не истощенная среда со стадами мамонтов и бизонов позволяла. С неолита отбор пошел на уменьшение размера мозга. Углеводная диета земледельцев позволяла неограниченно плодиться, но не кормить большие тело и мозг. Выигрывали индивиды с меньшими габаритами, но повышенной плодовитостью. У скотоводов с калорийностью пищи дело обстояло получше. Неспроста в бронзовом веке размеры тела увеличились, а современный групповой рекорд величины мозга принадлежит монголам, бурятам и казахам. Но жизнь скотовода несравненно стабильнее и проще, чем у охотника-собирателя; да и специализация имеется, плюс возможность грабить земледельцев позволяет не напрягать интеллект. Все скотоводческие культуры зависят от соседних земледельческих. Посему размер мозга уменьшался почти у всех на планете.
У многих на этом месте возникнет закономерный вопрос: почему же у современных охотников-собирателей объем мозга практически всегда очень мал? Австралийские аборигены, ведды, бушмены, пигмеи, андаманцы и прочие семанги – все как один имеют наименьшие значения размеров головы в мировом масштабе. Выходит, у них мозг уменьшался быстрее, чем у земледельцев и скотоводов. Неужели их жизнь стала настолько проще палеолитической, позволив не так сильно напрягать интеллект? Думается, есть разные причины особо активной редукции мозга именно среди охотников-собирателей.
Во-первых, технический и культурный прогресс шел во всех группах людей. Жизнь австралийских аборигенов XIX века – не то же самое, что жизнь их предков 30 тыс. лет назад. За минувшие тысячелетия появились бумеранги, микролиты, собаки динго. Жизнь стала лучше, жизнь стала веселее! А подавляющее большинство других охотничье-собирательских сообществ жило в контакте с культурами производящего хозяйства. Бушмены, семанги и эвенки использовали железные наконечники стрел и копий, выменивали ткани и посуду у окружающих земледельцев-ремесленников. Вездесущая глобализация затрагивала охотников-собирателей, хотя бы и крайне слабо. Технологические задачи, стоящие перед многими современными охотниками, по всей вероятности, не так сложны, как те, что решали люди палеолита. Конечно, эта причина далеко не достаточна.
Вторая, куда более серьезная причина резкого уменьшения мозга у охотников-собирателей – ухудшение условий их жизни. В палеолите такой образ жизни вели все, стало быть, плотность населения и конкуренция были минимальны, нагрузка на окружающую среду тоже была весьма слабой. Стада непуганых бизонов покрывали степи до горизонта, низкий уровень технологий не позволял извести их всех, но давал вполне достаточно пищи для поддержания большого тела и мозга. Нельзя сказать, что палеолит был золотым веком. Жизнь была тяжела и регулярно голодна. Но в целом, надо думать, неандертальцам и кроманьонцам жилось сытнее, чем нынешним бушменам в Калахари. Причина очевидна. Современные охотники-собиратели оттеснены земледельцами и скотоводами в самые неблагоприятные места. Все плодородные места в первую очередь были распаханы или заселены овцами. Охотники сохранились лишь на самых бедных окраинах, где самые тяжелые условия выживания и мало еды, которую к тому же трудно достать. В этом отношении показательно, что скелеты наиболее вероятных предков бушменов найдены не в Калахари или Намибе, а в пещерах южного побережья Африки. Останки древнейших австралийцев покоятся не в песках пустыни Виктории, а в самой плодородной юго-восточной части континента. Со временем пищи становилось меньше. Где-то – как в Австралии – ее за тысячи лет извели сами же охотники, где-то – в большинстве прочих мест – им помогли земледельцы и скотоводы.
Мало еды – мало возможностей для поддержания большого мозга. Неспроста современные охотники почти всегда имеют и очень малые размеры тела, и весьма субтильное телосложение, даже близко не сравнимое с неандертальским. В свете всего этого закономерно, что с появлением производящего хозяйства размер мозга угнетаемых охотников-собирателей стал резко уменьшаться. Верхнепалеолитический рай закончился.
Такая вот диалектика: технологический процесс улучшил жизнь, а рост населения и истощение ресурсов – ухудшили. И оба процесса вели к уменьшению мозга.
Кстати, об осах…
Уровень развития социума и размер мозга – взаимосвязанные вещи. Среди приматов есть четкая зависимость: чем больше особей в группе, тем крупнее мозг (Gowlett et al., 2012). Конечно, корреляция эта выявляется при сравнении видов, а не отдельных популяций. На этом основании была построена целая концепция “социального мозга”: дескать, сей замечательный орган увеличивался у предков человека главным образом для общения с себе подобными, а вовсе не для преодоления жизненных невзгод.
Однако не все так однозначно. С появлением производящего хозяйства размер групп людей вырос на порядки, но мозги почему-то не ответили на это симметричным привесом. Может, взаимосвязь социальности и мозговитости не такая уж прямая, а скорее волнообразная? Возможно, социальность обезьян – совсем не та социальность, просто она еще не достигла того счастливого уровня, когда коллективный разум начинает избавлять индивида от надобности думать?
Возможно, стоит поискать более продвинутых в общественном смысле животных, чем макаки и шимпанзе? И вот пожалуйста: среди ос размер грибовидных тел – аналога коры головного мозга у позвоночных – обратно пропорционален их социальности (O'Donnell et al., 2015). Одиночные осы оказались однозначно самыми мозговитыми. Может, это повод задуматься о нашем будущем?
Во всех вышеприведенных рассуждениях одним из ключевых моментов является предположение о связи размера мозга с его функциональными возможностями. Тут стоит сделать подробное уточнение. Размер мозга напрямую не коррелирует с интеллектом в пределах вида. В рамках вида Homo sapiens размер мозга связан с размерами тела и качеством питания (отчего во многих странах в последние десятилетия наблюдается увеличение массы мозга – есть стали лучше, вот и подросли малость), а интеллект в основном зависит не от размера мозга (тем более что объем мозга процентов на 40 определяется глиальной тканью, а не нейронами; глия, конечно, тоже нужна, так как обеспечивает работоспособность нейронов, но не в ней происходят нервные процессы), и даже не от числа нейронов (ведь при увеличении размеров тела прежде всего будет увеличиваться число двигательных или чувствительных нейронов, но не они определяют интеллект), и даже не от числа ассоциативных нейронов, а от числа связей между нейронами. Число же связей меняется в пределах нескольких порядков и частично обусловлено наследственно, частично же определяется образом жизни и опытом. Учится человек, наращивает число связей – будет умнее; не учится – будет глупее.
Стремление к обучению, впрочем, тоже имеет наследственную составляющую, так что мозговитый человек с огромной интеллектуальной потенцией может не хотеть тренировать свой мозг, не нарастит связи и останется простофилей. Существенно, что число нейронов в течение жизни катастрофически уменьшается, а способности мозга продолжают расти; это определяется именно появлением новых межнейронных связей. Таким образом, приходится признать, что большой мозг сугубо потенциально должен бы стать более умным, но оговорок так много, что фактически эта связь отсутствует. Доказывается это разными путями.
Во-первых, известны великие мыслители и с большим, и с малым мозгом. Средняя величина по этим мыслителям получается практически средней по миру (на самом деле она получается больше среднемировой средней, но тут надо учитывать два важных обстоятельства: в выборку мыслителей всегда включают только мужчин и почти одних северных европеоидов – крупных телом и, стало быть, мозгом; если бы сюда добавить женщин и южных мыслителей – древних египтян, греков, римлян, итальянцев, майя, индусов, южных китайцев, то средняя по мегаинтеллектам сравнялась бы с общемировой).
Во-вторых, старые люди с капитально уменьшившимся мозгом могут иметь два жизненных пути. Если в течение жизни они вели интеллектуальную жизнь (пели, плясали, читали, а лучше – сочиняли стихи, занимались наукой, искусством, просто делали что-то умное), то старческое слабоумие им не грозит. Среди университетских профессоров людей с деменцией несравнимо меньше, чем среди людей неинтеллектуальных профессий. Если же человек всю жизнь сидел на лавочке, лузгал семечки и не читал ничего сложнее астрологического прогноза, то перспективы его старости неутешительны. Учиться, учиться и учиться – как завещал нам великий В. И. Ленин, мышление в молодости спасет нас от маразма на пенсии.
В-третьих, в популяционном смысле все то же самое. Великие достижения человеческой мысли принадлежат самым разным группам – и мозговитым, и не очень. К тому же в разное время главные на тот момент открытия делали люди из самых разных мест планеты. Пластинчатая техника, черешковые наконечники, копьеметалка, микролиты, шлифование камня с наибольшей вероятностью придумывались много раз; нам эти штуки кажутся примитивными, но в свое время это были новации, перевернувшие мир. Земледелие независимо изобрели на Новой Гвинее, Ближнем Востоке, в Китае и как минимум дважды в Америке; зернотерку, лук со стрелами и керамику изобретали неоднократно в тех же и других местах; письменность, математику, астрономию и государственность – в меньшем количестве мест, но тоже не единожды и независимо, причем как не самые мелкоголовые, так и не самые башковитые. С другой стороны, одна и та же популяция вполне могла долгое время опережать всех, а потом отстать или, напротив, сначала жить в дикости, а после вырваться вперед. Примеры бесчисленны – бушмены, папуасы, египтяне, норвежцы, китайцы… Фактически любой народ переживал периоды застоя и ускорения. Давно ли римляне писали о варварах кельтах и германцах? А давно ли жители самой Италии бегали в шкурах (а то и без них), притом что в Междуречье уже высились пирамиды? Размер же мозга при всех этих культурных и социальных преобразованиях не менялся.
Неспроста рекордсмены по размеру мозга никогда не являются рекордсменами по достижениям – ни в индивидуальном, ни в популяционном смысле.
Еще очевиднее факт отсутствия внутривидовой связи размера и функции мозга на примере собак. Песики разных пород не распределяются по интеллекту так же, как по росту. Мелкая левретка может быть столь же сообразительной, что и огромный ирландский волкодав. Число двигательных и чувствительных нейронов у разноразмерных собак различается капитально, а число связей между ассоциативными нейронами, видимо, остается более-менее постоянным.
Единственно когда внутривидовая корреляция размера и функции мозга четко проявляется – в случае патологических крайностей. Ясно, что микроцефал не может быть особо умным по причине недоразвития коры, но и рекордсмены в сторону больших значений – частенько тоже с патологиями интеллекта и психики.
Однако в межвидовом масштабе связь размера мозга и интеллекта вполне очевидна, с поправками на массу тела конечно. Мышь глупее слона, кошка глупее собаки. Шимпанзе никогда не достичь уровня человека. Кит имеет в три раза больший мозг, чем человек, но в тысячу раз превосходит его по весу тела, так что тоже не догоняет по разумности. Соразмерные с человеком неандертальцы и кроманьонцы (которые тоже вроде как Homo sapiens, но уж больно древние и специфичные) имели больший мозг. Хронологические изменения невозможно списать лишь на аллометрические связи размеров мозга и тела – тело-то не особо поменялось, а питание в целом стало как минимум стабильнее. Стало быть, изменения размеров связаны в первую очередь с интеллектом. С чего мы и начали.
Каковы же перспективы? Усиливающаяся специализация и независимость от условий окружающей среды, обеспеченность выживания независимо от личных качеств делают прогноз неутешительным. С другой стороны, общий разум человечества неизмеримо растет. Обеспечит ли он счастливое будущее? Поживем – увидим…
Строение долей мозга существенно отличается у разных приматов и менялось в процессе эволюции предков человека. К сожалению, на ископаемых эндокранах мы можем изучать только их общую форму и размеры, но и этого достаточно для оценки межвидовых различий. Выясняется, что изменения размеров и формы сменяли друг друга: как правило, сначала увеличивался размер, а потом преображались пропорции. Несинхронно эволюционировали и разные доли, и участки внутри каждой доли. Изменения длины, ширины и высоты происходили не одновременно, а последовательно.
По темпам изменения первое место занимает лобная доля, второе место за теменной, третье достается височной, а затылочная замыкает список (об изменениях островковой остается только догадываться по изменению общей ширины мозга).
В пределах лобной доли интенсивнее всего менялась нижнелобная область, а в ней – орбитная часть. Лобная доля отвечает за мышление в самом широком значении этого слова: сознание, способность общаться с другими людьми, этику, эстетику и логику. В задней части нижней лобной извилины расположен центр Брока – моторная зона речи. Грубо говоря, это место отвечает за говорение (на самом деле в большей степени за составление из слов связных предложений, а еще и за восприятие контекста). Как часто бывает, лучше всего функция понятна на примере нарушений: при повреждении центра Брока человек понимает, что ему говорят, может сформулировать мысль и, скажем, написать текст, но не может артикулировать свою речь, а даже если произносит отдельные слова, то неспособен выдать их последовательно в виде внятной фразы. Понятно, что у обезьян на этом месте тоже не дырка, у них этот же участок мозга отвечает если не за речь, то за похожие действия – движения гортани, в том числе издавание звуков при общении. Но у человека относительный размер центра Брока вдвое больше, а абсолютный превосходит обезьяний вариант в 6–6,6 раза!
Участок, соответствующий центру Брока, был совершенно не развит у австралопитеков, но у некоторых “ранних Homo” тут появляется заметный рельеф. Это не значит, что Homo habilis уже умели говорить, но раз нейронов становилось больше, какой-то очевидный прогресс в этом направлении шел. Еще сильнее выступала та же область у Homo erectus (отчего, кстати, Э. Дюбуа назвал свою находку не Pithecanthropus alalus – “Обезьяночеловек бессловесный”, как предлагал Э. Геккель), а у неандертальцев тут были основательные бугры. Опять же это не значит, что питекантропы и неандертальцы болтали без умолку, но свидетельствует о значительном развитии коммуникативных голосовых возможностей. Кстати, у современного человека никакого особого рельефа тут нет, но это говорит лишь о том, что отлично развиты соседние области.
Кстати, о песнях…
Сразу впереди от речевого центра Брока расположена самостоятельная зона пения. При повреждении зоны Брока – моторной афазии Брока – человек теряет способность членораздельно говорить, однако может пропеть любую фразу. Другое следствие сего странного разделения – то, что заикающиеся люди поют без всяких проблем. Заикание – это отсутствие торможения в центре Брока: слово произносится, но сигнал не гасится, и человек раз за разом повторяет одно и то же. Однако сей дефект совершенно не влияет на певческие способности. Кстати, может быть и обратная ситуация – прекрасный оратор, совершенно не умеющий петь.
Трудно понять, какая надобность создала у человека разделение способностей к пению и говорению. В любом случае это значит, что пение – не разновидность речи, а совсем особое свойство, на развитие которого шел самостоятельный отбор. Видимо, представляя своих предков хриплыми троглодитами, общающимися гортанными криками, мы сильно недооцениваем их; вероятно, среди них было немало талантливых вокалистов.
У неандертальцев, кроме прочего, наблюдается рельеф в области венечного шва, примерно там, где должна располагаться прецентральная извилина. У современного человека тут находится так называемый “двигательный человечек” – цепь полей, отвечающих за сознательные движения. Надо думать, контроль за своими движениями у неандертальцев был на высоте.
В теменной доле наиболее важным процессом было расширение. Хорошо можно проследить изменения в нижней теменной дольке, занятой множеством функций, сводящихся в целом к координации чувствительности руки со слухом, зрением и движениями, то есть, иначе говоря, – трудовой деятельностью, а также ориентацией в пространстве, в том числе на местности со сложным рельефом или, скажем, в лесу. Рельеф тут появляется как минимум у Homo erectus, а у неандертальцев достигает наибольшего развития.
Кстати, о картах…
Понятно, что способности к ориентированию были еще у древесных приматов. Однако до сих пор неясно, когда и где люди научились выражать эту способность к абстрагированию особенным способом – в виде карт. На роль древнейших схем претендовали разные артефакты: с Киево-Кирилловской стоянки и Межиричей на Украине, Павлова, Пшедмости и Дольни-Вестонице в Чехии, из пещер Эль-Пендо и Льонин в Испании, Гаргас во Франции. Однако во многих или даже большинстве из этих случаев реальность “карт” весьма сомнительна. Поэтому особенно интересны гальки из испанской пещеры Абаунц (Utrilla et al., 2009). В слоях с позднемадленскими изделиями и датировками 13,66 тыс. лет назад были найдены несколько галек с замечательными гравировками. На камушках нацарапаны разные звери – олени, козлы, лошади и какие-то другие. Но исследователи обратили внимание на окружающие зверюшек полосы, загогулины и закорючки. На первый взгляд они довольно беспорядочны. Стало быть – нужен второй взгляд! Раскрасив линии на гальках в нужные цвета, сравнив их с реальной картой и местным пейзажем и слегка прищурившись, можно увидеть, что с большой вероятностью на камнях изображены именно схемы и виды: самая большая местная гора, речка под ней, кусты вдоль речки, даже место переправы, чуть ли не мостик.
Ясно, что многие археологи настроены в этом отношении крайне скептически: если долго смотреть на гальки с царапинами, там можно увидеть что угодно. Но рисунки лошадей-то с оленями настоящие! Отчего бы кроманьонцы не могли заняться и картографией?..
Височная доля мозга, как и прочие, эволюционировала неравномерно. Височная доля отвечает за многие вещи, но ее верхняя часть – в основном за слух. В задней части верхней височной извилины, на границе с теменной долей, расположена зона Вернике – слуховая зона речи. Показательно, что рельеф тут усилен уже у архантропов и крайне силен у неандертальцев.
Затылочная доля отвечает в основном за сознательное распознавание зрительных образов. Она долго и не спеша увеличивалась, но со времен раннего верхнего палеолита до современности существенно сократилась – как раз в основном этим обусловлено уменьшение мозга, о котором говорилось выше. Этот факт можно интерпретировать двояко. Либо зрение было намного важнее для людей каменного века (пишу я, поправляя очки на носу), либо поля, расположенные у нас в задней части теменной доли, у троглодитов занимали переднюю часть затылочной и лишь потом “переползли” вперед.
Минутка фантазии
Передняя часть височной доли, как гласит “Практикум по анатомии мозга человека” С. В. Савельева и М. А. Негашевой (2005), обеспечивает “контроль за храпом, кряхтением и икотой”, расположенный чуть выше и назад участок отвечает за “ритмические движения жевания, глотания, лизания и чмоканья”. Задняя же часть занята “агностическим слуховым полем”. Для неандертальцев более типичен вариант с большим развитием задней части, а для сапиенсов – передней. Возможно, стены неандертальских пещер по ночам сотрясались от кряхтения и богатырского храпа (бочкообразная грудная клетка тому порукой), а от икоты и смачного причмокивания с потолка сыпалась шуга. Ну не получалось у неандертальцев обуздать сии порывы – нейронов не хватало. Слышали же они при этом преотлично, плоская лобная доля не могла сдержать бурные эмоции, большая затылочная доля и рельеф ангулярной извилины позволяли найти храпуна в темноте пещеры, а результатом был кровавый мордобой. Выживали только индивиды с самым толстым черепом и мощными надбровными дугами.
В пещерах же кроманьонцев царили тишина и покой: даже во сне они сдерживали храп и причмокивание, а посредственный слух оставлял соплеменников равнодушными даже к этим жалким всхлипам. Если же кому-то и не спалось, то высшая лобная ассоциативная зона позволяла держать себя в рамках приличия. Вероятно, сапиенсы прошли отбор на эти признаки в опасной африканской саванне, где лишние звуки привлекали леопардов, рыщущих в ночи. Неумолчный же тропический ночной гам – стрекот цикад, цоканье квакш и хохот гиен – слушать необязательно. Или же отбор был искусственным – союз рубила и хорошей координации движений гарантировал выживание только тихо храпящих и плохо слышащих…
Все сходится!
Стоит особо уточнить, что все рассуждения об эволюционной судьбе конкретных участков мозга довольно спекулятивны. Пупырышки и бугорки на эндокранах могут отражать рельеф черепа, а не мозга, или вообще быть следствием плохой сохранности. Многие могут с пренебрежением сказать: “Что это еще за френология в XXI веке?” Но у палеоневрологов есть три оправдания. Во-первых, это пока единственный способ изучать древние мозги, а для существ древнее миллиона лет наверняка так и останется единственным (палеогенетика столь далеко, думается, заглянуть не может, поскольку ДНК так долго просто не сохраняется). Во-вторых, антропологи изучают межвидовую изменчивость: если внутри вида конкретный рельеф обычно случаен и ничего не значит, то в масштабах отличия видов разница оказывается вполне уловимой и хорошо измеримой. В-третьих, антропологи обращают внимание не на каждый выступ на эндокране, а закономерно расположенный и подтверждаемый статистикой, а статистика у нас, слава археологам, уже достаточно представительная.
Уголок занудства
Множество эндокранов позволяет оценить детали эволюции мозга (дробышевский, 2012).
Длина лобной доли в эволюции гоминид резко изменялась два раза: росла при переходе от австралопитековых к Homo erectus и уменьшалась с начала верхнего палеолита. Ширина достигла максимума у Homo neanderthalensis, после чего начала уменьшаться. Нижнелобная область в наибольшей степени увеличилась в промежуток времени от австралопитековых до Homo erectus (возможно, до “ранних Homo”, среди малой выборки которых имеются все варианты строения этой доли). Орбитная часть достигла максимальной выраженности у Homo neanderthalensis в виде бугров, сгладившихся в дальнейшем за счет роста соседних областей.
В эволюции теменной доли наиболее важным кажется процесс неуклонного расширения (абсолютного или относительного) в области надкраевой извилины (передней части нижней теменной дольки). Темпы изменения ширины превосходили таковые длины и тем более высоты. Процессы преимущественного роста в длину и ширину сменяли друг друга. Важно отметить переменное преобладание темпов эволюции то лобной, то теменной доли. Теменная доля отвечает в основном за чувствительность и ориентацию в пространстве. Надкраевой (передний) участок нижней теменной дольки отвечает за чувствительность рук, определение на ощупь веса, формы, влажности, температуры и рельефа поверхности предметов, производит третичный высший анализ и синтез уже обобщенных и отвлеченных сигналов из соседних областей мозга, отвечает за интеграцию слуховых, зрительных и тактильных ощущений, координацию чувствительности и двигательной активности – трудовую деятельность, обеспечивает самоконтроль. Угловой (задний) участок обеспечивает ориентацию в пространстве и трудовые действия. Верхняя теменная долька отвечает за схему тела и интеграцию зрения с движениями всего тела.
У височной доли возникли два основных варианта пропорций: первый – расширенный в задней части и удлиненный снизу (австралопитеки, некоторые “ранние Homo”, Homo erectus, европейские неандертальцы), второй – расширенный в передней части и удлиненный сверху (некоторые “ранние Homo”, Homo heidelbergensis, ранние ближневосточные палеоантропы, верхнепалеолитические и современные Homo sapiens). Заметно менялись размеры и пропорции височной ямки, очень широкой и мелкой у одних групп (массивные австралопитеки, часть “ранних Homo”, яванские Homo erectus или Homo heidelbergensis из Самбунгмачана, европейские неандертальцы) и глубокой и узкой у других (часть Homo erectus, ранние ближневосточные палеоантропы, верхнепалеолитические Homo sapiens).
Размеры затылочной доли эволюционировали несинхронно: от австралопитековых до “ранних Homo” резко увеличилась ширина при сохранении длины; далее длина стала плавно увеличиваться, но вплоть до Homo erectus рост в ширину преобладал; после начали превалировать темпы увеличения длины, от палеоантропов к Homo sapiens ширина начала уменьшаться при сохранении длины. С верхнего палеолита до современности опять темпы изменения ширины, но теперь в сторону уменьшения, получили превосходство над темпами укорочения доли. При всех этих изменениях неуклонно увеличивалось преобладание верхней части доли над нижней.
Мозжечок с самых ранних этапов вплоть до верхнего палеолита увеличивался, причем полушарие становилось относительно все длиннее и уже. С верхнего палеолита тенденция принципиально изменилась, и к современности все размеры уменьшились, а полушарие относительно расширилось.
В целом австралопитеки имели почти обезьяний мозг, единственной прогрессивной чертой грацильных форм было некоторое удлинение теменной доли, а массивных – расширение и повышение всего мозга. У “ранних Homo” большинство признаков мозга оставалось на прежнем уровне развития, с поправкой на бóльшие размеры. Homo erectus – первые гоминиды, у которых сугубо обезьяньи черты мозга окончательно были вытеснены специфически человеческими: появились прогрессивные черты лобной и теменной долей, упомянутые выше; мозг преимущественно расширился. Homo heidelbergensis – очень неоднородная группа, среди них самыми прогрессивными были африканские и европейские формы, а Ява была местом, где жили самые дремучие и специализированные люди. Особенно преуспели гейдельбергенсисы в высоте лобной доли, а ее расширение обгоняло расширение всего мозга. Теменная доля, особенно область надкраевой извилины, прогрессировала настолько резко, что мы можем надежно отличать этот вид от предыдущего по ее размерам (редкий пример, когда признак на эндокране оказывается важнее признака на черепе). Височная доля у гейдельбергенсисов уже почти современная, а затылочная с мозжечком, напротив, не отличаются от варианта Homo erectus.
Неандертальцы имели самый широкий мозг из всех известных для гоминид и самую большую затылочную долю, тогда как лобная и теменная были относительно невелики и заметно уплощены, хотя и с описанным выше рельефом, а височная почти не отличалась от нашей.
Ранние кроманьонцы еще сохраняли в строении мозга некоторые архаичные черты, например увеличенные размеры затылочной доли. Причем такая архаика продержалась до достаточно поздних времен – как минимум до 28 тыс. лет назад. То есть от трети до половины времени существования нашего вида (а сапиентность определяется в основном по внешним признакам черепа) мозг был еще не вполне сапиентным. Но в целом мозг кроманьонцев отличался от нашего в основном лишь несколько большими размерами при уже современных пропорциях.
Минутка фантазии
В мире животных есть простое правило: чем сильнее вооружен вид, тем лучше у него отлажен врожденный ритуальный контроль за агрессией. Скажем, когда дерутся два волка, проигравший подставляет горло – самую уязвимую часть – победителю, тот изображает укус и на этом битва заканчивается. Реально никто никого не убивает, иначе вид бы быстро вымер. Если же дерутся два хомячка, они запросто могут поубивать друг друга, у них нет подобных рыцарских ритуалов. Неандертальцы были очень мощными и сильными, поэтому логично, что они должны были как-то ограничивать свою агрессию. Вместе с тем лобная доля, обеспечивающая сознательный контроль над порывами души, была у них приплюснутой и относительно не слишком большой. А вот запредельная ширина мозга неандертальцев может означать мощное развитие подкорковых центров – ядер полосатого тела и в целом лимбической системы. А одна из важнейших функций этих центров – подсознательный (читай: инстинктивный) контроль за эмоциями. Так может, при драках неандертальцы тоже “подставляли горло” (а может, даже и без кавычек)? И вот в Европу приходят кроманьонцы – прагматичные ребята с креативным мышлением, но не такие мускулистые, а стало быть, с неразвитой врожденной программой “не бей лежачего”. Грядет борьба за ресурсы, гром сраженья раздается, технически продвинутые кроманьонцы теснят неандертальцев, у тех срабатывает врожденный защитный механизм, они подставляют прытким супостатам горлышко или пузико, ожидая инстинктивной – безусловной – милости… Но у кроманьонцев нет нужного тумблера в лимбической системе, они радостно колют сдавшихся на милость своими высокотехнологичными гарпунами и осваивают захваченные земли…
С изменениями мозга тесно связаны изменения поведения, хотя найти уникальные черты в поведении человека не так-то легко.
Крупный мозг дает преимущества в выживании, потому что позволяет решать нестандартные задачи. Приматы пошли по этому пути дальше прочих животных, а человек – дальше всех приматов. Люди – большие спецы по преодолению форс-мажоров. Они могут действовать нестандартно, обманывая как своих жертв, так и врагов, функционирующих по строгой программе. Поскольку задачи стали бесконечно разнообразны, нашим предкам уже не хватало мозга кошачьего размера, вот он и вырос.
Поведение человека в значительной мере обусловлено обучением и воспитанием, генетически наследуемых форм поведения у человека минимум, а сложных врожденных нет и в помине. Без обучения человек не формируется психически нормальным. Без культуры и общества человек не может полноценно существовать, что наглядно демонстрируется печальными примерами людей-маугли, выросших вне коллектива. Впрочем, сами способности и стремление к обучению заданы генетически, так что не стоит недооценивать врожденную составляющую поведения человека. В настоящее время генетики ведут активный поиск генов, определяющих интеллектуальные способности, уровень агрессии и асоциального поведения, способности к изучению языков и многого другого.
В целом весь этот комплекс можно определить как устойчивую внегенетическую межпоколенную передачу информации, без которой особи не существуют. Время его формирования невозможно определить точно, но, видимо, человеческие очертания он приобрел с момента начала активного изготовления орудий, что явно требовало длительного обучения.
С шимпанзе и гориллами дело обстоит вроде бы так же – без воспитания и общения они не могут вырасти нормальными. Однако есть одна тонкость. У обезьян не так уж много форм поведения, специфичных для отдельных групп, причем от таких особенных навыков они не зависят принципиально. У разных групп шимпанзе есть своего рода культуры – самые дремучие не используют никаких орудий, другие умеют только ловить термитов палочками, третьи – колоть орехи кола камнями, четвертые кладут при этом орехи на наковальню, пятые подпирают наковальню дополнительным камешком, шестые умеют и ловить термитов, и колоть орехи… Эти навыки не врожденные, они могут переноситься из группы в группу с умелыми особями, а детенышам передаются исключительно путем обучения. Но без них можно жить, обходясь общешимпанзиными ценностями.
Человек обладает еще одним уникальным свойством – способностью обучать и вообще обеспечивать связь поколений за счет передачи информации на искусственных носителях в виде, например, письменности. Этот признак человека совсем не обязательный (письменность была создана недавно и до сих пор есть не у всех народов), скорее это побочный эффект, зато сугубо специфичный, а потенциальные способности к обучению чтению и письму есть у всех людей.
Человек не только использует, но и изготовляет орудия труда. Шимпанзе и некоторые другие животные тоже способны на это, но далеко не в человеческих масштабах и, опять же, не зависят от этой способности. Шимпанзе могут размусолить зубами палочку для ловли термитов, но могут всю жизнь прожить, ни разу не занявшись этим благородным делом. Древнейшие каменные орудия известны в местонахождении Гона в Эфиопии с датировкой 2,6–2,7 млн лет назад, а в Ломекви – 3,3 млн лет назад, их сложность уже запредельна для обезьяньего разума. Все современные люди однозначно зависимы от искусственно изготовленных (хотя бы и не собственноручно) орудий. Без них человек перестает быть человеком, это наша странная специализация, примерно такая же, как зависимость муравья от муравейника.
Человек активно использует небиологическую энергию. Неизвестна ни одна группа сапиенсов, которая бы не использовала огонь. Иногда приходится читать, что где-то на краю Земли якобы есть дикие племена, не умеющие добывать “красный цветок”. Особенно не повезло с такой славой тасманийцам и огнеземельцам. Но этнография однозначно свидетельствует, что они знали даже несколько способов возжигания пламени. Другое дело, что в сыром туманном климате это дело хлопотное, так что проще пойти и занять уголек у соседей. Но если у них с этим тоже были проблемы, то куда деваться – приходилось и тасманийцам, и огнеземельцам добывать искры в поте лица своего.
Впрочем, свойство использовать небиологическую энергию, как ни странно, тоже не полностью уникально. Примеров множество. Самые банальные примеры – бактерии-хемотрофы, скажем использующие энергию неорганических реакций в серных источниках. Правда, это может показаться чересчур уж отдаленной аналогией. Тогда пожалуйста, есть жуки-пожарники, питающиеся животными, погибшими при пожаре, – чем не использование огня? Есть виды сосен, семена которых прорастают только и исключительно после обгорания в низовом пожаре. Конечно, ни жуки, ни сосны не могут сами развести костер, так что человеческий вариант огнезависимости действительно по-своему уникален.
Древнейшие следы использования огня, иногда даже с выкладками камней вокруг очага, обнаружены в Африке в местонахождениях Гомборе I (Эфиопия) 1,6–1,7 млн лет назад, Кооби-Фора FxJj20E (Кения) 1,4–1,6 млн лет назад и Чесованжа GnJi1/6E (Северная Кения) 1,375–1,46 млн лет назад.
Человек сознательно и целенаправленно модифицирует среду своего обитания, чего не делает ни одно животное. Этот признак человеческого поведения сформировался, видимо, позже всех, как результирующая использования орудий и преобразования энергии в начальной форме – с охотничье-собирательским образом жизни примерно с 2,5 млн лет назад, в выраженной форме – с освоением огня около 1,5 млн лет назад, а в законченной характерен уже только для обществ с производящим хозяйством со времени около 12–10 тыс. лет назад, когда распашка, ирригация, вырубание лесов и капитальное строительство стали катастрофически преображать лик Земли. Полвека назад люди добрались и до космоса.
Меняют и, более того, разрушают свою среду обитания так или иначе все виды. Всем известны достижения бобров и термитов. Белки грызут орехи, так что те больше никогда не прорастут, слоны расковыривают баобабы, лошади и коровы способны загадить любой луг так, что невозможно пройти, овцы выжирают все до корней включительно… Другое дело, что у животных обычно не хватает численности и целеустремленности для достижения коллапса такого масштаба, какой способен организовать человек. К тому же животные чаще ограничиваются уничтожением лишь одного какого-то особо любимого ими ресурса, тогда как люди подходят к делу куда как более основательно. Люди заняли все экологические ниши и стали сверхконкурентами для всех живых существ, включая бактерий. Насколько хватит запаса прочности у биосферы?..
Тело человека от докембрия до наших дней (история в четырнадцати звеньях с прологом и эпилогом) Часть третья, масштабная, в коей широкой (местами малярной) кистью живописано эпичное полотно эволюции и поведано, откуда растут ноги у рук, где у нас жабры и отчего в автобусах поручни наверху
Пролог Начало цепи: появление жизни и первых клеток
Гоминидной триадой специфика человека, конечно, не ограничивается. За миллионы лет до того, как по Африке пошла гулять двуногая обезьяна, ее особенности были предопределены жизненными нуждами бесчисленных предков – от первых бактерий и даже раньше.
Начинать долгий путь к человеку надо, по большому счету, с Большого взрыва, определившего фундаментальнейшие свойства нашей Вселенной. Не помешало бы повести речь и о первых звездах, посмертно снабдивших нас всеми элементами тяжелее гелия, ведь из одних водорода да гелия много не намастеришь, разве что еще одну звезду. Нелишним было бы поведать об особенностях нашего Солнца, Юпитере – щите от комет и астероидов, а также об уникальных свойствах Земли, ее расположении, железном ядре и магнитном поле, оберегающем нас от космической радиации, о приобретении воды и рождении океанов, полужидкой мантии и дрейфе континентов, о Луне, ведающей приливами и отливами… Но это увело бы нас слишком далеко от темы, а я не чувствую себя слишком компетентным в космогонических вопросах, так что Читатель может узнать об этих интереснейших гарантах нашего появления, существования и развития из других книг.
Мы же начнем с собственно зарождения жизни. Старт был задан в начале архея, 3,7–3,8 млрд лет назад. Строго говоря, пока никто точно не может сказать, как возникла жизнь (современное состояние вопроса: Кунин, 2014). Но ее следы мы можем найти даже в межгалактических облаках в виде аминокислот. Трудно сказать, были ли занесены “споры жизни” из холодных глубин Вселенной, как считают некоторые. В принципе, среда на первичной Земле была вполне подходящая, и спонтанное образование даже не самой простой органики было продемонстрировано в экспериментах с воспроизведением условий, царивших на нашей планете примерно 4 млрд лет назад. Ныне многие биологи склоняются к концепции “РНКового мира” и молекулярной эволюции. Согласно ей, довольно долго органические соединения спонтанно возникали и разрушались, но самые устойчивые из них сохранялись, и шел своего рода отбор на устойчивость химических молекул. Зарождение жизни можно начинать отсчитывать с появления самоподдерживающегося комплекса РНК и белков. Поэтому жизнь можно определить, вслед за К. Ю. Еськовым (2007), как “автокаталитические системы высокомолекулярных соединений углерода в неравновесных условиях”.
Важнейшее свойство РНК – изменчивость. Эта молекула велика, она может меняться в мелочах, что необязательно критично сказывается на общей устойчивости, но модифицирует частные свойства. На примере кристаллов мы видим, что без изменчивости может быть рост и даже размножение, но нет развития. Кристаллическая решетка может быть несколько искажена (если, например, кристалл упирается в препятствие), но из “поколения в поколение” будет воспроизводиться по одному извечному шаблону. РНК же, а впоследствии ДНК за счет размера и сложности дают возможность почти бесконечной вариабельности.
Древнейшие осадочные породы и древнейшие следы жизни обнаружены в отложениях Исуа в Гренландии с датировкой 3,7–3,8 (а возможно, даже 3,86) млрд лет назад. От этих времен нам достались основные способности адаптации, диапазон условий, в которых мы можем жить, – температурных, кислотных, зависимость от воды, даже предельные размеры клеток, которых тогда еще не было.
Собственно, клетка – это важно. Можно определять жизнь как автокаталитические системы, функционирующие за счет градиента условий внутри и снаружи. А границей между “внутри” и “снаружи” явилась клеточная мембрана. РНК с белками, окруженная липидной мембраной, – это уже клетка. За счет перепада концентрации веществ по обе стороны мембраны обеспечивается метаболизм – обмен веществ, а также обмен информацией. Могут ли быть неклеточные формы жизни? Это вопрос вопросов. Мы знаем лишь наш вариант.
Древнейшие клетки известны из архея: первые цианобактерии и даже их сообщества – строматолиты – найдены в отложениях Южной Африки и США и имеют возраст 3,55 млрд лет. Надо думать, примерно тогда же появилась ДНК, оказавшаяся более устойчивой и надежной, чем РНК.
В принципе, с возникновением бактерий и, более того, автотрофных бактерий эволюцию живого мира можно считать завершенной. С энергетической и обменной точки зрения это так: ведь если сейчас с планеты убрать всех эукариот – организмы с клеточным ядром, – то энергобаланс планеты изменится лишь в пределах погрешности. Все, на что мы склонны обращать максимум внимания – слоны, бизоны, секвойи, водоросли, кукушки, пчелы, – все это незначительная пыль и мимолетное отклонение от основной биомассы – бактерий. Но мы эгоцентричны, поэтому нам кажется, что самое интересное – впереди, ведь впереди – мы…
Глава 6 Звено 1: появление клеточного ядра (протерозой, 1,9±2,4 млрд лет назад)
Первые ядерные организмы – эукариоты – возникли 1,9–2 млрд лет назад. Одной из наиболее аргументированных гипотез является симбиотическая. Собственно, симбиоз оказался итогом несварения: одна клетка глотала другую, но не растворяла, а использовала в мирных целях. Видимо, ядро было когда-то археей, а из бактерий получились митохондрии.
Ядро – очень важный элемент клетки. Оно защищает ДНК, что повышает надежность сохранения информации и дает возможность разнообразить биохимические процессы. В цитоплазме бактерий ДНК неуютно, злые ферменты того и гляди норовят порвать ее в клочья. Кроме прочего, ДНК – это кислота, так что реакции с образованием щелочей бактериям противопоказаны, иначе ДНК нейтрализуется и выпадет в виде соли. Да и вообще, много ли проведешь противоречащих друг другу реакций в одной тесной бактериальной клетушке? Поэтому и ДНК у бактерий обычно маленькая, много генов ей и не надо. И форма у нее кольцевая – так ферментам труднее ухватиться, нет кончика, с которого бы можно было начать есть бедную молекулу. Но опять же кольцо не сделаешь слишком длинным – вырастет вероятность разрыва.
Другое дело в ядре! Любо там, тишь, благодать, примиренье. ДНК надежно спрятана за ядерной мембраной. Теперь ее можно раскольцевать в длинные хромосомы, а их самих напихать в клетку сколько душе угодно (у папоротника-ужовника их 1260 в каждой клетке). Беспрецедентное увеличение генетического материала позволяет ввести в эксплуатацию новые, невиданные доселе обменные процессы, усложнить их, что в будущем станет залогом сначала колониальности, а после и многоклеточности.
Рис. 6. Эукариотическая клетка с ядром и митохондриями.
Все опасные обменные процессы идут снаружи, в цитоплазме, да еще разнесены по отдельным пузырькам. С этого момента в полные права вступает “пузырькование”; через это странное слово можно определить всю сущность жизни. Жизнь как пузырькование пузырьков в пузырьках, емкостей, без конца вдавливающихся друг в друга и выпучивающихся наружу: на уровне клетки, эмбриональных бластул и гаструл, мозговых пузырей и зачатков органов чувств, трофобластов, амнионов и желточных пузырьков, мозговой, грудной и брюшной полостей, полых внутренних органов и даже вне организма – нор, гнезд и домов. Но стоп! Мы забежали слишком далеко вперед. В протерозое дело ограничилось лишь ядром и митохондриями.
ДНК эукариот защищена ядерной мембраной от вторжения извне – вирусов и горизонтального переноса генов от других организмов, что можно рассматривать как прогресс, так как позволяет сохранить свое “я”. Но изменчивость бактерий – в своем роде залог их успеха, благодаря ей они могут очень быстро приспосабливаться к новым условиям. Получив стабильность, мы – эукариоты – утеряли пластичность.
Митохондрии синтезируют АТФ, что дает огромные энергетические возможности. Энергию можно запасать по-разному: в жирах, углеводах, белках, но АТФ – лучшая батарейка, хотя и недолговечная. Первые эукариоты, поглотившие бактерий, умевших синтезировать АТФ, получили такое преимущество, что все другие тут же проиграли эволюционную гонку. Сейчас на планете нет организмов, живущих без АТФ. Правда, остается под вопросом, существовали ли предки эукариот, не умевшие синтезировать АТФ, или они утеряли эту способность, положившись на новообретенные генераторы. В любом случае из поглощенных бактерий получились митохондрии, у них и до сих пор имеется бактериальная кольцевая ДНК и собственные рибосомы, они делятся самостоятельно и живут как внутриклеточные симбионты, причем в одной нашей клетке их может быть до двух тысяч. Но часть своих генов они сдали на хранение в более надежное ядро, так что теперь не так легко понять, где граница между собственно нами и нашими жильцами. Обретение митохондрий преобразило жизнь эукариот, благодаря им мы можем активно двигаться. Например, ими насыщена красная скелетная мускулатура, скажем прямые мышцы спины, держащие нас вертикально. Иначе говоря, метаболические нужды протерозойских одноклеточных обеспечили наше прямохождение.
Глава 7 Звено 2: аэробная атмосфера – многоклеточность и твердые части тела (поздний протерозой и ранний кембрий, 850–540 млн лет назад)
Докембрийский мрак скрывает много тайн. Как возникли первые нервные клетки? Как появилось разделение на два пола? Слишком много гипотез, слишком мало фактов. Но все же о некоторых вещах мы можем говорить достаточно уверенно.
В катархее, архее и начале протерозоя в атмосфере было много углекислого газа, метана, сероводорода, аммиака и водяных паров, но почти не было кислорода. Примерно 2,5 млрд лет назад или даже раньше цианобактерии начали производить свободный кислород, но он поглощался горными породами и шел на образование озонового слоя. Кстати, спасибо им за это, без него нам было бы нелегко, ведь озоновый слой защищает нас от космической радиации. Ко времени 850–600 млн лет назад упорные цианобактерии нафотосинтезировали катастрофически много кислорода и отравили им всю атмосферу (справедливости ради надо сказать, есть версия, что кислород сам высвободился из мантии Земли, без помощи бактерий). Для преобладавших в тогдашних экосистемах анаэробов (организмов, живущих в бескислородной среде) кислород был страшным ядом. По всей видимости, это привело к глобальному вымиранию. Приятно сознавать, что не только человек способен так загадить окружающую среду, что потом сам не может в ней жить. Мы же – потомки тех редкостных протерозойских аэробов, которые поначалу с трудом привыкали к ужасному яду в недрах цианобактериальных матов, зато потом попали просто в райские условия.
Кислородный обмен – хорошая вещь. С его помощью можно получать гораздо больше энергии, чем при анаэробном существовании. А с помощью этой энергии можно делать новые чудесные вещи, например увеличивать размеры тела и синтезировать новые вещества. В большей клетке можно хранить большее количество ДНК, а за счет этого усложнить свое строение.
В числе прочего появляется возможность стать многоклеточным. Жить толпой надежней и веселей, неспроста еще на уровне бактерий совершались попытки в этом направлении. Но истинно многоклеточное существо внутренне противоречиво. С одной стороны, все его клетки содержат одинаковую генетическую информацию, с другой – работать в разных клетках она должна по-разному. Основная проблема возникает с размножением. С появлением многоклеточности в мире появились дряхлость и смерть. Одноклеточные не умирают от старости – они могут погибнуть лишь от случайности, голода или хищника. Главная цель любой приличной клетки – стать двумя клетками, жить вечно. Даже если такие организмы соберутся в кучку и станут как-то общаться между собой, они еще не станут многоклеточным организмом, их можно назвать лишь колонией – бесформенной кучей одиночек-эгоистов. В истинно многоклеточном общежитии нужен строгий контроль за размножением, большинство клеток гарантированно умрут, а потенциальным бессмертием обладают лишь гаметы – половые клетки. Убедить рядовую – соматическую – клетку не размножаться, а жить и добровольно сгинуть для обеспечения бессмертия гаметы очень трудно, для этого нужно много сложных генов (притом что гены во всех клетках одни и те же), а их можно хранить лишь в большой клетке с ядром. Поэтому бактерии так никогда и не смогли стать многоклеточными, а некоторые эукариоты таки преодолели сложность.
Правда, и у многоклеточных бывают рецидивы, когда клетка “вспоминает”, что она свободна, никому ничего не должна и может делиться сколько влезет – тогда возникает рак. Причина – мутация, поломка генов-ограничителей, держащих эгоизм в узде.
Получив многоклеточность, мы стали большими и сложными, но потеряли индивидуальное бессмертие, да еще получили в нагрузку шанс умереть от собственных клеток, стремящихся к бессмертию. Адекватна ли цена?..
Многоклеточность бывает разная. Первые опытные образцы, судя по современному трихоплаксу Trichoplax adhaerens, больше напоминали кляксу. Потом тело стало шариком; затем оно завернулось кувшинчиком, причем двухслойным – это уровень кишечнополостных и плоских червей. Но такая форма имеет маленький недостаток: вход и выход из пищеварительной системы – это одно и то же отверстие. Стало быть, нельзя есть непрерывно, а ведь хочется! Более того, такой пищеварительный тракт невозможно дифференцировать на части. Посему величайшим достижением неких протерозойских животных стало обретение анального отверстия. Тело преобразовалось из кувшина в трубку (каковой и пребывает доселе), теперь стало возможно лопать сколько влезет, а пищеварительный тракт – подразделить на сегменты: глотку, пищевод, желудок, переднюю кишку, заднюю кишку. Конечно, не все эти отсеки возникли одновременно, но главное было начать. А в разных отделах можно выделять разные ферменты, переваривать разные вещества, лучше их усваивать, а через то – повышать обмен веществ.
История возникновения пищеварительной системы каждый раз повторяется в нашем эмбриогенезе: сначала из бластулы впячиванием стенки внутрь образуется гаструла с одним отверстием – бластопором – наружу и полостью – гастроцелью – внутри, будущей пищеварительной системой. Фактически это уровень гидры или медузы. Потом с противоположной бластопору стороны вдавливается второе отверстие и соединяется с гастроцелью – это уровень круглых червей (условно, конечно). Человек – тоже трубка. Из сего, кстати, следует интересный казус: полость пищеварительной системы – это на самом деле внешняя среда по отношению к человеку, а бактерии-симбионты, сидящие в нашем кишечнике, сидят в реальности снаружи от нас. Они и рады бы стать паразитами, да иммунная система внутрь не пускает. Потому же так просто решается загадка, столь мучащая многих школьников, постигающих анатомию: почему многие железы внешней секреции открывают свои протоки в желудок и кишечник? Вроде же они внутри человека? На самом деле протоки открываются вполне себе наружу, просто “наружа” завернута в нас и даже проходит сквозь нас.
Кстати, о ртах…
Многоклеточные животные в первом приближении делятся на две масштабные группировки – первично– и вторичноротые. К первым относятся, например, моллюски и членистоногие, ко вторым – иглокожие и хордовые. У первичноротых отверстие, появляющееся у гаструлы, становится в последующем ртом, а возникающее позже – анальным. У вторичноротых все наоборот, первым закладывается именно анальное отверстие. Долгие годы зоологи и эмбриологи спорили: свидетельствует ли такая разница о независимом происхождении этих групп, или она второстепенна. Точку в дискуссии поставило открытие Hox-генов – особого семейства генов, определяющих закладку переда, середины и зада. Оказалось, что эти гены мало того что весьма схожи от червей до человека, так они еще и жутко консервативны. Различия же первично– и вторичноротых определяются только разницей в последовательности формирования в общем-то одинаковых частей. Мы начинаем формироваться сзади наперед, а мухи – спереди назад.
Конечно, эмбриологи не могли удержаться и не поиграться с включением-выключением Hox-генов; идеальные для этого объекты – дрозофилы, ведь им от жизни надо немного, они выживают даже при довольно серьезных нарушениях эмбриогенеза. Так вот, если выключить определенный Hox-ген, отвечающий за формирование третьего сегмента груди с последними ножками и жужальцами, то срабатывает другой ген, третий сегмент развивается по образцу второго и получается четырехкрылая муха. Теоретически, если включать гены лишний раз, можно вывести и мушиную многоножку. Если запустить первый Hox-ген и спереди, и сзади, должен получиться дрозофилий Тянитолкай с двумя головами с обеих сторон. Иногда такие нарушения возникают сами собой, и не только с Hox-генами, но и другими, отвечающими за верх-низ, право-лево, конечности, глаза и прочие части тела. Тогда могут рождаться сиамские близнецы, двухголовые, трехрукие и прочие подобные индивиды. Это, ясно, явная патология, но между нормой и патологией грань, как ни странно, очень туманная, так что эволюция подобных регуляторных генов была главным движителем эволюции, ответственным за появление частей тела, отделов черепа и позвоночника, формирование грудной клетки и конечностей, а также всего прочего, чего в протерозое еще не было, но что было вот-вот готово появиться.
Существуют и другие гены, необычайно похожие у первично– и вторичноротых, до того, что после пересадки гена PAX6 от мыши к мухе чужие гены продолжили работать и дали правильный результат! У мухи с мышиными генами стали появляться дополнительные глаза, причем не мышиные, а фасеточные, ведь гены PAX6 сами не определяют форму и строение органов, а лишь запускают другие нужные в данном месте тела гены.
Большая часть протерозойских живых существ жила в воде, причем в верхнем слое, так как их собственные остатки делали воду мутной, отчего в нижних слоях было слишком темно, чтобы там могли жить водоросли, так что у дна кислорода фактически не было. Да и в верхнем слое кислорода было не слишком много, ведь от солнца вода нагревается, а в теплой воде газы растворяются плохо (для проверки этого тезиса достаточно согреть бутылку газировки).
Некоторое время спустя, в начале кембрия (542 млн лет назад), появились эффективные планктонные фильтраторы, что-то вроде нынешних рачков. Они ели органическую муть, плавающую в толще воды, и склеивали ее в виде пеллетов, быстро падавших на дно. От этого мутность воды снизилась, а водоросли смогли жить в более глубоких водах. Около дна увеличилось содержание кислорода, так что и эта часть планеты стала доступной аэробам. И тут произошел прорыв!
Увеличение размера клетки ограничено прочностью клеточной мембраны, иначе клетка растечется или даже лопнет. Надо как-то укреплять границы. Можно нарастить толстую клеточную стенку, как сделали растения и грибы. Но она ограничивает подвижность – трудно бежать, когда ты дерево. Можно нарастить внеклеточную оболочку вокруг всего тела, например хитиновый панцирь членистоногих. Но это в любом случае тяжелая штука, тянущая на дно, где утонувшие задыхались без кислорода. Пока у дна условия были анаэробные и царила тьма, там могли жить лишь чудаковатые хемосинтетики-анаэробы, а животные и растения не могли стать большими и прочными. Когда же около дна появился кислород, проблема исчезла и перед живыми существами открылись невиданные доселе перспективы. Дальше дна не провалишься. Теперь стало возможным ползать по субстрату, становясь сколь угодно большим и тяжелым. Унылое и безжизненное доселе дно повеселело, расцвело и зашевелилось. Реализация открывшихся возможностей известна как “кембрийская революция”. Собственно, так палеонтологи с геологами и различают слои докембрия и кембрия: в первых мы не видим крупных животных с твердыми покровами, а во вторых их полно. Долгое время “кембрийский взрыв” был загадкой для ученых. Получалось, что мшанки, кораллы, моллюски, брахиоподы, трилобиты и прочая членистоногая нечисть возникли ниоткуда. В реальности их предки жили уже в докембрии, но имели микроскопические размеры и зачаточные твердые покровы.
В венде – преддверии кембрия – существовали и сравнительно крупные существа, но все они были бесскелетными, а потому их отпечатки сохраняются крайне редко. Самый известный их пример – эдиакарская фауна, сборище фантастических тварей инопланетного облика, лишь малая часть коих имеет родство с современными животными.
Так скажем же спасибо безымянным героям – докембрийским цианобактериям и кембрийским фильтраторам – за наши кости, зубы и ногти, прочность и стойкость, улыбку и прическу, маникюр и педикюр.
Кстати, о морозе…
В конце протерозоя грянуло Лапландское оледенение. Уже одно его название должно нагонять страху на нас, тропических зверей. Но хуже того, оно действительно было самым сильным за всю историю планеты. Земля чуть ли не целиком была скована льдами, а жизнь висела на волоске. Расчеты показывают, что полное покрытие планеты снегом и льдом чревато необратимым остыванием: большая часть доходящего от Солнца тепла будет отражаться обратно в космос, а оставшегося не хватит на растапливание ледников. Если бы такой печальный сценарий реализовался, еще неизвестно, смогли бы выжить хоть какие-то организмы. Наша Земля могла превратиться в аналог Марса.
С другой стороны, не исключено, что именно похолодание сыграло положительную роль, так как в холодной воде кислород растворяется лучше; недаром именно арктические и антарктические моря особо богаты жизнью – водорослями, рачками, рыбами и китами.
Глава 8 Звено 3: хорда, трубчатая нервная система и зрение (ранний кембрий, 530–535 млн лет назад)
Враннем кембрии в палеонтологической летописи появляется множество новых животных, в том числе первые хордовые. Некоторые из них так примитивны, что далеко не все палеонтологи признают их принадлежность к хордовым. Например, Haikouella lanceolata и Yunnanozoon lividum, жившие 520–525 млн лет назад в Китае, внешне похожи на ланцетника, но в деталях очень уж от него отличны. Например, наличие у них хорды и жаберных дуг сомнительно, а расположенные на спине сегменты могут быть не миомерами – мышечными сегментами, а членистой кутикулой – плотной защитной оболочкой. Как бы то ни было, подобные существа совершенствовались, и развитие мы видим в лице Pikaia gracilens из среднего кембрия (505 млн лет назад) Канады. У пикайи кутикула погрузилась внутрь и стала “спинным органом”, своеобразным заменителем хорды, хотя и истинная хорда тоже имелась (Conway Morris et Caron, 2012). Была у нее и нервная трубка, а также настоящие миомеры, но хватало и странностей: жабры наружные и ветвящиеся, а на голове красовались длинные усики. Бóльшую датировку, но и более продвинутое строение имеет Haikouichthys ercaicunensis из нижнего кембрия (530–535 млн лет назад) Китая. Он уже обладал настоящими жаберными дугами и глазами. Наконец, 500–515 млн лет назад в Канаде мы обнаруживаем уже “прорыбу” Metaspriggina walcotti, у которой пока нет плавников и почти нет черепа, зато есть орган обоняния и глаза. Современным аналогом являются ланцетники Branchiostoma, одиннадцать видов которых населяют ныне прибрежные зоны морей всего мира.
Таким образом, в первые миллионы лет кембрия формируются хордовые, типичными признаками которых являются хорда и нервная трубка, а приятным дополнением – глаза.
Хорда – эластичный штырь, идущий вдоль тела хордовых, который служит опорой телу в целом и мускулатуре в частности. Вероятно, хорде предшествовал “спинной орган” пикайи, который выполнял примерно ту же функцию, а сам образовался из спинной кутикулы, но эта гипотеза пока не может считаться полностью обоснованной. Правда, у большинства позвоночных (то есть высших хордовых) хорда имеется только в эмбриональном состоянии, зато вокруг нее образуется позвоночник. У нас ее остатки можно видеть внутри межпозвоночных хрящей.
Наружный панцирь членистоногих – экзоскелет – красив и прочен, надежно защищает от всяких невзгод, но тяжел и негибок. Если мы будем увеличивать, скажем, жука до размеров собаки или коровы, то толщина хитина при сохранении прочности должна увеличиваться такими темпами, что вес панциря будет совершенно неподъемным. Самая же главная проблема с экзоскелетом – ограничение роста. Когда хитин застывает, то не дает возможности увеличиваться. Можно, конечно, наращивать новые членики в длину, но для приличного роста приходится линять. А линяющее членистоногое крайне уязвимо, его всяк готов обидеть. Едва ли не большинство смертей таких животных происходит именно во время линьки.
Рис. 7. Pikaia gracilens (а), Haikouichthys ercaicunensis (б), Metaspriggina walcotti (в) и ланцетник (г).
Внутренний скелет лишен этих недостатков, с ним можно расти сколько угодно, а его собственный вес увеличивается далеко не такими темпами, ведь хорда имеет вид палки короче и тоньше животного, а не изогнутой пластины длиной и шириной больше животного. Для свободно плавающего существа, к тому же регулярно втыкающегося в песок, схема с хордой самая подходящая. Впрочем, на уровне первых хордовых выгоды внутреннего скелета были далеко не столь очевидны, как может показаться с нашей точки зрения. Ведь хищники имели хелицеры, радулы и прочие колюще-режущие штуки, которыми так легко покромсать мягкое тельце вкусного хордового, и никакая внутренняя хорда не сможет этому помешать. Кто бы мог подумать в начале кембрия, что из столь уязвимого создания вырастет гроза природы? К счастью, тогда никто не мог подумать, ибо мозгов еще не было. Но они появлялись…
Нервная трубка – великое достижение. У большинства мало-мальски продвинутых беспозвоночных нервная система состоит из ганглиев – кучек нейронов, связанных между собой пучками аксонов вдоль и поперек. У вытянутых животных она приобретает вид лестницы, отчего называется лестничной. У такой системы есть существенный недостаток: при увеличении объема ганглия клетки, находящиеся в его глубине, перестают получать достаточное снабжение, потому что все вкусное забирают нейроны, расположенные на поверхности. Можно, конечно, увеличить число ганглиев, вытянув тело. Скажем, немертины Lineus longissimus могут достигать 60 м длины! Сложность системы от этого, однако, не увеличивается, ведь все ганглии одинаковы. Насекомые решили эту проблему, обзаведясь грибовидными телами – похожими на поганки выростами мозга; за счет вытянутой формы их площадь довольно велика, и они выполняют роль коры мозга.
Но хордовые превзошли всех. Их нервная система представляет собой трубку, опутанную снаружи кровеносной системой, а изнутри заполненную спинномозговой жидкостью, которая образуется все из той же крови и выполняет сходные функции. То есть обмен веществ поддерживается и снаружи, и изнутри. Стенки трубки сразу можно сделать вдвое толще, а если раздуть это все пузырями, а пузыри потом покрыть бороздами, то объем нервной ткани можно увеличивать если и не до бесконечности, то уж точно до огромных величин. Правда, у кембрийской пикайи и современного ланцетника эти потенциальные возможности еще не реализованы, но главное – задатки. Хордовые, жившие полмиллиарда лет назад, строго говоря, не имели никаких интеллектуальных преимуществ перед тогдашними членистоногими, но именно благодаря их нервной трубке написаны эти строки, а Читатель может их прочитать.
Каким именно способом из ганглиозной системы получилась трубчатая, не вполне ясно. Интригует тот факт, что у нехордовых беспозвоночных нервная система расположена на брюшной стороне, ниже пищеварительной системы, а у хордовых – на спинной. Как из первой системы сформировалась вторая – загадка. Есть несколько интересных предположений. Например, некие предки хордовых могли перевернуться на спину и начать плавать кверху пузиком. Также они могли освоить жизнь на боку, подобно современной камбале (которая, сама повернувшись на бок, то ли вернулась в исходное положение, то ли окончательно перевернулась), из двух цепочек ганглиев одна исчезла, а вторая несколько сместилась и оказалась над кишечной трубкой, что у уплощенного животного не требовало больших перестроек. В пользу второй версии свидетельствует, например, асимметрия личинки ланцетника: она заметно перекошена, примерно так, как и должно быть искажено лежачее на боку существо. А лечь на бок предки хордовых могли в силу своего придонного образа жизни, тут аналогия с камбалой просто напрашивается.
Конечно, проблема возникновения нервной системы далеко не решена (Holland, 2015). Ведь на самом деле среди вторичноротых есть довольно различающиеся ее варианты. Интригует тот факт, что нервная система хордовых была, вероятно, исходной, примитивной, а полухордовые и иглокожие в этом случае оказываются эволюционно продвинутыми. Что ж, надо признать, мы взобрались по лестнице эволюции ниже морских ежей и баланоглоссов. Кстати, открытие аксохорда – морфологического, эмбриологического и генетического аналога хорды – у кольчатых червей показывает, что зачаток хорды, видимо, имелся у общих предков первично– и вторичноротых (Lauri et al., 2014). Затем первичноротые его большей частью потеряли, а мы донесли до современности – в буквальном смысле на своих хребтах – дремучий примитивный докембрийский вариант строения.
Незамысловатый образ жизни ланцетникообразных предков до сих пор виден в нашем строении. По всей нервной системе на задней стороне расположены чувствительные элементы (кроме обонятельных), а на передней – двигательные и обонятельные. Ведь ползали они вдоль дна на брюшке, все напасти валились на них сверху, а искали пищу они хеморецепторами, расположенными на передне-нижнем конце рядом со ртом. Мозг человека до сих пор ориентирован как у четвероногого животного и даже как у ланцетника (хотя у ланцетника головного мозга как бы и нет). Поэтому, например, передние корешки спинного мозга двигательные, а задние – чувствительные, в прецентральной извилине расположен “двигательный человечек”, а в постцентральной – “чувствительный”, сосцевидные тела и гиппокампальная извилина, расположенные спереди, отвечают за обоняние, а затылочная доля сзади – за зрение.
Кстати, о зрении. Видимо, первые фоторецепторы возникли еще в докембрии, по крайней мере очень похожие на глаза штуки вроде бы есть у некоторых эдиакарских животных. У самых ранних хордовых начала кембрия – Haikouichthys ercaicunensis – уже есть настоящие глаза. Глаза совершили революцию. Раньше, чтобы что-то понять, надо было ткнуться носом или хотя бы прикоснуться усиками, в лучшем случае – унюхать. Но хеморецепция не дает понятия о расстоянии и не позволяет как следует распознать направление на источник запаха. В слепом мире докембрия не имел значения цвет, а форма определялась голой функциональностью, не было понятия красоты и грации. Зрение все изменило: теперь стало можно издали и надежно распознать как добычу, так и опасность, найти спутника жизни или вовремя сбежать от нежелательного знакомства, на других посмотреть и себя показать. Впрочем, у первых хордовых глаза были не ахти какие зоркие, скорее это были просто скопления светочувствительных клеток, различавшие свет, тьму и тени набегающих хищников. А враги и соперники меж тем эволюционировали куда как резво. Например, трилобиты того же времени имели мало того что фасеточные, да еще в буквальном смысле хрустальные глаза. У более поздних членистоногих может быть множество глаз: у скорпионов до шести пар, у пчелы два сложных и три простых. Даже у гребешка – морского двустворчатого моллюска – имеется до сотни глаз, хотя бы и совсем простеньких.
Прозрачность ланцетникоподобных предков сыграла с нами очередную злую шутку: светочувствительные клетки оказались повернуты аксонами вперед. Для прозрачных животных ориентация рецепторов не имела ни малейшего значения: свет доходил со всех сторон, а задачей глазка было не разглядывать детали в определенном направлении, а фиксировать тень от хищника. Случайно получилось так, что аксоны оказались направлены наружу, а потом загибались обратно к нервной трубке. У нас же теперь в глазу есть слепое пятно: аксоны со всей сетчатки сходятся вместе в зрительный нерв, разворачиваются задом наперед и выходят через стенку глаза назад – к мозгу – через зазор среди рецепторов. Конечно, мы этого пятна не замечаем, но только благодаря работе мозга, который все время должен додумывать: что там, на месте “черной дыры”? Не было бы слепого пятна, мозги не загружались бы еще и этой работой. Другое дело – головоногие моллюски: их предки предусмотрительно расположили свои рецепторы аксонами назад, так что глаз, например, осьминога не имеет слепого пятна. В остальном же глаза головоногих удивительно похожи на наши – это один из лучших примеров конвергенции, независимо появившегося сходства. Впрочем, мы опять забежали далеко вперед, до всего этого оставались еще миллионы и миллионы лет…
Ланцетникоподобные или даже более древние червеподобные предки оставили нам много и прочего наследства. Еще до зрения главным видом чувствительности была хеморецепция. В числе прочего она работала как система определения “свой – чужой”. В последующем – уже у позвоночных – из примитивного обонятельного органа развился особый вомероназальный, или якобсонов, орган. У млекопитающих он расположен в нижней части носовой перегородки и представляет собой трубочку с невнятными на вид клетками внутри. Но сколь много значит этот древний невзрачный пережиток для судеб человечества! Якобсонов орган определяет химический состав феромонов – специфических для каждого человека химических молекул. Особое коварство якобсонова органа заключается в том, что информация от него не проецируется прямо на новую кору конечного мозга, то есть на сознание. Для человека как бы и чувства-то никакого нет; потому в языке отсутствует даже слово для самого ощущения. Но древние части мозга не дремлют, каждое мгновение они придирчиво распознают флюиды, витающие в воздухе. Если феромоны другого человека похожи на молекулы нюхающего, то мозг решает: “У этого человека химия такая же, как у меня, родимого, стало быть, у него такая же генетика, значит, он из моей популяции, он не конкурент за ресурсы”. До сознания же из дремучих недр подкорки доносится гулкий железобетонный вывод: “Этот товарищ – свой в доску! Он хороший!” Горе тому, у кого феромоны отличны, подкорковые ядра соображают: “У него другая химия, инородная генетика, он из другой популяции – однозначно конкурент, чужак!” В сознание вплывает непоколебимое убеждение: “Он плохой! Наверняка и детишек-то он не любит, и бабушек через дорогу не водит, ворует, бездельничает и вообще аморальный тип! Надо бы держаться от него подальше, а еще лучше – избавиться; если же и может быть от него какая польза, то лишь на соляных рудниках или хлопково-сахарных плантациях”. Самое неприятное, что убеждения эти исходят из самой глубины души, они донельзя искренни и не подразумевают проверки. Да и о какой проверке речь, когда система была отработана во времена, когда и мозга-то головного толком не было, не говоря уж о коре и интеллекте? Многие животные успешно пользуются якобсоновым органом; Читатель мог наблюдать это на любимой кошечке, которая иногда осторожно касается языком какого-нибудь предмета, а потом, полуоткрыв ротик, смешно дышит, загибая язык и прикасаясь им к небу. Это она отправляет взятые на пробу феромоны в резцовый канал, откуда они идут прямиком в якобсонов орган. У млекопитающих это чувство играет огромную роль в коммуникации (некоторые животные, впрочем, используют его своеобразно: змеи двумя кончиками раздвоенного языка собирают феромоны грызунов, чтобы успешнее охотиться на них; так они повернули общение мышей против них самих). У человека вомероназальный орган сильно редуцирован, он работает еле-еле (если честно, толком непонятно, работает ли он у человека вообще или, может, работает, но не у всех: Meredith, 2001; Monti-Bloch et al., 1998), но он оставил отчетливые следы на нашем черепе. На небе позади резцов есть резцовый канал – отверстие, соединяющее ротовую и носовую полости, через него как раз проходила трубка органа. Но напрасно вы, Уважаемый Читатель, пытаетесь нащупать языком дырку: она уже заросла мягкими тканями и не функционирует; сам орган лежит на сошнике – кости носовой перегородки, феромоны попадают в него через нос.
Как многие явления природы, якобсоново чувство имеет две крайности.
С одной – темной – стороны, вомероназальный орган может быть в немалой степени ответственен за расизм: ведь именно у представителей разных рас феромоны отличаются в наибольшей степени. Именно из-за подсознательности работы органа расизм так легко возникает сам собой и столь сложно с ним бороться. Ведь убеждение о том, что отличающийся феромонами человек плохой, входит в сознание исподволь из подкорки, на полном автомате, для этого ничего не надо делать. Для того же, чтобы понять, в чем истинная причина неприязни и что моральные, интеллектуальные и прочие личностные качества человека не зависят от его химии, надо немало потрудиться новой корой конечного мозга, иметь информацию и уметь ее обрабатывать, а это уже не каждому дано. Конечно, стоит помнить, что не в одном якобсонове органе дело: зрение, слух и злобная пропаганда тоже делают свое черное дело, но эти воздействия прямо проецируются на неокортекс, так что с ними легче разбираться; якобсоново же чувство глубоко личное и внутреннее.
Есть у работы якобсонова органа и противоположная – светлая – сторона. Если феромоны другого человека почти идентичны собственным, но все же отличаются, да он еще другого пола, что еще надо?! Якобсонов орган включает программу “Любовь с первого взгляда”. Впрочем, и тут есть доля вероломства: ведь опять же реальные свойства человека не зависят от его феромонов. Проходит время, как любое чувство, якобсоново притупляется, ан уж печать в паспорте, детишки в детском саду, поздно включать неокортекс…
Так что, если при встрече с новым человеком в вас проснется немотивированное внутреннее убеждение “Он плохой!” или “Он хороший!” – подумайте, не попутал ли вас якобсонов орган, притормозите на секунду, включите неокортекс. Система, помогавшая выживать ланцетникам, рыбам и зверообразным рептилиям, в наши дни может давать трагические сбои и направлять наше поведение по ложному пути.
Из прочего докембрийского багажа до нас дошел общий план опорно-двигательного аппарата. Так, мышечная система в виде чередующихся миомеров явственно видна и в нашем теле: спинные, межреберные и брюшные мышцы, хотя и заметно перепутались, все же остаются принципиально сегментированными.
Первые хордовые были животными незатейливыми, у них, например, глотка занималась одновременно и глотанием, и дыханием, и выведением половых клеток. У членистоногих эти системы разделены: жабры, легкие или трахеи – сами по себе, глотка, желудок и кишечник – отдельно, а яичники и семенники имеют свои протоки. Муха в этом смысле сложнее нас, у нее трахеи пронизывают все органы напрямую, в том числе головной мозг, так что ветер в буквальном смысле гуляет у нее в голове. Правда, эта же особенность – одна из главных причин, не дающих насекомым вырасти до очень больших размеров, иначе им пришлось бы превратиться в губку из трахей, ведь площадь трубочек растет в квадрате, а объем тканей – в кубе. Кроме того, в трахеи запросто могут попасть зловредные бактерии, и победить их сложно, ибо такая дыхательная система отделена от кровеносной и иммунной.
В отличие от членистоногих, кислород у нас доставляется к органам с помощью кровеносной системы, так что есть возможность делать это избирательно и прицельно (вспомним красивые цветные картинки томограмм мозга, на которых отмечается именно активность кровотока, а не работа нейронов как таковая), а лейкоциты по пути избавляют организм от болезнетворных микробов. Наши предки дышали фактически стенками пищеварительной системы, мы делаем так же, но стенки эти у нас вздулись в виде очередных пузырьков, что позволяет обеспечить высокий обмен, столь необходимый для мышления. Кстати, происхождение нашей дыхательной системы из пищеварительной привело к тому, что в бронхах наших легких есть вкусовые – “горькие” – рецепторы (Deshpande et al., 2010).
Через те же самые жаберные отверстия у первых хордовых выводились и половые клетки. Созревали эти клетки в гонадах, да вот беда – специальных протоков для их транспортировки предусмотрено не было. Наружные слои гонад и стенки тела рвались, половые клетки выходили в околожаберную полость, а оттуда через дыхательные отверстия – наружу. Для мелкого животного, сделанного из нескольких слоев клеток, это не проблема, но потомки-то выросли. И до сих пор у женщин половые клетки (стадия под названием “овоцит II порядка”) выходят через разрыв наружного слоя яичника прямо в полость тела. Однако ж разрывать брюшную стенку уже не покажется такой безобидной затеей, да и глотка “уехала” далековато, а единственное оставшееся жаберное отверстие закрылось барабанной перепонкой, так что пришлось эволюции открыть изначально замкнутую вторичную полость тела женщины с помощью маточных труб. Система на редкость путаная, с точки зрения членистоногих.
Вот что хордовым действительно удалось, так это кровеносная система. Правда, у ланцетника специальной выстилки мелких сосудов вообще-то нет, так что его “капилляры” – это просто трубкообразные щели в мускулатуре, а кровеносная система фактически незамкнутая, но это мелочи. Выстилка все же появилась, замкнутость замкнулась, и теперь снабжение всем полезным органов может быть точечным и прицельным. У членистоногих и моллюсков сердце представляет собой открытую спереди трубку со щелями по бокам, перебалтывающую гемолимфу, которая омывает все внутренние органы. Для мелкого животного такая система идеальна – не надо тратиться на лишние сосуды и занимать ими и так незначительное пространство. Но при увеличении размеров тела и толщины тканей такая система перестает полноценно работать – до глубоких слоев клеток питательные вещества уже не доходят. Зачем первые хордовые приобрели сосуды – вопрос, но теперь мы можем быть большими и умными. Впрочем, человеку есть над чем еще работать, ведь у нас сердце высоко, а тело большое, качать кровь снизу проблематично, чуть что – появляются варикозные расширения вен. То ли дело у миног и миксин: у них в венозной системе имеются три дополнительных сердца – в голове, печени и хвосте; варикоз им не страшен!
Глава 9 Звено 4: учетверение генома, обретение скелета, зубов и мозга (ордовик, 470–480 млн лет назад)
Долго ли, коротко ли, прогресс шел своим чередом, но идти ему было нелегко. Ведь для появления каких-нибудь новых замечательных усовершенствований необходимы новые гены. Если же мутируют уже имеющиеся гены, то старые признаки модифицируются, но медленно, пока они станут чем-то принципиально новым, скорее всего, минует очень много времени. Гораздо веселее процесс пойдет, если генетического материала станет много. И тут позвоночным повезло, причем дважды (а некоторым и трижды). У неких хордовых, существовавших уже после отделения линии, ведущей к современному ланцетнику, произошло полногеномное удвоение – дупликация, а потом случилось еще одно удвоение (Putnam et al., 2008). Второе, вероятно, свершилось уже после отделения линии современных миног, хотя это пока не вполне ясно. У человека, таким образом, геном увеличен в четыре раза по сравнению с ланцетником, а учитывая изначальную диплоидность – 24=8, – фактически мы октаплоиды!
В момент удвоения половина генов продолжала работать как прежде, а вторая могла беспрепятственно мутировать. Понятно, что бóльшая часть генов при этом просто поломалась, но часть смогла получить новые функции. Позвоночные получили два отличных шанса быстро и безопасно усложниться, и они их использовали. Закономерно, что новые гены отвечают в основном за регуляцию активности других генов и эмбриональное развитие, а также работу нервной системы и передачу сигналов. Сколько еще миллионов лет понадобилось бы для появления человека, не случись этих дупликаций?
Кстати, о рыбах, лягушках и мечехвостах…
В третий раз геном удвоился 350 млн лет назад у предков костистых рыб, а у предков южноамериканских украшенных рогаток Ceratophrys ornata примерно 40 млн лет назад – удвоился даже дважды относительно обычных лягушек. То есть рогатки – октаплоиды в мире амфибий и совсем уж невероятные полиплоиды в сравнении с ланцетниками. Может, поэтому костистые рыбы сейчас самая разнообразная и многочисленная группа позвоночных? Ведь если считать по числу видов, то мы живем в эру костистых рыб, а вовсе не млекопитающих. А лягушки, быть может, еще не разогнались и у них все впереди? Мир захватят рогатки?!
Удвоение генома случалось и с беспозвоночными, например с бделлоидными коловратками Adineta vaga. Совсем неожиданным оказалось, что две полногеномные дупликации случились у предков мечехвостов – до крайности примитивных с виду ракообразных, почти не менявшихся с палеозоя. Почему нашим предкам увеличение числа генов пошло на пользу и резко ускорило эволюцию, а на мечехвостах никак внешне не сказалось? Пока это загадка…
Меж тем жизнь ставила перед хордовыми особые задачи. Подросшее тело и мало-мальски подвижный образ жизни требует нового уровня обмена веществ. Кальций и фосфор – дефицитные элементы и при этом чрезвычайно важные для жизни, они участвуют в регуляции обмена как на уровне клетки, так и всего организма. Поэтому, когда животное находит источник столь ценного ресурса, хорошо бы не только потребить его, но и запастись на будущее. Когда же такая заначка становится достаточно крупной, обнаруживается ее новое свойство – она тверда! И вот такие гранулы начинают скрипеть на зубах хищника, портить ему аппетит, – это уже защитная функция. Если же такие гранулы скопить во рту, то можно и самому кого-нибудь ухватить за бочок. Дальше – больше, и вот уже плывет по морю этакий червячок с зубами – конодонтоноситель, а если он обзавелся и хрящевым позвоночником, то это уже бесчелюстная рыба Agnatha. Если же постараться и сконцентрировать кальция еще больше, то получится настоящая кость. Неспроста у хрящевых рыб в хрящах содержится больше минеральных веществ, чем у костных, ведь у последних функции хряща и кости расходятся, гибкость и прочность перестают быть синонимами и становятся противоположностями.
Первыми по-настоящему твердыми элементами хордовых стали зубы. Они есть у конодонтоносителей и бесчелюстных рыбообразных, в том числе современных миног и миксин. Зубы возникали неоднократно, например, у крупнейшей хищной рыбы девона Dunkleosteus intermedius края челюстей были покрыты зазубренными клыкоподобными пластинами, но не зубами в нашем варианте. Хрящевым рыбам идея так понравилась, что они целиком покрылись зубами: шершавая кожа акулы или ската сплошь усеяна именно ими, точно такими же, что и во рту, только мелкими. Впрочем, в ордовике все было проще: без челюстей ни прилично укусить, ни тем более прожевать ничего невозможно, но можно вцепиться и не отпускать. Так и делают нынешние миноги: вцепляются в бок рыбы, выделяют прямо в тело жертвы пищеварительные соки, а потом всасывают то, что получилось. Миксины хищнее – они вцепляются в добычу, потом завязываются узлом, прогоняют этот узел вдоль себя (чему способствует обильная слизь) и вырывают кусок мяса.
Первые рыбы были совсем небольшими животными, и добыча их была невелика, но, видимо, иногда достаточно прытка, так что зубы в целом оказались полезным приобретением. А уж в далеком будущем функции их необычайно расширились, вплоть до демонстративной и сигнальной. В следующий раз, когда будете улыбаться белозубой улыбкой, с благодарностью припомните жизнелюбивых ордовикских червячков, которые не хотели быть проглоченными первыми рыбами, отчего последние были вынуждены обзавестись крючками во рту.
Таким образом, части с твердыми минеральными составляющими первоначально, видимо, не были предназначены ни для защиты, ни для опоры. Но в ордовике появились новые напасти: пик расцвета переживали головоногие моллюски наутилоидеи Nautiloidea с прямой раковиной – смертоносные торпеды, самые гигантские из которых – Endoceras – имели раковины до 9,5 м длины! От крупного хищника, как известно, есть два надежных спасения: можно либо спрятаться, либо убежать (можно еще принять бой, но такая стратегия обычно заканчивается плачевно, ведь хищник на то и хищник, что вооружен лучше жертвы). Беспозвоночные в подавляющем большинстве прятались если не в норы, то в разного рода скорлупки. Некоторые хордовые последовали их примеру. Например, одна из древнейших рыб Arandaspis prionotolepis, жившая 470–480 млн лет назад, имела на переднем конце панцирь из множества чешуек. У Astraspis desiderata они слились в уже сплошной спинной щит. Правда, и про бегство они не забывали: хвост оставался свободным, гибким и подвижным, а у большинства хордовых того времени – конодонтоносителей – наружного панциря вообще не было. Но если мелкие и легкие конодонтоносители и ланцетники вполне могли уплыть от хищника без особых усилий, то рыбам двигать подросшее тело, да еще наполовину закованное в доспехи, было нелегко. Гибкая хорда уже не справлялась с задачей точки опоры для мышц, поэтому вокруг нее образовался позвоночник. На первых порах, правда, хорда и позвоночник не исключали друг друга, и у современных миног и некоторых рыб они вполне сосуществуют, но в дальнейшем хорда оказалась уже не столь актуальной, сохранившись лишь у эмбрионов. Позвоночник тоже далеко не сразу стал таким, как у нас. Сначала он был хрящевым, а у круглоротых и хрящевых рыб остается таковым и поныне. Лишь в конце силурийского периода, около 420 млн лет назад, появляются первые костные рыбы. Впрочем, они были не единственными изобретателями кости: в это же самое время очень похожий принцип окостенения выработали бесчелюстные Osteostraci.
Рыбы как минимум дважды вступали на скользкую дорожку бронирования – с появлением панцирных бесчелюстных Heterostraci и панцирных челюстных Placodermi; и это только по-крупному, без учета мелких поползновений типа кузовков и панцирных щук. Ведь как заманчиво замкнуться в уютной скорлупке, отгородиться от всех невзгод и супостатов надежной броней и стагнировать так миллионы лет, прикидываясь пылесосом где-нибудь около илистого дна. Слава эволюции, что наутилоидеи в ордовике, ракоскорпионы в силуре и аммониты в девоне хотели хорошо кушать и изобретали всё более изощренные способы вскрывания консервов, какими становились панцирные рыбы. Благодаря аппетиту гигантских беспозвоночных часть рыб рвалась ввысь, в толщу воды, избегая смерти быстротой и маневренностью. Они расстались с обманчиво спасительными доспехами и миновали опасность превратиться в очередной аналог членистоногих с наружным панцирем. А ведь у некоторых – например, у девонского антиарха Asterolepis – уже и плавники становились членистыми! Такие бы никогда не вышли из воды на твердь земную или, по крайней мере, не смогли бы стать крупными существами, ведь внешняя броня должна утолщаться опережающими темпами, чтобы при увеличении площади не терять прочности, от этого она становится чрезмерно тяжелой, и ее невозможно носить на суше. Это одна из причин, почему наземные членистоногие никогда не могли вырасти до приличных размеров. Хордовые избежали этой ловушки. Но вернемся в ордовик…
Первые рыбообразные обрели головной мозг. У ранних хордовых и ланцетника нервная трубка лишь слегка утолщена в передней части. Но жизнь становилась сложнее, банальное утолщение уже не отвечало новым реалиям. И передний конец нервной трубки стал пузыриться: всего получилось пять последовательных пузырей, причем потом передний стал еще и парным (кстати, момент появления головного мозга логично считать и моментом обособления головы, ведь у ланцетника ее фактически нет, есть лишь головной конец). Неравномерное разрастание стенок вздутий дает пять отделов головного мозга. Передний из них – конечный мозг – ясное дело, занимался обонянием. Обоняние было одним из первых органов чувств, а обонятельные рецепторы закономерно расположены на самом конце головы; неспроста и у нас нос занимает почетное место в первом ряду. Сейчас мы конечным мозгом думаем, но о мышлении ордовикских рыб говорить было бы слишком смело; впрочем, они не были и простыми роботами, скорее их душевные движения можно было бы назвать простейшими эмоциями. Параллельно развивались и иные структуры мозга, в том числе совершенствовалась память: животным с развитой хеморецепцией и несовершенным зрением важно запоминать запахи, связанные с пищей, опасностью и общением. Наследие тех далеких времен в полной мере сохранилось в нашем мозге: лимбическая система отвечает как раз за обоняние, эмоции и память (в полной мере она сформировалась уже у амфибий и рептилий, но корни следует искать у истоков – у первых рыб). Когда на улице дуновение ветерка донесет до вас запах из детства и нахлынут воспоминания, а на лице при этом мелькнет улыбка или сами собой нахмурятся брови – это предки просыпаются в ваших гипоталамусе, гиппокампе и полосатом теле.
Впрочем, первые позвоночные не имели очевидных преимуществ перед беспозвоночными. Хитиновый панцирь или разного рода раковины были у кого угодно, а радула моллюсков и позже, с середины силура, хелицеры ракоскорпионов легко расправлялись с телом первых рыб. Ганглии моллюсков и членистоногих размерами почти не уступали головному мозгу хордовых. Именно головоногие моллюски и другие беспозвоночные были главными хищниками первой половины палеозоя. До торжества позвоночных было еще ой как далеко…
Глава 10 Звено 5: обретение конечностей, челюстей и ребер (начало силура, около 440–430 млн лет назад)
Как уже говорилось, первые рыбообразные плавали, просто изгибая тело. В лучшем случае у них имелись плавниковые складки вдоль тела – на спине, животе и по бокам. Они позволяли держать равновесие, не перекувыркиваться кверху брюшком; у придонных форм возникали также шипы для закрепления в иле. Потом выяснилось, что такие складки можно волнообразно изгибать – ундулировать – и за счет этого плыть. Но у панцирных бесчелюстных с гибкостью были основательные проблемы, особенно на переднем конце. Хвост как основной движитель – это здорово, он хорошо толкает вперед, но не позволяет маневрировать, а резкие повороты в суровом силурийском море – залог выживания. Поэтому плавниковые складки стали дифференцироваться, подразделяться на более отчетливые элементы, превратившиеся в настоящие плавники; они были уже у самых продвинутых бесчелюстных (например, Thelodonti) и еще самых примитивных челюстноротых.
Показательно, что плавники возникали несколько раз независимо; так, самостоятельно приобрели их бесчелюстные Osteostraci. Однако у большинства первых рыб план плавников уже вполне современный: парные представлены грудными и брюшными. В дальнейшем их вариации были бесчисленными, а начиналось все более чем скромно.
Минутка фантазии
Потенциально плавниковую складку можно подразделить и на другое количество плавников. А у некоторых уже развитых рыб акантод (например, Climatius и Euthacanthus с границы силура и девона) между грудными и брюшными плавниками имелись еще до шести пар промежуточных шипов. Это, правда, не были настоящие плавники, но и настоящие первоначально сформировались из примерно таких же шипов. Так что наши две руки и две ноги – в некотором роде дань экономии природы. В принципе, и парные плавники, и – в дальнейшем – ноги могли быть множественными. Почему осьминогам можно, паукообразным, насекомым, ракам и многоножкам тоже, а позвоночные должны довольствоваться несчастными четырьмя? Было бы неплохо иметь 16 конечностей. Или хотя бы шесть для начала. Отличные бы вышли кентавры. Как знать, может, разумные существа со свободными и умелыми руками появились бы на миллионы лет раньше, ведь проблема устойчивости перед ними не стояла бы?
Другие важные преобразования происходили на голове. Еще у кембрийских хордовых жаберные отверстия укрепились маленькими дужками, которые не позволяли краям отверстий спадаться. Позже, как уже говорилось, во рту появились зубы, но челюстей еще не было, рот представлял собой просто дырку или трубку. Если добыча не только активна, но и прочна, ее надо раскусить, а для этого нужны челюсти. Эволюция лепит новые элементы из старых, уже существующих. Нужна твердая основа для зубов? Что там рядом? Ага, жаберные дуги! И первые жаберные дуги стали челюстями. Впрочем, принцип оказался более чем удачным: наши слуховые косточки и хрящи всей средней части дыхательных путей, а также мышцы головы и некоторые железы сделаны из тех же жабр. Процесс этот был долог и сложен, но не будем уходить в тонкости, про это написана не одна книга. Главное – своим жеванию, слуху, мимике, речи и даже здоровью мы обязаны крепежу дыхательной системы древних рыб. Мы жуем жабрами, улыбаемся и хмуримся жабрами, говорим жабрами, вертим головой жабрами, слышим благодаря жабрам, сморкаемся и то их выделениями.
Рис. 8. Схема эволюции жаберных дуг.
Уголок занудства
Жаберные дуги стали основой многих элементов головы, шеи и верхней части туловища. Из верхней половины первой дуги формируется верхняя челюсть, из середины – слуховые косточки молоточек и наковальня, из нижней половины – нижняя челюсть; из верхней половины второй дуги формируется стремечко и шиловидный отросток височной кости, из нижней половины – малые рога и верхняя часть тела подъязычной кости; из третьей дуги – большие рога и нижняя часть тела подъязычной кости; из четвертой – щитовидный хрящ гортани, из пятой – перстневидный и черпаловидный хрящи гортани, из последующих – хрящи трахеи.
Элементы первых трех пар жаберных дуг участвуют в закладке языка, из первой жаберной щели образуется слуховой проход и евстахиева труба, из первого жаберного кармана – полость среднего уха и евстахиева труба, из второго жаберного кармана – небные миндалины, из третьего – две паращитовидные и вилочковая железы, из четвертого – еще парочка паращитовидных.
Из мезенхимы жаберных дуг образуются жевательные и мимические мышцы, а также мышцы гортани и глотки.
Вторые жаберные дуги и щели хорошо видны у человеческого эмбриона примерно в месячном возрасте, а в редких случаях отверстия сохраняются и у взрослого человека по бокам шеи и ведут прямо в глотку. Конечно, такому человеку не суждено стать Ихтиандром, ведь жабра – это не только отверстие, да даже и будь развиты функциональные жаберные лепестки и тычинки, их не хватило бы для снабжения всего человека кислородом, для этого нужны жабры с площадью не меньше, чем у легких. Но одна – первая – жаберная щель у нас все же сохраняется навсегда: она преобразовалась в евстахиеву трубу, а первый жаберный карман – в барабанную полость среднего уха. Впрочем, сквозного отверстия уже нет, снаружи все это прикрыто барабанной перепонкой, но это мелочи. Евстахиева труба выравнивает давление в среднем ухе изнутри от барабанной перепонки, приводит его в соответствие с наружными условиями. Жаберная щель спасает нас от закладывания ушей, когда мы взлетаем или приземляемся на самолете или погружаемся в пучины океана на батискафе (лучше всего при смене высоты сидеть, широко открыв рот, но поскольку в самолете сотня человек с разинутыми ртами выглядела бы слишком сюрреалистично, то пассажирам часто выдают сосательные конфетки – не по доброте душевной, как некоторые думают, а чтобы люди сглатывали слюнки и тем самым пользовались своей жаберной щелью). Вот уж воистину – ухо жаброй не испортишь!
Кстати, о муренах…
Челюсти хорошо, а две – лучше! У мурен, кроме стандартных верхней и нижней челюстей, имеются еще и внутренние челюсти, сделанные тоже на основе жаберных дуг и выдвигающиеся вперед при захвате добычи. Чудастик из фильма “Чужой” не так уж оригинален, как многим может показаться.
Рыбы оставили нам богатое наследство, в том числе зевоту. Когда человек устал и засыпает или же, напротив, еще не вполне проснулся, тонус дыхательной мускулатуры слаб, вдох становится менее глубоким, организм недополучает кислорода, а в крови накапливается углекислый газ. Специальные рецепторы в стенках кровеносных сосудов регистрируют эти изменения и посылают сигнал в продолговатый мозг, в ретикулярную формацию. Мозг соображает: “Кислорода маловато, что-то, видать, приключилось… Что же? Ага! Жабры засорились!” Что же нужно сделать? Широко открыть рот, расправить жабры и током воды через глотку прочистить жаберные щели, выгнать оттуда ил и песок. И человек добросовестно “промывает жабры” – открывает рот и расправляет несуществующие хрящевые дуги, то есть открывает челюсти. И неважно, что жабр нет уже сотни миллионов лет, ведь тонус мышц немножко поднимается, вдох углубляется, организм получает кислород – задача выполнена, система работает!
Кроме плавников и челюстей, примерно в это же время были изобретены ребра. У бесчелюстных их нет, они им и не нужны: это либо длинные тонкие создания, так что хорды для прочности им вполне хватает, либо с головным панцирем; да и усилий они прилагают немного. Но удобно, когда мускулатура крепится не только на хорду, но и на дополнительные прочные штуковины, расположенные вдоль тела. Получается, что рыба отталкивается от собственных ребер, изгибы тела получаются энергичнее, можно быстрее спасаться от злых ракоскорпионов. Кто ж знал, что спустя миллионы лет опорные элементы станут защитой для внутренних органов и, что гораздо важнее, – каркасом движителя дыхательной системы. За счет реберного дыхания мы можем достигать того уровня метаболизма, что необходим для содержания нашего многозатратного мозга.
Кстати, о сосудах…
В середине силурийского периода совершилась очередная революция, повлиявшая на судьбы мира и обеспечившая в будущем наше появление, – растения научились убивать свои клетки! Это было одно из важнейших достижений после появления многоклеточности. Ведь все клетки имеют одинаковый генетический аппарат, все хотят жить, трудно устроить так, чтобы отдельные продолжали благоденствовать, а какие-то добровольно умерли. Зато из мертвых клеток можно сделать трахеиды – по сути целлюлозные трубочки с дырочками со всех сторон, хорошо проводящие воду в разных направлениях, но преимущественно снизу вверх. Пройдут миллионы лет, и на основе трахеид будут созданы настоящие сосуды и качественная механическая ткань, которая вознесет высоко над землей густые кроны, в которых будут резвиться приматы. А пока – 423 млн лет назад – первые сосудистые растения куксонии Cooksonia робко высовывались из воды и озеленяли берега водоемов…
Глава 11 Звено 6: появление легких, хоан и шеи (ранний девон, около 415 млн лет назад)
Вначале девона рыбы сделали еще один шаг, вернее, гребок в сторону прогресса – разработали легкие. Первоначальная функция легких точно не ясна. Возможно и очень вероятно, они с самого начала функционировали как элемент дыхательной системы, были дополнительным жаберным карманом, увеличивающим площадь всасывания кислорода.
Не исключено также, что первым их назначением была балансировка тела. Стенки рыбьей глотки обогащены кровеносными сосудами, ведь у рыб газообмен осуществляется через жабры. Но если есть орган, способный быстро сконцентрировать газ или, напротив, выделить его обратно в воду, то можно сделать на этой основе отличный поплавок. Дело в том, что у древнейших рыб были проблемы с устойчивостью и всплытием-погружением. Первая сложность решается уплощением брюха и наращиванием длинных плавников: два длинных крыла по бокам и высокие кили на спине и хвосте – узнаёте акулу? Вторая более трудноразрешима. У хрящевых рыб есть жировое тело, обеспечивающее нулевую плавучесть, но быстро поменять глубину акуле сложно. Неспроста она приближается к добыче суживающимися кругами – хищница делает это не из-за садистских наклонностей, не чтобы лишний раз потрепать жертве нервы. Просто быстро всплыть из глубины акула не может, она двигается как самолет: для поднятия или снижения ей нужно преодолеть гораздо большее расстояние по горизонтали, а грудные плавники работают как рули высоты. Двигаясь кругами, акула просто старается не потерять цель из виду; можно, конечно, “взлетать” по длинной прямой с разворотом, но тогда можно и упустить обед.
Рис. 9. Схема возникновения легких, плавательного пузыря и неба.
А вот костистые рыбы имеют плавательный пузырь – вырост глотки, снабженный кровеносными сосудами, да не простыми, а двусторонними: в передней части пузыря кислород выделяется из крови в пузырь, а в задней всасывается обратно. Таким образом, дыхательная система становится двигательной. Можно быстро, в пару вздохов накачать газа и всплыть наверх или, напротив, в пару выдохов погрузиться в пучины. Пока акула будет наворачивать свои круги, продвинутая рыба поменяет глубину, и злобная вражина будет вынуждена снова крутиться (правда, делает она это убийственно быстро).
А если есть обширный орган, способный быстро качать кислород в кровь, почему бы не использовать его как продолжение дыхательной системы? Особенно если в мелкой прогретой воде кислорода не хватает и приходится заглатывать воздух ртом, всплывая на поверхность. А это уже и есть легкие.
Однако версия возникновения легких из плавательного пузыря имеет огромный недостаток, ведь древнейшие известные рыбы с достоверным плавательным пузырем появляются заметно позже, чем рыбы с легкими. Посему более вероятно, что цепочка событий была прямо противоположной: легкие возникли у рыб, живших в регулярно пересыхавших водоемах, и лишь дополняли жабры, а после на их основе возник плавательный пузырь. Девонский период был чрезвычайно жарким, за всю историю Земли теплее было только в кембрии. Слаборазвитая корневая система растений плохо держала берега, водоемы были неустойчивыми, быстро наполнялись от дождей и еще быстрее испарялись и утекали в песок, а горячая вода содержала мало газов. Из-за неразвитости корней деревья то и дело падали в воду, а на их гниение опять же уходила масса кислорода. В итоге заморы были обычнейшим бичом девонских рыб.
Дополнять дыхательную систему легкими надо еще и потому, что жаберные щели в мелком грязном водоеме легко забиваются илом, а ведь совсем немножко выше – и воздуха хоть отбавляй. Современные двоякодышащие Dipnoi: четыре вида протоптеров Protopterus из Африки, чешуйчатник Lepidosiren paradoxa из Южной Америки и рогозуб Neoceratodus forsteri из Австралии – при спячке во время сухого сезона могут дышать вообще только легкими, причем месяцами. Наземные четвероногие возникли, впрочем, не из двоякодышащих, а их родственников – кистеперых Rhipidistia, типа девонской Gyroptychius agassizi, имевших аналогичное строение легких. Сейчас существует лишь два вида их родственников латимерий Latimeria (из некогда разнообразной группы целакантов Coelacanthiformes), живущих на больших глубинах в Индийском океане, а потому потерявших дыхательную функцию легких.
А теперь, Уважаемый Читатель, наберите в ваши легкие побольше воздуха и для лучшего проникновения осильте следующий абзац на одном вдохе…
С очень большой вероятностью похожие органы появлялись неоднократно. Ведь легкие двоякодышащих и кистеперых рыб – это вырост нижней части глотки, а плавательный пузырь костистых – верхней. Правда, легкое могло и переползти с нижней стороны наверх. В пользу этого говорит, во-первых, расположение легких у двоякодышащих: хотя соединяются с глоткой они снизу, сами лежат на верхней стороне тела, огибая глотку справа, вслед за ними загибаются и кровеносные сосуды, в том числе с левой стороны на правую; у рогозуба же легкое непарное, хотя и с намеком на раздвоенность. Во-вторых, у костистых рыб эритрин Erythrinus плавательный пузырь открывается на боковой стороне глотки, а сам расположен сверху; к тому же его передняя часть имеет альвеолы и выполняет роль легкого. В-третьих, очень своеобразная и даже загадочная костистая (не двоякодышащая!) рыба многопер Polypterus имеет вполне развитые парные легкие, расположенные на нижней стороне тела. Тут мы встречаемся с очередной упущенной возможностью. Наши кистеперые предки перед выходом на сушу жили, судя по всему, на мелководье, а сами были не такими уж маленькими. Метровому полену, лежащему в луже, трудно задирать голову так высоко, чтобы заглотнуть воздух ртом (они, конечно, старались, благодаря чему мы приобрели еще и шею в качестве бесплатного приложения; шея сделана в основном из жаберных мышц и, похоже, возникала независимо в разных линиях рыб и первых амфибий: Шишкин, 2000). Обширная поверхность ротовой полости быстро сохнет, да к тому же в иле и грязи широкой пастью недолго наглотаться всякой гадости. А ведь наверху морды есть аккуратные маленькие ноздри. У обычных рыб носовые полости функционируют исключительно как обонятельные органы, у них даже есть пара ноздрей с каждой стороны – для входа и выхода воды. В новых условиях возникают хоаны – внутренние носовые отверстия, соединяющие носовую полость с глоткой, так что воздух идет по прямой в новообретенные легкие. Кстати, хоаны, по-видимому, тоже возникали независимо у двоякодышащих и кистеперых: одна задача – одно решение, но несколько разными способами. И кто ж мог знать, что такое очевидное усовершенствование станет проблемой у человека, который появится через четыреста с лишним миллионов лет? Ведь ноздри и хоаны открываются в глотку сверху, а легкие сформировались как нижний вырост глотки. Получился перекрест дыхательных и пищеварительных путей. Для рыб это, видимо, не было великой проблемой, ведь они не жуя глотали крупную добычу, которая в любом случае не могла провалиться в легкие, а вот у наземных существ начались сложности: при глотании (особенно хорошо пережеванной пищи) еда того и гляди может шмякнуться в гортань или трахею. Конечно, возникли предохранительные клапаны – небо наверху и надгортанник внизу; у всех приличных млекопитающих они смыкаются, а потому звери либо глотают (и тогда на полном автомате надгортанник опрокидывается пищей, закрывая гортань, а небо поднимается, перекрывая носоглотку), либо дышат. Посему они в принципе не могут подавиться. Так же система работает и у шимпанзе, и у новорожденного человека, поэтому младенец либо дышит (обычно он при этом еще и вопит), либо сосет молоко (обычно утверждается, что он делает это одновременно, но на самом деле попеременно). Но два миллиона лет назад – четыре сотни миллионов после появления легких и хоан – человек стал делать первые попытки говорить. Голосом общаться удобно, но для обогащения набора сигналов нужно усложнение звукопроизнесения, членораздельность речи. Кто четко и внятно сообщает информацию окружающим, тот имеет больше шансов на выживание, да и на прекрасный пол может произвести должное впечатление, так что его гены будут увеличивать свою частоту. Но для говорения нужна подвижность гортани: расположенная за толстым языком, она и сама не имеет нормальной амплитуды, и языку мешает. И вот гортань начинает свое движение вниз, в свободную часть шеи. У зверей в таком случае либо удлиняется мягкое небо, либо надгортанник, но грандиозность задачи у человека не оставила ему таких возможностей – если бы небо и хрящ увеличились пропорционально длине шеи, то не получилось бы уже ни глотать, ни дышать. Поэтому свершилось ужасное – мягкое небо и надгортанник разомкнулись, расстались навсегда. Их разлучение позволило нам говорить, но оказалось роковым – теперь мы можем погибнуть подавившись. Ведь пища уже вовсе не гарантированно попадает в горло и пищевод, геометрически ей гораздо проще угодить в гортань – дыхательную систему. Конечно, возникли рефлекторные защитные механизмы, но уж больно своевольно наше сознание: мы можем захотеть и говорить, и дышать одновременно, тогда надгортанник останется открытым, а мы подавимся. Это редкостный случай возникновения откровенно вредного признака в качестве побочного эффекта, а возможно такое, ибо польза от говорения намного перевешивает опасность. Все же далеко не каждый болтун гибнет, подавившись едой, зато теперь каждый может повышать свою приспособленность говоря. А упущенная возможность, о которой упоминалось в начале этого бесконечного абзаца, проста: будь мы потомками не кистеперых, а костистых рыб, у которых плавательный пузырь – бывшее или потенциальное легкое – вырост верхней стенки глотки, или возникни мы чуть позже из более продвинутых двоякодышащих, у которых не только легкое, но и вход в него мог бы переползти наверх, у нас не было бы злосчастного перекреста. Запросто могла бы возникнуть некая горизонтальная перегородка между дыхательной и пищеварительной системами, да и без нее сила тяжести вела бы пищу куда следует – в пищевод и желудок, а не в трахею и легкие. Кто знает, может, речь возникла бы намного раньше? И ведь есть же прецеденты среди костистых рыб – те же илистые прыгуны, дышащие на суше кожей и наджаберным дыхательным органом – полным аналогом легкого. Но в девоне костистых рыб еще не было, так что воздушную среду захватили потомки кистеперых, а после конкуренция с их стороны была уже непреодолима, и у костистых не было шансов стать новыми, более совершенными четвероногими. Поспешишь – людей насмешишь…
Уффф… Можно выдохнуть. Спасибо кистеперым рыбам за их нелегкую болотную жизнь, обеспечившую нас способностью так здорово дышать!
Соединение носовой и ротовой полостей имело и иные последствия: диалектически оформился и их разделитель – небо. Его задняя часть – мягкое небо, а его самый большой вырост – язычок, который очень наглядно показан в мультиках, где он эффектно болтается, когда кто-то кричит. Мягкое небо, как уже говорилось, во время глотания поднимается, перекрывая носоглотку. Но у системы есть недостаток: если человек лежит на спине и при этом очень расслаблен – смертельно устал, вдребезги пьян – или у него ожирение и язычок просто тяжел, мягкое небо свисает вниз и закрывает носоглотку. Поскольку человек упорно продолжает дышать, воздух, идущий через нос, колеблет язычок и возникает храп (конечно, существуют и другие его причины). Спасти положение можно, повернув человека на живот или хотя бы на бок (чтобы язычок свесился в другую сторону и открыл путь воздуху) или же приведя его в чувство – растолкав или хотя бы громко хлопнув, крикнув, пнув (чтобы мышцы пришли в тонус и подняли мягкое небо). Бывает, впрочем, что ничего не помогает, а окружающие ни в чем не виноваты. Тогда приходится идти на крайнюю меру – удаление язычка мягкого нёба. Правда, без него не получится жадно глотать еду большими кусками (иначе сокращение глотки будет толкать пищу в том числе и в нос), но, может, оно и к лучшему, особенно если причиной храпа было ожирение. Нездорово будет и пить в лежачем положении: вода будет выливаться через нос. Но на какие жертвы не пойдешь ради блага близких!
Впрочем, когда я излагал эту тему на одной лекции, один из студентов рассказал, что некоему его знакомому-родственнику сделали такую операцию, а он таки храпеть не перестал. Каким органом он продолжал это делать, науке неизвестно; вероятно, языком, который тоже может заваливаться в глотку. Можно предложить еще одну операцию…
Вряд ли девонские кистеперые рыбы храпели, но именно их жизнь создала наши свойства – приятные и не очень.
Глава 12 Звено 7: руки-ноги (поздний девон, 385–365 млн лет назад)
Большинство девонских кистеперых рыб жило в не очень глубоких пресных водоемах. Но времена были дикие, качественные редуценты были в дефиците, поэтому растения (а к середине девона уже появились деревья приличного размера), падавшие в воду (деревья-то появились, а корневая система у них была крайне непрочная, поэтому они то и дело падали, а корни были маленькие, потому что несовершенные редуценты и вообще почвообразователи не могли обеспечить должного развития почвы, чтобы имело смысл отращивать большие корни; в общем – время еще не пришло), оставались лежать там большими кучами, загромождая пространство. Теплая вода – девон, как мы помним, был очень жарким – плохо растворяет кислород, поэтому в близких к анаэробным условиях несчастные редуценты, как ни старались, не могли быстро переработать утонувшие стволы. В следующем – карбоновом – периоде такие завалы еще увеличились, и из них получились такие грандиозные залежи каменного угля, что человечество жжет их уже сотни лет и все никак не изведет. Но и в девоне бардака хватало. Свободно плавать в таких условиях было сложно, тем более довольно крупным хищникам. Поэтому они стали ползать по дну и всем этим топлякам. Плавники у них видоизменились в толстые конические отростки, неспроста вся группа в целом называется лопастеперыми Sarcopterygii, а их важнейшее подразделение – кистеперыми Rhipidistia. Среди их современных потомков латимерия, перешедшая к жизни в глубоком море, все же не отказалась от старых привычек и тоже может ходить по дну, поочередно переставляя мясистые “ноги” с прочным основанием. Некоторые ископаемые кистеперые тоже жили в море; например, Tinirau clackae из Невады (387 млн лет назад) по некоторым чертам строения оказывается ближе к четвероногим, чем многие пресноводные родственницы.
Позднее рыбы неоднократно изобретали хождение по дну. Этим занимаются родственники удильщиков Antennarius, Brachionichthys и Sympterichthys, а также короткорылый нетопырь Ogcocephalus darwini, они делают это практически так же, как и амфибии, – шагая на видоизмененных плавниках, на которых даже появляются аналоги пальчиков. Bathypterois grallator стал ходячим треножником, он опирается на чрезвычайно удлиненные лучи плавников. Десяток видов илистых прыгунов Periophthalmidae вообще едва ли не большую часть времени проводят на суше и даже преимущественно на деревьях, вернее, на корнях мангровых деревьев, поднимающихся над водой выше человеческого роста (рыба, живущая на корнях деревьев, торчащих над водой, – не самый стандартный образ!). Неспроста они очень похожи на амфибий, а их грудные плавники, хотя и совсем не похожие на ноги, используются именно как лапки: ими они могут обхватывать стволики и веточки (в этом им помогают брюшная присоска и толстый хвост, служащий опорой), на них они прыгают, подобно лягушкам.
Рис. 10. Antennarius (а), Brachionichthys (б), Sympterichthys (в) и короткорылый нетопырь Ogcocephalus darwini (г).
Ближе к концу девона среди нескольких линий кистеперых параллельно возникли аналоги ног. Сколько всего было таких попыток – точно неизвестно. Из среднедевонских кистеперых к амфибиям наиболее близки Eusthenopteron, Tinirau и особенно Platycephalichthys. Но с “почти ногами” рыбы получили новые возможности. Ведь к этому времени на суше скопилось много всего вкусного: уже зеленели леса, а по ним ползали скорпионы и многоножки, первые пауки и насекомые-ногохвостки. Такой банкет никак нельзя было пропустить. Хотя первые насекомые были слишком мелкими для того, чтобы их ловили рыбы, но кормили собой тех, кем кормились рыбы.
Были и иные причины выползать на берега – например, для откладки икры в уединенных мелких бочажках, куда не доберутся злые хищники (кстати, кистеперые и сами были злыми хищниками). Так или иначе, но около 385–375 млн лет назад кистеперых “прорвало”: Panderichthys rhombolepis из Латвии и России, Elpistostege watsoni и более поздний, но и более распиаренный Tiktaalik roseae из Северной Канады, а также, без сомнения, другие подобные твари поползли сначала по дну, а потом и по илистым пляжам. Их конечности еще трудно назвать ногами, поэтому обычно их все же считают рыбами Elpistostegalia. Но план строения наших рук и ног тут уже хоть и с трудом, но узнаётся. Остается удивляться, как быстро шел прогресс: не минуло и десятка миллионов лет, как уже появились амфибии Ichthyostegalia. Древнейшие из них – Elginerpeton pancheni из Шотландии – имеют ту же датировку, что и пресловутый тиктаалик – 375 млн лет назад. Дальше – больше: Ventastega curonica из Латвии, Hynerpeton bassetti из США, Acanthoostega gunnari и Ichthyostega stensiovi из Гренландии, Tulerpeton curtum из Тульской области – все они зашлепали по девонским болотам. Завоевание суши удалось.
Рис. 11. Platycephalichthys (а), Panderichthys rhombolepis (б) и Tiktaalik roseae (в).
Минутка фантазии
Многие из первых четвероногих около 365 млн лет назад имели нестандартное с нашей точки зрения число пальцев. Так, Tulerpeton curtum обладал шестью пальцами на передней и шестью на задней лапах, Ichthyostega stensiovi шевелила семью пальцами на задней ноге, а Acanthoostega gunnari – аж восемью на передней. Количество же лучей в плавниках кистеперых может быть еще намного большим. То, что все наземные позвоночные в итоге оказались потомками пятипалой рыбоамфибии, просто-напросто случайность – одна из миллионов, сопровождавших нашу эволюцию. Как знать, будь мы правнуками восьмипалой акантостеги, может, и умелые ручки возникли бы раньше? Какие бы перспективы перед нами открылись! Клавиатуры компьютеров в полтора раза шире, сложнейшие жестовые языки, удивительные театры пальцев, чудесные манипулятивные способности – мечта фокусника и карманника… Впрочем, тогда мы бы мечтали о десятке пальцев. Порадуемся же, что наши предки не растеряли и тех пяти, что имели.
Совсем иное строение конечностей мы могли бы иметь, произойди наши предки от двоякодышащих. Плавник рогозубов имеет хрящевую основу в виде членистого стебля с двумя рядами “веточек” по бокам. Такая структура совсем не похожа на наши руки и ноги. Из нее вышли бы отличные ногощупальца с бахромой гибких пальцев, которыми можно было бы обвивать предметы куда более изящно, чем это делаем мы своими фалангами… Впрочем, прочность подобной структуры невелика, неспроста она проиграла в девонском конкурсе освоителей суши.
От тех времен нам досталась одна странность. В предплечье локтевая и лучевая кости в расслабленном положении, когда ладонь повернута назад, расположены наперекрест. Вроде бы логичнее, если бы они были параллельны, как берцовые кости в ноге. Но эволюционная логика бывает странна. Ведь первые наземные четвероногие ползали на растопыренных в стороны лапах, у них локтевая и лучевая действительно не пересекались, а кисти торчали вбок. Примерно такое же расположение сохраняется и у рептилий. Однако когда зверообразные рептилии – предки млекопитающих – выпрямляли свои передние ноги, более эффективным оказалось развернуть кисть пальцами вперед, так толчок получается мощнее, шаг бодрее. Но кости в предплечье уже не могли поменяться местами и оказались скрещенными.
Надо сказать, что человеческая пятипалая рука сохраняет крайне примитивный план строения. Даже у банальной лягушки, будь она трижды амфибия, кисть более специализирована, чем у нас, хотя бы потому, что у нее и число костей в запястье, и число пальцев уменьшено по сравнению с исходным вариантом. Остается удивляться, как весь бесконечный ряд предков человека умудрился донести до наших времен столь архаичный вариант, ничего не растеряв по пути.
Очередное наше везение заключается в том, что некоторые амфибии эволюционировали слишком медленно. Например, у современных лягушек кости предплечья, а также малая и большая берцовые кости сращены, чтобы было легче скакать. Из таких лапок труднее получить хватательные руки-ноги, чтобы лазить по деревьям (квакшам, впрочем, это удается, но за счет подвижности стопы и присосок на пальцах). Если бы амфибии быстро достигли своего прыгучего совершенства, то, возможно, древесные млекопитающие никогда не возникли бы. А не будь древесных предков, не было бы и слезших с дерева потомков…
Подытожим: руки и ноги развились из плавников, чьим первоначальным предназначением было плавание, а вторым – ползание по дну.
Кстати, о семенах и деревьях…
Предки семенных растений – Runcaria heinzelinii – росли в Бельгии в среднем девоне 385–387 млн лет назад (Gerrienne et al., 2004). Они еще сыпали спорами, но уже не простыми, а особыми, разного размера: мелкими, имеющими претензию быть настоящей пыльцой, и крупными в мегаспорангии, окруженном специальной оболочкой-интегументом, которая того и гляди станет семенной кожурой. Чуть позже китайский плаун Sphinxiocarpon wuhanensis вплотную приблизился к созданию истинных семян. Не прошло и двадцати миллионов лет – и вот в позднем девоне, около 365 млн лет назад, в Северной Америке мы уже встречаем первые семенные растения, Elkinsia polymorpha и Moresnetia zalesskyi. Семена имеют защитные оболочки и питательные вещества, существенно повышающие выживаемость зародышей и позволяющие избежать зависимости от воды. Гаметы более примитивных споровых растений распространяются водой, так что плауны, хвощи и папоротники привязаны к берегам или как минимум очень влажным местообитаниям. Семена растений совершили тот же переворот, что спустя много миллионов лет удалось амниону рептилий: растения окончательно и бесповоротно захватили сушу, сделав возможным выход на нее крупных животных. Пройдут еще многие миллионы лет, и на основе семян голосеменных возникнут плоды покрытосеменных, которые станут основной пищей приматам и создадут человека.
В середине девонского периода совершилось еще одно великое событие, которое в тот момент вроде бы не предвещало появления человека, но было его необходимейшим залогом: возникли деревья! В начале девона – как минимум до 400 млн лет назад – деревьев точно не было, а наземные растения представляли собой невзрачные тонкие слабоветвящиеся псилофиты, не имевшие настоящих листьев и корней и жавшиеся к берегам водоемов. Но 385–386 млн лет назад планета обрела уже настоящие леса. Древнейшим известным деревом является папоротникоподобный Eospermatopteris, или Wattieza, чьи как минимум восьмиметровые стволы возвышались там, где сейчас находится штат Нью-Йорк в США (Stein et al., 2007). Но более того, тщательные исследования показали, что в этом древнейшем лесу было как минимум три вида крупных растений: вокруг папоротников обвивались лианоподобные предки голосеменных Aneurophytales, а между ними пейзаж разнообразили древовидные плауны Lycopsida (Stein et al., 2012). Благодаря постоянному затоплению (это даже не “допотопный”, а настоящий “потопный” лес) многие части стволов и ветвей сохранились в своем окаменевшем великолепии, а палеоботаники могут изучать экосистему конца среднего девона.
Казалось бы, при чем тут деревья? Однако они несколько раз сыграли ключевую роль в эволюции наших предков. Некоторые исследователи считают, что пни, торчавшие под водой, и упавшие стволы, загромождавшие водоемы, способствовали развитию конечностей еще у полностью водных кистеперых рыб, которые, будучи крупными животными, не могли свободно резвиться в подводном буреломе, а были вынуждены ползать по этим завалам, цепляясь зачатками пальцев за кору.
Кроме того, леса стали гостеприимным домом для многочисленных членистоногих, которые, в свою очередь, послужили пищей предкам земноводных и, стало быть, оказались важнейшим условием выхода позвоночных на сушу. Без лесов и букашек в них рыбам нечего было делать на неуютных песчаных берегах.
Далее, надо думать, леса обеспечили тень. Казалось бы – мелочь, но для животных, еще не приспособившихся жить вне воды, высыхание было огромной проблемой. Лучи солнца быстро сушили несчастных пионеров суши, а в вяленом состоянии эволюционировать трудно. Даже современные амфибии предпочитают не выползать под прямой солнечный свет. Тощие и низкорослые псилофиты не могли дать приличной тени, так что потенциальным первооткрывателям вневодных пространств пришлось ждать появления более основательной защиты. Неспроста на границе среднего и позднего девона одновременно появляются и деревья, и первые переходные водно-наземные рыбоамфибии.
Наконец, в далеком-далеком будущем именно деревья стали домом приматам, но до этого должно было произойти много всего интересного…
Выход на сушу сопровождался и иными достижениями: на глазах появились мигающие веки, смачивающие глаз слезой. Сам глаз обрел способность к аккомодации – наведению резкости изображения. Стала гораздо менее актуальна боковая линия – фактически ухо, растянутое вдоль всего бока от головы до хвоста. Она сохраняется у головастиков и лишь редко у взрослых амфибий (например, у прибрежной саламандры Stereochilus marginatus). Взамен появилось среднее ухо со слуховой косточкой.
Были и странности: дыхательная система уползла из глотки (жабры) в грудную клетку (легкие), и сердце последовало за ней, а мозги остались спереди. У рыб артериальная кровь из жабр попадает первым делом в рядом расположенные мозги, но у амфибий система перекосилась: в сердце кровь оказывается смешанной, мозги получают не чистую артериальную кровь. Обычно в школе появление двух кругов кровообращения преподносится как великое прогрессивное достижение, но для амфибий это был, вообще-то, регресс. На самом деле малый круг (от сердца к легким и назад, в котором венозная кровь становится артериальной) возник как попытка выправить возникшее нарушение идеально действовавшей доселе системы, причем первый блин оказался комом. Частично это компенсируется кожным дыханием, у самых продвинутых жаб – появлением частичной перегородки в желудочке (в школе она упоминается как изобретение рептилий, но это не так), но все-таки, когда начинаешь дышать выростом пищеварительной системы и наружными покровами вместо приличных жабр, сразу все не отрегулируешь.
Усовершенствовался у амфибий мочевой пузырь – место хранения воды, чтобы не засохнуть. У амфибий его стенки могут впитывать воду обратно в кровь. Особенно здорово запасаются жидкостью пустынные австралийские жабы Litoria platycephala, из которых аборигены выдавливают воду, чтобы напиться. Если бы над первыми амфибиями не нависала опасность высыхания, наши представления о гигиене выглядели бы совсем иначе.
Согласитесь – у земноводных уже почти наше строение, не хватает пары мелочей. И эти “мелочи” не замедлили появиться…
Глава 13 Звено 8: амнион (средний карбон, около 340–315 млн лет назад)
Амфибии заселили сушу, но не до конца. Они по-прежнему были привязаны к воде, например необходимостью смачивать голую кожу. Но главным тормозом на пути окончательного завоевания сухих просторов был тип размножения. Амфибии откладывают икру в воду, и головастик живет в воде, дышит наружными жабрами и вообще представляет собой фактически рыбку, причем бесчелюстную. И икра, и головастик при высыхании гибнут. Многие амфибии пытаются решить эту сложность: обвиваются вокруг икры в норе (Ichtyophis), строят гнезда из листьев и слизи (Phyllomedusa и Rhacophorus), вынашивают икру в собственной спине (Pipa и Gastrotheca), голосовом мешке (Rhinoderma darvini) и даже желудке (Rheobatrachus), но все это полумеры. Хорошим выходом является живорождение, его смогли освоить водные червяги Typhlonectes, саламандры Hydromantes, лягушки Limnonectes larvaepartus и жабы Nectophrynoides occidentalis. Любопытно, что у последних головастики в организме матери дышат через хвост! Чем не альтернатива плаценте? Если вдуматься, мы в такой же ситуации дышим животом через пупочный канатик – тоже странное приспособление. Но в карбоне амфибии, видимо, были еще не столь изощренны, так что им пришлось искать иные решения. На кону стоял большой куш, нашедшему доставались все ресурсы пространств, простиравшихся дальше родных болот. Ведь карбоновые растения уже обрели впечатляющие размеры, а некоторые – достаточно развитые корни. Большинство из них, правда, росло наполовину в воде (тут и процветали разнообразнейшие амфибии-“стегоцефалы”), но папоротникоподобные глоссоптерисы потихоньку осваивали более сухие земли, а расплодившиеся насекомые и многоножки так и просились, чтобы кто-нибудь их съел. И к середине периода земноводные изобрели амнион.
Амнион – водонепроницаемая зародышевая оболочка, заполненная амниотической жидкостью, по сути – индивидуальный бассейн для зародыша. В нем он может спокойно плавать, а чтобы никто его не тревожил, из внешней оболочки трофобласта можно сделать прочную скорлупу – кожистую или даже известковую. Получается яйцо, теперь его можно положить куда угодно, закопать в песок или листья, и ничего с ним не сделается. Главное, чтобы оно не замерзло, но этой проблемы в первой половине карбона, кажется, не было. Открытие амниона настолько важно, что рыбообразные и амфибии называются анамниями, а рептилии, птицы и млекопитающие – амниотами, то есть ящерица существенно ближе к нам, чем к тритону или лягушке.
Кстати, о грибах и стрекозах…
Климат в начале карбона был отличный, но в течение всего периода холодало, а завершился он ледниковым периодом. Огромные массы растений захоранивались в виде угля, то есть углерода, а это значит, что из атмосферы постоянно убирался углекислый газ. А углекислый газ создает парниковый эффект, согревающий планету. Когда количество углекислого газа в атмосфере уменьшается десятки миллионов лет, немудрено, что планета зябнет. Как знать, может, так бы и превратилась она в ледышку, если бы не спасительные грибы. Они самоотверженно научились переваривать лигнин – самый несъедобный компонент растений. Поток углекислого газа освежил атмосферу, и вторая половина пермского периода ознаменовалась радикальным потеплением. Восславим же гнилостные грибы за спасение планеты и наше счастливое настоящее!
С другой стороны, многочисленные растения, аккумулируя в своих стволах углерод и выделяя кислород, насытили последним атмосферу, позволив возникнуть гигантским членистоногим: полутораметровым многоножкам Arthropleura, стрекозам Meganeura с размахом крыльев до 65 см и прочим исполинам. Ведь их трахейная дыхательная система – один из главных ограничителей размера, а при избытке кислорода даже с трубочками в мозгах можно подрасти. Насекомые расцвели. Одни карбоновые тараканы чего стоят! А мимо такой усатой шуршащей братии невозможно пройти равнодушным. Если есть так много еды, уползающей и улетающей от водоемов, найдутся и те, кто за ней устремятся. Ради таких вкусняшек не грех и амнион отрастить. Так, в погоне за тараканами, из наших предков-амфибий выковывались наши предки-рептилии.
Стадия головастика у нас никуда не делась, просто сместились сроки вылупления и метаморфоза: у амфибий сначала головастик выходит из икры, а потом теряет жабры и отращивает челюсти; у нас же, напротив, сначала исчезают зачатки жабр и формируются челюсти, а потом ребенок рождается.
Конечно, одним амнионом сушу не завоюешь. Окончательный выход на сухие просторы требует перестройки кожных покровов, органов чувств и конечностей. Кожа становится непроницаемой для воды, глазам и ушам теперь необязательно чувствовать в воде, их можно усложнить (в частности, появляются задние – слуховые – холмики четверохолмия среднего мозга), ноги должны бегать по земле, а грести им уже не надо, в мозге заметно увеличивается мозжечок. Появляется реберное дыхание. Вообще-то амфибии дышат наполовину кожей (безлегочные саламандры так и вообще только ей), а в легкие воздух накачивают горлом, но на суше держать кожу влажной невыгодно, а одним горлом много не надышишь. У современных амфибий ребра обычно редуцированы напрочь, в лучшем случае имеются лишь их маленькие рудименты, ведь они немало весят, а с низким обменом веществ таскать лишнюю тяжесть ой как нелегко. Но массивным карбоновым “стегоцефалам” ребра были нужны для поддержания формы тела, по совместительству же они стали обеспечивать вдох. Исчезни ребра раньше появления амниона – не быть нам теплокровными, не быть нам умненькими-разумненькими.
Но это все – дело наживное. И вот в середине карбона Канады (312–315 млн лет назад) мы встречаем первых рептилий Hylonomus lyelli и Paleothyris acadiana. Внешне они были не очень презентабельны – невзрачные как бы ящерки, – но какой это был прорыв! Актуальность приобретения независимости от воды наглядно подтверждается обилием попыток рептилизации: это нижнекарбоновые Whatcheeridae, Crassigyrinidae, Casineria kiddi и Westlothiana lizziae, а также иные твари. Даже в следующем – пермском – периоде несколько групп амфибий продолжали заново изобретать черты пресмыкающихся.
Тут нам снова повезло. На самом деле не все рептилии стали совсем рептилиями. Как обычно бывает, нашлись консерваторы и ретрограды, сохранившие массу амфибийных черт, например голую кожу без чешуи, но с многочисленными железами. Именно из таких недорептилий и возникли после млекопитающие. А не то трудно было бы создавать потом шерсть и молочные железы. Но это уже совсем другая история…
Рис. 12. Hylonomus lyelli и пень Sigillaria.
Кстати, о пнях и елках-палках…
Деревья карбонового периода были не совсем такими, как сейчас. Исполинские плауны сигиллярии Sigillaria, похожие на раздвоенные двадцатиметровые кисточки, имели очень слабую древесину в середине и прочную кору снаружи. Когда дерево падало, пень быстро выгнивал изнутри и превращался в огромную бочку-ловушку. Во время паводков туда заносило несчастных зверюшек, а после спада воды они уже не могли выбраться наружу. Благодаря такому коварному устройству стволов сигиллярий мы теперь имеем останки первых рептилий гилономусов Hylonomus: их скелеты так и пролежали в пнях больше 300 млн лет.
Однако пни с трещинами просто наверняка служили тем же существам отличным домом-убежищем, тут они могли чувствовать себя в безопасности, ведь по окрестным болотам ползало немало ужасных хищников. С тех пор пни и дупла исправно служат общежитием для мириад разнообразнейших существ. Отлично описал это Дж. Даррелл в книге “Зоопарк в моем багаже”:
Обкуривать дупло – дело долгое и сложное, своего рода искусство. Прежде чем за него приниматься, надо выяснить, ждет ли вас добыча, заслуживающая таких усилий. Если в самом основании ствола есть большое отверстие, выяснить это сравнительно просто. Вы засовываете внутрь голову и просите кого-нибудь постучать по стволу палкой. И если в дупле прячутся животные, вы, как только стихнет гул, услышите беспокойное движение или во всяком случае догадаетесь о присутствии зверя по ливню гнилой трухи… Теперь можно разжигать костер… Дым будет уходить в полый ствол, как в дымоход. Дальше могут случиться самые неожиданные вещи, ведь в дуплах обитает все на свете – от плюющей кобры до циветты, от летучей мыши до гигантской улитки. Половина интереса в том и заключается, что невозможно предугадать, с чем вы встретитесь[2].
Не исключено, что именно такие места заронили в наших предков склонность к жизни в уютной тесноте – в ней кроется половина смысла самого слова “уют”, немалая часть оставшейся половины – сопутствующий полумрак. Другим вариантом были норы, но их еще надо копать, а пни всегда готовы. Неспроста людей – особенно детишек – так и тянет залезть под выступающие корни и в дупла, когда таковые находятся. В последующем вибриссы млекопитающих стали отличным определителем защищенности; например, когда крыса чувствует со всех сторон стены, ей хорошо, а если ее посадить в обширный вольер, где она не ощущает спасительного окружения, то может и умереть от такого ужаса. Конечно, до млекопитающих в карбоновом периоде было еще не слишком близко, но желание ощущать стены-защиту со всех сторон восходит, по-видимому, еще к тем временам. Когда вам в следующий раз захочется завернуться в одеяло и обложиться подушками, свернуться с ногами калачиком на кресле с высокими подлокотниками и вжаться в его глубокую спинку, обставить квартиру комодами и шкафами непременно темного дерева, с многочисленными полочками, дверцами и таинственными недрами, вспомните о гилономусах в сигилляриевых пнях…
Древесина не только сигиллярий, но и плаунов-лепидодендронов Lepidodendron, и древовидных хвощей-каламитов Calamites была очень слабой и рыхлой, сделанной из первичной ксилемы, прочность ствола обеспечивалась в основном мощной корой, у хвощей к тому же щедро сдобренной кремнеземом. Корни тоже были довольно хилыми, что компенсировалось увеличением их размеров или, иногда, огромным корневищем. Недоразвитость механической ткани не давала возможности таким деревьям обильно ветвиться, даром что высотой они могли быть до 35 м. Метелки с чешуевидными недолистьями-филлоидами язык не поворачивается назвать кронами, а плауновидные Lophiodendron и Tomiodendron так и вообще были чем-то вроде столбов. На таком дереве особо не порезвишься, так что и древолазящие животные в это время даже не предполагались. Но в конце карбона – 323–299 млн лет назад – наконец-то появились голосеменные-кордаиты Cordaites, обзаведшиеся вторичной ксилемой, то есть приличной механической тканью, позволившей им отрастить ветвистые кроны наподобие современных сосен и нормальные устойчивые корни. По сути, растения приобрели внутренний скелет взамен наружного; произошла смена “беспозвоночных членистоногих” растений (хвощи такие и есть – членистостебельные) “позвоночными”. С этого момента стала принципиально возможной жизнь на деревьях. До нее оставались миллионы лет, но именно тогда – в зеленых кронах каменноугольных кордаитов – были заложены предпосылки возникновения приматов и человека.
Глава 14 Звено 9: классы зубов, уши и шерсть (пермь, 300–250 млн лет назад)
Пермский период был временем чудес. В морях плавали странные акулы Helicoprion с циркулярками во рту, по болотам ползали огромные “стегоцефалы” типа Eryops и Mastodonsaurus с метровыми головами, а Platyoposaurus stuckenbergi успешно изображал из себя крокодила, в лужах бултыхались рогатые Nectridea, амфибии Seymouriamorpha и Chroniosuchidae все еще упорно пытались стать рептилиями. Diadectomorpha настолько странны, что и не разберешь – земноводное это или пресмыкающееся. Среди собственно рептилий тоже что ни тварь, то феномен. По озерам плавали надувные Pareiasauria с третьим глазом на макушке и гавиалоподобные Mesosaurus с полным ртом зубов, Eunotosaurus africanus был похож на длиннохвостую черепаху, по ветвям порхали Coelurosauravidae с фестончатым черепом, невероятно сходные с современным летучим дракончиком Draco. Хватало и других.
Самой же странной и одновременно преуспевающей группой пермского периода стали зверообразные рептилии Theromorpha, известные также как синапсиды Synapsida, в особенности их основная часть – терапсиды Therapsida. Строго говоря, появились синапсиды еще в самом конце карбона, но интересующие нас черты приобрели в перми.
Одно из самых заметных приобретений зверообразных – гетеродонтная зубная система, то есть разделение зубов на классы. Передние обычно уменьшены и используются для отщипывания чего-то не очень прочного; чуть подальше зубы, напротив, резко увеличиваются и становятся клыками, нужными для демонстраций, удержания и убивания добычи или выковыривания корешков; самые задние зубы, на которые приходится самое большое давление, так как они приближены к челюстному суставу, становятся либо острыми режущими гребнями, либо широкими жевательными жерновами. Гетеродонтия возникала в животном мире неоднократно. Уникальны, например, растительноядные динозавры Heterodontosauridae и крокодилы Pakasuchus kapilimai, чья зубная система феноменально напоминала нашу.
Но зверообразные рептилии сделали особую ставку на свои зубы. Если у примитивных пеликозавров Pelycosauria разница в размерах зубов еще не очень заметна, то у всех прочих она уже чрезвычайно велика. Особенно полюбились тероморфам клыки – они огромны почти у всех зверообразных, как хищников (Titanosuchia, Eotitanosuchia и Gorgonopsia), так и растительноядных (Tapinocephalia), а у продвинутых дицинодонтов Dicynodontia остались вообще единственными зубами. Среди Venjukoviamorpha Ulemica invisa имела большие направленные вперед резцы и, видимо, была аналогом грызунов.
Параллельно с зубами менялись жевательная мускулатура и нижняя челюсть; в частности, зверообразные научились жевать, появилась восходящая ветвь нижней челюсти и скуловая дуга на черепе. Теперь стало можно использовать пищу гораздо более эффективно. Когда крокодил ест добычу, чуть ли не больше половины он теряет, потому что может только оторвать кусок и проглотить его целиком. А уже в желудке крупный неразжеванный шмат мяса переваривается, понятно, очень медленно и неэффективно. Еще хуже растительноядным, ведь у растений есть прочная целлюлозная клеточная стенка, недаром травоядные черепахи такие медленные во всех отношениях. Предки млекопитающих справились с этими сложностями: пища меньше теряется, пережевывается, мясо размельчается, клеточная стенка разрушается, и в итоге еда лучше усваивается, а на этой основе можно и обмен повысить.
Рис. 13. Схема классов зубов.
В последующем некоторые млекопитающие полностью утеряли часть достижений пращуров; например, у дельфинов все зубы одинаковы, а у муравьеда их вообще нет, но у большинства жизнь прямо зависит от гетеродонтности. Неспроста систематика млекопитающих – это в основном систематика зубов, а учитывая, что зубы – самый прочный элемент организма и в ископаемом состоянии сохраняются в основном именно они, эволюция зверей представляется обычно как эволюция зубов. Предки и родственники человека – не исключение. Взаимные пропорции резцов, клыков и моляров надежно отличают, скажем, грацильных австралопитеков от понгид, а парантропов от “ранних Homo”.
Уголок занудства
Зубы современных млекопитающих делятся на классы: спереди это резцы – плоские и широкие зубы, нужные для откусывания кусочков не очень прочной пищи; далее следуют клыки – по первоначальной задумке большие и острые, нужные для убивания или удержания добычи, но часто используемые только как сигнальные приспособления; после – премоляры (они же предкоренные) с назначением промежуточного раздавливания пищи; заканчивают ряд моляры (они же коренные; кстати, стоит подчеркнуть, что “коренные” не значит “постоянные”, это не генерация, а класс зубов) – широкие и часто бугристые, необходимые для пережевывания и перетирания еды. Классы зубов обозначаются латинскими буквами: резцы – I, клыки – C, премоляры – P, моляры – M. Номер верхних записывается верхним индексом (например, I¹), а нижних – нижним (например, M3).
Для простоты зубы считают только в половинке челюсти; количество зубов называется зубной формулой. У человека формула такова: 2123/2123, то есть в верхней челюсти с одной стороны 2 резца, 1 клык, 2 премоляра и 3 моляра, в нижней – то же количество; всего 32 постоянных зуба. Исходная формула для приматов – 2143/2143, причем у предков человека исчезли первые два премоляра в каждой челюсти, так что первый человеческий премоляр в общеприматном масштабе на самом деле P3, а второй – P4.
Молочные зубы обозначаются маленькими латинскими буквами: i, c и m. Секрет в том, что у ребенка на том месте, где у взрослого будут постоянные премоляры, растут зубы, морфологически похожие на постоянные моляры (отчего они называются молочными молярами; соответственно, молочная формула 212/212, всего 20 молочных зубов), а того места, где будут постоянные моляры, у малого дитятки вообще пока нет, так как челюсть короткая. По мере роста челюсти появляется место для постоянных моляров. Правда, для третьего иногда простора не хватает, тогда он упирается в соседние, и начинаются проблемы; прорезывается он позже всех прочих и потому называется “зубом мудрости”. Впрочем, он может и вообще не вырасти. Закавыка, однако, состоит в том, что постоянные моляры являются на своем месте на самом деле первой генерацией зубов, так что в действительности они молочные, просто остающиеся на всю жизнь, а постоянных моляров у нас, строго говоря, вообще нет.
Ежели дожить лет до девяноста и донести до этого почтенного возраста зубы – малореальное сочетание, – то можно осчастливиться третьей генерацией зубов (чаще это происходит с резцами), но это бывает крайне редко. Впрочем, иногда такое случается и в подростковом возрасте, когда, например, уже постоянный премоляр выпадает, а на его месте появляется новый зуб. Когда люди научатся искусственно регулировать эти процессы, можно будет выращивать зубы сколько влезет.
Разные животные могут выращивать неодинаковое число генераций зубов. У акул и рептилий они растут по необходимости. Скажем, аллигатор сменяет каждый зуб в среднем полсотни раз. У большинства млекопитающих все как у людей (хотя, конечно, зубные формулы у всех свои), но у некоторых встречаются экзотические варианты. У некоторых неполнозубых нет молочной генерации зубов, а у кроликов и морских свинок молочные могут сменяться постоянными еще до рождения. У слонов и сирен – ламантинов и дюгоней – новые коренные зубы появляются в задней части челюсти и со временем смещаются вперед, замещая стертые передние, которые по надобности выпадают; таких генераций может быть сколько угодно. У слонов новые зубы перестают закладываться лет этак в двадцать, прорезываться – в сорок, а окончательно стираются в шестьдесят.
Зубами можно ухватить добычу, но сначала ее надо найти. В этом может помочь слух. Рептилии слышат в значительной степени через нижнюю челюсть, ведь они ползают, прижимаясь к земле, неспроста они именуются пресмыкающимися; колебания от почвы через кости передаются к уху. Может, они бы и рады гордо поднять голову, но у них не очень получается, ведь уровень их метаболизма низок, в мышцах мало митохондрий, отчего мускулатура белая и не может долго тонически сокращаться. Поэтому рептилии движутся “мультяшно” – рывками, дерганно. По-своему это удобно: можно быстро метнуться из засады, как это делают крокодилы или удавы, можно даже взлететь – грудные мышцы некоторых птиц устроены все так же, но плавных изящных движений, упругой походки и долгой тяжелой работы без устали рептилиям совершать не дано.
Зверообразные рептилии ускоряли свой обмен веществ и совершенствовали конечности. По крайней мере, они смогли поднять свою переднюю часть тела над землей (в частности, они обрели истинный коракоид – особую независимую кость плечевого пояса; у человека коракоид срастается с лопаткой между 11 и 16 годами, превращаясь в клювовидный отросток, до этого времени ребенок еще немножко зверообразная рептилия). Но челюсть рассталась с почвой, а слышать хотелось. Большинство рептилий, а после и птицы решили эту проблему, усовершенствовав барабанную перепонку и прикрепив ее к задней части щеки, но пеликозавры были неудачниками, они не смогли развить аналогичное строение из-за особой формы височной области и слишком низкого прикрепления нижней челюсти: необходимость повышенного обмена веществ, начинающееся подразделение зубов на классы и, соответственно, боковые жевательные движения челюстей не позволяли приделать барабанную перепонку, как у рептилий, иначе она рвалась бы от нагрузок на челюсть. Укрепление задней части черепа и массивность единственной слуховой косточки-стремени грозили глухотой, а потому тероморфы пошли своим путем. Благо основание черепа и нижняя челюсть предков были сделаны из целой кучи костей. Одна из задних черепа – квадратная – и одна из задних челюсти – сочленовная, соединявшиеся с барабанной перепонкой, “переползли” вглубь, уменьшились и стали наковальней и молоточком. Вокруг они были окружены угловой костью (тоже из задней части нижней челюсти), превратившейся в барабанное кольцо, держащее и барабанную перепонку. Со всех сторон наползли элементы височной кости и скрыли кусок нижней челюсти – по совместительству среднее ухо – внутри черепа. Раз барабанная перепонка углубилась в череп, не мешает приспособить снаружи рупор – ушную раковину, благо ее не так сложно сделать из окружающей кожи. Иначе говоря, наружное ухо – это компенсация компенсации, попытка избежать потери слуха из-за побочных эффектов попытки избежать потери слуха, а не великое прогрессивное достижение.
От былой мозаики нижней челюсти у нас осталась лишь зубная кость. Так мы потеряли подвижность и растяжимость челюстей, навсегда утратили способность заглатывать предметы больше собственной головы (а жаль, иногда очень хочется!), зато по крайней мере не оглохли. Птицы, обладающие единственной слуховой косточкой и не имеющие наружного уха, слышат не хуже млекопитающих. Но зато мы можем жевать, а челюсти наши прочны.
Как уже говорилось, способность пережевывать пищу была одним из элементов, обеспечивающих повышенный обмен веществ. В ускоряющемся мире перми одной из главных ценностей была скорость. Обмен веществ тут как раз более чем важен. Ферменты в клетках обычно работают при определенной температуре, причем в довольно узком диапазоне, важно не остыть и не перегреться. Даже мы, гордящиеся своей теплокровностью, одеваем чего потеплее уже при плюс пятнадцати и жалуемся на жару при плюс тридцати. Холоднокровным же животным тем более непросто. Особенно остро вопрос стоит по утрам: кто первый успел растопить свою ферментативную топку, тот и первый съест хотя бы и холодных, но вкусных медляков или, напротив, успеет убежать от еще не раскачавшихся хищников.
Не раз животные изобретали способы собственного разогрева: бабочки и шмели делают это, трепеща крылышками, тунцы – сокращая мышцы. Много раз амфибии и рептилии независимо изобретали гребни-радиаторы на спине, обогащенные кровеносными сосудами, нагревающиеся прохладным утречком в восходящих лучах солнца и отдающие тепло в полуденную жару. Внешний вид таких животных удивительно схож: амфибия-темноспондил Platyhystrix rugosus, текодонты Arizonasaurus babbitti, Ctenosauriscus koeneni и Lotosaurus adentus, пеликозавры Edaphosaurus и Dimetrodon, динозавры орнитопод Ouranosaurus nigeriensis, зауропод Rebbachisaurus garasbae, тероподы Spinosaurus aegyptiacus и Deinocheirus mirificus, а также многие иные – все они обладали удлиненными остистыми отростками позвонков, между которыми была натянута кожа, а стегозавры Stegosauria ощетинились пластинами, расположенными в два ряда на спине, пронизанными множеством сосудов и выполнявшими всю ту же роль обогревателя или, напротив, охладителя.
Как видно из приведенного перечня, подобным путем пошли и некоторые ранние зверообразные – пеликозавры, причем как растительноядные, так и хищные. Но ползать, а уж тем более бегать с парусом на спине не очень-то удобно. Поэтому продвинутые зверообразные стали теплокровными. Этому способствовали разные приспособления; наверняка примерно в это время легкие обрели альвеолы – пузырьки, за счет которых поверхность выросла во много раз, обеспечивая организм бóльшим количеством кислорода, разогревающим телесную печку.
Усложнение органов чувств не ограничилось ушами. Зверообразные рептилии сохранили голую кожу без чешуи, но с железами. Такая кожа чувствительна и не мешает эти осязательные способности усилить. И вот морды тероморф ощетинились вибриссами – “усами”, которые каждый может лицезреть на любой кошке. Мы – люди, кстати, не уберегли столь ценное наследие. Даже у шимпанзе есть вибриссы, хотя и совсем короткие, незаметные снаружи среди обычных волос. Почти три сотни миллионов лет млекопитающие старательно берегли столь ценное приобретение, а наши предки в самый последний момент потеряли! Конечно, нет худа без добра: исчезновение вибрисс обусловлено мутацией-делецией части гена андрогенового рецептора, то есть регулятора стероидных гормонов, а такие изменения могли существенно сказаться на социальном поведении, взаимоотношении полов и стать важной вехой становления человеческих качеств психики (McLean et al., 2011).
Вибриссы – орган осязания, но принцип их устройства может быть использован и для формирования более основательных покровов. Длинные тонкие белковые выделения кожи (столь медленно выделяющиеся и столь прочные, что кажутся выростами, хотя по существу не отличающиеся, скажем, от затвердевшего пота) – богатейший источник новаций. Все уже догадались, что речь идет о шерсти. Строго говоря, точно мы не знаем, была ли шерсть у зверообразных рептилий, но ряд косвенных данных свидетельствует, что по крайней мере поздние цинодонты Cynodontia – наши непосредственные предки – были уже мохнаты. Шерсть – замечательная новация. Ведь усилившийся обмен позволяет нагреть тело, но этого мало, надо полученное тепло еще и сохранить. И мех тут действует как нельзя лучше. Причем для животных с несовершенной терморегуляцией это свойство даже важнее, чем для продвинутых. Даже современные яйцекладущие звери: утконосы, ехидны и проехидны – имеют густой мех, хотя теплокровными могут считаться лишь с некоторой натяжкой. А дальше из шерсти можно получить много всего интересного: иглы, хохлы, гривы, бороды и даже носорожьи рога.
Человек имеет занятный атавизм, доставшийся нам с тех времен: если нас напугать или выставить на мороз, то волоски на теле – руках, ногах, голове – поднимаются. Называется это пиломоторный рефлекс. У каждой шерстинки для этого имеется своя мышца, тянущая за волосяную луковицу. Вздыбливание шерсти помогает произвести впечатление на противника, увеличив видимый размер (для проверки сравните спокойную и испуганную кошку), или сохранить тепло. Человек – зверек тропический, почти совсем лысый, но нелегкая жизнь предков до сих пор двигает остатками нашей шерсти.
Кстати, о диалектике…
Пермский период ознаменовался двумя великими событиями, кардинально повлиявшими на судьбы еще не созданного человечества. Во-первых, материки в последний раз сползлись на экваторе в суперконтинент Пангею, перекрыв экваториальные течения и вызвав похолодание и осушение климата. Это дало преимущества рептилиям с повышенным обменом веществ и вызвало расцвет зверообразных.
Во-вторых, появились массовые насекомые с водными личинками – веснянки Plecoptera, ручейники Trichoptera и основная часть поденок Ephemeroptera (примитивные поденки появились раньше), которые аккумулировали в своих щуплых тельцах скапливающиеся в водоемах ценные химические элементы – прежде всего азот и фосфор, – а при разлете взрослых разносили эти вещества по водоразделам. Хотя каждая козявочка эфемерна, но вместе они – сила! Появился надежный канал возврата жизненно важных элементов из воды на сушу, что позволило растениям удалиться от берегов. Парадоксальным образом один из самых засушливых периодов стал временем озеленения пустынь: до этого лесами обрастали в основном берега морей, озер и рек, теперь же леса распространились вглубь континентов. В частности, в перми возникли засухоустойчивые хвойные вольциевые Voltziaceae. Где растения, там и животные – и вот по равнинам и по взгорьям заковыляли пеликозавры, дицинодонты и диноцефалы, за ними погнались горгонопсы и эотитанозухи, а под ногами у них путались тероцефалы и цинодонты – наши предки.
Такая вот диалектика: материки сползались, насекомые разлетались, а вместе они делали общее дело – создавали человека.
Менялось и зрение, причем частично в очень нестандартную сторону. Дело в том, что у первых амфибий и рептилий было не два, а три глаза. В рудиментарном виде третий сохраняется у некоторых современных лягушек, ящериц и гаттерий, причем может даже иметь хрусталик, сетчатку, нерв и вполне различает свет от тьмы, хотя и покрыт снаружи кожей; расположен он посреди головы. Третий глаз образуется на основе либо пинеального, либо парапинеального органа. У продвинутых зверообразных рептилий парапинеальный орган исчез совсем, а пинеальный погрузился вглубь увеличившегося мозга и стал эпифизом. У нас он выполняет массу функций, но многие из них по-прежнему завязаны на суточные ритмы. Конечно, свет на эпифиз прямо попасть уже не может, но зрительный нерв и тракт от стандартных глаз оканчивается в нескольких миллиметрах от эпифиза и связан с ним напрямую, так что с поступлением сигналов проблем нет.
На свету в эпифизе вырабатывается серотонин – один из главных нейромедиаторов, благодаря чему нам не хочется спать. У человека серотонин еще образно называют “гормоном счастья”, так как он отвечает в числе прочего за хорошее настроение. Совмещение функций приводит к тому, что настроение на свету действительно повышается, есть даже такой способ если и не лечения, то облегчения депрессии – освещение солнечным светом. В темноте в эпифизе серотонин преобразуется в мелатонин, и человек засыпает (на этой основе сделано отличное снотворное). Конечно, сон и бодрствование определяются многими другими факторами, ведь слепые люди тоже хотят спать, но регуляция через освещенность у нас преобладает. Кстати, любопытно, у ночных лемуров “гормоном счастья” является мелатонин?
Можно добавить, что некоторые особо экзальтированные граждане пытаются “открыть себе третий глаз” (иногда буквально – просверливая дырку в черепе), чтобы “связаться с космическими информационными потоками”, но делают это почему-то со стороны лба. На самом деле, из-за беспрецедентного разрастания конечного мозга эпифиз у нас оказался обращен назад; если уж и открывать себе третий глаз, то надо делать это на затылке, между мозжечком и затылочными долями полушарий. Впрочем, как раз в этом месте под черепом находится синусный сток – место соединения венозных синусов с кровью от мозга, так что попытка открывания “заднего глаза” гарантированно кончится фатально. Лучше мозг вообще не трогать…
Минутка фантазии
Третий глаз – это, конечно, круто, но наши зверообразные предки могли бы позавидовать миксинам. У этих бесчелюстных рыбообразных светочувствительные рецепторы, кроме собственно двух глаз, расположены еще и вокруг клоаки. Вот ежели бы этакую способность да развить бы!.. Это вам не банальный третий глаз на лбу, это ж круговой глаз вокруг… сами понимаете чего. Какие безграничные возможности утеряны! Впрочем, миксины здравствуют и поныне, может, через сотню-другую миллионов лет они еще возьмут реванш?
Зверообразные рептилии имели массу замечательных достижений: прогрессивный мозг, хорошо развитые обоняние и зрение, наверняка более сложное поведение и, вполне вероятно, заботу о потомстве (хотя по-прежнему откладывали яйца). Позднепермская Dvinia prima, даром что рептилия, для неискушенного зрителя выглядит скорее как крыса. Кстати, как обычно бывает в эволюции, сразу несколько групп зверообразных рептилий попытались стать млекопитающими. Представители обширнейшей группы Therocephalia занимались этим миллионы лет, но так и не смогли обогнать наших предков Cynodontia.
Что же случилось? Что вызвало все эти события? Прогресс зверообразных рептилий был инициирован и подстегивался ужасным похолоданием на границе карбона и перми – одним из самых мощных за всю историю планеты, почти достигавшим значений плейстоценовых оледенений. Лавразия и Гондвана сомкнулись в единую Пангею, перекрыв экваториальное течение и нарушив мировые циркуляции тепловых потоков. В центре суперконтинента климат к тому же стал засушливым, зима отделилась от лета. Теплокровность, шерсть и эффективное пережевывание были в такой ситуации более чем уместны. Нам повезло, что похолодание наступило до того, как пресмыкающиеся успели закоснеть в своей рептилийности; трудно представить, как кожные железы и мех могут развиться на основе, скажем, черепах (впрочем, рептилийность черепах, как это ни покажется странным, сама по себе большой вопрос, но это совсем другая история). Слава пермскому оледенению – оно создало все основные предпосылки для появления в будущем млекопитающих.
Но все эти великие достижения не дали тероморфам решающих преимуществ. Дело в том, что их задние конечности оставались на удивление примитивными, они отставали от прогресса передних. Это отражалось и на внешнем виде: зверообразные выглядят как бы вечно присевшими на корточки, тщящимися поднять переднюю часть тела, но бессильно осевшими сзади. Техническое решение не находилось слишком долго, а конкуренты не дремали, тем более что холода закончились и уже к границе перми и триаса на всей планете сменились жарой, сопоставимой с девонской и эоценовой. В самом конце перми по России и Польше враскорячку бегал Archosaurus rossicus, а к концу триаса архозавры нашли способ поставить тело на прямые ноги. Теперь они могли быстро бегать, затрачивая намного меньше энергии, ведь стопы оказались прямо под центром тяжести. Архозавры, правда, в противоположность тероморфам не смогли толком выпрямить передние ноги, но это было не так критично, они просто встали на две задние. А эффективная терморегуляция со способностью согреваться изнутри – да кого она интересует в термоэру, когда и за полярным кругом снег не выпадает? Зверообразные безнадежно проиграли – на долгих 180 миллионов лет…
Глава 15 Звено 10: первые млекопитающие (триас, 225 млн лет назад)
Граница перми и триаса ознаменовалась великим вымиранием – самым масштабным из тех, что затронули позвоночных, а возможно – вообще самым грандиозным из всех. Масса животных исчезла бесследно. Особенно пострадали морские организмы, но и по суше как Мамай в обнимку с Гитлером прошли – 75 % наземных видов было сметено с лица Земли. Бóльшая часть амфибий и рептилий канули в Лету. Но, как это обычно бывает, освободившееся место поспешили занять выжившие.
Пангея треснула и начала медленно расползаться, высвобождая пути для океанических течений, перемешивающих свои воды и согревающих планету. Заметно потеплело.
Триас – уникальный, чрезвычайно интересный и важный период, полсотни миллионов лет безвременья, когда не было никого “самого главного” – доминирующей группы животных, но появились все, кто играл главные роли на сценах будущего: перепончатокрылые и двукрылые насекомые, акулы более-менее современного типа, хрящевые ганоиды Chondrostei и костистые рыбы Teleostei, примитивные лягушки, черепахи, ихтиозавры, крокодилы, динозавры, птерозавры, птицы и млекопитающие. На первые места было много претендентов, порой весьма неожиданных; например, амфибии Trematosauroidea попытались завоевать море – странно для животных с проницаемой голой кожей; до сих пор непонятно, как им это удавалось, нынешние земноводные в соленой воде жить не могут.
На суше тоже все желающие столбили высвободившиеся места под солнцем. Впрочем, некоторые занимали места под луной: в ночной прохладе наработки зверообразных рептилий весьма пригодились, терапсиды выправили имевшиеся недостатки, и к середине триаса можно говорить уже о млекопитающих. Древнейший известный нам зверь – Adelobasileus cromptoni из Северной Америки (225 млн лет назад). Позже появились и другие подобные создания. Внешне все они напоминали землеройку. К сожалению, мы знаем об этих животных до крайности мало, ведь до нас дошли преимущественно зубы и обломки челюстей. Но мы видим, что зубная и слуховая системы у них были уже явно не рептильными.
Впрочем, черты пресмыкающихся не могли исчезнуть сразу и навсегда. Так, Morganucodon watsoni (205 млн лет назад) имел свободные шейные ребра, не имел эпифизных окостенений длинных костей (что весьма странно) и, скорее всего, был яйцекладущим. Крайне мелкие размеры – 10 см без хвоста при весе 20–30 г – и сравнение с современными однопроходными показывают, что из яиц появлялись, скорее всего, фактически эмбрионы. Этой особенностью первые млекопитающие принципиально отличались от рептилий, у которых вылупившиеся детеныши полностью самостоятельны и отличаются от взрослых лишь размерами и неспособностью к размножению. Очевидно, мизерных и беспомощных детенышей надо старательно выращивать. По всей вероятности, уже в триасе, а то и в перми мамы начали выкармливать малюток молоком. Первоначально молочные железы возникли из потовых, особой разницы между ними у однопроходных нет. У утконоса, ехидны и проехидн нет сосков, а молоко выделяется прямо на животе, на двух молочных полях, фактически потеющих молоком, которое детеныши слизывают.
Рис. 14. Adelobasileus cromptoni (а) и Morganucodon watsoni (б).
Выкармливание детенышей некими выделениями типично не только для млекопитающих. У рабочих пчел вырабатывается маточное молочко, и если им кормить личинку, то из нее разовьется новая матка, – поистине царская диета (будущих рабочих кормят пергой – смесью пыльцы и меда). У некоторых скатов и акул еще в утробе матери эмбриону в рот впячивается специальный вырост, выделяющий аналог молока. Кожными выделениями кормят молодь рыбки дискусы Symphysodon aequifasciata, а также самцы индийских сомиков-мистов Mystus aor и M. seenghala. В зобе голубей образуется “птичье молоко”, которым они кормят птенчиков в первые дни после вылупления; пингвины и фламинго выделяют аналогичное вещество стенками пищевода и желудка, причем у последних “молоко” розовое – как и сами птицы.
Выкармливание молоком повлияло и на зубы млекопитающих. У рептилий после вылупления зубы успевают смениться несколько раз, а челюсть растет, в итоге положение зубов относительно друг друга получается довольно хаотичным. У млекопитающих до некоторого момента зубы не нужны и даже вредны. У детенышей их нет, число смен сокращается, а когда зубы появляются, челюсти уже имеют более-менее крупные размеры, так что зубы выстраиваются в более постоянном и стандартном порядке, чем у рептилий. Становится возможным точное смыкание-окклюзия, а это опять же повышает эффективность хватания, разрывания и жевания пищи.
Забота о беспомощном потомстве неизбежно должна способствовать и развитию мозга и усложнению поведения.
Уголок занудства
Млекопитающие унаследовали от зверообразных предков и развили целый комплекс особенностей. Теплокровность-гомойотермия и интенсивный обмен веществ обеспечиваются интенсификацией дыхания, что возможно благодаря исчезновению брюшных ребер, появлению диафрагмы, тянущей легкие в новом направлении, и альвеолярному строению этих легких.
Млекопитающие обрели поясницу: поясничные ребра окончательно срослись с поперечными отростками позвонков (нынешний поперечный отросток поясничного позвонка – это большей частью именно реберный отросток, то есть бывшее ребро, а настоящий поперечный если и виден, то в виде маленького пупырышка – добавочного отростка). Дело в том, что диафрагма отделила грудную полость от брюшной, так что дыхательная функция поясничных ребер стала неактуальной. С другой стороны, конечности стали вертикальными и переместились под тело, а из-за этого горизонтальные движения позвоночника грозят неустойчивостью и падением (рептилиям проще – у них ноги враскорячку, да и вообще они лежат на пузе, а не приподняты над землей, так что можно изгибаться вбок сколько угодно, не упадешь). Со звериным положением ног лучше изгибать позвоночник вверх-вниз, но поясничные ребра этому мешают, стучась друг об друга, поэтому млекопитающие от них избавились. Навсегда пропали у млекопитающих брюшные ребра: защищать живот у маленькой и в любом случае уязвимой зверюшки нет смысла, а спасаться гораздо проще, убегая, извиваясь и протискиваясь в щели, чему лишние кости только мешают. Итогом стала вертикальная подвижность поясничного отдела позвоночника, теперь мы можем наклоняться вниз. Без этого гораздо труднее было бы создать поясничный лордоз, прямохождение и собирательство руками в полусогнутом положении. Как бы мы копали картошку и дергали морковку на даче с поясничными и брюшными ребрами?
По той же причине и тому же принципу исчезли и шейные ребра.
Теплую кровь разносит по телу четырехкамерное сердце, а из двух дуг аорты сохраняется только левая (птицы, что характерно, избавились как раз от левой, оставив правую – симметричное и равное по сути решение): это дает экономию сил, ведь в одном сосуде трение крови о стенки вдвое меньше, чем в двух. Полученное тепло сохраняется благодаря шерсти, которая заодно усиливает осязательные способности. Кожа сохраняет и развивает многочисленные кожные железы, в том числе запаховые, сальные, потовые и на их основе – молочные. Конечности совершенствуются, выпрямляются под тело (хотя и не сразу, и не у всех).
Безъядерные эритроциты млекопитающих лучше переносят кислород. Замечательно, что у амфибий эритроциты очень большие, но плотность их невелика, ведь этим задумчивым животным надо не так много кислорода. У рептилий красные кровяные клетки заметно меньше и вытянутее, ведь более бодрый характер подразумевает большие затраты кислорода, а при уменьшении объема площадь уменьшается медленнее, так что в том же объеме крови можно иметь большую площадь мембран и, стало быть, переносить больше кислорода. Птицы и млекопитающие теплокровны, но по-разному решили геометрическую задачу дальнейшего прироста площади клеток. Эритроциты птиц стали еще мельче и еще вытянутее – так их можно уложить плотнее, зазоров остается меньше. Млекопитающие же (начиная с яйцекладущих), кроме уменьшения размера, избавились от ядра и вогнули стороны эритроцитов внутрь, а некоторые – копытные, которым надо много бегать, – еще и вытянули. Такие “плюшки” можно сложить еще плотнее (и плотность действительно растет на порядки), больше кислорода – больше метаболизма, лучше работа мышц и мозга.
Крупный головной мозг с развитыми полушариями конечного мозга, покрытыми новой корой неокортексом, – общая черта всех млекопитающих, от однопроходных до человека. Некортекс в числе прочих взял на себя функцию управления сознательными движениями, импульсы которых пошли по новому корковоспинномозговому пути (соответственно, возникли элементы этого пути – ножки мозга, продольные волокна моста и пирамиды продолговатого мозга). Не обошлось и без “мусора”: вентральный таламус, управлявший движениями у рыб и амфибий, у рептилий, птиц и особенно млекопитающих стал простым переключателем импульсов; по большому счету, он тормозит процесс, без него мы могли бы двигаться быстрее, но коли он уже есть в мозге, то деться никуда не может. Мутация, которая провела бы аксоны коры сразу до мышц без переключения на вентральном таламусе, слишком маловероятна.
Самые первые млекопитающие имели мозг в 3–4 раза больше, чем у тероморф того же размера, заметно бо́льшую улитку внутреннего уха, гораздо более крупные и сложные обонятельные полости (сопоставление данных по современным животным показывает, что в разы увеличилось число обонятельных рецепторов). Изменения сказались и на внешности: у рептилий – и в том числе зверообразных – носовые отверстия на черепе разделены широким костным промежутком. У млекопитающих он сузился до тонюсенькой носовой перегородки, ушедшей внутрь (опять впячивание – универсальный процесс формообразования, проходящий красной нитью через всю эволюцию), так что снаружи осталось непарное носовое отверстие, хотя ноздри на мягком носе сохранились парными, разделенными лишь хрящом. Благодаря этому теперь мы можем вставлять в носовую перегородку кольца, косточки и прочие красивые бирюльки – очевидный прогресс по сравнению с рептилиями.
Высокий обмен веществ у млекопитающих обеспечивается массой приспособлений. Одним из них является диафрагма – куполообразная мышца, разделяющая грудную и брюшную полости. Как ни странно, в эмбриональном состоянии диафрагма образуется из шейных мышц. Если же вдуматься, это логично, ведь легкие – вырост глотки – снизу должны быть ограничены именно мышцами, расположенными рядом с глоткой, то есть именно шейными. Иначе говоря, у нас низ головы провалился аж до живота (другими же словами, немалая часть нашего тела выше диафрагмы – это рыбья голова). Вообще, такое уползание части шеи до середины туловища было возможно, видимо, у созданий, у которых шея была еще существенно недоделанной – на уровне самых первых рептилий или даже амфибий. Так что зачатки диафрагмы, видимо, появились заметно раньше зверей.
Кстати, и строение легких, и уровень обмена у млекопитающих уступают птичьим. Правда, у птиц диафрагма не содержит мышечных волокон, а выполнена лишь соединительной тканью, зато у них есть воздушные мешки – выросты легких, проникающие между органами и даже внутрь костей. Благодаря этому у птиц двойное дыхание: на вдохе воздух из легких уходит в передние воздушные мешки, часть пришедшего снаружи воздуха заполняет сами легкие, а часть со свистом пролетает в задние воздушные мешки; на выдохе из передних мешков использованный воздух таки выдыхается окончательно, а из задних идет в легкие. Таким образом, насыщение крови кислородом происходит непрерывно. Благодаря этому и обмен птиц куда выше звериного; скажем, у колибри даже в состоянии покоя сердце выдает 500 ударов в минуту, а в полете тарабанит со скоростью 1200 ударов в минуту, то есть 20 в секунду! Впрочем, не факт, что птицы были в триасе, а если и появились, то им было далеко до колибри. Но крокодилы, динозавры и птерозавры наверняка уже тогда обладали диафрагмой.
Минутка фантазии
Птицеподобные существа в триасе однозначно имелись. Об этом свидетельствуют, во-первых, следы на песке в Аргентине, оставленные 220–225 млн лет назад, во-вторых, кости протоависа Protoavis texensis из Техаса с датировкой 210 млн лет. Далеко не факт, что эти двуногие животные могли летать, но они с большой вероятностью обладали многими птичьими чертами, в частности теплокровностью и оперением. Если бы они так не увлеклись полетом, то быстро могли бы стать весьма развитыми животными.
Современные птицы имеют очень сложное поведение; например, вороны интеллектом не уступают мелким приматам. Главное и очевидное ограничение – размер мозга. С большой умной головой не очень-то полетаешь. Птицы так и не развили настоящего неокортекса. Зато они компенсировали его отсутствие сложностью мозжечка и полосатого тела, которое у них устроено сложнее, чем у млекопитающих. Полосатое тело – комплекс ядер конечного мозга – отвечает у человека в основном за память и эмоции, а птицы им еще и думают. Это, кстати, весьма любопытно: птицы мыслят, но совсем не тем местом, что мы.
Если бы птицы не стали летать, они могли бы развить свои способности гораздо лучше. Разумные птицы могли бы быть гораздо моральнее людей, так как размышляли бы теми же центрами, что управляют эмоциями. Могли бы поумнеть и вернувшиеся на землю птицы (а такие появлялись уже в меловом периоде, стоит вспомнить патагоптериксов Patagopteryx deferrariisi, гаргантюависов Gargantuavis philoinos, бапторнисов Baptornis advenus и гесперорнисов Hesperornis regalis). Если бы птицам не мешали жить динозавры, например на каком-нибудь уединенном острове, а условия располагали к интеллектуализации, то, глядишь, появилось бы пернатое “парачеловечество”. Как не повезло птицам! Как повезло нам!
Многим млекопитающие могут показаться прямо-таки совершенством. Но не так казалось в триасе. Все помянутые замечательные свойства еще долго не давали млекопитающим преимуществ перед рептилиями. Несколько раньше – как минимум 231 или даже 243 млн лет назад – появились динозавры: двуногие, быстрые, зубастые. Что толку в теплокровности и выкармливании детенышей молоком, если и так тепло, а здоровенный ящер может проглотить тебя целиком? При мелких размерах теплокровные животные становятся заложниками своего обмена веществ: они уже не могут делать ничего, кроме поддержания этого обмена, должны все время есть, есть и есть. Крупных зверообразных динозавры вытеснили, первыми изобретя вертикальные задние ноги, а потом было поздно: в крупный размерный класс путь млекопитающим оказался заказан до конца мезозоя. На долгие миллионы лет воцарилось динозавро-тероподное иго.
Оставалось прятаться, уйти во мрак ночи и микролабиринты лесной подстилки. Жизнь, конечно, на любителя, но тоже не такая плохая. Судя по некоторым местонахождениям, звери и по численности, и по видовому разнообразию частенько существенно опережали динозавров, так что еще вопрос, как правильнее называть мезозой – “веком динозавров” или “веком млекопитающих”. Но жизнь во тьме зарослей диктует свои условия. Зрение первых млекопитающих ухудшилось, зато они стали лучше нюхать. На каждый обонятельный рецептор приходится свой собственный ген, получаемый, впрочем, незамысловатым удвоением одного из предыдущих с некоторой его модификацией. В итоге из примерно сотни рецепторов, имевшихся у предков тероморф, получилось более тысячи у особо чувствительных современных зверей, известные рекорды принадлежат крысе – 1284 и мыши – 1194 (Kishida, 2008). Между прочим, это заметный процент генома! Многие приматы имеют примерно пятьсот рабочих генов (плюс еще триста нерабочих) и, соответственно, обонятельных рецепторов, но предки человека простились со значительной их частью, сохранив лишь 387 действующих штук (Fleischer et al., 2009). Хуже человека запахи чувствует только утконос (262 рецептора) и китообразные, у которых почти все или даже все обонятельные гены поломаны. Но свято место пусто не бывает даже в геноме: упрощение обоняния у приматов компенсировалось совершенствованием зрения, которое у нас лучше, чем у любых других зверей. Впрочем, в триасе до приматов было еще далеко…
Глава 16 Звено 11: живорождение и плацента (юра, 160 млн лет назад)
Млекопитающие триаса и первой половины юрского периода были большей частью яйцекладущими. Живыми примерами служат однопроходные – проехидны, ехидны и утконосы. Но яйца по-своему уязвимы. Неспроста в самых разных группах животных возникает живорождение. Среди онихофор, насекомых, акул, костных рыб, земноводных и рептилий полно примеров такого способа размножения. Чем млекопитающие хуже? И вот в юрском периоде они тоже научились вынашивать детенышей. Собственно, поначалу разница была небольшой: просто раньше сначала самка откладывала яйцо, а после из него вылуплялся малыш, теперь же сначала детеныш вылуплялся, а потом рождался. Такой вариант называется яйцеживорождением, он типичен, например, для части скорпионов и гамазовых клещей, некоторых гадюк и ужей, морских змей и многих ящериц.
Но если вылупление происходит еще в организме матери, то зачем нужна скорлупа? Почто тратить дефицитный кальций? Лучше внешнюю оболочку – трофобласт, из коей раньше делалась скорлупа, сделать проницаемой и питать через нее растущий плод (до сих пор у однопроходных это обеспечивал желток яйца, но много ли запасешь его в яйце размером в сантиметр, где еще и детеныш поместиться должен?). И тут возникает настоящее живорождение. Для млекопитающих это уровень сумчатых. Однако когда плод вырастает чуть побольше, трофобласт уже не может в достаточной мере снабжать его питанием, ведь объем плода растет в кубической степени, а площадь трофобласта – в квадратной. Чуть вырос – надо рожать, пока не задохнулся, поэтому новорожденный, скажем, кенгуренок – фактически эмбрион. Он только и может, что проползти, извиваясь, по шерсти матери и присосаться к соску. Понятно, что смертность от всяческих невзгод такого недоделанного потомства будет очень большой. Конечно, мать не тратит слишком много энергии для его вынашивания, но все равно нехорошо, когда уже родившийся потомок гибнет.
Чтобы повысить жизнеспособность детенышей, хорошо бы их подращивать до мало-мальски приличного состояния еще в утробе матери. А для этого надо подкармливать эмбрион, поставлять ему вещества и энергию. Трофобласт с этим явно не справляется. Как увеличить площадь, чтобы она догнала скорость увеличения объема? Нарастить на ней ворсинки! И они появляются, так что трофобласт становится хорионом – ворсинчатой оболочкой. Ворсинки контактируют с кровеносной системой матери, получая из нее все нужное. Если же капилляры плода и матери сплетаются так, что уже и не разберешь, где чей сосуд, то это уже можно назвать плацентой. Появление плаценты – уникального органа, сформированного двумя организмами, матери и детеныша, – стало величайшим достижением, позволившим рожать достаточно развитых детенышей, что снизило их смертность и стало залогом будущего прогресса.
Понятно, что такое замечательное решение не могло возникнуть однажды. Плацента в том или ином виде имеется у онихофор Onychophora (животных, похожих на червей, появившихся еще в конце докембрия – венде), акул-молотов Sphyrnidae, усатых собачьих акул Leptochariidae и многих других хрящевых, ночных ящериц Xantusiidae и сцинков Tiliqua rugosa. Даже растения имеют аналог плаценты! Среди сумчатых бандикуты Peramelemorphia тоже обзавелись хориоаллантоисной плацентой, но очень маленькой, почти игрушечной, причем безворсинчатой, так что их детеныши несильно обгоняют в развитии других сумчатых сверстников.
Рис. 15. Схема образования плаценты.
Но плацентарные млекопитающие превзошли всех. Они даже разработали несколько вариантов ворсинчатой плаценты, каждый из которых имеет свои особенности и позволяет осваивать разные стратегии размножения, а через это – самые разные стили жизни. У приматов один из самых жестких для матери вариантов – гемохориальная плацента, в которой ворсинка плода с капилляром пробивает насквозь капилляр матери и омывается ее кровью со всех сторон. Это обеспечивает ускоренное питание дитяти, но гарантирует обильные кровопотери роженицы, ведь вся плацента (а это, напомним, наполовину – слизистая матки) целиком отторгается. Соответственно, детеныш-ребенок оказывается хорошо подрощенным (что, впрочем, не означает какой-либо самостоятельности), а мать должна долго восстанавливать свое основательно подорванное здоровье.
Кстати, для формирования плаценты и зародышевых оболочек должна произойти имплантация – погружение бластоцисты (одной из ранних зародышевых стадий дитятки) в слизистую матки. И тут дремучесть пращуров опять настигает нас. У рыб закон развития един для всех икринок независимо от оплодотворения, ведь оно же внешнее. И организм современных женщин продолжает штамповать яйцеклетки по штуке в месяц независимо ни от чего, причем даже если они не оплодотворяются, слизистая матки подготавливается к их имплантации, а потом они расточительно отторгаются вместе с этой слизистой, создавая массу проблем, – система, очевидно, дурацкая, но, как и многие подобные, возникшая как побочный результат незамысловатости жизненных нужд и реалий далеких предков.
Но это еще не все проблемы, ведь с точки зрения матери растущий внутри нее плод – паразит, мало того что высасывающий ценные вещества, кислород и дефицитный кальций, так еще и гадящий продуктами своего обмена. Ко всему прочему плод имеет половину чужой – отцовской – генетики, у него, например, может быть совсем другая группа крови. Конечно, иммунная система героически пытается его истребить и отторгнуть. Однако размножение важнее личного блага, так что материнская иммунная система должна быть подавлена, но и совсем выключать ее нельзя, ведь мать и так ослаблена – все лучшее детям. Для избирательной регуляции собственной защиты – ослабления около плода – была разработана целая хитроумная система. И один из ключевых элементов этой системы – ген-подавитель иммунитета в плаценте – был заимствован млекопитающими у вирусов (Kjeldbjerg et al., 2008). Как говорят в народе: “С паршивого вируса – хоть гена клок”. Вирусы – мастера лицемерия, ведь их существование (жизнь ли это – еще вопрос) напрямую зависит от умения обманывать рецепторы клеток хозяина и прикидываться своим. Но эволюция, как Читатель уже знает, любит причудливые кульбиты. Злобный патоген дал нам возможность растить и рожать деток, а не эмбрионы. Иначе как бы выглядели классические изображения “мать и дитя” – страшно подумать…
Казусы анатомии настигают нас и после рождения. Ведь нить жизни – пупочный канатик – связует нас с матерью через живот. У родившегося ребенка на этом месте зарубцовывается шрам – пупок. А проходит он не где-нибудь, а в весьма ответственном месте – через белую линию живота, мощный сухожильный апоневроз, на котором сходятся все мышцы брюшного пресса. Ведь брюшные ребра давно исчезли, теперь напору внутренних органов изнутри и напастям снаружи противостоят только четыре слоя мышц. Стоит нам перенапрячь свой пресс, сдавливаемому кишечнику некуда деваться, и он устремляется в единственном возможном направлении – в пупок, выпячиваясь в виде грыжи.
Строго говоря, мы не знаем, когда появились первые плацентарные звери, ведь сама плацента, понятное дело, не сохраняется, а определить тип выращивания детенышей по зубам – задачка покруче, чем решал Шерлок Холмс. Но палеонтологи всю жизнь только такие задачки и решают. Поэтому Juramaia sinensis, жившая в Китае 160 млн лет назад, признана именно древнейшим плацентарным млекопитающим (Luo et al., 2011).
Юрский период был в целом спокойным временем: пятьдесят миллионов лет субтропического климата, почти одинакового по всей планете. Флора и фауна менялись не спеша. Впрочем, нельзя сказать, что это был застой. Именно в юре появились осетры, червяги, саламандры и лягушки, многие группы морских рептилий и динозавров, археоптериксы и, вероятно, другие птицеподобные создания. Именно в юре вымерли последние зверозубые рептилии. Многие из них достигли, кстати, поразительного сходства с современными млекопитающими, блестящими примерами чего могут служить Kayentatherium wellesi и Bienotherium yunnanense, чьи зубы были специализированы до крайности. Группа докодонтов Docodonta вообще непонятно к кому относится – рептилиям или зверям. И дело не в плохой сохранности, а именно в переходности черт. Особенно привлекают внимание Castorocauda lutrasimilis – аналог бобра – и Haldanodon exspectatus – копия выхухоли. Совсем настоящие млекопитающие (хотя и не плацентарные) тоже были разнообразны, чего стоит, например, китайский Volaticotherium antiquum – планирующий наподобие летяги зверь.
Весь этот праздник жизни вершился на фоне и в зарослях голосеменных растений – хвойных, гинкговых, беннеттитов и саговников. Но эти деревья были не банальными елками, а весьма продвинутыми. В конце юры появляются гнетовые Dinophyton и Eoantha, беннеттиты Manlaia и Baisia. Их шишки имели вид цветов, привлекавших насекомых-опылителей. Но раз “цветы” поддельные, то логично, что и “бабочки” тоже ненастоящие. И действительно, в роли бабочек выступали сетчатокрылые Kalligrammatidae и скорпионницы Aneuretopsychidae. Впрочем, в начале юрского периода появились и настоящие бабочки – Archaeolepis mane порхала по Англии уже 190 млн лет назад, – но еще долго они не занимали ведущего положения в экологической нише опылителей. Коллективных насекомых, вероятно, еще не было.
Есть, правда, намеки – в виде специфической пыльцы и древесины, что местами уже возникли и первые настоящие покрытосеменные (некоторые палеоботаники доказывают, что цветковые были уже в среднем триасе: Hochuli et Feist-Burkhardt, 2013), но даже если это и подтвердится, широкого распространения они точно не получили. По голосеменным же скакать по крайней мере скучно, а порой и нелегко: толстые прямые ветки расходятся однообразными мутовками и могут образовывать довольно густую жесткую сеть. На земле же травянистых растений в юрском периоде фактически не было, их суррогатом выступали низкие папоротники, хвощи и плауны – в них трудно прятаться, а сами они малопитательны. Листовой опад был беден, наверняка немного было живущих в нем червей и насекомых – лучшей пищи для мелких теплокровных зверьков. Посему, при всем разнообразии юрских млекопитающих, они никак не могли реализовать свой потенциал в полной мере. Но время шло, приближалась революция…
Глава 17 Звено 12: древесность, прыгучесть, хватательная кисть (средний и позднейший мел, 115–108 и 65 млн лет назад)
Середина мелового периода ознаменовалась радикальной сменой флоры и фауны насекомых. Растения все эти миллионы лет тоже не скучали, а изобретали цветок, привлекающий опылителей красивыми лепестками и вкусным нектаром, двойное оплодотворение, обеспечивающее новое поколение питательными веществами эндосперма, а также околоплодник, который, будучи съеден или прилепившись к шерсти и перьям, гарантирует распространение семян. Все эти замечательные свойства в комплекте сложились у покрытосеменных, или цветковых, растений к середине мела. Примерно 115–108 млн лет назад грянула революция: цветковые захватили планету. Параллельно появились и новые насекомые – бабочки, мухи, термиты, муравьи, пчелы и наездники (некоторые из них возникли раньше, но развернуться в полный рост смогли только сейчас). Как при любой революции, не обошлось без жертв: вымерли многие и многие голосеменные и связанные с ними насекомые.
Кстати, о плодах и термитах…
Попытки изобрести цветок и плод предпринимались разными растениями еще в юрском периоде. Тогда цвели “цветы”, сделанные из шишек и их чешуй беннеттитов и гнетовых. Их опыляли юрские аналоги бабочек типа сетчатокрылой Kalligramma haeckeli и скорпионницы Pseudopolycentropus latipennis. Но это были неправильные “цветы” и неправильные “бабочки”, и они не делали совсем никакого меда. Наверное, на их основе тоже можно было развить что-то большее, но, как обычно бывает в эволюции, если какой-то комплекс сложился не полностью, то успех вовсе не обеспечен. Первые попытки вырваться из мира шишек потерпели неудачу.
Появление цветковых растений покрыто завесой тайны. Есть несколько гипотез их происхождения, а остатки пыльцы интерпретируются порой противоречиво, но ясно, что, хотя они могли появиться еще в юрском или даже триасовом периоде, первые надежные их останки датируются раннемеловым временем 135–140 млн лет назад, а расцвета цветковые достигли только в середине мела, около 115 млн лет назад. Показательно, что цветковые появляются в отложениях сразу в большом количестве и разнообразии, практически невозможно назвать самого древнего представителя. Это говорит о том, что до середины мела цветковые уже прошли немалый эволюционный путь, только мы об этом знаем пока недостаточно.
Цветковые отличаются от своих предков массой особенностей, но главные из них взаимосвязаны размножением: это цветок, закрытая со всех сторон тканями завязи семяпочка, образующийся из этих тканей околоплодник и двойное оплодотворение, когда яйцеклетка, оплодотворенная одним спермием, становится зародышем, а центральная клетка, оплодотворенная другим, превращается в питательный эндосперм – фактически брата-близнеца, предназначенного для съедения зародышем (для пущей тучности эндосперм обычно триплоидный, а иногда даже полиплоидный: больше генов – больше синтеза белков – больше еды новому поколению). Завязь условно можно сопоставить с маткой у млекопитающих: она заботливо окружает и защищает эмбрион. Пыльцевое зерно не просто падает сверху на яйцеклетку, а должно прорастать сквозь столбик пестика: это уменьшает риск оплодотворения не тем видом, от которого заведомо не будет проку, и поражения бактериями или грибами.
Семя, окруженное околоплодником, составляет настоящий плод. Получающийся из завязи околоплодник предназначен для распространения семян, очень часто с расчетом на то, что животное съест мякоть, но не сможет разгрызть семя, содержащее зародыш, ради которого все и затевается. Ради защиты дитятки семя, во-первых, окружено очень жесткой семенной кожурой; во-вторых, может быть ядовитым; в-третьих, растения отдают на откуп животным сахара в мякоти, сдабривая их ароматами (для наглядности можно вспомнить сливу). Животные с точки зрения растений делятся на хороших – которые едят околоплодник, но не уничтожают семена – и плохих – кои старательно разгрызают именно семена, добираясь до самого питательного и разрушая самое ценное. Приматы в целом хорошие, так как у них обычно не хватает силы жевательных мышц и прочности зубов, чтобы разгрызть семенную кожуру. Показательно, что в тропических лесах от 25 до 40 % семян распространяют именно приматы (например: Chapman, 1995); почти все остальные проценты приходятся на птиц. Лучший пример плохих животных – грызуны, чьи резцы заточены именно на разгрызание твердых оболочек. Впрочем, среди приматов тоже встречаются злодеи: например, некоторые шимпанзе умеют колоть орехи кола камнями. Если вы, Уважаемый Читатель, съедая яблоко, оставляете сердцевину нетронутой, вы – хороший примат. Я же, признаюсь, примат зловредный…
Некоторые цветковые растения, впрочем, умудрились даже семеноядность зверей и птиц поставить себе на службу. Злаки рассчитаны на то, что их будут есть, но зерна прикреплены на стебель непрочно; пока животное съедает несколько зернышек, оно стряхивает на землю еще с десяток. Правда, коварные люди селекцией вывели плохо осыпающиеся сорта злаков, но и это пошло им на пользу – ведь с помощью земледельцев эти растения захватили такие площади, какие и не снились их диким предкам.
Эволюция цветковых растений подстегнула эволюцию насекомых. Некоторые из тех, что прочно ассоциируются у нас с цветами, были и раньше, например, древнейшая бабочка Archaeolepis mane летала по раннеюрской Англии уже 190 млн лет назад. Но подлинный бум начался именно с появлением цветов и нектара. Бабочки создали спрос на нектар, а нектар сделал из грызущих молей приличных бабочек. И понеслось… Древнейшие пчелы Melittosphex burmensis навеки завязли в бирманских янтарях 92–100 млн лет назад, а муравьи Palaeomyrmex arnoldii и Sphecomyrma freyi – 80 млн лет назад. Мир преобразился, наполнился цветами, жужжанием и порханием, благоуханием и вкусными плодами. С этого момента барельефные натюрморты в лучших традициях сталинского барокко будут неотступно преследовать нас; весь долгий путь к человеку будет усыпан огрызками.
Напрямую не связанные именно с цветковыми, но участвовавшие в среднемеловой революции термиты появились, исходя из филогенетической логики, еще в конце юрского периода, а древнейший известный термит грыз древесину уже в раннем мелу, 137 млн лет назад (Engel et al., 2009). Трудно сказать, насколько существенным звеном в экосистеме были те термиты, но точно известно, что их далекие потомки стали важным блюдом для австралопитеков, а прочность их домов послужила одним из стимулов развития орудийной деятельности.
Млекопитающие получили от этой революции все, чего им не хватало: нектар, сочные плоды, толпы восхитительных насекомых да еще отличное убежище в придачу, – чего еще желать?! И звери радостно бросились обживать новый роскошный ресторан-гостиницу. Как весело скакать по раскидистым ветвям, выглядывая из густой листвы в поисках вкусняшек и скрываясь от злобных динозавров! Как уютно шуршать в плотной траве и опаде – здесь не страшны кровожадные тероподы! Неспроста во второй половине мела число млекопитающих быстро росло и превзошло число динозавров.
Трудно сказать, какие конкретно из десятков меловых млекопитающих стали в итоге приматами, но, учитывая данные по древнейшим приматоморфам, можно очертить их облик довольно внятно. Это были древесные животные размером с мышь, причем умеющие не просто лазать, но и неплохо прыгать. Питались они всем подряд. И, судя по палеоценовым находкам, были они многочисленны.
Рис. 16. Реконструкция Purgatorius.
Почти живым воплощением этого Великого Предка является Purgatorius – древнейший предок приматов, известный, правда, лишь по одному зубу из самого верха мела Монтаны. Зато из самых низов палеоцена тех же местонахождений с аналогичными датировками 65 млн лет назад имеются уже десятки находок пургаториусов, включая таранные и пяточные кости ног (Chester et al., 2012). Древесный образ жизни и всеядность меловых предков приматов определили всю их последующую эволюцию. Благодаря этим особенностям у приматов слабое обоняние, хорошее зрение, отличная координация, хватательная кисть и сложное поведение – и все это легло в основу главных человеческих качеств. Об этом еще пойдет речь впереди, здесь же упомянем лишь некоторое наследие, доставшееся нам с позднемеловых времен.
Жизнь на ветвях предполагает умение за эти ветви хвататься – коготками не уцепишься за тонкий прутик при лихих прыжках. Да и детенышам приходится цепко держаться за шерсть матери, чтобы не рухнуть вниз. Для этого нужны руки и ноги, хорошо поворачивающиеся кистями и стопами внутрь, а также цепкие пальцы. Казалось бы, мы давно слезли с деревьев, но посмотрите внимательно на себя: согнуть кисть в сторону мизинца можно гораздо дальше, чем в сторону большого пальца. Стопы же легко обратить друг к другу (речь не о “носки вместе – носки врозь”, а именно о повороте нижней стороны стопы), но почти нереально вывернуть наружу. Кроме того, сжать пальцы можно с гораздо большей силой, чем разжать. Если взять один свой кулак в другой и одну руку усиленно сжимать, а другую разжимать (для этого, однако, сначала надо напрячь мозг), то сжимающая победит. Опять же – бицепс, сгибающий руку в локте, сильнее трицепса, разгибающего ее (у четвероногих наземных вообще-то прямо наоборот: ведь им надо держаться на выпрямленных передних лапах, но усиленно сгибать их нет большого прока). Смысл ясен: нам надо держаться за ветки и маму, но усиленно разжимать пальцы почти никогда не требуется. По той же причине в руке намного лучше развиты пронаторы – мышцы, поворачивающие кисть ладонью внутрь и назад (кости предплечья при этом будут перекрещены), нежели супинаторы, разворачивающие ладонь вперед. Если полностью расслабить руку, она все же повернется ладонью назад, рука немножко согнется, а пальцы слегка скрючатся, несмотря на то, что “анатомически правильное” положение совсем иное: локтевая и лучевая кости предплечья должны бы быть параллельны, а пальцы выпрямлены. Собственно, в совсем-совсем расслабленном положении рука может находиться либо в глубокой фазе сна, либо у вусмерть пьяного, либо у действительно неживого человека. Благодаря древесной жизни предков, загребущие движения удаются нам гораздо лучше, чем щедро раздающие.
Уголок занудства
Ограничение поворота кисти в сторону мизинца обеспечивается упиранием гороховидной кости запястья в шиловидный отросток локтевой кости; в сторону большого пальца – кости-трапеции в шиловидный отросток лучевой кости. Шиловидный отросток локтевой кости гораздо меньше, чем лучевой, что и позволяет сильнее сгибать кисть в сторону мизинца.
Ограничение поворота стопы вбок (в сторону мизинца) обеспечивается латеральной (наружной) лодыжкой – нижним концом малой берцовой кости, внутрь (в сторону большого пальца) – медиальной (внутренней) лодыжкой – выростом на нижнем конце большой берцовой кости. Латеральная лодыжка торчит вниз гораздо дальше, чем медиальная, поэтому заворот стопы внутрь удается лучше, чем разворот наружу: ноги тоже загребают, они тоже должны обхватывать ветки.
Мышцы-сгибатели пальцев и запястья крепятся большей частью к медиальному надмыщелку плечевой кости; мышцы-разгибатели – к латеральному. Из-за большей актуальности сгибателей медиальный надмыщелок намного крупнее латерального.
Портняжная мышца начинается от верхней передней подвздошной ости и заканчивается на большеберцовой бугристости. Она обеспечивает замечательнейшее движение: отводит и вращает бедро кнаружи, но сгибает ногу в колене и поворачивает голень внутрь. Иначе говоря – это универсальный обхватыватель мам детенышами и стволов взрослыми.
Ясно, что сгибатели в руке важнее разгибателей: если мы повредим первые, мы не сможем лазать по деревьям, если же вторые – мы всегда разожмем пальцы, просто расслабив сгибатели. Поэтому сухожилия разгибателей идут прямо под кожей по тыльной стороне запястья и кисти – их не жалко. А вот сухожилия сгибателей надо беречь! Для усиленной их защиты они проходят через запястный канал, ограниченный со стороны большого пальца костью-трапецией, а с обратной – крючковидной костью. Места же там весьма немного, тем более параллельно идут артерии, вены и нервы. Посему все богатство заключено в одну на все “жилы” фасциальную оболочку. К сожалению, такая система может давать сбой. Когда, скажем, человек радостно щекочет пушистое пузико любимого котика (“Ути-пути, мой хорошенький!..”), гордый зверь может не оценить такой фамильярности. А когти он не чистит, так что, когда котик пропарывает запястный канал (“Ах ты ж, проклятая тварь!..”), злобные микробы устремляются по единому каналу к кончикам сразу всех пальцев (в кисти фасциальная оболочка разветвляется подобно перчатке). А там – в тупике, тепле и комфорте – бактерии начинают бурно размножаться, рука пухнет, краснеет, синеет, чернеет, так что дело может дойти вплоть до ампутации по локоть. Жаль, что эволюция не предусмотрела щекотание пушистых пузиков…
Древесные животные должны отлично оценивать расстояние до объектов, ведь прыгать надо очень точно. Для этого возникает бинокулярное зрение, когда оба глаза повернуты в одну сторону, а поля зрения двух глаз в значительной степени перекрываются. У наземных животных, существующих фактически в двухмерном мире, особых проблем с этим нет. Каждый их глаз, расположенный сбоку головы, показывает плоскую, зато очень широкую картинку, суммарный обзор составляет иногда чуть ли не 360°, а если поля зрения и пересекаются, то где-то далеко перед носом и далеко за ушами, на расстоянии, на котором животное может особо уже и не видеть. Монокулярное зрение не позволяет точно оценить расстояние (чтобы в этом убедиться, достаточно закрыть один глаз, крутануть головой – чтобы мозг забыл относительные размеры предметов – и попробовать уверенно дотронуться до чего-нибудь пальцем), но так ли это важно, скажем, корове? Расстояние до хищника можно примерно прикинуть по размеру, а трава никуда не убежит. Зато можно не вращать глазами, что сказывается и на внешнем виде. Например, глаза лошади или зайца очень выразительные за счет того, что весь видимый глаз занимает радужка и зрачок. Если у лошади виден белок, это значит, что либо она очень испугана, либо у нее серьезный дефект. На качающихся же ветвях надо много двигать глазами, у гляделок должен быть запас подвижности, склера – тот самый белок – становится видна.
Бинокулярное зрение возникает либо у хищников, либо у древесных прыгающих животных. Первым надо точно оценивать расстояние прыжка до добычи, вторым – до ветки. Именно ко вторым относятся приматы. Кстати, показательно, что полная бинокулярность возникла далеко не у первых приматоморфов и даже не у полуобезьян уровня лемуров, а только у собственно обезьян. Люди же спустились с деревьев на плоскость, но полученные в древесных кронах адаптации получили новое назначение. Очень удобно, что теперь мы можем заниматься трудовой деятельностью – скажем, колоть отщепы или водить автомобиль, – не особо рискуя отшибить себе палец или врезаться в едущую впереди машину.
Для скакания по ветвям нужна еще и отличная координация. В частности, в лобной доле человека хорошо развита премоторная зона, отвечающая в числе прочего за согласование поворота глаз и шеи в разные стороны. То есть если непрерывно смотреть на некую точку и вертеть головой, то шейные мышцы будут двигать голову, скажем, влево, а мышцы глаза – поворачивать глазное яблоко вправо. Причем в зависимости от расстояния до объекта скорость движения глаз и шеи будет неодинаковой. А объект может еще к тому же двигаться сам по себе. Эта способность концентрировать взгляд была до крайности актуальна для прыгающих по качающимся веткам приматов, ведь надо очень точно прицелиться, и делать это надо быстро. На конце подгибающейся ветки долго думать вообще вредно, ведь она может согнуться или даже обломиться; коли уж собрался прыгать, необходимо делать это уверенно и бесповоротно. Не потому ли многих людей качает вперед на краю пропасти? У некоторых возникает внутреннее желание сигануть вниз, когда они взглядывают с большой высоты, – решительные предки говорят в нас.
Есть и нехорошие последствия древесной жизни: она сделала нас неряшливыми. Зачем следить за судьбой отходов, если они падают куда-то вниз, в неведомые недра леса, и никогда не возвращаются? Съел, швырнул, нагадил и забыл, что мне за дело до соседей на первом этаже? К сожалению, бесконечно далеки мы от кошек и барсуков…
Древесные предки живут в нас. Показательно, что при опасности человек не зарывается в землю, не прячется в палой листве, не ныряет в воду. Половина охотничьих баек – про то, как охотник, встретившись в лесу с медведем/кабаном/волком, запрыгнул на высоченную (или не очень) елку, без памяти взлетел на ее верхушку, а потом не знал, как спуститься. Так же инстинктивно люди – не хуже мартышки – вскакивают на деревья от злых собак, перепрыгивают через двухметровые заборы, спасаясь от преследователей, и совершают прочие подобные чудеса ловкости. Что характерно, человек обычно при этом сам не знает, как туда залез – “без памяти”.
Столь же показательно устройство наших автобусов, троллейбусов и трамваев: они оборудованы искусственными ветками над головой, за которые люди хватаются, задрав руки вверх. Возникни разумные существа из собак, разве стали бы они делать столь нелепые поручни? Скорее уж, устлали бы пол уютными ковриками, на которых можно устойчиво улечься. А вторые полки в поездах? А ведь некоторые персонажи умудряются ехать и на третьих багажных…
Всеядная диета предков приматов сделала нас удивительно равнодушными к составу и качеству пищи. То есть, конечно, каждый склонен придуриваться по-своему, но в целом человек по-настоящему всеяден. Столь беспринципных пожирателей всего подряд еще поискать: разве что гиены, шакалы да свиньи могут составить нам достойную компанию. Но два вида пищи, бесспорно, преобладали в первобытной диете: насекомые и фрукты.
Фрукты даже на экваторе зреют не каждый день и не на каждом дереве, причем на них находится много желающих, которых надо обогнать; насекомых требуется еще отыскать и выковырять из щелей, а некоторые из них невкусны или даже опасны. Для такого типа питания необходимо обладать острым умом и отличной памятью, в том числе пространственной, причем трехмерной – дело ведь происходит в лесных кронах. Трудность добывания пищи поселила в наших пращурах неискоренимое любопытство. Любознательность – визитная карточка приматов, человек развил ее до небывалых высот, но как бы он сделал это без предка-пургаториуса? Поиск букашек меловым зверьком гарантировал то, что Уважаемый Читатель дочитал до этого места и горит желанием узнать, что же было дальше…
Глава 18 Звено 13: потеря синтеза витамина C, обретение носа и возвращение красного цвета (палеоген, 55–30 млн лет назад)
Граница мела и палеогена ознаменовалась исчезновением динозавров. На самом деле вымирание коснулось в основном морских организмов, а на суше пострадали еще лишь птерозавры да энанциорнисы. Многие насекомые и растения вообще не заметили какой-либо разницы. Опустим сорок сороков гипотез мелового вымирания, упомянем лишь, что популярная “астероидная” версия, как бы ни была она эффектна, вряд ли что-то объясняет; ее упоминание лишь вызывает либо веселый заливистый смех, либо скрежет зубовный и рефлекторное – по И. П. Павлову – выделение яда у профессиональных палеонтологов. То есть астероид был, но он не стал причиной катастрофы. Метеориты падали и до, и после. Для нашей же истории довольно и вымирания динозавров. Ведь уже 180 млн лет они были доминантами среди позвоночных – по размерам тела и положению в пищевой цепи. И вот млекопитающие получили свой шанс и смогли, наконец, в полной мере реализовать свои замечательные способности. Правда, в палеоцене и даже эоцене подавляющее множество зверей было по-прежнему мелкими крысоподобными существами, а верх пищевой цепочки занимали гигантские бегающие хищные птицы вроде Gastornis и многочисленные наземные крокодилы – как мезозухии Mesosuchia, так и эузухии Eusuchia. Однако уже в палеоцене появились и крупные всеядные млекопитающие типа тениодонтов Taeniodonta и пантодонтов Pantodonta – существа, немыслимые для мезозоя.
В эоцене мир заполнили тропические леса. Сколь бы странным это кому-то ни показалось, доселе мир не знал такого биома. В мезозое мир был теплым, но все же не тропическим. Лишь в эоцене континенты переползли в нужное положение, циркуляция воздушных и водных потоков поменялась и появилась климатическая зональность, а с ней и тропики (Еськов, 2007). Собственно, именно эти климатические и биотические перемены позволили приматам окончательно стать приматами (до этого момента правильнее говорить все же о “приматоморфах”). Даже вымирание динозавров было далеко не столь важным. Высокие деревья с густой листвой и смыкающимися кронами, обилие насекомых и фруктов – вот то, что создало из пургаториусов и плезиадаписовых – приматов.
Тема фруктов не отпускает нас. На них рады налегать любые приматы. Но особенно они пришлись по вкусу нашим предкам в начале эоцена, около 55 млн лет назад или несколько раньше. Такая любовь, впрочем, наградила нас очередной неприятностью. Вообще-то почти все млекопитающие, включая лемуров, умеют сами синтезировать в собственном организме витамин C. Но во фруктах его содержится огромное количество, тем более что приматы ели плоды прямо с ветки – свежее некуда. Когда возникала мутация, нарушающая синтез аскорбиновой кислоты, то ничего страшного не происходило: ценное вещество в избытке поступало в организм с пищей. Стабилизирующий отбор перестал работать, высшие приматы – начиная с долгопятов – потеряли ценную способность, да для них она и не была ценной (Ohta et Nishikimi, 1999). А вот когда люди выбрались за пределы тропической и субтропической зоны, начались проблемы. Хуже всех было, конечно, морякам дохолодильниковой эры. При недостатке витамина C развивается цинга – смертельное с некоторой стадии нарушение обмена веществ. Может, генные инженеры поправят положение?.. Кстати, приматы в своей беде не одиноки. Среди грызунов тоже есть любители фруктов, разучившиеся синтезировать C, например морские свинки; у них, впрочем, конкретная мутация была иная (Nishikimi et al., 1992).
Любовь к фруктам живет в нас и поныне. Сладкое любят все люди, хотя не все в этом признаются. Главное тут, конечно, сахар. Правда, во фруктах не совсем те углеводы, что в свекле, так что современные любители сладкого чая или булочек с сахарной пудрой рискуют заработать диабет или ожирение. Предкам столько легко усваиваемых углеводов зараз никогда не доставалось. До сих пор организм рассуждает как в старые голодные времена: “Всё, что есть, надо съесть”, а что съедено лишнего, будет срочно запасено в виде жира на черный день. И тут встает неожиданная проблема современного цивилизованного общества: черный день никак не наступает! Круглосуточные супермаркеты завалены едой, холодильник до потолка вмещает явно больше, чем желудок. Свободное время в сочетании с неестественной жизнью, вызывающей постоянный стресс, подстегивают жировую клетчатку к росту – а вдруг завтра будет плохо? Но завтра опять магазин открыт, холодильник полон, а электрическая лампочка позволяет не спать и найти холодильник в ночи… Впрочем, в палеогене до холодильников было далеко.
Примерно в это же время – с эоценовых долгопятоподобных предков – начинается эра носа. У полуобезьян нос кожистый, с мощной хрящевой основой, срощенный с верхней губой. У долгопятов и всех высших приматов нос отделен от верхней губы. Редукция ли обоняния тому виной или потребности общения, а скорее всего – сочетание того и другого, но нос наконец отлепился ото рта. Нос – это центр лица, можно сказать, лицо лица! Неспроста карикатуристы обращают именно на него основное внимание. Собственно, главным итогом появления носа стала мимика, ведь мышцы верхней губы получили возможность работать по новым осям и с большей свободой. Рот человека окружен целым веером мышц, тянущих губы во всех возможных направлениях и обеспечивающих подавляющую часть наших мимических способностей. Мышцы глаз намного беднее в своих возможностях, а мышцы носа и ушей вообще пора заносить в Красную Книгу.
Уголок занудства
Веер мышц рта (начиная от центра снизу): подбородочная мышца, мышца, опускающая нижнюю губу, мышца, опускающая угол рта, мышца смеха, щечная мышца, мышца, поднимающая угол рта, большая скуловая мышца, малая скуловая мышца, мышца, поднимающая верхнюю губу, мышца, поднимающая верхнюю губу и крыло носа. Вокруг все это окружено круговой мышцей рта.
Рептилии и птицы имеют четыре вида светочувствительных белков-опсинов в колбочках сетчатки глаза: они видят ближний ультрафиолет, синий, зеленый и красный цвета. Предки млекопитающих миллионы лет прятались от динозавров в лесной подстилке и выползали из листьев только по ночам. В темноте да в валежнике не очень-то поглядишь. Поэтому древнейшие звери потеряли “ультрафиолетовые” и “красные” колбочки, сохранив только “синие” (и тех немного) и “зеленые” (утконос утратил только один вид колбочек, но он и с ними почти слепой). Большинство зверей различают только синий и зеленый, а главными рецепторами становятся палочки, обеспечивающие сумеречное нецветное зрение. Строго говоря – и зачем видеть красный? Цветочки, что ли, разглядывать? Трава – она и есть трава… Кстати, это приводит к любопытному казусу: защитная окраска оленят – ярко-оранжевая с белыми пятнышками. Человек без особых проблем увидит олененка на зеленой траве, но для волка это неразрешимая задача – оранжевый и зеленый для него одинаковы, а пахнуть олененок отказывается. Большинство зверей – дальтоники, не различающие красный и зеленый.
А мы можем гордиться своими предками: первые обезьяны, перешедшие порядка 30–40 млн лет назад к дневному образу жизни и преимущественной фруктоядности (и тут фрукты!), вновь приобрели способность видеть красный цвет. Это важно – найти спелые плоды и молодые, зачастую красноватые листья, содержащие больше белков, в зеленой листве. Правда, до ящериц и воробьев нам по-прежнему далеко, но хоть бобров превзошли – и то хорошо. Приятно сознавать, что мы небезнадежны: человеческие гены, кодирующие опсины, весьма полиморфны, причем они могут находиться в хромосомах в нескольких копиях и в разных вариантах, так что некоторые люди фактически видят два разных красных цвета (Verrelli et Tishkoff, 2004).
Крайне интересно, что у узконосых и широконосых обезьян вторичное обретение “зеленых” рецепторов произошло независимо. Тут нам опять повезло: у узконосых (то есть наших предков) это получилось удвоением-дупликацией одного из двух остававшихся “цветных” генов, причем для обретения “красного видения” понадобились всего три мутации. У широконосых обезьян – обитателей Южной Америки – “красный” ген возник как аллель старого опсинового гена, расположенного на X-хромосоме, так что все самцы и часть самок остаются “зелеными дальтониками” и только гетерозиготные самки отличают красный от зеленого. Спасает положение развитая социальность, а особые способности избранных самок могут повышать их значение в группе – воинствующий феминизм торжествует. Среди южноамериканских обезьян лишь ревуны продвинулись до обретения полноценного “красного” зрения и равенства полов по этой важной способности (Dulai et al., 1999).
Кстати, некоторые австралийские сумчатые вроде бы тоже заново обрели прежние рептилийные способности, причем, вероятно, в полной мере, так что нам не стоит зазнаваться.
Кстати, о раках и сказках…
Все эти способности в буквальном смысле блекнут в сравнении с беспозвоночными. У бабочек и пчел пять типов колбочек. Но и это не предел: всем далеко до раков-богомолов, у разных видов которого в глазах двенадцать, шестнадцать или даже двадцать один вид цветовых рецепторов (Thoen et al., 2014). Так что то разноцветье кораллового рифа, которое видим мы, – жалкое подобие реальности, отражающейся в глазах и ганглиях раков-богомолов. Даже с нашим умным-преумным мозгом мы в принципе не можем представить, в каком радужном мире живет это сказочное существо. Неспроста даже для наших убогих глаз рак-богомол выглядит чрезвычайно нарядно.
Между прочим, колбочки функциональны только на ярком свету. В сумерках работают только “черно-белые” палочки; неспроста же в темноте все кошки серые. С другой стороны, сей физиологический факт можно использовать, например, при съемках фильмов, когда надо создать сказочный эффект: если на черном ночном фоне человек видит яркие цвета, это крайне необычно и воспринимается как что-то фантастическое, ведь в темноте не может быть ничего цветного. По тому же принципу действует салют: на темном небе расцветают сочные вспышки красного, синего и зеленого, и это настолько неестественно, что невозможно оторвать взгляд. Может быть, и притягательная сила ночного костра отчасти имеет корни в принципах работы наших палочек и колбочек?
Если смотреть на вопрос шире, в природе просто не так много источников энергии, чьей мощности хватает для возбуждения наших колбочек: кроме Солнца, это Луна (которая, собственно, отражает свет того же Солнца), звезды, вулканы, пожары, светлячки и морские флуоресцирующие животные. Человек добавил к ним множество новых, теша свои колбочки и ассоциативные зоны мозга.
Конечно, менялось не только зрение. Слуховой аппарат у полуобезьян включает барабанные капсулы, образованные каменистой частью височной кости. Принципиально похожее строение сохраняется у широконосых обезьян Южной Америки, хотя у них капсулы малы, а барабанная пластинка не полностью соединяется с остальными частями. У узконосых же обезьян, к коим имеем честь принадлежать и мы, барабанная пластинка целиком срастается с каменистой и чешуйчатой частями, ограничивая костный слуховой проход. Такой вариант сформировался около 30 млн лет назад; по крайней мере, у чуть более древних проплиопитековых Propliopithecoidea вдоль барабанной пластинки сохранялась щель, а у Saadanius hijazensis ее уже нет. Однако, как часто бывает, древние предки периодически дают о себе знать: если у ребенка барабанная пластинка не полностью срастается с каменистой частью височной кости, а между ними остается зазор, это грозит глухотой, так как получается, что барабанная перепонка частично крепится на мягкие ткани, отчего звуковое колебание передается хуже.
Уголок занудства
Височная кость приматов состоит из трех главных частей: чешуйчатой, каменистой и барабанной (или тимпанической). Чешуйчатая включает чешую, закрывающую мозговую коробку сбоку, а также скуловой отросток, закономерно соединяющийся со скуловой костью. Каменистая часть в числе прочего включает пирамиду, внутри которой расположено внутреннее ухо с органами слуха и равновесия. Барабанная часть у человека представлена тонкой пластинкой, ограничивающей слуховой проход снизу-спереди и срастающейся передним краем с чешуйчатой частью, а задним – с каменистой. Детали строения височной кости эволюционно весьма изменчивы и широко используются для установления родства животных.
Во времена первых обезьян исчез подшерсток. Полуобезьянам и долгопятам он нужен, так как они маленькие и быстро остывают, причем активны по ночам, когда холоднее. Некоторые современные широконосые тоже обладают подшерстком, но узконосые – никогда, стало быть, его утрата приходится на момент сразу после разделения эволюционных ветвей обезьян Старого и Нового Света. Кстати, значит ли это, что широконосые, не обладающие пухом, избавились от него независимо от узконосых? Крупные размеры, фруктовая диета и дневной образ жизни в тропиках сделали утепление неактуальным. Как часто приходится жалеть об этом долгими северными зимами!..
Мы стремительно близимся к развязке… Прошло уже почти четыре миллиарда лет, как появилась первая жизнь, и разница между долгопятом и человеком, по сути, ничтожна – в глобальном масштабе от первых РНК и белков.
Глава 19 Звено 14: прощание с хвостом, прямохождение и разум (неоген, 15–18,5, 7–4 и около 2 млн лет назад)
Увеличение размеров тела привело к появлению новых способов передвижения – медленного лазания и брахиации (когда обезьяна перехватывает ветки только руками, без помощи ног). До этого момента при лихих прыжках был нужен балансир – хвост, но при весе даже в десяток-другой килограммов система такой балансировки уже не очень-то работает. Неспроста даже у лишь сравнительно крупных лемуров типа индри или широконосых типа уакари хвост заметно укорочен. Другая функция хвоста – сигнальная, его можно распушить и красиво покрасить (например, в полосочку, как у кошачьего лемура), задирать его и размахивать им (как павианы), обвиваться им с хвостом соседа (как делают южноамериканские обезьяны-прыгуны). Но крупные серьезные человекообразные обезьяны выросли из подобных дурачеств, у них есть более основательные способы общения, нежели легкомысленное повиливание хвостиком. Как итог – хвост стал неактуальным. Он исчез.
Многие люди искренне полагают, что отсутствие хвоста – сугубо человеческая черта. Ан нет, его не было уже у проконсулов Proconsul heseloni и Nacholapithecus kerioi как минимум 15–18,5 млн лет назад (Nakatsukasa, 2004; Nakatsukasa et al., 2003, 2004; Ward et al., 1991) или даже раньше. Впрочем, в память нам остался копчик – чаще всего четыре позвонка-кругляшка, еще к тому же срастающиеся между собой, а иногда и с крестцом (кстати, у орангутанов обычно всего три копчиковых позвонка, так что они обогнали нас по бесхвостости). В итоге наружного хвоста у нас нет, но есть внутренний. Обычно он никак не выдает своего существования, но это лишь до поры до времени. Те, кто ломал копчик, подтвердят: перелом хвоста – ужасная вещь. Ни встать, ни сесть, ни лечь…
Иногда хвост проявляется еще более зловещим образом. Ведь он по исходной задумке покрыт тонкой кожей, да к тому же пушист. Сейчас копчик углубился в мышцы, но генеральный план никуда не делся. Иногда у человека формируются первые хвостовые мышцы, но, раз костная основа укоротилась, мышцы становятся трубочкой с пустотой внутри; посему наружная кожа хвоста оказывается вывернутой наизнанку, как чулок, так, чтобы прилегать к верхушке копчика. В итоге образуется как бы хвост наоборот, отрицательный, вдавленный сам в себя хвост. Такая штука называется копчиковым ходом (кстати, он не обязан открываться наружу отверстием, вполне может и зарасти, тогда получается полость между мышцами). Но он же, как полагается приличному хвосту, пушистый, с кисточкой на конце. Растущие внутрь трубки волосы колют и раздражают кожу. Не дай бог туда попадут бактерии, ведь в тепле, уюте и обилии пищи они начинают радостно жить и плодиться. Тогда копчиковый ход ужасно воспаляется, и человеку… ампутируют хвост! Ход прочищают и дезинфицируют, атавистические мышцы удаляют, отверстие зашивают. Операция эта не столь уж редкая, можно сказать – рядовая.
Кстати, об атавизмах…
Во все справочники по эволюции и школьные учебники вошел пресловутый “хвостатый мальчик” как пример редкостного атавизма – проявления древнего признака. Однако в хорошо исследованных случаях такие хвосты оказываются грыжами спинно-мозговых нервов или опухолями, просто вытянутыми кожными отростками без костной основы. Копчик у таких людей вполне стандартный.
Вообще же человек может и пожалеть об утрате столь ценного органа. Вот паукообразные обезьяны используют хвост как пятую руку: они могут висеть на хвосте, брать им предметы, обнимать соседа. Какие возможности мы утеряли! Кстати, нижняя сторона хвоста у цепкохвостых обезьян без шерсти, а голая кожа покрыта папиллярными узорами – как у нас на пальцах. Это показывает, зачем вообще существуют “линии судьбы”: они улучшают сцепление с корой дерева при древолазании. Между прочим, дерматоглифические узоры имеются и на лапках коал – ведь эти милые зверушки всю жизнь проводят на ветвях. Кроме прочего, гребешковая кожа намного чувствительнее гладкой, причем ощущения усиливаются при движении пальца поперек линий, а за счет извилисто-кругового расположения узоров мы прекрасно ощущаем фактуру любой поверхности при любом положении рук.
После того как наши предки покинули кроны, гребешковая кожа пригодилась при орудийной деятельности: булыжник не выскользнет из шероховатых рук трудового человека.
Пока обезьяны скакали по ветвям, они ели свежие фрукты (ох уж эти фрукты – они просто преследуют нашу эволюцию). Когда же человекообразные подросли и потяжелели, они стали жить больше внизу. Теперь все чаще им приходилось подбирать упавшие на землю плоды. А брожение – процесс быстрый, бактерии тоже любят сахарок и не упускают возможности полакомиться. Перекисшие плоды содержат фактически сидр – алкоголь, то есть яд. Естественный отбор не мог не среагировать и одарил первых наземных приматов какой-никакой, но устойчивостью к отравлению этанолом в виде особо эффективной алкогольдегидрогеназы – фермента, разлагающего этот спирт. У подавляющего большинства приматов – лемуров, широконосых, мартышковых, гиббонов и орангутанов – аналогичные ферменты работают на порядки слабее. А вот у горилл, обоих видов шимпанзе и человека все по-человечески: прокисшие фрукты им не так страшны (Carrigan et al., 2014). К великому сожалению, во-первых, некоторые не слишком сознательные граждане воспользовались столь ценной способностью для изобретения и потребления алкоголя, а во-вторых, многие популяции людей уже в последующем вновь ее утеряли, но это уже совсем другая история…
Любопытно, что аналогичную способность независимо развила мадагаскарская руконожка ай-ай, причем даже мутация у нее точно такая же. И тут этот замечательный примат держится в авангарде эволюции. Но о руконожке – позже…
Кстати, с ядовитыми свойствами спирта можно бороться и другими, даже более эффективными способами. Перохвостая тупайя, слизывающая перебродивший нектар бертамовой пальмы в джунглях Малайзии, способна потреблять смертельные по человеческим меркам дозы алкоголя (Wiens et al., 2008) – и ни в одном глазу, даже лапки не заплетаются! Не столь устойчивы к спирту, но тоже любят нектарное пиво обыкновенная тупайя, медленный лори и некоторые грызуны. Так что и в этой области человек не может считаться ни первопроходцем, ни рекордсменом.
Причины и последствия прямохождения рассмотрены в других частях книги, тут же отметим лишь несколько моментов.
Во-первых, выход в саванну был бы невозможен без появления самой саванны. Как ни странно, до сих времен степей в современном смысле просто не существовало. А ведь обширные травяные биомы появились лишь в середине эоцена в Южной Америке, в конце эоцена – в Центральной Азии, в олигоцене – в Северной Америке (Еськов, 2007). В Африке изменения шли медленнее, сюда новые веяния дошли лишь в миоцене. Немалую роль в образовании саванн играют крупные копытные травоядные животные, вытаптывающие и выедающие ростки деревьев. В Южной Америке роль саваннообразователей играли нотоунгуляты Notoungulata и прочие экзотические американские копытные – литоптерны Litopterna, астрапотерии Astrapotheria, пиротерии Pyrotheria и ксенунгуляты Xenungulata. В Северной Америке появились, а в Азии развились, а потом в обновленном виде вернулись в Америку непарнокопытные Perissodactyla, в том числе разнообразные носорогообразные животные и лошади, а также парнокопытные Artiodactyla. В Африке, как ни странно, крупных копытных поначалу не хватало или они были полуводными и листоядными, как, например, хоботные Proboscidea. Лишь когда из Евразии прискакали более-менее готовые лошади и носороги и с энтузиазмом стали топтать африканские опушки, то леса поддались под их копытами. Только тут из болот вылезли слоны и принялись помогать носорогам, гиппарионам и антилопам, выедая даже крупные деревья. Где бы мы были без копытных? Повторимся: появились они в Северной Америке, в степи вышли в Центральной Азии, а решающую роль в появлении человека сыграли в Африке, создав там саванны. Конечно, дело решилось не только вытаптыванием и выеданием, но и подходящей сменой климата, но о миоценовом похолодании речь уже шла выше и еще пойдет ниже. К тому же даже при неизменном климате животные играют часто определяющую роль в формировании биома. Отличные тому примеры – оголившиеся острова, куда добрые моряки заселили коз, отечественные степные заповедники, при полном запрете выпаса скота начинающие зарастать деревьями, а также африканские заповедники, напротив лишающиеся последних баобабов при слишком большой концентрации слонов. Если бы не травоядные, болтаться бы нам по-прежнему на ветвях.
Но ранние австралопитеки покинули кроны.
Обратим внимание на нашу походку, только не на ноги, а на руки. Практически все люди, если ничего не тащат с собой, при ходьбе размахивают руками. Кому-то может показаться, что так проще держать равновесие или что руки болтаются сами собой, по инерции. Ан нет. На самом деле, так наш мозг, а вслед за ним мускулатура отрабатывают четвероногий бег. Более того, не так уж просто заставить себя на ходу держать руки неподвижными строго по швам, идти иноходью или двигать руками с другой частотой, нежели ногами, – такие аллюры были нетипичны для наших предков. Когда еще мозг забудет, что мы не четвероногие?..
Освобождение рук и от четвероногости, и от древолазания напрочь поменяло смысл многих мышц. Например, широчайшая мышца спины изначально нужна была для шагания: она отводила переднюю лапу назад и толкала тело вперед. У древолазов ее назначение поменялось: теперь она подтягивала тело вверх, к руке, ухватившейся за ветку. Поэтому у гориллы такая широченная – практически метровая – спина, ведь весит это животное порой больше двух центнеров, а подтягивается даже на одной руке. Современному же человеку вообще не очень понятно, зачем надо усиленно опускать руку; не исключено, что в не слишком отдаленном будущем широчайшая мышца спины перестанет быть такой уж широчайшей. Так что современные бодибилдеры, с одной стороны, используют исчезающую возможность покрасоваться “крыльями” (впрочем, смешными с точки зрения гориллы и даже шимпанзе с их квадратной спиной – заметьте, без допинга, спортзала и спецдиеты!), а с другой – хвалятся фактически атавистическим признаком. Можно бы еще гордиться третьими молярами, широко разевая рот и тыча пальцем в недра: “Гляньте, какой у меня здоровый вырос!” – или копчиком: “Зацените, а у меня шесть позвонков!”
То же можно повторить и про большую грудную мышцу: она была важна четвероногим для сведения передних лап, чтобы стоять на них выпрямленных. Древесным обезьянам она помогала сводить руки, чтобы прочнее держаться на ветвях. А мы с четверенек поднялись, с дерева слезли… Человеку активно сутулить плечи уже не так актуально; обнимашки, конечно, важное занятие, но не обязательно же ломать любимым ребра.
Для стопы наземного существа боковые движения не только не актуальны, но даже вредны, ведь из-за такого вихляния запросто можно вывихнуть лодыжку. Собственно, польза от подобных поворотов есть лишь хищникам, заграбастывающим добычу в смертельные объятия, норным зверям для копания да горным козлам и баранам, которым приходится ставить ногу на любую неровность скалы. Все же сугубо наземные звери имеют весьма граненый голеностопный сустав, с резким ограничением движений – только вперед и назад, нисколько вбок! Идеально геометричен он у лошадей и коров. Человек слез с деревьев не так уж давно, поэтому у нас форма голеностопа промежуточная – уже не древесная, но еще не вполне наземная, тут эволюции еще есть над чем поработать. Поэтому люди так склонны подворачивать ноги, а бегать быстро не умеют.
Кстати, смысл потеряла и наша малая берцовая кость. Ведь изначально она была нужна как раз для поворота стопы. Теперь же эта кость бесполезна, ведь к большой берцовой она прикрепляется ниже коленного сустава, так что нагрузка на нее не идет, вплоть до того, что даже со сломанной костью вполне можно ходить – будет очень больно, но технически позволительно. У всех приличных наземных бегающих животных малая берцовая за ненадобностью редуцируется – или просто исчезает, или срастается с большой берцовой. У нас этот процесс только начался: развилось довольно прочное и тесное связочное соединение нижних концов малой и большой берцовых костей, в отличие от древесных обезьян, для которых важнее подвижность. Иногда у людей даже встречается врожденное отсутствие малой берцовой кости. Так что наше будущее – без нее.
Кстати, о всадниках…
У людей, много ездящих на лошади, может развиться “комплекс всадничества” (Бужилова, 2001; Ражев, 1996). Один из важнейших его элементов – усиленный рельеф на нижних концах берцовых костей. Дело в том, что всадник, сколько бы он ни катался на лошадке, рано или поздно с нее таки спрыгивает. Лошадь – зверь не такой уж низкий. От удара стопы о землю напрягаются межберцовый синдесмоз (соединительнотканное соединение нижних концов двух берцовых костей), а также передняя и задняя межберцовые связки. Иногда могут даже случиться микротравмы – порвется какое-нибудь микроволокно, лопнет капиллярчик; при этом ничего в общем-то не болит, но день за днем нарушения накапливаются. Обычно человек прыгает на одну и ту же привычную сторону, так что одна нога страдает больше. Рано или поздно связки начинают окостеневать; для начала это отражается в усиленном рельефе в районе малоберцовой вырезки большой берцовой кости и участке над латеральной лодыжкой малой берцовой – как раз там, где кости соединяются. В предельном же варианте кости вообще могут срастись. Но всадник от этого не очень-то страдает: вертеть стопой ему не надо – нога всегда в сапоге, пешком он почти не ходит – вся жизнь в седле, может, так нога будет только прочнее в стремени сидеть.
Конечно, подобные же изменения костей можно заработать и не катаясь на лошади. Можно, например, поработать гребцом на галерах: давление ног на пяточные упоры дает совершенно аналогичный эффект.
Мышцы стопы человека по количеству и местам прикрепления принципиально те же, что у обезьян, хотя функционально уже не те. Человеку не очень нужно шевелить пальцами ног и хвататься ими за ветки. Поэтому мышцы переквалифицировались: во-первых, они поддерживают продольный и поперечный своды стопы, а во-вторых, выполняют роль амортизатора при ходьбе. Обе функции для мышц довольно бестолковы. Своды гораздо эффективнее было бы поддерживать связками. У человека же этим занимаются мышца, отводящая большой палец стопы, мышца, приводящая большой палец стопы, короткий сгибатель большого пальца стопы, короткий сгибатель пальцев и квадратная мышца подошвы – сплошь хватательные мышцы, которыми мы должны бы цепляться за сучья.
Кстати, о жирафах…
Надо брать пример с жирафа: у него от затылка до крестца тянется здоровенное сухожилие, еще с эмбриональных пор растущее медленнее скелета и мышц. Получается, что в шею и спину у него вмонтирована мощнейшая пружина, постоянно тянущая голову назад; жираф не затрачивает ни малейших усилий, чтобы держать шею вертикально. Фактически это победа над гравитацией. Впрочем, проблемы у жирафа возникают, когда ему надо наклонить голову, ведь ему приходится прикладывать неимоверные усилия передних мышц, чтобы растянуть это сухожилие. Да и длинные ноги мешают, приходится странно раскорячиваться каждый раз, когда хочется, например, попить водички. Поэтому жирафы крайне редко пьют и несмотря на то, что живут не в пустыне, превосходят даже верблюдов своей засухоустойчивостью.
Если бы человеческая стопа была снабжена снизу связками, растущими медленнее стопы, мы тратили бы гораздо меньше энергии при ходьбе и стоянии, а плоскостопие если и не исчезло бы из медицинских справочников, сделалось бы редкостью и гораздо реже мучило людей.
Амортизация веса тела мышцами – совсем нелепая затея. Конечно, неприятно было бы стучаться костями об землю, но для смягчения походки гораздо лучше задействовать жировую или соединительную ткань, как это было реализовано у динозавров зауропод и стегозавров и ныне – у слонов.
Мы стопоходящи, имеем несовершенные суставы ноги и недоделанный позвоночник, то и дело дающий сбои. Мы очень медленно бегаем – даже мышь и кошка нас обгоняют! Однако человек на удивление хороший ходок. Миллионы лет прогулок по саваннам сделали человека великим путешественником. Настолько великим, что человеку плохо без ходьбы. Если надо подумать, человек задумчиво вышагивает, нервничает – мечется по комнате из угла в угол, надо отдохнуть – прогуливается в парке, надо набраться впечатлений – идет в поход, читает лекцию – маячит перед доской, общается с избранницей или избранником судьбы – опять же гуляет по разным интересным местам. Часто можно прочитать, что человеку, чтобы сохранить здоровье, надо ходить минимум пять километров в день. Очевидно, такое усреднение имеет мало смысла – и сами люди, и условия их жизни очень различаются, но доля правды в этом есть. Много стоящий или постоянно сидящий человек имеет все шансы заработать себе один из сотни диагнозов, связанных с гиподинамией – малоподвижностью.
Как уже говорилось, скорость нашего передвижения смехотворна. Однако народ не перемудришь, давно сказано: тише едешь – дальше будешь. Мелкими шажками австралопитеки начали свой путь по африканским саваннам, а уже сапиенсы решительным маршем обошли всю планету – аж до Огненной Земли и еще дальше – до Северного и Южного полюсов. В этом беспрецедентном кругосветном путешествии люди стали удивительно устойчивы ко всяким невзгодам. Скорость человек компенсирует выносливостью. Например, бушмены загоняют зебр, а индейцы – лосей, просто не спеша преследуя их. Зверь мчится гораздо быстрее охотника, но не может бежать два-три дня. А люди – могут. Люди берут измором кого угодно, причем во всех климатических поясах. Великие адаптационные способности были заложены еще в миоценовой африканской саванне. Неспроста первыми людьми на Северном полюсе были европеец, негр и четыре эскимоса – представители трех больших рас человечества.
Однако, как бы далеко ни убрели скитальцы от прародины, тропическое прошлое сквозит тут и там. Человек плохо переносит холод. Он изобрел одежду, приручил огонь, но подшерсток не вернулся на его тело, разве что в виде шубы. Поднятый край, ограничивающий дно гайморовой пазухи (полости внутри верхнечелюстной кости), не создавал трудностей в Африке, но вне тропиков стал проблемой: теперь из-за этого бордюра при насморке в пазухе скапливается слизь, так что можно довести дело до воспаления – гайморита. По этой же причине лучше всего сморкаться, низко наклонив голову. Кстати, мартышкообразные обезьяны в процессе эволюции избавились от гайморовой пазухи – не осталось даже следов, так что им гайморит не страшен; человекообразные же сохраняют примитивное строение, имевшееся еще у самых первых обезьян (Rossie, 2005).
Прямохождение создало одну уникальную черту пищеварения человека: оно у него стало частично внешним. Освободившиеся руки и умная голова позволяют богато манипулировать пищей: резать ее, тереть на терке, отбивать колотушкой, сбраживать и ферментировать сотней способов, жарить на вертеле или сковородке, варить в горшке или бизоньем желудке, тушить, запекать в земляной печи или духовке. Мы не обходимся лишь своей слюной (хотя именно от нее зависит успех приготовления кавы и чичи), как пауки, миноги или некоторые жуки. Мы поставили себе на службу бактерий и дрожжевые грибы, лимоны и даже циветт (любителям кофе “Лювак” посвящается). В свою очередь, готовка пищи увеличивает ее усвояемость и позволяет уменьшить жевательный аппарат и пищеварительный тракт, что делает человека зависимым от наружного пищеварения (истинная ода кулинарии: Рэнгем, 2012). Цепная реакция в действии. Каков апофеоз этого процесса – трубочка из баночки прямо в вену?..
Эволюция – странный процесс, в ней плюсы запросто оборачиваются минусами и наоборот. В саванне много опасностей и мало укрытий, ушами хлопать тут нельзя (впрочем, мышцы уха редуцировались заметно раньше), только вздремни – тут же окажешься в чьем-то желудке. А потому первые саванные приматы стали больше бодрствовать. Исследования показывают, что человек действительно спит заметно меньше – в среднем семь часов, – чем другие приматы, некоторые из которых умудряются проводить в объятиях Морфея до семнадцати часов (Samson et Nunn, 2015)! Кроме хищников, видеть сны мешали и недружественные соседние группы других австралопитеков, поскольку от них спрятаться на открытой местности тоже некуда. Казалось бы, синими кругами под глазами и головной болью тут не отделаешься. Но нет худа без добра. Если спать приходится меньше, то будем спать лучше, будем спать глубже! У предков человека в пять раз с 5 до 25 % – удлинилась фаза быстрого сна, наступило Время Снов. А эта фаза необходима для переработки информации, полученной мозгом во время бодрствования, в частности – перевода кратковременной памяти в долговременную, то есть усвоения знаний. Высвободившиеся же дневные часы можно занять полезным и важным, например изобретением чего-то новенького, а полученные навыки лучше усвоятся за счет новообретенного качественного сна. Удобно! К тому же можно уделить больше времени общению с сородичами и воспитанию детишек, что опять же повышает общий интеллектуальный уровень, способствует сплочению группы и снижению агрессии, а в сумме – обеспечивает выживание. Так трудности создавали человека, так закалялся разум.
Несколько миллионов лет от прямохождения до разума – мгновение в общем масштабе. Примерно 2 млн лет назад по планете ходили уже разумные существа. О предпосылках и последствиях этих событий много говорится в других частях этой книги. Здесь же помянем лишь два момента.
Человек отличается от животных развитым чувством юмора. Конечно, у животных оно тоже есть, и всюду процитирована шутка гориллы Коко, называвшей себя “хорошей птичкой”, но юмор обезьян довольно топорный, это настоящая его заря. Ясно, что происхождение и эволюция юмора – огромнейшая тема, достойная отдельной монографии, но попробуем осветить ее с одной из сторон: шутка как обман.
Когда человек шутит, он обманывает, сбивает с толку и провоцирует другого человека. Неспроста один из самых востребованных видов юмора – черный. Выдается некая тревожащая информация, адресат приходит в тонус, ведь все необычное потенциально опасно. Опасность надо на всякий случай отпугнуть, лучший способ для этого – показать свои клыки. Человек начинает ощериваться, губы растягиваются, готовые показать зубы… Но потом жертва шутки соображает, что в реальности опасности никакой нет. А коли опасности нет – так это же здорово, это же просто отлично! Это радость! Происходит разрядка напряжения. Оскал превращается в улыбку, набранный для вопля ужаса воздух судорожно вырывается из груди – человек начинает смеяться. Неспроста крик страха и смех слабо отличимы, по крайней мере в своем начале; вот продолжение у них может быть разное – протяжное в первом случае и отрывистое во втором.
Шутник же решает свои задачи. С помощью шутки очень здорово привлекать к себе внимание и, соответственно, успешно достигать поставленных целей. Например, если лектор вещает студентам полтора часа на одной ноте, то, сколь несомненно важные и нужные вещи он бы ни сообщал, студенты имеют все шансы заснуть и пропустить информацию мимо ушей. Человеку трудно долго удерживать внимание, ведь мы хоть и не легкомысленные шимпанзе, но и не хищники-засадники, способные часами сторожить мышку у норки. А вот если лектор разбавит свой монолог парой удачных шуток, это выведет слушателей из ступора, приведет их в сознание (шутка в лекции – что-то странное, неспроста это, надо прислушаться!), и цель будет достигнута. Если бы я написал классический учебник по антропологии, он был бы короче и информативнее, но шансов на прочтение у него было бы меньше, чем у популярной книжки, текст которой разбавлен всяческими хохмами.
Таким образом, юмор – это обман первоначальных ожиданий. Когда начальник на планерке с суровым видом заявляет: “Завтра всех уволю”, то первой нормальной реакцией будет ужас. Если обстановка такая, что это явно не шутка, то засмеется только дурак или же смех будет натянутым, деланым и противоестественным. А вот если после первой доли секунды оторопи до сотрудников начинает доходить, что это неправда, они распознают обман, и притом обман явственно безопасный, то они начинают весело смеяться.
Потому и люди без чувства юмора вызывают подозрительное к себе отношение. Если человек неспособен генерировать и распознавать шутки, то он не может отличить реальность от нереальности, значит, он не так уж адекватен. Чрезмерная и постоянная серьезность – вовсе не повышенная реалистичность, а напротив – уход от действительности! Конечно, к такому человеку надо относиться как минимум с настороженностью.
Чем разумнее существо, тем меньше у него врожденных форм поведения. Ведь разум – это способность реагировать нестандартно, оперировать разнообразной информацией, делать прогнозы, обучаться. Чем разумнее становился человек, тем больше времени уходило на его обучение. А обучение наилучшим образом удается как раз в детстве, когда мозг еще не закостенел и взрослые проблемы не мешают постигать новое. Чем сложнее становилась культура, тем дольше надо было постигать ее тонкости, зато и жить становилось лучше, жить становилось веселее. Смертность уменьшалась, детей требовалось рожать меньше. Закономерным образом детство удлинялось, а этап взрослой жизни относительно укорачивался.
У мартышкообразных обезьян детство составляет 3–5 лет, у шимпанзе – 7–9 лет, у человека – около 15-ти. Но столь долгое время организм не может совсем не расти, эволюционно выгоднее и технически гораздо проще отложить лишь половое созревание, а не весь ростовой процесс. Поэтому у людей появляется особый период – подростковый, когда размеры тела и потенциальные возможности мозга уже почти взрослые, а полноценно размножаться еще нельзя.
Взросление австралопитеков шло скорее по обезьяньему сценарию, но на неком этапе развития Homo стало истинно человеческим. Такие процессы для ископаемых видов изучать очень трудно, но мы точно знаем, что у современного человека на детство приходится чуть ли не половина жизни, по крайней мере ее треть. Ведь половое созревание происходит в лучшем случае лет в 12, а то и сильно позже. А средняя продолжительность жизни “в естественных условиях” – лет 35–40, разве что едва больше, а иногда и меньше. Это и логично, ведь вместе со снижением смертности до возможного минимума удлинение детства автоматически приводит к сокращению взрослости: если в 15 лет появляются первые дети (новые с интервалом в два года), то в возрасте родителей около 30 лет их дети уже рожают внуков. Для поддержания стабильной численности популяции родителям пора бы и умирать. Делая скидку на смертность – длина жизни в 35–40 лет оказывается в самый раз. Иначе численность популяции будет расти, ресурсы перерасходуются и всем станет плохо. Судя по определенному скелетному возрасту, такая система существовала у неандертальцев и сапиенсов вплоть до появления производящего хозяйства. Правда, у людей всегда имелись два универсальных выхода: во-первых, можно было заселить новые территории, а во-вторых, задействовать новый ресурс. Сапиенсы в этом смысле были, похоже, пластичнее неандертальцев.
Кроме того, сказанное про средний возраст не означает, что все прямо-таки обязаны были умирать строго в 40 лет. Конечно, всегда были отдельные люди, жившие дольше, пример этого есть даже в Дманиси с датировкой 1,8 млн лет назад. Но лишь в верхнем палеолите сапиенсы сделали одно из величайших открытий в своей истории – они изобрели бабушек. Вероятно, впервые процент пожилых людей, уже не размножающихся (это важно, чтобы численность оставалась постоянной, а ресурсы не переистощились; кстати, тут впервые у приматов появляется пострепродуктивный возраст), не охотящихся и даже ничего не собирающих, но активно участвующих в общественной жизни, вырос до таких значений, что стал важным фактором развития. Пожилые люди обладали ценнейшим ресурсом каменного века – жизненным опытом. Они могли делиться им с зеленой молодежью, чтобы та постигала хитрости выживания не на собственных ошибках. Причем времени у пожилых людей всегда не в пример больше, чем у любых других возрастов, они могут сидеть с детьми хоть сутками. Родители получают свободное время и могут потратить его с пользой. В итоге всем хорошо: дети учатся, родители отдыхают или занимаются своими важными взрослыми делами, опыт прошлых поколений не исчезает, а передается дальше и может быть развит. Очевидно, вся группа получает существенное преимущество перед “безбабушковыми” соседями. В кратчайшие сроки такая значительная новация должна была распространиться по всему миру, а отставшим от прогресса оставалось завидовать и стареть.
Многие исследователи считают, что именно с появлением бабушек (дедушки тоже, конечно, были, но вероятность их выживания была намного меньше, чем у бабушек) связано бурное развитие культур верхнего палеолита, появление искусства, мифологии, даже окончательное формирование языка и в целом – успех именно сапиенсов в освоении Ойкумены. Да здравствуют бабушки!
Эпилог Конец цепи или продолжение истории?
Предки человека прошли долгий и хитрый эволюционный путь. Эволюция – не мудрая тетя с задумчивым взглядом и благими целями, а отбор – не злобный дядька с охряпником наперевес. Это статистические процессы дифференцированного воспроизводства генов в определенных условиях среды. Человек собран большей частью вовсе не из человеческих частей. В нашем теле переплелись элементы, возникавшие для сиюминутных нужд выживания всех предков – от первых клеток до собственно людей: бактериальные митохондрии и рыбьи жабры, амнион рептилий и лапки пургаториуса. Органы зачастую возникали вовсе не для того, для чего мы используем их теперь. Мы берем яблоко производными плавниковых складок, откусываем отвердениями кожи – запасниками кальция, фосфора и фтора, слышим и жуем жабрами, дышим частью пищеварительной системы, а думаем об этом переразвитым обонятельным анализатором. Условия для этого обеспечили девонская жара и пермские холода, отсутствие нормальных корней в девоне и появление их в карбоне, деревья и плоды, ракоскорпионы и динозавры, термиты и пчелы, лошади и носороги. Уберите элемент – получится ли картина? Или она окажется совсем иной?
Потерь на этом пути было не меньше, чем приобретений. Где отличное обоняние предков, где ближний ультрафиолет, где наш хвост? Было бы нам лучше с ними? Или это был бы уже не совсем человек?
Будет ли продолжение истории? Для этого надо не уничтожить свою планету, свою среду обитания. Пока человек не очень преуспел в созидании, а пора бы. Хочется верить, что книга эволюции человека не закончилась, что впереди еще много занимательных страниц, что кто-то в будущем сможет написать на них: “Неокортекс, двуногость и живорождение, как это ни странно, были свойственны нашим примитивным предкам, но именно благодаря им…”
Корни разума Часть четвертая, совсем короткая, но очень важная, рассказывающая о том, как набраться ума-разума, в некотором роде подводящая итог части третьей и необходимая для постижения части пятой
Что сделало приматов приматами? Какое уникальное сочетание признаков стало достаточным для появления разума? Как это ни странно, крайне сложно выявить признаки, однозначно свойственные всем приматам и одновременно отличающие их от других отрядов. Однако не все безнадежно. Принципиальными экологическими особенностями первых приматов, необходимыми для появления человека, представляются: дневной образ жизни, древесность, прыгание по тонким ветвям, всеядность с преобладанием фруктоядности, малое количество детенышей и большая продолжительность жизни.
Дневной образ жизни был, вероятно, свойствен древнейшим предкам приматов, по крайней мере, многие тупайи активны именно днем, а некоторые плезиадапиформы имели маленькие глазницы. Таким образом приматы могли избежать конкуренции с большинством млекопитающих, ведь те-то были как раз ночными. Это же выводило приматов из-под гнета большинства хищников, ориентировавшихся на серое большинство, мельтешащее по ночам. Днем проще общаться, это способствует социальности. На свету удобно пользоваться зрением, сохраняется и развивается цветное зрение.
Очевидно, что одной из важнейших черт приматов является их древесность. Однако давно было замечено, что приматы обладают массой особенностей, отсутствующих у других древесных животных.
Жизнь на деревьях позволила сохранить и развить хватательные способности кисти, ее пятипалость и способствовала совершенствованию осязания. Хотя некоторые приматы – потто, галаго, паукообразные обезьяны, игрунки, колобусы, гиббоны – в итоге приобрели крайне специализированные формы кисти, у большинства видов во все времена сохранялись умеренные ее пропорции и противопоставление большого пальца. Хватательная же функция кисти, в свою очередь, позволяет использовать ее для манипуляции пищей, что опять же должно быть обеспечено развитием мозга.
Рис. 17. Кисти разных приматов: потто (а), игрунки (б), гиббона (в), колобуса (г), коаты (д).
Древесность бывает разная. Приматы в большинстве своем передвигаются по деревьям быстро, в основном прыжками, причем способны бегать по тонким ветвям и даже их кончикам (Orkin et Pontzer, 2011). Резвые скачки в сложном мире качающихся веток должны иметь мощное обеспечение в виде большого мозга. Конечно, на каждую стройную концепцию есть свои белки, не знающие о необходимости цефализации, но тенденция тем не менее очевидна. Секрет не слишком мозговитых белок в том, что они передвигаются в основном вдоль стволов и толстых веток. С дерева на дерево эти зверьки предпочитают перебираться или по почти соприкасающимся толстым ветвям, или по земле, а длинные прыжки с тонких веток на другие тонкие ветки совершают крайне редко. Даже летяги прыгают со ствола на ствол, большая прицельность при этом не нужна. Но и среди белок есть свои исключения. Восточная серая белка Sciurus carolinensis способна, в отличие от прочих родственников, кормиться на кончиках тонких веток без адаптаций, свойственных приматам. Кроме того, есть тупайи, поссумы и хамелеоны, тоже кормящиеся на кончиках тонких веток, но не обладающие великим интеллектом, ногтями и бинокулярностью (хотя все они не прыгают подобно приматам). Таким образом, жизнь на кончиках веток могла быть важнейшим фактором эволюции приматов только при условии отсутствия приспособлений к другим способам добывания пищи (Orkin et Pontzer, 2011) – вывод замечательный, учитывая столь часто постулируемую экологическую и этологическую пластичность приматов!
Для лихих прыжков необходима отличная координация, ее обеспечивает целый комплекс. Бинокулярное – объемное – зрение возможно благодаря повороту глаз вперед. Очевидно, закрепляется ведущая роль зрения среди всех органов чувств, ведь прыгать по кронам на слух, на ощупь или по запаху просто самоубийственно (летучие мыши могли бы поспорить, но не могут – летать с большим мозгом не получается). Ясно, что жизнь на деревьях также способствовала развитию вестибулярного аппарата. Полученная от зрения, осязания и органа равновесия информация о трехмерном расположении объектов должна обрабатываться в мозге очень быстро, ведь ветки качаются, ветер дует, к плодам крадутся конкуренты. Важно правильно оценивать расстояние между собой и местом, куда прыгаешь, чтобы не ухнуть вниз. Вместе с тем обоняние редуцируется – на вольном ветру, гуляющем в листве деревьев, оно не столь актуально.
Кстати, о медведях и собачках…
Вестибулярный аппарат обезьян развит не в пример лучше многим и многим животным. Бесконечное перемещение по ненадежным ветвям сделало нас устойчивыми. Без миллионов лет скакания в кронах спуск на землю не завершился бы появлением двуногости. Все же на четвереньках стоять надежнее, да и падать в случае чего ниже. Конечно, можно и медведя научить ездить на велосипеде, и собачку – ходить на двух ногах, причем даже на передних, но им это дается с трудом и в целом ни к чему. Чуть что, они стремятся вернуться в устойчивое положение. А первые австралопитеки ничтоже сумняшеся поднялись вертикально (точнее сказать – не опустились обратно, ведь перед спуском на землю они лазали по деревьям именно вертикально).
Качающееся обезьянье прошлое, кстати, позволяет людям осваивать профессии монтажников-высотников и моряков. Хорошо быть обезьяной!
Некоторые ученые предположили, что специфика приматов обусловлена ориентацией на зрение в совокупности с жизнью на ветках и насекомоядностью (Cartmill, 1972), но эта точка зрения подверглась основательной критике (Sussman, 1991). Уже самые первые приматоморфы имели склонность ко всеядности, чем они, собственно, и отличались от насекомоядных. Переход с преимущественно насекомоядной диеты на всеядную мог быть первым толчком к появлению приматов. Избегание пищевой специализации – необязательная, но весьма характерная черта нашего отряда. Редкие случаи насекомоядности приматов относятся как раз к сравнительно поздним временам: галаго, золотые потто, лори, долгопяты являются одними из самых специализированных форм и ориентируются в основном на слух, а не на зрение.
Слепая кишка имеется у всех приматов, свидетельствуя об их исходной всеядности. С другой стороны, специализированно растительноядные формы возникали среди приматов тоже не так уж часто. Крайность в этом направлении представляют тонкотелые Colobinae, у которых в связи с исключительной листоядностью даже возникает многокамерность желудка, подобная варианту жвачных копытных Ruminantia. Однако даже самые листоядные приматы стремятся получать более питательную пищу, регулярно поедая фрукты и насекомых. Цветное зрение помогает современным колобусам выискивать среди зелени красноватые листья, более богатые белками, обезьяны предпочитают есть их, оставляя зеленые нетронутыми (Moffat, 2002). Возможно, подобно вели себя уже плезиадапиформы.
Очевидно, именно из-за всеядности ранние приматы – за исключением самых специализированных форм – не утеряли клыки и мало кто из них обзавелся большой диастемой между передними и задними зубами, столь характерной для сугубо растительноядных животных. Клыки сохранялись и по причине повышенной социальности приматов, так как играли важнейшую роль в регуляции внутригрупповых взаимоотношений.
Высокоэнергетическая всеядность, ориентированная на жирных насекомых и сахаристые фрукты, кроме прочего, позволяла укоротить пищеварительный тракт (с толстым животиком не очень-то попрыгаешь) и ослабить жевательный аппарат. Возможно, важнейшим признаком, обеспечившим в далеком будущем и наше появление, стало соотношение жевательной мускулатуры и мозговой коробки. Жевательные мышцы крепятся у млекопитающих на сагиттальном гребне, тянущемся по верху мозговой коробки; таким образом, они окружают ее, уже с младых ногтей своим давлением способствуют раннему зарастанию швов черепа и препятствуют росту мозга. У приматоморфов, начиная с плезиадапиформов, стала усиливаться тенденция к ослаблению обоняния и развитию стереоскопичности зрения. Это привело к повороту глазниц вперед, уменьшению обонятельных луковиц и решетчатой кости, а в итоге – появлению заглазничного сужения черепа в том месте, где у всех приличных зверей находится обонятельный мозг (для гоминид сильное сужение – примитивный признак, а для приматов как отряда – прогрессивный, таковы причуды эволюции). Таким образом, значительная часть сагиттального гребня оказалась в передней части мозговой коробки, а коробка, соответственно, сдвинулась от мышц назад, освободившись от их гнета и получив возможность увеличиваться более долгий срок в онтогенезе (раньше нагрузка жевательных мышц передавалась на кости всего свода и приводила к раннему зарастанию швов, так что мозг не мог расти). Фактически редукция мозга привела к росту мозга! Парадокс, но факт.
Эволюция ранних приматов шла в тесной связи с эволюцией цветковых растений (Sussman, 1991). Даже стремление приматов забираться на кончики веток может быть связано именно с питанием цветами и плодами. В этой связи никак нельзя пройти мимо того факта, что главный “эволюционный бум” среди млекопитающих, согласно исследованиям по коннексии палеонтологических и генетических данных, случился отнюдь не в начале палеоцена, а намного раньше – около 80 млн лет назад (Bininda-Emonds et al., 2007; Meredith et al., 2011). Заметно меньший всплеск семействообразования приходится на время около 100 млн назад лет и примерно такой же – на начало палеоцена. Тогда как последний, очевидно, связан с вымиранием динозавров, два древнейших примерно совпадают с появлением цветковых растений и установлением их доминирующей роли в мире растений. Приматы по таким расчетам возникли от 90 до 70 млн лет назад. Что любопытно, согласно этой концепции, приматы появились раньше тупай, что крайне странно, учитывая очевидную примитивность последних (Meredith et al., 2011). Древнейшие плацентарные или близкие к плацентарным звери – начиная со среднеюрской Juramaia sinensis и продолжая меловыми азиатскими и американскими видами – в современной фауне больше всего схожи именно с тупайями, которые, таким образом, выглядят самыми примитивными плацентарными современности, по крайней мере в экологическом смысле (Luo et al., 2011). Даже насекомоядные экологически более прогрессивны, поскольку ведут преимущественно наземный образ жизни, тогда как исходным был, видимо, древесный. Хотя тупай уже давно не включают в отряд приматов, все же родство этих групп несомненно.
Наконец, все приматы – сторонники так называемой K-стратегии размножения. Это значит, что детенышей рождается мало – почти всегда только один, зато родители без устали пекутся о нем, кормят, чистят, воспитывают, холят и лелеют. Ненаглядная кровинушка растет в условиях, близких к идеальным. Детская смертность оказывается минимальной (конечно, все познается в сравнении). Кроме приматов, так же ведут себя слоны и киты. Противоположный вариант – r-стратегия, предполагающая огромное число потомков, подавляющая часть которых гибнет. Она типична, например, для большинства насекомых, костистых рыб и амфибий.
Детеныш у приматов рождается беспомощным, но – за счет немногочисленности и относительной крупноразмерности матери – с заранее большим головным мозгом. За долгое детство он успевает обучиться всем жизненным премудростям, тогда как жестко врожденных форм поведения у приматов фактически нет. Продолжительность жизни в целом у приматов тоже велика; опять же это приводит к накоплению опыта. В сочетании с повышенной социальностью все это обеспечивает передачу этого опыта следующему поколению через обучение. Так социальность становится залогом выживания и успеха и получает шанс усложняться до человеческих высот. Хочется верить, что и до бóльших…
Уголок занудства
Принципиальные экологические особенности первых приматов, необходимые для появления человека: дневной образ жизни, древесность, прыгание по тонким ветвям, всеядность с преобладанием фруктоядности, малое количество детенышей, большая продолжительность жизни.
Итоги дневного образа жизни: древесность, выход из-под гнета большинства хищников, социальность, сохранение и развитие цветного зрения.
Итоги прыгательной локомоции: хватательная конечность и развитие осязания руки, развитие вестибулярного аппарата, развитие бинокулярного зрения и закрепление ведущей роли зрения, большая скорость нервных реакций, редукция обоняния.
Итоги всеядности с упором на фруктоядность: избегание пищевой специализации, редукция обоняния, развитие зрения, ослабление жевательного аппарата и укорочение пищеварительного тракта, смещение жевательных мышц в переднюю часть черепа и высвобождение задней из-под давления этих мышц, увеличение головного мозга.
Итоги малого количества детенышей при сравнительно крупных размерах и большой продолжительности жизни: развитие головного мозга, накопление жизненного опыта, развитие социальности.
Принципиальные экологические особенности человекообразных приматов, сделавшие возможным появление человека: укрупнение размера тела, выход в саванну, увеличение доли мясной пищи в диете.
Итоги укрупнения размеров тела у древесных человекообразных обезьян: ограничение возможностей к прыганию, исчезновение хвоста, тенденция к спусканию на землю, увеличение головного мозга.
Итоги выхода в саванну: завершение становления прямохождения, некоторый рост головного мозга, расширение диеты, освобождение рук, усиление трудовой деятельности, усиление социальности.
Итоги увеличения доли животной пищи в рационе первых людей: ослабление жевательного аппарата, размеров зубов и массивности черепа, увеличение мозга, появление каменных орудий труда, усиление социальности.
Этапы прогресса, или Чем мы отличаемся от ежей? Часть пятая, которая многим покажется не имеющей отношения к человеку, так как в ней говорится о ежах и слонах, прыгунчиках и китах, о том, почему они не стали людьми, но исподволь подводящая Уважаемого Читателя к мысли, почему книгу читает он, а не муравьед
Человеческая линия эволюции уникальна, как и вообще любая эволюционная линия. Но ведь планету населяли миллионы разных существ. Почему же среди них не нашлось других, которые смогли бы стать разумными?
Отличия человека от моржей, львов и даже кротов для большинства людей вполне очевидны. Вопрос об отличии от ежей может показаться странным, но это как поглядеть. С палеонтологической точки зрения вопрос актуален, животрепещущ и совсем не прост.
Приматы – удивительно разнообразная группа животных. У нормального человека при слове “примат” в мыслях, наверное, появляется облик макаки, шимпанзе или мартышки из мультфильма. Ассоциация с лемуром, думается, возникает лишь у статистически незначимого меньшинства. Однако немалую часть своей истории приматы были преимущественно лемуроподобными существами, да и в настоящее время примерно треть видов относятся к ним. Впрочем, мультфильм “Мадагаскар” в последнее время мог выправить статистику в этом отношении. Но вот долгопятов, надо думать, вспоминают уж совсем редкостные чудаки. А ведь палеонтологически долгопятоподобные приматы составляли огромную и очень важную группу приматов. А от долгопятов и лемуров недалеко и до плезиадаписов. А от плезиадаписов до ежей – рукой подать…
Глава 20 Примитивные млекопитающие
Древнейшие млекопитающие типа Morganucodonta, их позднетриасовые предки – протомлекопитающие типа Adelobasileus cromptoni и Sinoconodon rigneyi, равно как и предки этих предков – циногнатовые Tritylodontidae, не отличались разнообразием внешности и образа жизни, ограничиваясь стилем землеройки (хотя большинство тритилодонтов были растительноядными). С ранней юры среди докодонтов Docodonta и других млекопитающих появились довольно разнообразные формы, однако подавляющее большинство их не имеют к современным зверям прямого отношения. Тем более удивительны примеры конвергенции – необычайного сходства некоторых мезозойских и современных зверей. Особенно интригует недавнее открытие Agilodocodon scansorius, среднеюрского докодонта из Китая, внешним видом и образом жизни напоминающего тупайю или даже лемура (Meng et al., 2015). Его моляры похожи на зубы полуобезьян, а резцы – игрунок. Этот зверек лазал по деревьям и питался смолой, надгрызая кору деревьев. Уровень развития докодонтов был в среднем ниже, чем даже у утконоса с ехидной, но надо же было с чего-то начинать. Как знать, может, скоро обнаружатся другие, более продвинутые юрские “параприматы”?
Общими предками и насекомоядных, и приматов, и рукокрылых, и хищных, и панголинов могли быть примитивные верхнемеловые звери вроде Cimolestes. Они имеют настолько “обобщенное” строение, что никак не помещаются в формальные классификационные схемы, зато годятся на роль всеобщих пращуров. Предложено выделение отряда цимолестов Cimolesta, объединяющего массу верхнемеловых и раннепалеоценовых зверей, включая разномастные подотряды пантолестов Pantolesta, дидельфодонтов Didelphodonta, тениодонтов Taeniodonta, апатотериев Apatotheria, пантодонтов Pantodonta, тиллодонтов Tillodontia, палеориктид Palaeoryctidae и даже, возможно, панголинов Pholidota с заламдолестесами Zalambdalestidae, но рамки такого отряда кажутся чересчур резиновыми; сам Cimolestes иногда включается и в палеориктид Palaeoryctidae, и в дидельфодонтов Didelphodonta.
Видимо, основной бум возникновения новых отрядов пришелся на верхний мел, тем более что в начале палеоцена отряды становятся более-менее различимы. Впрочем, и тогда разница между насекомоядными, первыми копытными и хищными вовсе не всегда очевидна. Иллюстрацией могут служить дидимокониды Didymoconidae, относившиеся к креодонтам Creodonta или мезонихиям Mesonychia, а ныне выделенные в собственный отряд дидимоконид Didymoconida (Лопатин, 2001). Последовательность возникновения отрядов остается невыясненной по палеонтологическим остаткам. Тут могут помочь данные генетики.
Известно, что классификации, построенные по генетическим данным, резко отличаются от “морфологических”. Например, по генетическим данным ежиные с землеройковыми и рукокрылые попадают в разные подразделения группы лавразиатериев Laurasiatheria, приматы с шерстокрылами и тупайи – в разные ветви эуархонтоглиресов Euarchontoglires (или в одну – в зависимости от схемы), а тенреки с прыгунчиками – в афротериев Afrotheria; на высоком уровне лавразиатерии с эуархонтоглиресами объединяются в бореоэвтериев Boreoeutheria и противопоставляются афротериям с неполнозубыми Xenarthra. По морфологии же все они: ежи, землеройки, тенреки, прыгунчики, летучие мыши, тупайи и шерстокрылы – до крайности схожи и вполне могут быть включены в единую группировку.
На первый взгляд, разница морфологической и генетической схем огромна, однако на второй – парадокс легко разрешим. В меловом периоде среди примитивных плацентарных дифференциация еще не зашла настолько далеко, чтобы можно было различать их на надсемейственном уровне; однако некий набор мутаций в разных группах различался, не влияя, впрочем, на внешний вид, принципиальные особенности морфологии и этологии; с тех пор этот набор незначимых генетических отличий еще заметно усилился. В итоге мы имеем несколько современных линий, примитивные представители которых сохранили морфологический план предков, но имеют генетические расхождения, восходящие к самым основам плацентарных.
В сущности, разница “морфологических” и “генетических” схем – это разница “горизонтальной” классической и “вертикальной” кладистической таксономии. У обоих подходов есть плюсы и минусы. Морфологический – единственный применимый в палеонтологии, но резко ограничен неполнотой палеонтологической летописи и случаями конвергенции и резкой специализации. Генетический подход дает нам представление о последовательности расхождения филогенетических линий, что лишь редко и с трудом удается определить по ископаемым находкам. Однако генетический подход на современном уровне не дает представления о сущности и масштабе находимых генетических отличий и пока мало надежен для определения времени расхождения эволюционных линий. “Вертикальная” систематика опирается только на точки дивергенции – расхождения линий и, в сущности, зависима от времени: давно разошедшиеся группы считаются резко различными, даже если за миллионы лет они практически не поменялись, тогда как недавно дивергировавшие таксоны не имеют шансов получить высокий ранг, сколь бы ароморфными ни были их достижения. Те незначительные мутации, которые в настоящее время различают какие-нибудь виды одного рода, в далеком будущем могут быть расценены как значимые для выделения отрядов. То есть сейчас мы считаем их видами одного рода, а систематики далекого будущего будут вынуждены числить их в разных отрядах, даже если за это время у них не появится существенных отличий в строении и поведении. Или же – в гипотетическом пределе – два древних детеныша из одного помета, у одного из которых появилась некая мутация, должны быть с точки зрения “генетической” кладистики отнесены к разным отрядам, очень древних – к разным классам, а очень древних – к разным типам. У “горизонтальной” систематики свой труднопреодолимый минус – вечная проблема выбора приоритетных для систематики признаков. Компромиссный путь пока не выработан; видимо, он должен быть “двух-” или даже “трехмерным” – учитывать и время расхождения линий, и суть появляющихся отличий.
Кстати, об игуанах…
Противоречия между морфологическими и генетическими данными – обычнейшее явление. На первых порах развития молекулярной систематики генетики были склонны крайне свысока относиться к “устаревшим” морфологическим методам классической систематики, сваливая все нестыковки на конвергенцию, специализацию и субъективность анатомов. Но в последнее время все больше данных свидетельствует о неоправданности такого высокомерия. Морфологи-герпетологи оправились после потрясений, вызванных успехами генетики, собрались с силами и провели блистательное исследование филогенетических взаимоотношений ящериц (Gauthier et al., 2012). Расхождения с молекулярной систематикой, особенно в части филогенетического положения игуан, вышли не в пользу последней; для ее оправдания приходится предполагать слишком много обратных мутаций и возвращений признаков в исходное примитивное состояние после миллионов лет специализации, причем признаков как морфологических, так и этологических, определенных как на современных, так и ископаемых видах, как у взрослых, так и эмбрионов. Очевидно, в данном случае генетика дает какие-то сбои, специалистам не стоит расслабляться и уповать, что секвенаторы и кластерный анализ автоматически покажут всю правду. Еще есть над чем работать, а приматологи, глядя на игуан, должны крепко задумываться и не терять навыки морфологического анализа.
Позднемеловые и палеоценовые звери эволюционировали странными путями (Кэрролл, 1993а, б; Основы палеонтологии, 1962). Внешне они были большей частью весьма сходны – мелкие землеройкоподобные создания с остренькой мордочкой, пятипалыми лапками и длинным хвостом. Сугубо внешностью сходство не ограничивалось. Хотя выделяют несколько отрядов палеоценовых млекопитающих, различия их бывают слабоуловимы даже для специалистов. Дополнительной сложностью является то, что большей частью от этих зверюшек сохранились лишь зубы. А строение зубов, понятно, сильно привязано к питанию, а питание, понятно, у всех было, во-первых, схожим, то есть отсутствовали строгие различия между отрядами, а во-вторых, могло и меняться от вида к виду, то есть внутриотрядное разнообразие было большим. Лучше могли бы работать признаки основания черепа – например, набор костей в составе слуховой капсулы, – но основание черепа сохраняется плохо, у зверюшек размером с мышь и подавно, и известно для небольшого количества древних видов.
Рис. 18. Hadrocodium wui.
Такая ситуация приводит к тому, что описан целый ряд видов, родов, семейств и даже более крупных таксонов, “зависающих” где-то между отрядами. Например, апатемииды Apatemyidae, выделяемые обычно в собственный отряд Apatotheria, зависают между насекомоядными, плезиадаписовыми и приматами; анагалиды Anagalidae вроде бы очень похожи на тупай (которые сами промежуточны между насекомоядными и приматами), но тоже имеют специфику, позволяющую считать их самостоятельным отрядом Anagalida; Amphilemuridae включались в приматов, но ныне зачислены в надсемейство или отряд ежиных Erinacoidea или Erinaceomorpha. Как минимум два семейства шерстокрыловых – Mixodectidae и Placentidentidae – имеют необычайное сходство с насекомоядными. Целое надсемейство микросиопоидов Microsyopoidea имеет спорный статус, его коренное семейство Microsyopidae от схемы к схеме плавает между грызунами, насекомоядными, шерстокрылами и приматами. Picrodontidae раньше считались насекомоядными, теперь – плезиадапиформами. Adapisoriculidae гуляют от сумчатых и насекомоядных до тупай и плезиадапиформов.
Древнейшие млекопитающие или их непосредственные предки были крошечными животными, примером чему служит Hadrocodium wui из ранней юры Китая: он достигал всего 3,2 см в длину и весил 2 грамма (Luo et al., 2001). Правда, еще более древние позднетриасовые млекопитающие типа Morganucodon или Megazostrodon (иногда объединяемые в отряд Morganucodonta) были все же побольше – аж целых 10 см, но тоже входили в весовую категорию землероек. Понятно, что сохранилось от них немного, кости столь малых созданий могут не очень явно отражать какие-то особенности строения мускулатуры, да и оценить таксономические различия на таком материале крайне сложно.
Уголок занудства
Один из важнейших для систематики млекопитающих признаков – строение слуховой капсулы. Оно может варьировать в пределах одного отряда, но в общем и целом отражает родство. У тупай слуховая капсула образована энтотимпаником – внутренней барабанной костью; такое же строение имеется у лептиктид, некоторых насекомоядных, некоторых прыгунчиковых, анагалид, рукокрылых и множества более далеких групп. У шерстокрылов слуховая капсула образована, кроме энтотимпаника, еще и эктотимпаником – наружной барабанной костью, что встречается у грызунов, зайцеобразных и разного рода копытных. У приматов ее основным элементом является каменистая кость – редкостный вариант, имеющийся только у некоторых ежиных, тенреков и прыгунчиковых (у других ежиных, тенреков и прыгунчиковых встречаются и другие варианты строения, в том числе уникальные). Таким образом, приматы отличаются от подавляющего числа других отрядов, включая тупай и шерстокрылов. Свидетельствуют ли эти факты в пользу особо близкого родства приматов и насекомоядных и отдаления их от тупай и шерстокрылов? Скорее всего, нет. У некоторых ранних групп приматообразных животных окостеневшая слуховая капсула могла отсутствовать или не прирастать к черепу, в этом уличены Ignacius, Phenacolemur и Microsyops из плезиадапиформов, а вот адаписовые – например, Pronycticebus – уже имели каменистую слуховую капсулу, сросшуюся с основанием черепа. То же прослеживается в ранней эволюции ежиных – у древнейших форм капсула не окостеневала. Таким образом, окостенение капсулы появилось позже сложения таксономических групп и не может явно говорить об их родстве.
У многих групп палеоценовых и эоценовых млекопитающих проявилась тенденция к развитию длинных долотоподобных передних зубов, далеко выступающих вперед, с постоянным ростом и редуцированной эмалью. Этим отличались многобугорчатые, некоторые сумчатые, залямбдалестиды, тиллодонты, поздние тениодонты, апатемииды, некоторые ископаемые землеройки и ежи, грызуны, зайцеобразные, даманы, паромомиоиды, микросиопоиды, плезиадапиформы и плезиопитециды, не говоря о совсем уж экзотичных хоботных, пиротериях, десмостилиях и нотоунгулятах. С одной стороны, эта особенность сама по себе мало о чем говорит, так как сопровождается самыми разными вариациями строения прочих зубов и возникала по разным поводам. Склонность резцов к увеличению обеспечивалась за счет разных мутаций, и в разных группах увеличивались разные резцы (у тениодонтов вместо резцов ту же форму приняли вообще клыки). Показательно, что, несмотря на неоднократное возникновение такой зубной системы среди разных линий приматов, в наши дни ее имеет лишь один вид – мадагаскарская руконожка. Вероятно, остальные владельцы больших резцов не выдержали конкуренции с грызунами, а руконожку спасла ее крайняя специфика и изоляция (впрочем, гигантской руконожке, вымершей около тысячи лет назад, и это не помогло).
Кроме строения зубов и слуховой капсулы, приматы отличаются от насекомоядных крупными размерами глаз. Насекомоядные вообще видят плохо, глаза у них крошечные. Приматы видят хорошо и имеют большие глаза. Эти различия возникли, думается, очень рано, еще до стадии плезиадапиформов, и были, вероятно, связаны с образом жизни: насекомоядных – в лесной подстилке и приматов – на деревьях и кустарниках. Соответственно, обонятельный орган у насекомоядных велик, а у приматов – мал. Впрочем, у прыгунчиков большие глаза, а у Palaechton из плезиадапиформов – маленькие, так что и этот признак неидеален.
Мораль: практически нет каких-то универсальных и к тому же легко проверяемых признаков, которые бы помогли оценить эволюционную близость групп млекопитающих. Поэтому палеонтологам приходится хитрить и мудрствовать, чтобы выявить преемственность или, напротив, конвергенцию сходных форм.
Почему насекомоядные не стали разумными?
Древнейшие насекомоядные – Paranyctoides – известны из середины верхнего мела, чуть более раннего времени, чем древнейшие приматоподобные существа. Впрочем, как обычно бывает, таксономическая принадлежность этих ранних форм спорна. Они равно могут быть сближены с ежеподобными и землеройкоподобными. Достоверные насекомоядные в узком смысле Eulipotyphla появляются в палеоцене. Тогда в Америке, Европе и Северной Африке широко были распространены палеориктиды Palaeoryctidae – землеройкоподобные животные, но они, как и землеройки Soricidae, с самого начала были привязаны к земле и оказались достаточно специализированными роющими животными, к тому же особо-насекомоядными, судя по очень высоким и острым бугоркам зубов (что в будущем сделало из них хищников – Creodonta и Carnivora). В среднем и позднем палеоцене уже имеются представители семейства ежовых Erinaceidae, например североамериканский Mackennatherium и германский Adunator. Ежовые, таким образом, чуть ли не самое древнее из современных семейств млекопитающих, исключая разве что броненосцев Dasypodidae. Неудивительно, что они сохранили массу примитивных черт, а потому плохо отличимы от прочих древних зверей и имеют множество сходств с совершенно разными современными млекопитающими.
Никтитерииды Nyctitheriidae – существа, возможно, не только землеройкоподобные, но и близкородственные собственно землеройкам Soricidae, известны из палеогена. Любопытно, что первоначально они были древесными, в противоположность современным родичам и, возможно, потомкам – землеройкам Soricidae и кротам Talpidae. К среднему эоцену насекомоядные имели уже почти современный облик и вели нынешний образ жизни. С деревьев они были почти полностью вытеснены более развитыми приматами. Впрочем, вытеснялись они, возможно, не только вниз – в почву, но и вверх – в воздух, ведь часть никтитериид, вероятно, дала летучих мышей. Зубы никтитериид и рукокрылых почти неотличимы, и не исключено, что часть палеоценовых родов, известных лишь по зубам, относятся к древнейшим летучим мышам.
Между насекомоядными и шерстокрыловыми промежуточны палеоценовые Mixodectidae, а Г. Осборн считал их грызунами. Предками миксодектид могли бы быть палеориктиды, ежиные или их близкие родичи (Szalay, 1969). Близки к предкам приматов лептиктиды Leptictida – особый отряд палеогеновых зверей, хотя даже самые ранние их представители – Gypsonictops из верхнего мела – оказываются более специализированными, чем миксодектиды. Лептиктиды были хищными и явно специализировались к передвижению на задних ногах, причем не только прыжками, но и бегом (Leptictidium), некоторые стали внешне несколько похожи на современных прыгунчиков, а размеры их колебались от мышиных до длины в полметра и даже больше. Строение лептиктид (кстати, во многом похожих на ежиных), с одной стороны, примитивно, с другой – у них имеются явные черты специализации; это позволяет говорить о близости лептиктид ко всем примитивным отрядам млекопитающих, включая приматов, но не позволяет утверждать, что лептиктиды были их прямыми предками. Имеются и другие верхнемеловые млекопитающие, имеющие в целом примитивное строение, но с элементами специализации, например Procerberus. Как итог, их систематика остается крайне спорной.
Апатемииды Apatemyidae – одна из групп неопределенного положения; их относили и к насекомоядным, и к плезиадапиформам и выделяли в собственный отряд апатотериев Apatotheria, говорилось о близости апатемиид к грызунам, копытным, хищным, тениодонтам, тиллодонтам, кондиляртрам и, конечно, приматам. Впрочем, их зубы оказались слишком специализированы уже к началу палеоцена, чтобы можно было выводить из апатемиид кого-либо. Сильно увеличенные передние резцы – особенно нижние – делали их похожими на плезиадапиформов, грызунов и кускусов, близки они были и по стилю жизни, но сильно уступали большинству конкурентов в размерах, так как были величиной с мышь. Апатемиид отличала очень массивная голова, вытянутые тонкие пальцы и крайне длинный хвост. Жили они на деревьях. По всей видимости, апатемииды питались преимущественно насекомыми, которых добывали из-под коры деревьев подобно руконожкам и новогвинейским полосатым поссумам Dactylopsila – простукивая стволы, прогрызая в них дырочку мощными зубами и доставая добычу удлиненными вторым и третьим пальцами. Апатемииды известны со среднего палеоцена Европы и Северной Америки; поздние виды дотянули до среднего олигоцена, но, по всей видимости, проиграли эволюционную гонку приматам, грызунам и – в особенности – дятлам (Koenigswald et Schierning, 1987). Древнейшие дятлы, хотя еще и без своей знаменитой долбежной адаптации, известны из того же среднеэоценового местонахождения Мессель в Германии, что и апатемиид Heterohyus; отверстия, похожие на следы работы дятлов, найдены в стволах эоценового леса в Аризоне. Поздние апатемииды увеличились в размерах и, вероятно, пытались перейти на новые источники пищи, но дятлы победили. Ставка на специализацию, как обычно, оказалась роковой. Аналогичная адаптация, возможно, возникла у крупного плезиадапида Chiromyoides в позднем палеоцене Северной Америки и Европы. Любопытно, что предок руконожки Plesiopithecus teras с характерной специализацией зубов известен из верхнего эоцена Египта, но и сюда добрались зловредные дятлы, так что руконожка нашла убежище лишь на далеком лесистом острове. На Мадагаскаре и Новой Гвинее дятлов нет, поэтому только тут сохранились экологические аналоги апатемиид – руконожки и полосатые поссумы.
Уголок занудства
Первые приматы имели менее высокие и не такие острые бугорки моляров, более мощные и широкие скуловые дуги и не столь вытянутую мордочку, нежели ежиные. Верхние зубы ранних приматов поперечно более узкие, чем у насекомоядных, есть и более специфические отличия в строении зубов; в частности, пониженная разница между высотой тригонида – “трехбугорчатой” части – и талонида – “пятки” нижних моляров (Szalay, 1969). Например, древнейший приматоморф Purgatorius из верхнего мела США – вернее, единственный известный нижний моляр – определен как приматоморф именно по сочетанию квадратных очертаний с притупленностью бугорков тригонида, точно такие же зубы известны из нижнего палеоцена (хотя у Purgatorius тригонид высокий, а талонид узкий, и имеется стилярная полка, что не позволяет однозначно определить его как примата). Все эти особенности иногда связывают с переходом с сугубо насекомоядной диеты на смешанную, включающую фрукты и листья (Szalay, 1969). Конечно, судить о питании по зубам получается не всегда. Например, у современных шерстокрылов зубы остробугорчатые, “насекомоядные”, тогда как питаются эти звери листьями и плодами. Может, меловые предки приматов имели подобное же сочетание зубов и диеты, а потому мы не узнаём их среди прочих насекомоядноподобных зверюшек?
Все насекомоядные в широком смысле имеют очень слабое развитие мозга. Интеллект у ежа понятно какой. Да и каким ему быть, коли масса мозга у него – чуть больше трех граммов, извилин на нем нет, а большая часть отвечает за обоняние? Ежу понятно, что извилинами с таким мозгом не пошевелишь – извилин-то нет! Малые размеры тела, правда, обеспечивают землеройкам рекордные показатели относительной массы мозга, но они же приводят к необходимости высочайшего метаболизма – опять же рекордного для млекопитающих. Необходимость согревать махонькое тельце не оставляет энергии и возможностей для сколь-либо существенного интеллекта и, кроме прочего, сокращает продолжительность жизни. Насекомоядные – заложники своего размера и прожорливости. Ежи, впрочем, зимой превращаются фактически в холоднокровных животных, но спячка еще в меньшей степени способствует разумности.
Почему грызуны и зайцеобразные не стали разумными?
Грызуны возникли, вероятно, как группа роющих существ, питающихся твердыми растительными кормами; по крайней мере, многие древнейшие представители вели именно такой образ жизни. Часть даже самых ранних верхнепалеоценовых и нижнеэоценовых родов – Paramys и Ischyromys – имели белкоподобный облик и, возможно, лазали по деревьям, но конкуренция со стороны плезиадаписовых – тоже древолазящих и грызуноподобных в строении черепа, но более интеллектуальных – очевидно, была слишком велика. Поэтому, несмотря на то, что в последующем – где-то с верхнего эоцена и после – многие грызуны перешли к древолазанию и питанию фруктами, а многие стали не прочь съесть и чего животного (летяги – страшные враги всех певчих птиц), грызуны не смогли выйти на новый эволюционный уровень. К этому времени в тропиках приматы уже прочно заняли соответствующую экологическую нишу, а вне тропиков, видимо, не хватало фруктов и развесистых деревьев, так что у белок, сонь и древесных дикобразов не осталось шансов стать разумными. Впрочем, не исключено, что спустя миллионы лет грызуны отыгрались и “сказали-таки свое веское слово” в вымирании парантропов, но это можно считать лишь пакостной местью неразумных созданий, но никак не заявкой на эволюционно-интеллектуальное превосходство. Однако примитивность в сочетании с неимоверными темпами видообразования – максимальными среди млекопитающих – оставляют грызунам надежду на разумное будущее.
Вероятно, грызуны начали эволюционную гонку несколько позже приматоморфов. Мелкие размеры (отдельным видам – Phoberomys pattersoni из верхнего миоцена Венесуэлы и Josephoartigasia monesi из плиоцена Уругвая – удалось достичь размеров очень крупной коровы или маленького носорога, но исключения – одно из основных свойств живой природы, да и большими мозгами такие мегакрысы похвастаться не могли: Sánchez-Villagra et al., 2003; Rinderknecht et Blanco, 2008), преимущественная растительноядность, значительная морфологическая специализация, малая продолжительность жизни, большое количество детенышей – достаточные причины для сохранения простого строения мозга и слабой социальности. Даже самые социальные суслики и голые землекопы особым интеллектом не блещут, простота добывания корма и мощный пресс хищников способны задавить всякие проблески разума. Грызуны смогли вытеснить многобугорчатых Multituberculata (которые вымерли как раз в конце эоцена – одновременно с расцветом грызунов), но “приматный” путь развития им был уже заказан. И это притом, что эволюционный корень приматов и грызунов был един! Впрочем, есть еще серые крысы – они и всеядны, и социальны, и не так уж бестолковы для своего размера; на них вся надежда на возрождение разума после исчезновения людей.
Древнейшие грызуны Rodentia известны из позднего палеоцена Северной Америки, а примитивнейшие – из нижнего эоцена Азии; в Азии в верхнем палеоцене тоже имеется несколько “грызуноподобных” видов, так что возникнуть отряд мог и там и там. Эти архаичные формы очень схожи с азиатскими анагалидами Anagalida. Получается интересная ситуация: анагалиды признаны неродственными приматам, приматы – близки к грызунам, а грызуны тем не менее потомки анагалид. Путаница была распутана новейшими исследованиями, в которых было показано, что сходство грызунов с анагалидами конвергентно. В настоящее время в качестве предкового для грызунов и зайцеобразных (или же только зайцеобразных) называется эндемичный азиатский отряд миксодонтов Mixodontia, и даже конкретнее – мимотониды Mimotonida и эвримилоиды Eurymyloidea (Лопатин, 2004), известные с раннего палеоцена. Любопытно, что древнейшие приматоморфы связывают Северную Америку с Европой, а грызуны – Северную Америку с Азией; вероятно, это связано с распространением в области с наименьшим сопротивлением со стороны других отрядов. Не значит ли это, что в палеоцене и эоцене в Азии кто-то составлял приматам серьезную конкуренцию? Впрочем, дело может быть просто в благоприятности экологических условий. Может, в Азии в палеоцене было меньше густых лесов, где могли бы жить приматы?
Как итог, грызуны имели с приматами одних предков в верхнем мелу, но в палеоцене их линии уже заметно разошлись – как экологически и морфологически, так и по эволюционной судьбе.
Близки к грызунам зайцеобразные Lagomorpha. Препятствия на пути “приматизации” зайцеобразных были теми же, что и для грызунов, хотя и с любопытной поправкой. Строение челюстей, тип прикуса и механика пережевывания пищи зайцеобразных – с боковыми движениями – позволяют каждому виду осваивать широкий спектр экологических условий и огромные ареалы без особой морфологической перестройки. Грызуны же специализируются именно на морфологическом уровне. Поэтому современные зайцеобразные насчитывают от силы полсотни видов, тогда как грызуны – несколько сотен родов и около 1700 видов. Таким образом, зайцеобразные с самого начала своей эволюции ступили на путь “специализации к неспециализации”, столь часто постулируемый как особо прогрессивный и якобы давший приматам невероятные эволюционные преимущества. Однако зайцеобразные “слишком рано” “вышли в саванну” – специализировались к наземному бегу и, хотя древесные зайцы тоже в природе существуют, так и не развили сколь-либо выраженной подвижности и цепкости “рук”. Зацикленность на растительной пище у зайцев еще большая, чем у грызунов, так что особых поводов для увеличения мозга и усложнения поведения в их истории не возникало. Пищухи Ochotonidae достаточно социальны, но не настолько, чтобы их можно было сравнивать даже с лемурами. Да и возникли зайцеобразные слишком поздно – лишь в среднем эоцене, так что шансов составить конкуренцию приматам у них уже не оставалось.
Почему копытные не стали разумными?
Еще одна крайность – копытные травоядные Ungulata. Среди палеогеновых млекопитающих особым разнообразием отличалась группа кондиляртр (Condylarthra), возникшая в самом начале палеоцена. Древнейший – Kharmerungulatum vanvaleni – найден в позднем мелу Индии (Prasad et al., 2007). Несколько лучше представлены североамериканские роды кондиляртр Protungulatum, Oxyprimus, Baioconodon и Mimatuta. Protungulatum gorgun был найден в слоях, содержащих зубы динозавров, а потому обычно упоминается как позднемеловой. Выяснилось, однако, что течением реки слои позднего мела и раннего палеоцена были перемешаны; Protungulatum с наибольшей вероятностью является раннепалеоценовым.
Как и для всех прочих плацентарных, корни кондиляртр теряются в густом тумане границы мела и палеоцена; в качестве предков назывались желестиды Zhelestidae – мелкие зверьки позднего мела Средней Азии, Европы и Северной Америки, – но родство этих групп поставлено под основательное сомнение (Archibald et Averianov, 2012; Wible et al., 2007). Сами кондиляртры с наибольшей вероятностью являются сборной группой, но известные черты ее представителей столь плохо различимы, что практически невозможно адекватно разделить ее на части (Wible et al., 2007).
Среди кондиляртр можно найти формы, весьма напоминающие приматов: их зубы тоже имеют притупленные бугорки, более-менее прямоугольную форму коронок и прочие тонкости, схожие с признаками нашего отряда. Неспроста статус некоторых животных долгое время оставался или до сих пор остается под вопросом: кондиляртры это или приматы? Примером могут служить Decoredon anhuiensis из палеоцена Китая, Hyopsodus и Promioclaenus из палеоцена и эоцена Северной Америки. Первоначально кондиляртры были стопоходящими всеядными животными, причем в диете немалую роль играли плоды и листья – как и у приматов, а сами они могли лазать по деревьям. Неудивительно, что некоторые тенденции эволюции самых ранних – нижне– и среднепалеоценовых – представителей группы весьма напоминали эволюцию приматов. Например, бугорки на молярах тоже стали понижаться, зубы стали закругляться и вытягиваться. Однако в дальнейшем кондиляртры пошли большей частью по пути приспособления к наземному бегу и питанию жесткой растительной пищей, дав в числе прочих парно– и непарнокопытных Artiodactyla и Perissodactyla. Посему морда их стала удлиняться, а не укорачиваться, как это было у приматов, жевательные зубы резко увеличились, выросло и число бугорков на них, конечности стали менее гибкими и полупальцеходящими, а первый палец не только не получил тенденции к противопоставлению, но вообще стал редуцироваться, вместе с пятым. Когти преобразовались не в ногти, а в копыта. Предполагалось, что некоторые примитивнейшие копытные с когтями на пальцах – эоценовые североамериканские агриохериды Agriochoeridae – могли даже лазать по деревьям, хотя вряд ли очень ловко, так что конкуренции на этом поприще с уже существовавшими тогда приматами они, конечно, выдержать не могли. Показательно, что древнейшие копытные отличались примитивным строением черепа и зубов, но имели довольно специализированные конечности. Учитывая, что большую часть сведений о древних млекопитающих мы извлекаем из зубов, этот факт заставляет задуматься.
Рис. 19. Кондиляртры Hyopsodus (а) и Chriacus (б).
Одним из “звоночков”, которые могли определить будущую судьбу кондиляртр, является приспособленность самых ранних представителей не просто к жизни на земле, но к рытью. Хорошим примером может служить род Chriacus, разные виды которого жили в Северной Америке на протяжении всего палеоцена и в начале эоцена. Chriacus имел гибкие конечности с пятью пальцами, увенчанными когтями; он мог бегать, лазать по деревьям, ел все подряд – фрукты, насекомых, мелких животных; его нижние резцы даже приобрели вид “зубной щетки” для чистки шерсти – как у лемуров. Но его передние конечности явно предназначены иногда копать – и этим кондиляртры отличаются от приматов. Кондиляртры были универсальнее, приматы – специализированнее, а потому первые не смогли вытеснить последних на деревьях, а последние не могли спуститься на землю. Некоторые кондиляртры довольно долго вели соревнование с приматоморфами за жизнь на деревьях: белкоподобные гиопсодонтиды Hyopsodontidae появились на границе палеоцена и эоцена – тогда же, когда настоящие приматы и грызуны. Те, другие и третьи были очень схожи экологически и, следовательно, имели массу параллелей в морфологии. Однако приматы и грызуны имели более длинную историю становления древесности, а землю уже захватили потомки кондиляртр, так что гиопсодонтидам не оставалось ничего, кроме вымирания (хотя поначалу они, как всякие малоспециализированные формы, были крайне многочисленны и часто представляют большинство млекопитающих в местонахождениях).
Большинство потомков кондиляртр стали специализированными растительноядными копытными животными, однако некоторые и после имели шанс вступить на “приматный путь”. К примеру, среди пантодонтов Pantodonta монгольская нижнеэоценовая Archaeolambda planicanina, насколько можно судить по ее зубам, была всеядно-насекомоядной, приматы тогда в Монголии почти отсутствовали (достоверно известен лишь один вид Altanius orlovi), так что некоторые пантодонты могли занимать их экологическую нишу; впрочем, вряд ли археолямбда была очень похожа на приматов, учитывая внешний вид других пантодонтов. Но пантодонты не смогли превзойти даже представителей южноамериканской фауны, известных своей низкой конкурентоспособностью, – в раннем палеоцене Южной Америки жил пантодонт Alcidedorbignya inopinata, а в последующем эта группа там исчезла. (Одновременно сей факт говорит о наличии хотя бы ограниченной связи между материками в раннем палеоцене, так что теоретически приматоморфы могли заселиться в Южную Америку уже тогда; а может, и заселились, но после исчезли? Вдруг новейшие изыскания откроют нам южноамериканских палеоценовых плезиадапиформов?)
Как выглядели и жили некоторые ранние растительноядные, можно представить, наблюдая современных даманов Hyracoidea, хотя современные даманы, без сомнения, достаточно специализированы и не могут считаться “живыми ископаемыми”. Часть их признаков отдаленно напоминает вариант приматов, например стопо– или полустопохождение, плоские ногти на пальцах (коготь сохраняется на первом пальце задней ноги – точь-в-точь как у лемуров), способность лазить по деревьям (впрочем, за счет влажности подушечек пальцев, а не их хватательной способности). Однако все же подавляющая часть их черт явно сближается с более крупными растительноядными; явного родства с приматами у даманов, конечно, нет.
Переход к растительноядности независимо повторили несколько групп млекопитающих. Например, ранние среднепалеоценовые диноцераты Dinocerata были похожи на ранних кондиляртр и креодонтов, но скоро превратились в огромных носорогоподобных зверей с рогами и копытами. Такая же судьба ожидала и многих других зверей. Эволюция их совершалась, как правило, очень быстро, даже самые ранние представители уже имеют все главные признаки своей группы. Впрочем, некоторые смогли сохранить некоторые первоначальные черты вплоть до современности. Хорошим примером могут служить свиньи Suina. Свинообразными были самые первые парнокопытные. Их примитивные зубы – низкокоронковые бугорчатые – во многом напоминают, с одной стороны, зубы приматов, с другой – сохраняют общий план у современных свиней. В немалой степени этому способствует, конечно, всеядный характер питания. Масса примитивных признаков, кстати, сохраняется у них и в строении конечностей. Фактически свиней можно рассматривать как эволюционно очень продвинутый экологический аналог наземных приматов (наше далекое будущее?).
Все наземные растительноядные невыгодно отличаются от приматов низким интеллектом и упрощенно-механизированными конечностями, движущимися лишь в одной продольной плоскости и потерявшими всякие шансы стать хватательными. Низкокалорийность растительной пищи приводит к усложнению и специализации пищеварительной системы, оттягивающей на себя энергетические и эволюционные акценты. С другой стороны, корневища, трава и листья не прячутся, не убегают и активно не сопротивляются. Добыть их несложно, а цвет почти всегда зеленый, что не способствует развитию цветного зрения. Все это в совокупности приводит к малой интеллектуальности копытных, вошедшей в массу поговорок и ругательств.
Почему хищные не стали разумными?
Обратная крайность – хищники. Хищный образ жизни вели предки млекопитающих еще до появления этой группы. Древнейшие млекопитающие все были хищниками в широком смысле слова. Впрочем, поеданием червячков и букашек дело не ограничивалось, о чем недвусмысленно свидетельствуют кости пситтаккозавра в желудке триконодонта Repenomamus robustus из нижнего мела Китая (Hu et al., 2005). А ведь родственный ему Repenomamus giganticus был вдвое больше – около метра в длину.
Хищники уже с самых ранних форм – нижнепалеоценовых кондиляртр арктоционид Arctocyonidae и верхнепалеоценовых креодонтов Creodonta – достаточно специализированы, но в их строении проглядывает более древнее состояние: когти не очень острые, зубы не имеют хищнического лезвия и в целом похожи на зубы насекомоядных и приматов, в скелете имеется хорошо развитая ключица, конечности стопоходящие. Многие из них хорошо лазали по деревьям. Вероятно, они были еще не абсолютно хищными, а всеядными. Из родственников современных хищных уже в нижнем палеоцене виверравиды Viverravidae были заметно специализированными к питанию насекомыми. Вместе с тем у среднепалеоценовых миацид Miacidae на фоне усиления хищнического комплекса имелся такой почти “приматный” признак, как умеренное противопоставление большого пальца. Виверравиды и миациды в настоящее время часто определяются как Miacoidea и исключаются из хищных в узком смысле слова, а настоящие хищные современного отряда Carnivora появляются в середине эоцена. Впрочем, преемственность всех этих групп достаточно очевидна, а экологически они не особо отличались.
Таким образом, хищники в широком смысле Carnivoramorpha успели занять свою экологическую нишу, по сути дела, раньше приматов, что объясняет, почему приматы не стали хищнее, чем могли бы. Конечно, гоминиды в итоге отыгрались по полной программе (все крупные и многие мелкие хищники сейчас в Красной книге), но в палеогене до этого было еще далеко. Впрочем, многие хищные вторично вернулись ко всеядности и – вспоминая панду – даже специализированной растительноядности. Показательно, что, например, у енотовых Procyonidae в связи с этим моляры приобрели квадратную форму и притупленные бугры, а лапки развили необычайные манипулятивные способности. Еще больше похожи на зубы приматов моляры большой панды Ailuropoda melanoleuca.
Причина “неприматизации” хищников видится в несоциальности всеядных форм и хищнической специализации социальных; про специализированных несоциальных можно вообще не вспоминать. Медведи Ursidae могут собираться группами при изобилии корма – например, нерестовом ходе лосося или созревании ягод, – но при этом никак не общаются между собой, а, напротив, стремятся держаться подальше друг от друга. Вероятно, так же вели себя медведеподобные по стилю жизни мезонихии Mesonychia – странные звери с огромными челюстями, маленькими мозгами и копытами на ногах, появившиеся в самом начале палеоцена в Азии и дожившие до начала олигоцена.
Социальные львы – специализированные хищники, охотники на крупных копытных; впрочем, все прочие кошачьи Felidae несоциальны.
Наверное, максимально приближены к “приматному идеалу” шакалы Canis и носухи Nasua – они и социальны, и всеядны. Но хищнические корни завели морфологию шакалов далеко по пути специализации, так что трудно представить, как они могут перейти к орудийной деятельности. А вот у древесных носух с их подвижными пальцами и общительностью, наверное, неплохие шансы – не зря они так напоминают лемуров. Настораживает лишь одно – долгие миллионы лет носухи остаются носухами и все никак не станут чем-то большим. Вероятно, препятствием на пути разумности становятся слишком длинные когти и носы? Енотовые Procyonidae появились в начале олигоцена – намного позже приматов, – может, у них все еще впереди?
Почему китообразные и ластоногие не стали разумными?
Древнейшие звери, приспособленные к водному образу жизни, известны уже из середины (Castorocauda lutrasimilis: Ji et al., 2006) и конца (Haldanodon exspectatus: Martin, 2005) юрского периода. Бесконечно далеки они от приматов!
Водные млекопитающие обычно довольно интеллектуальны (есть, конечно, дюгони Dugongidae и ламантины Trichechidae, но морская корова и есть корова, хотя и морская). В воде можно почти бесконечно наращивать размеры мозга, тем более что ресурсы позволяют.
Китообразные Cetacea появились в самом начале эоцена, 48–56 млн лет назад. Замечательными примерами четвероногих китов, похожих на помесь крысы с крокодилом, являются Himalayacetus subathuensis из Индии, а также Pakicetus attocki и Ambulocetus natans из Пакистана. Они имели огромную пасть, коротенькие лапки и длинное гибкое тело. А вот мозгами похвалиться они никак не могли. Интересовала их только рыба. Довольно быстро китообразные ушли в море и приобрели современный облик. Еще в олигоцене они достигли церебральных показателей – по абсолютным размерам и складчатости поверхности – уровня продвинутых гоминид (Lilly, 1977), а многие современные виды вдвое превосходят по ним человека. Нынешние китообразные известны своей повышенной социальностью и сложными способами общения, в том числе межвидового.
Рис. 20. Мозг дельфина
Однако столь же общеизвестной истиной является малая относительная величина мозга китов и дельфинов, а преобразование лап в ласты – не лучший зачин для освоения трудовой деятельности. Кроме того, ловля рыбы и креветок – не самый идеальный стимулятор умственного прогресса. Как бы сложно стая дельфинов ни загоняла косяк рыбы, это остается загоном рыбы; не так сложно обхитрить селедку. (Критики возразят: “А приматы что? Вообще за кузнечиками гонялись да бананы с ветки рвали!” Но в том-то и дело, что приматы занимались разными вещами, долгопяты-кузнечиколовы остаются таковыми и по сей день, а разум появился у всеядных охотников на крупную дичь и собирателей всего подряд в саванне, полной конкурентов.) Что бы энтузиасты и фантасты ни говорили о необычайных достижениях дельфинов, о подводных цивилизациях и светлом будущем нетехнократической цивилизации пацифистов в океанских просторах, шансов на разумность у них немного.
То же можно повторить и о ластоногих Phocidae, Otariidae и Odobenidae (или, обобщенно – и пусть геносистематики покосятся на меня! – Pinnipedia). Пищевая специализация, превращение ног в ласты, а тела в жировой бурдюк не способствуют развитию интеллекта.
Возможно, есть шансы у каланов Enhydra lutris. Эти забавные звери обладают всеми задатками: они высокосоциальны, у них хватательная кисть и богатая трудовая деятельность по раскалыванию морских ежей и раковин гальками. С ними сложность та же, что с енотами: видимо, им слишком хорошо в их среде обитания, миллионы лет они остаются счастливыми обитателями ламинариевых лесов и не собираются переходить на следующий уровень. Видимо, им не хватает своего экологического коллапса, в преодолении которого пришлось бы поумнеть. Может, своего рода саваннизация севера Тихого океана еще осчастливит мир разумными каланами? Правда, для этого надо убрать уже имеющихся конкурентов…
Почему многобугорчатые и сумчатые не стали разумными?
Комплекс, похожий на раннеприматный, развился у многобугорчатых Multituberculata, представляющих самостоятельный подкласс Allotheria, особенно у птилодонтид Ptilodontidae, чья зубная система удивительным образом сочетала специализированность и универсальность. Емко охарактеризовала их В. И. Громова: выступающие вперед “длинные резцы служили для прокалывания и прогрызания твердых плодов, большой задний нижний переднекоренной – для разрезания оболочек более мягких и размельчения крупных плодов, а многобугорчатые заднекоренные – для их раздавливания” (Основы палеонтологии, 1962). Такая зубная система функционально близка к совершенству и может использоваться для питания как растительными кормами, так и животными. Некоторые многобугорчатые вели древесный образ жизни, а Ptilodus даже имел хватательный хвост и мог спускаться по деревьям вниз головой, как белки. Однако многобугорчатые уступали приматам заметно меньшим развитием мозга. То же можно сказать о тиллодонтах Tillodontia: они были всеядны, стопоходящи, сохраняли ключицу, могли лазать по деревьям и имели потенциально хорошие эволюционные шансы. Однако достаточно одного взгляда на их мозговую коробку – узкую, низкую, со всех сторон стиснутую жевательными мышцами, – чтобы понять причины их вымирания. Те же особенности гарантировали ту же судьбу еще нескольких отрядов млекопитающих. Гладкий маленький мозг свел в могилу половину ранних зверей, притом что их образ жизни и размеры колебались от землеройкоподобных до слонопотамовидных.
Другой причиной вытеснения многобугорчатых приматами и грызунами было несовершенство их онтогенеза. Судя по малому отверстию между двумя половинками таза, многобугорчатые рожали очень мелких недоразвитых детенышей, подобно современным сумчатым (имеются и сумчатые кости, но они прямо не связаны с сумкой, поскольку обнаружены также у циногнатовых Tritylodontidae и одного из древнейших плацентарных – Eomaia scansoria: Ji et al., 2002). Сочетание с малыми размерами тела и короткой жизнью оказалось буквально убийственным: такие животные не могли быстро нарастить мозги и накопить жизненный опыт, так что их интеллектуальный уровень оставался крайне низким. К тому же челюсти многобугорчатых могли двигаться только по вертикали и вперед-назад, а жевательные движения им были недоступны. Пока достойных конкурентов не было, все было хорошо – так продолжалось, кстати, примерно 100 млн лет подряд, – но когда приматы и грызуны достаточно развились, они задавили многобугорчатых интеллектом и обогнали их в скорости пережевывания пищи (“хорошо пережевывая пищу, ты помогаешь обществу!”). А ведь еще были тениодонты Taeniodonta и тиллодонты Tillodontia – роющие животные, питавшиеся корневищами, крупные и сильные, так что конкуренция в “грызунячьей” экологической нише в палеоцене была основательной. Однако, к чести многобугорчатых, стоит отметить, что для окончательной победы приматам и грызунам понадобилось не менее 25 млн лет.
Рис. 21. Многобугорчатое Ptilodus; череп тиллодонта Trogosuss huracoides, вид сверху.
Почти те же причины привели к почти повсеместному исчезновению сумчатых Metatheria. Показательно, что среди сумчатых крысовидных опоссумов-ценолестид Caenolestidae и палеогеновых полидолопид Polydolopidae развилась зубная система, очень похожая на систему многобугорчатых; видимо, они были аналогом последних в Южной Америке. В Австралии такой же вариант известен у крысиных кенгуру Aepyprymnus и карликовых поссумов Burramys.
Самые примитивные сумчатые – опоссумы-дидельфиды Didelphidae и ранние дазиуроиды Dasyuroidea – экологически весьма похожи на предков приматов и древнейших приматов: едят все подряд, хорошо лазают по деревьям, многие имеют хватательный хвост и противопоставляющийся большой палец на задней ноге (на нем даже нет когтя). Однако приматы эволюционировали в крупных и умных животных, а опоссумы остались такими же, какими были еще в меловом и чуть ли не юрском периоде. Конечно, сумчатые тоже не стояли на месте, из опоссумоподобных предков развились аналоги неполнозубых (сумчатый муравьед Myrmecobius fasciatus), насекомоядных (включая сумчатого крота Notoryctes), грызунов (включая сумчатых летяг Petauridae и Acrobatidae) и даже крупных хищников – размером до большого медведя или леопарда (вроде южноамериканских боргиенид Borhyaenoidea и их потомков тилакосмилид Thylacosmilidae, а также австралийских тилацинид Thylacinidae и тилаколеонид Thylacoleonidae). Но показательно, что среди всего изобилия форм сумчатых нормальных аналогов приматов так и не возникло. Сумчатые не дали ни бегающих хищников, ни быстрых древолазов. В Южной Америке опоссумы Didelphidae и Microbiotheriidae, а в Австралии и Меланезии коала Phascolarctos cinereus, кускусы Phalangeridae и Tarsipedidae, а равно древесные кенгуру Dendrolagus проигрывают по всем статьям даже белкам, не говоря уж о мартышках. Среди полуобезьян тоже есть медленные лори, но даже они способны двигаться быстрее древесных сумчатых. Кускусы имеют противопоставляющиеся большие пальцы, всеядны, имеют квадратные моляры – всё знакомые черты, – но на этом сходство с приматами заканчивается. Хоботноголовые кускусы Tarsipes rostratus, питающиеся медом и цветочной пыльцой, экологически весьма напоминают некоторых мышиных лемуров, но и те и другие являются примерами крайней специализации. Любопытно, что даже древесные кенгуру, имевшие прыгающих наземных предков, по деревьям предпочитают двигаться фактически ползком; этим сумчатые принципиально отличны от приматов, один из важнейших признаков которых – адаптация к прыганию.
Очевидно, ключевая разница сумчатых и приматов – в степени развития мозга. Что сдерживало развитие мозга аллотериев-многобугорчатых и сумчатых – вопрос. Уже упомянутое несовершенство системы вынашивания детенышей не позволяло рожать их достаточно развитыми, чтобы уже после рождения они успели набраться ума-разума. У самых продвинутых в этом отношении сумчатых – бандикутов Peramelemorphia – имеется аллантоисная плацента, но безворсинчатая, а трофобласта, препятствующего отторжению плода, у них нет. Посему, как и все прочие сумчатые, бандикуты рожают детенышей фактически на стадии эмбриона. Возможно, еще сотня миллионов лет – и потомки бандикутов покорили бы Землю, но кто ж им даст эту сотню? Видимо, в большом интеллекте до поры до времени не было надобности, поскольку окружение в виде ящериц и динозавров само было не чересчур интеллектуальным, конкурировать было не с кем. А после появления плацентарных было уже поздно, чему свидетельством печальная история всех сумчатых фаун на всех континентах. К примеру, конкуренция с грызунами и приматами называется в качестве основной причины вымирания сумчатых полидолопид в олигоцене. Показательно, что конкуренцию с ранними насекомоядными сумчатые вполне выдержали: еще в нижнем палеоцене палеориктиды проникли-таки в Южную Америку (Marshall et Muizon, 1988), но потом исчезли на долгие миллионы лет (опять же – раз туда добрались палеориктиды, стало быть, могли добраться и плезиадапиформы, но их мы в Южной Америке не находим). Да и современные землеройки смогли заселить лишь самый север Южной Америки, южнее им успешно противостоят опоссумы, которые даже устроили “контрнаступление” на североамериканский континент. Даже в Австралии, про которую слишком часто говорят, что единственное плацентарное там – динго (для начала: а как же человек, эту динго туда переправивший?), имеется масса видов летучих мышей (которые заселились туда еще в эоцене) и около полусотни видов грызунов. Их обычно игнорируют или просто не знают об их существовании, но они есть! И за миллионы лет они не стали чем-то бóльшим и не смогли победить сумчатых Зеленого континента.
Некоторые сумчатые, видимо, пытались преодолеть “мозговой барьер”. Так, нижнепалеоценовый опоссум Pucadelphys andinus из Боливии был довольно социальным животным, о чем свидетельствует выраженный половой диморфизм и обнаружение десятков особей разного пола и возраста в одном месте – на площади одного “гнезда” (Ladevèze et al., 2011). Однако такие продвинутые сумчатые “опередили свое время” и не получили развития, а последующие виды вели одиночный образ жизни.
Почему тениодонты, рукокрылые, птицы и шерстокрылы не стали разумными?
В качестве прогрессивного признака какой-либо группы – часто приматов – иногда называют большую скорость эволюции, но это положение нуждается в категоричном уточнении.
На последовательном ряду палеоценовых тениодонтов Taeniodonta можно увидеть, как из подобного насекомоядным и опоссумам существа Onychodectes через собакоподобного зверя Wortmania может развиться странное чудище вроде Psittacotherium, Ectoganus или Stylinodon размером с медведя. Наверное, среди палеоценовых зверей тениодонты имели максимальную скорость эволюции. При этом никто не считает их особо прогрессивными млекопитающими. Тениодонты могут служить наглядным примером, как можно быстро специализироваться и потерять возможность стать “настоящим приматом”.
Другой пример быстрейшей специализации – летучие мыши Chiroptera. Рукокрылые, вероятно, имелись уже в верхнем мелу Южной Америки и верхнем палеоцене Франции и Германии (Gingerich, 1987; Hand et al., 1994; Hooker, 1996), а однозначные представители нижнего эоцена мало отличимы от современных, причем они обнаружены сразу в десятках видов на всех континентах, включая Австралию. Замечательно, что зубы нижнеэоценовых летучих мышей почти идентичны зубам примитивных плацентарных типа Cimolestes и древнейших землеройковых, так что родство всех этих групп не представляет сомнения, что однозначно подтверждается данными генетики. Несмотря на то, что в генетико-кладистических схемах рукокрылые попадают в лавразиатериев Laurasiatheria, а приматы – в эуархонтоглиресов Euarchontoglires, сходство двух этих групп всегда было очевидно всем систематикам, начиная с К. Линнея, и отразилось в создании группы “архонта” Archonta, объединяющей летучих мышей, приматов, тупай и шерстокрылов. Сходство пращуров представителей “архонта” усиливалось древесным образом жизни предков летучих мышей и шерстокрылов и как минимум преадаптацией к нему у предков приматов и тупай. Очевидно, потому и не удается выявить непосредственных нижнепалеоценовых или меловых предков летучих мышей, что их зубы неотличимы от зубов прочих примитивных зверей. Не исключено, что какие-то палеоценовые формы, известные лишь по зубам и считающиеся ныне приматами, плезиадаписовыми или какими-либо насекомоядными в широком смысле, при лучшей изученности окажутся примитивными летучими мышами. Пока у летучих мышей не было крыльев и эхолокации, мы считаем их “насекомоядными”, когда же эти специализации появляются (судя по Onychonycteris finneyi, полет возник раньше эхолокации: Simmons et al., 2008), мы уже видим готовых рукокрылых. Как и в случае с птицами и птерозаврами, машущий полет летучих мышей возник очень быстро, и палеонтологически уловить момент его становления крайне трудно, для этого надо обладать невероятным везением.
Рукокрылые уникальны в том отношении, что первые этапы их эволюции отличались максимальными темпами, а последующие – крайне низкими (вернее, на уровне видо– и родообразования темпы были велики, но план строения на уровне семейств практически не изменился с нижнего эоцена); можно даже утверждать, что макроэволюция летучих мышей закончилась в то время, когда у приматов она только начиналась. Очевидно, что причиной этого стала адаптация к полету. И без того небогатые заделы строения мозга первопредков были безнадежно задавлены необходимостью облегчения веса; наглядно это выражается в быстром зарастании швов черепа, что было характерно уже для раннеэоценового Icaronycterys. О хватательной способности конечностей речь тоже не идет, скорее уж о цеплятельной; нижнеэоценовый Onychonycteris еще имел когти на всех пальцах крыла, а остальные синхронные родственники – уже потеряли на двух или трех.
К чести рукокрылых, у них есть два существенных преимущества перед насекомоядными: они долго живут, а потому могут накопить богатый жизненный опыт, и очень общительны – вплоть до заботы о голодных сородичах у вампиров Desmodus rotundus. Но эти преимущества сводятся на нет малыми размерами мозга – дорогая плата за покорение небес. Экономия веса была таким важным делом, что рукокрылые избавились даже от “мусорных” участков ДНК, кстати, как и птицы.
Удивительно, но за десятки миллионов лет ни одна летучая мышь не потеряла способности к полету и не вернулась к наземному или древесному образу жизни (в фантастической фауне будущего изобретательный ум Д. Диксона нагрезил хищных наземных вампиров, ходящих на передних лапах и хватающих добычу задними, но этот инфернальный образ пока, к счастью, сугубо гипотетичен и остается на совести своего создателя).
Много шуму в свое время наделала так называемая гипотеза “летающих приматов”, согласно которой мегахироптеры Megachiroptera – крылановые – приобрели способность к полету независимо от прочих летучих мышей – микрохироптеров Microchiroptera, да к тому же возникли из древнейших приматов (Pettigrew, 1986; Pettigrew et al., 1989, 2008). В доказательство приводилось множество доводов, основными из которых был специфический тип нервного соединения сетчатки глаза с верхними холмиками четверохолмия в среднем мозге – уникальный для приматов, шерстокрылов и крылановых, а также отсутствие эхолокации у подавляющего большинства последних, в отличие от мелких эхолоцирующих рукокрылых. Приводились и другие доказательства независимого возникновения макро– и микрохироптеров. В определенный момент концепция “летающих приматов” уже почти взяла верх, но тут же потерпела сокрушительное поражение от генетиков, довольно убедительно доказавших монофилию рукокрылых (Mindell et al., 1991). Были сделаны попытки оспорить эти генетические результаты (Hutcheon et al., 1998), но большинство систематиков их не приняли. Впрочем, признание единого происхождения летучих мышей не может отвергнуть множество удивительных параллелей крылановых и приматов. Даже если эти сходства развились конвергентно, они слишком комплексны, чтобы быть совсем случайными; все же эта ситуация – отражение крайней близости предков обоих отрядов. Нет ископаемых форм, которые бы “зависали” между рукокрылыми и приматами (описан африканский раннемиоценовый крылан Propotto leakeyi, чье имя говорит само за себя, но тут дело в путанице, а не промежуточности: Simpson, 1967; Walker, 1969), – это следствие быстрой специализации первых.
Много рассуждений было посвящено выяснению вопроса, были ли предки летучих мышей насекомоядными или фруктоядными. Зубы древнейших известных форм “насекомоядные”, но палеоценовые вполне могли отличаться большей любовью к произведениям флоры. Незатихающие споры на эту тему, а также существование обоих видов питания среди современных рукокрылых – лишнее подтверждение зыбкости грани между двумя этими диетами, сколь бы различными они ни казались.
В целом последовательность специализаций рукокрылых видится примерно такой: судя по примитивнейшей летучей мыши Onychonycteris, не имевшей развитой эхолокации (хотя есть и другое мнение, что у нее могла быть “гортанная эхолокация”: Veselka et al., 2010) и питавшейся насекомыми, эхолокация возникла позже полета, а первой диетой были насекомые. Другие синхронные рукокрылые тоже насекомоядные, но эхолоцирующие. Судя по отсутствию эхолокации у большинства фруктоядных крылановых и ее наличию у некоторых представителей этой же группы (египетская летучая собака Rousettus aegyptiacus эхолоцирует, щелкая языком), а также по ее сохранению у фруктоядных и нектароядных микрохироптеров, эхолокация могла исчезать у фруктоядных форм, но необязательно; эхолокация и насекомоядность есть у генетически близких к крылановым подковогубовых Hipposideridae, подковоносовых Rhinolophidae, ложновампировых Megadermatidae, свиноносовых Craseonycteridae и мышехвостых Rhinopomatidae; кроме того, насекомоядные неоднократно и независимо переходили к фруктоядности. С другой стороны, все современные насекомоядные формы имеют развитую эхолокацию. Судя по развитию усложненной нервной связи сетчатки и четверохолмия именно у неэхолоцирующих крылановых и примитивному варианту у всех прочих рукокрылых, “приматный” вариант нервной системы возник у крылановых независимо. Все эти тонкости кажутся посторонними для проблемы происхождения приматов, но на самом деле имеют к ней прямое отношение. Ведь общие предки подразумевают, что и приматы имели шансы развить схожие адаптации.
Интересно также, что в качестве одного из лимитирующих факторов, сдерживавших раннюю эволюцию рукокрылых и загнавших их в ночной образ жизни, называется гнет со стороны дневных хищных птиц (Rydell et Speakman, 1995; Speakman, 2001; Simmons et al., 2008). Дескать, в конце мела птиц было много и млекопитающие не имели шанса освоить воздух. Конечно, еще были птерозавры (из меловых нам известны в основном морские рыбоядные, но имелись и другие, которые могли мешать жить птицам) и хищные динозавры, отчего не было мелких насекомоядных птиц. Звери, будучи интеллектуальными созданиями, вероятно, меньше мелькали и лучше прятались в лесной подстилке и ветвях деревьев, почему, собственно, успешно заняли насекомоядную нишу. Птицы серьезно пострадали во время позднемелового катаклизма, бóльшая часть их линий безвозвратно исчезла – например, энанциорнисы Enantiornithes, доминировавшие в мезозое. В раннем палеоцене птиц осталось очень мало, и у зверей появился шанс на полет. Тут-то и возникли летучие мыши и шерстокрылы. К концу палеоцена птицы оклемались, отрастили крючковатые клювы и загнали распоясавшихся зверей в ночь. Более того, в конце палеоцена уже появляются совы – Ogygoptynx wetmorei из США и Berruornis orbisantiqui из Франции; хищные птицы стали преследовать зверей и ночью. В позднепалеоценовых слоях Китая найдены копролиты, или погадки, птиц с останками млекопитающих – наглядная иллюстрация описываемых событий. Если все действительно было так, может, приматы просто не успели взлететь? Летучие мыши вовремя подсуетились, а приматы безнадежно отстали, оставив в современном человеке вечную тоску по свободному полету… Правда, вопрос этот темный, и каждый шаг изложенных рассуждений подвергается бурным обсуждениям.
Птицы в палеоцене имели потенциальный шанс на “мировое господство”. Млекопитающие были малы и слабы, а птицы были столь же теплокровны и умны. Однако летающие птицы не могут иметь большой мозг – летать мешает, а наземные формы возникают обычно в условиях отсутствия хищников, что расслабляет и приводит к еще большему упрощению мозга. Все современные нелетающие птицы, мягко говоря, не блещут интеллектом: страусы, киви, дронты и прочие подобные создания являются чуть ли не образцом неразумности.
Кстати, большой вопрос – что мешает цефализации страусов Struthioniformes, Rheiformes и Casuariiformes? Африканские страусы вообще жили и живут в тех же самых саваннах, что стали колыбелью, родиной и стартовой площадкой австралопитеков. Наземность в открытой местности, всеядная диета, зачатки социальности – некий задел у страусов имеется, но, может, рост слишком большой? Кроме того, крылья с самого начала были негодны для манипуляторной деятельности, а у наземных птиц так вообще редуцировались.
Возможно, главными кандидатами на чуть больший уровень цефализации могли бы быть пингвины Sphenisciformes: сложное плавание в воде, сопоставимое с полетом, требует развития мозга, но потенциально позволяет нарастить его массу. Однако антарктическая среда, бедная на раздражители, не способствует усложнению поведения пингвинов, специализация крыльев-ласт не оставляет никаких надежд на развитие трудовой деятельности, а антарктическая стужа и ограниченность ресурсов требуют строгой экономии энергии – какой уж тут затратный мозг. Тут уж не до мозгу – быть бы живу!
Ископаемые наземные птицы Азии, Европы, обеих Америк и даже Антарктиды – фороракосовые Phorusrhacidae и гасторнисовые Gastornithidae (они же диатримовые Diatrymidae) – становились успешными хищниками в отсутствие крупных бегающих хищников-млекопитающих. Гасторнисовые возникли в палеоцене и вымерли в эоцене, два этих долгих периода они терроризировали зверей Северной Америки, Европы и Китая. Фактически это двухметровые нелетающие хищные гуси – чудища, пожиравшие карликовых лошадей: фантасмагорическое сочетание! В Южной Америке и Антарктиде фороракосовые появились в среднем палеоцене и оставались главными плотоядными вплоть до появления тут плацентарных – кошачьих и псовых, заселившихся с севера в позднем плиоцене; тогда же фороракосы даже освоили Северную Америку, хотя и ненадолго; вымерли же они лишь в начале плейстоцена. Эти ужасные создания в эоцене жили и на территории современного Алжира, а в раннем олигоцене – современной Франции. В Австралии вплоть до плейстоцена аналогичную экологическую нишу занимали дроморнисовые Dromornithidae (гусеобразные, как и гасторнисовые) – сумчатые так и не смогли составить им адекватную конкуренцию, и это притом, что появились дроморнисовые только в олигоцене. Потенциально фороракосовые и гасторнисовые могли стать интеллектуальнее прочих птиц: хищный образ жизни предполагает некоторое напряжение мозгов, а наземность обеспечивает возможности их роста. Но, видимо, полуметровый клюв перевешивал. Принцип “сила есть – ума не надо” воплотился в ужасных птицах так же явно, как и в их родственниках – хищных динозаврах. К тому же в последнее время появились основательные сомнения в их хищности: гасторнисы могли быть сугубо растительноядными, тогда неразвитие их интеллекта и вовсе неудивительно (Angst et al., 2014; Mustoe et al., 2012).
Раз уж речь зашла о полете, невозможно пройти мимо шерстокрылов Dermoptera – ближайших родственников приматов по всем возможным показателям. Близость этих групп настолько велика, что многие систематики склонны определять шерстокрылов как подотряд приматов, называя их “летающими лемурами”; генетически шерстокрылы ближе к приматам, чем тупайи. Однако морфологически шерстокрылы близки и к насекомоядным – настолько, что некоторые авторы включали их в этот отряд (например: Van Valen, 1967). Собственно, древнейшие шерстокрыловые, древнейшие приматы и древнейшие насекомоядные различимы столь плохо, что статус целого ряда семейств и подсемейств остается под вопросом: это Mixodectidae, Placentidentidae, Ekgmowechashalinae, Thylacaelurinae и Paromomyidae. Тонкости строения основания черепа, включая слуховую капсулу и особенности расположения сосудов и нервов, размеры, пропорции, выпрямленность и строение суставных поверхностей фаланг кистей и стоп, гребешки для прикрепления мышц на них, форма когтей у Ignacius и Phenacolemur интерпретировались по-разному (Bloch et Silcox, 2001; Hamrick et al., 1999; Krause, 1991; Silcox, 2003). Строго говоря, доказательств отнесения этих зверюшек к плезиадаписовым или шерстокрыловым примерно одинаковое количество. Все же большинство современных палеонтологов считают паромомиид плезиадапиформами, а прочие упомянутые семейства – шерстокрылами.
Современные шерстокрылы крайне специализированы по множеству признаков. В первую очередь, конечно, стоит упомянуть летательную перепонку, тянущуюся от щек и ушей до кончика хвоста и занимающую промежутки между длинными пальцами на руках и ногах, благодаря которой шерстокрылы могут планировать на большое расстояние. Во-вторых, шерстокрылы имеют крайне специфическую зубную систему с редукцией на верхней челюсти первых резцов и клыкоподобностью вторых, а также очень оригинальным строением нижних резцов – в виде фестончатых гребешков, ориентированных горизонтально. Получается очень близкий функциональный аналог “зубной щетки” современных лемуров, у которых направленные вперед нижние резцы и резцеподобные клыки используются для чистки шерсти (кстати, такая “щетка” – одно из главных отличий современных лемуроподобных от их предков адапиформов Adapiformes и одновременно лучший довод в пользу монофилетичности лемуроподобных, исключая, возможно, руконожку; скелет же и прочие черты у лемуров и адаписовых почти идентичны, разве что мозг у лемуров побольше; вообще подобные “щетки” возникали у зверей неоднократно: уже упоминался кондиляртр Chriacus с таким же приспособлением).
Сейчас шерстокрылы представлены всего двумя видами, но с палеоцена по миоцен они были более разнообразны, причем почти все ископаемые формы известны из Европы и Северной Америки. Самые бесспорные шерстокрылы из них – плагиомениды Plagiomenidae. Ellesmene eureka была найдена на крайнем севере Канады, по соседству с Гренландией, в эоцене эта местность находилась на 76° северной широты – далеко за полярным кругом. Хотя тогда там и было не в пример теплее, чем сейчас, и росли субтропические леса, полярной ночи никто не отменял. Конечно, Ellesmene жила там не в одиночестве: в ее фауне встречены и другие виды, похожие на шерстокрылов, паромомисы, грызуны, многобугорчатые, лептиктиды, пантодонты, тениодонты, креодонты, миациды, различные копытные, птицы, крокодилы, саламандры и прочие животные (West et Dawson, 1978). Все они освоили столь необычные условия и, судя по изобилию их останков, были весьма многочисленны.
Скелет плагиоменид до сих пор не найден, они известны почти исключительно по челюстям и зубам, так что неясно, были ли они такими же ловкими планерами, как и современные шерстокрылы. Зубы Plagiomene очень похожи на шерстокрыловые: нижние резцы шпателевидные, с гребенчатым краем, щечные зубы широкие, а их эмаль складчатая, с режущими поверхностями для перетирания растений. Однако череп Plagiomene в некоторых деталях заметно отличается от шерстокрылового, так что их родство не слишком тесное. Удивительным образом Plagiomene по сложности слуховой капсулы и морфологии двураздельных нижних резцов схожи с прыгунчиками, по пневматизации основания черепа – с выхухолями Desmana moschata, по многобугорчатости моляров – с шерстокрылами, а по строению медиальной стенки слуховой капсулы – с приматами, в целом же строение оказывается неповторимым среди млекопитающих (MacPhee et al., 1989). Специализации зубов могли возникнуть конвергентно в разных линиях, а вот строение основания черепа у Plagiomene совсем уникально и особенно непохоже на вариант шерстокрылов. Так что плагиомениды вполне могут быть очередной оригинальной “околоприматной” линией.
Идея планирующего полета возникала много раз параллельно. Древнейший пример среди млекопитающих – юрский или раннемеловой Volaticotherium antiquum из Китая, выделенный в самостоятельный отряд Volaticotheria (Meng et al., 2006). Столь древние звери, конечно, не имеют прямого отношения к приматам и шерстокрылам, они были малы и обладали примитивным мозгом. Полет во всех своих вариантах ставил крест на возможности “приматизации”.
Почему тупайи, анагалиды, прыгунчики и тенреки не стали разумными?
Приматоморфы – одна из самых древних или даже самая древняя группа млекопитающих из доживших до современности. Единственный моляр Purgatorius ceratops из верхнемелового слоя Монтаны мог быть внесен сюда из более позднего нижнепалеоценового (Lofgren, 1995), но в любом случае в раннем палеоцене приматоморфы уже существовали и бурно эволюционировали. Уже тогда среди плезиадапиформов мы видим массу специализированных форм, об этом мы еще поговорим ниже. Быстрая специализация сопровождала появление каждой мало-мальски крупной группы приматов, настолько, что даже берет удивление: от кого же возникали последующие группы, кто и где доносил до новых времен генеральный план строения (кстати, эта фраза – идеальный кандидат для цитирования креационистами, которые забудут процитировать следующее предложение)? Однако ж существование доныне подобных “живых ископаемых” ставит все на свои места: коли этот пресловутый “генеральный план” и сейчас скачет по веткам в лесу, для эволюции приматов не все еще потеряно. Речь, конечно, о тупайях.
Тупайи Scandentia в своем облике удивительно точно сохранили признаки фактически позднемеловых примитивных плацентарных. Неспроста они регулярно оказывались в составе насекомоядных (например: Van Valen, 1967). Эти животные всеядны с упором на насекомоядность; преимущественно древесны, но некоторые наземны, хотя и они прекрасно лазают по деревьям; почти все активны днем. На пальцах у них когти, лапки не хватательные и большой палец не противопоставлен прочим, глаза находятся по бокам головы, обоняние отличное, мозг примитивный. Однако ведущие органы чувств у тупай – зрение и слух; на пальцах имеются дактилоскопические узоры, хоть и примитивные, зубы похожи на зубы лемуров, имеется такой специфический для лемуров орган, как подъязык – вырост под языком с зазубренным краем, используемый для чистки передних нижних зубов. Тупайи наглядно демонстрируют нам примитивность приматов – эти два отряда весьма схожи. Древнейшие настоящие тупайи – Eodendrogale parvum – известны из среднего эоцена Китая; возможно, немного древнее неопределенные и вообще сомнительные тупайи из Турции (которые, строго говоря, могут быть кем угодно от сумчатых до копытных). Палеоценовые формы нам неизвестны, но примитивный план строения современных представителей не оставляет сомнения, что эти зверьки возникли намного раньше эоцена и должны восходить к меловым насекомоядноподобным млекопитающим.
В качестве древнейших тупай назывались анагалиды (конкретно – отряд Anagalida, а не когорта с таким же названием, но с гораздо бóльшим содержанием; чтобы избежать путаницы, отряд иногда называют Anagaliformes или Anagaloidea), но масса их специализаций в строении нижней челюсти, зубов и конечностей – включая раздвоенные когти на передних и копытца на задних ногах – позволяют говорить, что эта группа весьма отдаленно родственна “архонтам”. Скорее всего, анагалиды возникли не от животных, похожих на Cimolestes, как “архонты”, а от зверей типа Zalambdalestes (которые по этой причине иногда включаются в состав отряда анагалид). Даже экологически анагалиды отличались от предков приматов и прочих подобных групп; об этом свидетельствуют странная форма зубов и специализация конечностей. Впрочем, все эти особенности не мешают многим ученым считать анагалид предками грызунов и зайцеообразных; они же могли быть предками огромных южноамериканских ксенунгулят Xenungulata и слоноподобных пиротериев Pyrotheria, что показывает великие возможности эволюции. (Отдельный вопрос – как азиатские анагалиды оказались в Южной Америке? Поэтому некоторые палеонтологи считают предками ксенунгулят и пиротериев кондиляртр.) Учитывая, что грызуны с зайцеобразными возникли чуть позже, чем “архонты” разделились на тупай, шерстокрылов и приматов, но из того же филогенетического ствола, анагалид можно рассматривать как потомков тех же древних “архонт”. Не зря некоторые систематики включают в когорту или надотряд Anagalida прыгунчиков, грызунов и зайцеобразных и объединяют их с Euarchonta (в отличие от Archonta, сюда не входят рукокрылые, но входят тупайи, шерстокрылы и приматы) в более крупный таксон Unguiculata. В некоторых системах прыгунчики оказываются в стороне, тогда Anagalida называется Glires, Euarchonta – Primatomorpha, а Unguiculata – Euarchontoglires. Однако ж всё это – спор о словах, сути филогении это не меняет. Палеоценовые анагалиды жили в Азии и там могли в некоторой степени заменять приматов, хотя уже говорилось, что их экологические отличия достаточно очевидны. Вероятно, некоторые анагалиды выкапывали еду из земли, хотя в пределах отряда имеется достаточное разнообразие.
Прыгунчики Macroscelidea – особая тема. Эти небольшие зверушки традиционно относились к насекомоядным, на основании наличия слепой кишки они сводились с тупайями в группу Menotyphla, по строению предплюсны объединялись с зайцеобразными, по строению черепа, зубов и по эмбриологическим данным включались в анагалид, палеонтологические данные роднят прыгунчиков с палеоценово-эоценовыми североамериканскими кондиляртрами семейств Apheliscidae или, менее вероятно, Hyopsodontidae (и даже конкретнее – подсемейства Louisininae). Генетические данные – теоретически самые точные – выносят их в афротериев – группу африканского происхождения. Одно из наглядных отличий строения прыгунчиков от насекомоядных – большие размеры глаз, а поведения – дневной образ жизни; сходство с тупайями вообще довольно отдаленное. Показательно, что наиболее родственные прыгунчикам кондиляртры семейства Apheliscidae – Apheliscus и Haplomylus – одновременно весьма напоминают ежиных рода Macrocranion (Penkrot et al., 2008), а строение древнейших эоценовых прыгунчиков позволило предположить их близкое родство с Hyopsodontidae (Simons et al., 1991; Tabuce et al., 2001), тогда как его представители Hyopsodus и Sarcolemur первоначально были описаны как примитивные приматы. Посему совсем не странно, что, несмотря на генетическое расхождение, масса особенностей прыгунчиков сближает их с приматами.
Важным представляется сравнительно сильное развитие головного мозга и относительно сложное поведение. Однако существенно, что прыгунчики рано специализировались к прыганию по земле, отчего берцовые кости срослись, а большие пальцы и на кистях, и на стопах редуцировались; кости предплечья прижаты друг к другу, отчего способности к вращению кисти назад-вперед (пронации-супинации) резко ограничены. Понятно, что хватательная функция кистей в итоге почти отсутствует. Прыгунчики с самого своего возникновения и доныне питались преимущественно насекомыми, хотя некоторая доля растительной пищи в рационе тоже имеется; наличие слепой кишки, в отличие от ежей и землероек, показывает, что значение растительной пищи в прошлом могло быть большим, чем сейчас. Миоценовый род Myohyrax имел зубы, подобные зубам грызунов и приспособленные к перетиранию растительной пищи, так что прыгунчики принципиально не были заперты в эволюционном тупике специализации. Такая смешанная диета вполне вероятна для древнейших приматов, но наши предки забрались на деревья, а прыгунчики освоили землю.
Впрочем, природа богата на выдумки. Древесные родственники у прыгунчиков тоже имеются – среди тенреков Tenrecidae. По ряду черт тенреки крайне архаичны; например, у них имеется клоака, но нет мошонки, а обмен веществ очень низкий, так что они почти холоднокровны. Хватает и специализаций: у тенреков нет скуловой кости, ежовые и полосатые тенреки Echinops telfairi, Setifer setosus и Hemicentetes semispinosus обзавелись иглами наподобие ежей, в засушливый сезон многие виды впадают в спячку. Тенрековые вообще весьма разнообразны: среди них есть аналоги опоссумов и ежей, землероек и кротов, выхухолей и выдр. Питание у всех преимущественно насекомоядное, хотя при случае едят плоды; образ жизни ночной. Древесные виды принципом своей организации напоминают предков приматов.
Любопытно, что тенреки миллионы лет сосуществуют на Мадагаскаре и в Африке с лемуровыми. Однако ж тенреки и лемуры не конкурируют напрямую и не вытесняют друг друга. Тенреки в среднем мельче и более насекомоядны, а главное – у них куда более многочисленное потомство. Хотя есть виды, у которых бывает 1–4 детеныша, у большинства их – около десятка, а рекорд принадлежит обыкновенному тенреку, рожающему до 32 малюток. Неслучайно и количество сосков у этого вида – 29 – рекордно для млекопитающих. Понятно, что при максимальных длине и весе взрослых тенреков около 40 см и 2,5 кг (обычно же – в полтора раза меньше) размер детенышей крайне невелик, есть проблемы и с качеством воспитания. При продолжительности жизни максимум несколько лет (в неволе – до полутора десятков лет) возможности нарастить сколь-либо значимый мозг и обзавестись богатым жизненным опытом стремятся к нулю. Все эти показатели крайне контрастируют с лемурами, у большинства из которых обычно рождается один детеныш с максимумом у карликовых и мышиных лемуров, которые могут иметь до четырех (хотя чаще у них рождается двойня). При этом лемуры в среднем заметно крупнее тенреков, а продолжительность их жизни – больше 20 или даже 30 лет – гораздо внушительнее, отчего размеры мозга велики уже при рождении и заметно увеличиваются после. Ни один самый седобородый тенрек-аксакал не дотянет до среднего возраста лемура. Как итог – социальное поведение тенреков и лемуров несопоставимо. Некоторые виды тенреков социальны, но выражается это лишь в том, что для сна несколько зверьков сцепляются в один шар, а кормятся они все же поодиночке. Не все лемуры общительны, но некоторые виды демонстрируют такой уровень социальности, какой тенрекам и не снился.
Группа афротериев Afrotheria вообще представляет уникальный пример возникновения крайне разнородных групп из одного корня. Корень этот разветвился в Африке примерно тогда же, когда в Евро-Америке возникли эуархонты-приматоморфы или даже конкретно приматы, однако последние остались гораздо однообразнее. Афротерии же дали наземных насекомоядных прыгунчиков Macroscelidea, подземных златокротов Chrysochloridae, роющих, наземных, древесных и полуводных тенреков Tenrecidae, трубкозубов Tubulidentata, даманов Hyracoidea, хоботных Proboscidea и сугубо водных сирен Sirenia. Уже по такому соотношению видно, что афротерии развивались в первоначальной изоляции от других групп млекопитающих. Видимо, в меловом периоде в Африке сложилась ситуация, аналогичная более поздней “великолепной изоляции” южноамериканской фауны. Приматоморфы же жили в окружении прочих бореоэвтериев, которые не давали им занять новые экологические ниши (если не считать адаписорикулид предками приматов). Приматы очень рано – уже в среднем палеоцене, 57–60 млн лет назад, – появились в Африке; характерно, что древнейшая находка сделана в Марокко – Altiatlasius koulchii. Видимо, к этому времени афротерии были уже достаточно разнообразны и развиты, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе бореоэвтериям, но аналогов приматов среди афротериев еще не было. История повторилась 26–27 млн лет назад в Южной Америке – предыдущих миллионов лет не хватило, чтобы из опоссумов или грызунов возникло что-то подобное приматам.
Впрочем, в палеоцене разница афротериев и бореоэвтериев была слишком незначительной. И древнейшие прыгунчики (Chambius kasserinensis из нижнего-среднего эоцена Туниса, Nementchatherium senarhense из среднего-позднего эоцена Алжира, Herodotius pattersoni из позднего эоцена Египта), и древнейшие слоны (Eritherium azzouzorum из начала позднего палеоцена – 60 млн лет назад, Phosphatherium escuillei с границы палеоцена и эоцена – 56 млн лет назад, оба из Марокко, а также многочисленные роды и виды из эоцена Алжира, Египта и Ливии) обнаруживают явное родство с североамериканскими кондиляртрами (Gheerbrant, 2009; Gheerbrant et al., 1996; Hartenberger, 1986; Penkrot et al., 2008; Simons et al., 1991; Tabuce et al., 2001 и др.), причем хотя все они известны и из Африки, но из самой северной ее части.
Древнейший неназванный даман известен с границы палеоцена и эоцена Марокко, Seggeurius amourensis жил в нижнем эоцене Алжира (Court et Mahboubi, 1993; Barrow et al., 2010), более поздние эоценовые роды тоже североафриканские – из Марокко, Алжира, Туниса, Египта; их строение не свидетельствует очевидным образом о родстве с кондиляртрами, хотя таковое часто постулируется. Древнейшие тенрекоподобные животные (Todralestes variablis из позднего палеоцена Марокко, Dilambdogale gheerbranti из позднего эоцена Египта, а также более поздние Widanelfarasia и Qatranilestes оттуда же) тоже известны из Северной Африки, хотя ближе к адаписорикулидам Индии, Северной Африки и Европы, нежели кондиляртрам (Seiffert, 2010). Трубкозубы – самые специализированные из афротериев – не обнаруживают с прочими представителями этой группы какого-либо морфологического сходства, а происхождение их крайне туманно, поскольку все ископаемые формы очень поздние и очень похожи на современного трубкозуба. При всем этом происхождение трубкозубых от кондиляртр не вызывает у палеонтологов сомнений, а совпадения в строении с панголинами могут быть отнесены на счет конвергенции.
Учитывая, что кондиляртры были широко распространены в Азии, Европе, Северной и даже Южной Америке, все это может свидетельствовать о евро-американском либо азиатском происхождении афротериев или вообще полифилии этой группы. Близкие к предкам слонов кондиляртры жили в Азии: например, фенаколофиды Phenacolophidae, из которых древнейшая – Minchenella grandis – известна из позднего палеоцена Китая, а чуть более поздний монгольский Phenacolophus родственен также эмбритоподам Embrithopoda, примитивнейшие представители которых найдены в Румынии и Турции, а в развитом виде – в Египте; антракобуниды Anthracobunidae, которые обычно относятся непосредственно к хоботным, появляются в раннем эоцене Пакистана (Wells et Gingerich, 1983). Фенаколофиды и антракобуниды, правда, могут быть предками не хоботных, а десмостилий Desmostylia (известных только с северных побережий Тихого океана), но в любом случае родственны. Схожая с кондиляртрами примитивнейшая среднеэоценовая сирена Prorastomus с Ямайки и другие эоценовые сирены имели пятый премоляр, тогда как у всех кайнозойских млекопитающих он исчез, так что отхождение линии сирен от прочих афротериев надо бы относить к меловому периоду.
Значит ли вся совокупность этих данных, что часть кондиляртр в генетическом отношении была афротериями? Надо ли относить корень афротериев в меловой период или эоцен? И возникли ли они в Африке, ведь родственные группы обнаруживаются и в Индии, и в Азии, и в Европе, и в Северной Америке? Или кондиляртры в принципе сборная группа, объединяемая палеонтологами скорее в силу недостатка сведений? Как понимать генетическое родство афротериев, если их палеонтологические корни столь разлаписты? В любом случае очевидно близкое сходство и, вероятно, родство мелких всеядных наземных и лазящих млекопитающих даже в эоцене, не говоря уж о меловом периоде и палеоцене.
Почему южноамериканские звери не стали разумными?
Происхождение афротериев от единого предка, отстаиваемое генетиками, еще требует серьезного палеонтологического подтверждения и обоснования. По другую сторону Атлантического океана “великолепная изоляция” сработала гораздо однозначнее. Конечно, речь о зверях Южной Америки.
Древние южноамериканские фауны характеризуются изобилием экзотических отрядов копытных Meridiungulata: нотоунгуляты Notoungulata, астрапотерии Astrapotheria, пиротерии Pyrotheria, ксенунгуляты Xenungulata и литоптерны Litopterna заполоняли пампасы и леса; иногда выделяются и другие группы. Удивительно, но среди великого разнообразия всех этих полуфантастических зверей так и не возникли аналоги приматов. Были псевдолошади, псевдоверблюды, псевдоносороги, псевдослоны, псевдодаманы, псевдохаликотерии и масса прочих существ, конвергентных со “старосветскими”, но “псевдоприматы” нам неизвестны. С одной стороны, этот факт облегчил жизнь первым широконосым приматам, с другой – остается вопрос: почему?
Южноамериканские кондиляртры быстро разделились на массу копытных отрядов, большей частью крупноразмерных, грызуны хорошо освоили нишу мелких и средних растительноядных, но при великих возможностях, предоставляемых пышной тропической флорой, почти не дали древесных форм (только древесных дикобразов Erethizontidae), тем более не развились во фруктоядных и с быстрой локомоцией. Может, южноамериканские грызуны не могли преодолеть конкуренцию опоссумов? Сомнительно. О конкуренции со стороны ленивцев речь вообще не идет. Вероятно, грызуны уже были заметно специализированы к моменту попадания в Южную Америку и не смогли эффективно перестроиться.
Может быть, ранние этапы заселения плацентарными Южной Америки пришлись на время, когда там преобладали степные ландшафты, а к моменту значительного расширения лесов фауна уже сильно специализировалась к наземной жизни? Такое предположение подтверждается великим разнообразием крупных южноамериканских копытных, адаптированных к жизни в открытой местности. Не исключено также, что мы просто не знаем этих древних древесных грызунов Южной Америки, как это часто бывает с лесными лазящими формами по чисто тафономическим причинам; однако приматы нам известны из нескольких местонахождений, и неочевидно, почему там не могли сохраниться останки других древесных животных. В любом случае уровень интеллектуального развития южноамериканских млекопитающих был явно ниже, чем у прибывших сюда в эоцене обезьян.
Неполнозубые-ксенартры Xenarthra всегда имели крайне примитивный мозг. Однако потенциально у них не раз возникали неплохие шансы для “приматизации”. Древесный образ жизни в сочетании с питанием высококалорийной пищей – как раз подходящий вариант. Муравьеды Vermilingua – тамандуа и карликовый, равно как и некоторые панголины Pholidota (африканские и азиатские животные) приспособились к этому неопределенно давно, начало их специализации может восходить чуть ли не к меловому периоду. Учитывая великую роль питания термитами в становлении всеядности и трудовой деятельности австралопитеков и “ранних Homo” (Длусский, 1980; Backwell et d'Errico, 2001), можно было бы ожидать от муравьедов и панголинов некоего интеллектуального уровня, но увы! И те и другие числят ближайших родственников среди наземных роющих животных и имеют самое архаичное строение среди плацентарных: примитивную плаценту, очень простой мозг. Масса специализаций не позволяет надеяться на сколь-либо “разумное” будущее этих зверей. Тем более мало шансов у броненосцев Dasypodidae и ленивцев Bradypodidae – крайне специализированных зверей. Возможно, чуть больше шансов было у гигантских наземных ленивцев Megalonychidae, Megatheriidae и Mylodontidae, тем более что некоторые их группы демонстрировали удивительную экологическую пластичность, дав, в частности, плавающие морские формы Nothrotheriinae (Muizon et McDonald, 1995). Впрочем, гигантские размеры в сочетании с растительноядностью всегда заводили животных в эволюционный тупик.
Афротерии, неполнозубые-ксенартры и южноамериканские копытные в генетическом плане отдаленная родня, иногда объединяемая в рамках группы атлантогенат Atlantogenata. Как было показано выше, во всех этих группах “приматизация” упорно не шла. Среди всего разнообразия атлантогенат лишь слоны могут похвастаться недюжинным интеллектом, но, скорее всего, это просто побочный эффект очень больших размеров, примерно как и в случае с китообразными. Огромные размеры слонов и их бесчисленные специализации – тумбообразные ноги, хобот, бивни, тяжелые челюсти – не оставляют надежд на появление у них настоящего разума.
Глава 21 Немножко географии
Палеоценовый мир был разделен на несколько больших географических областей. Южная Америка, Антарктида и Австралия представляли собой уже независимые части былой Гондваны, которым позже не суждено было вновь соединиться. Северная Америка, хотя и была отделена мелководным морем от Европы, все же населялась родственными фаунами (обмены фаун Европы и Северной Америки констатируются еще в конце мелового периода: Martin et al., 2005). Между Азией и Европой плескались воды широкого пролива, так что Азия существовала сама по себе, хотя в последующем соединилась с Северной Америкой. Индия плавала посреди океана, а в эоцене воткнулась-таки в Азию. Африка, почти перерезанная вдоль глубоким заливом на месте Сахары, лежала недалеко от Европы, но напрямую с ней не сообщалась, а между Африкой и Азией тянулась цепь островов наподобие современной Индонезии. В каждой из этих областей возникли свои фауны, в каждой из которых возникли во многом похожие формы.
Приматоморфы зародились в Северной Америке; судя по тому, что в среднем палеоцене приматоморфы добрались уже и до Африки, в Европе в это время они тоже должны были быть, а в позднем палеоцене они известны в Европе сразу во множестве форм. В Азии приматы, возможно, появились тоже в среднем палеоцене, но китайский Decoredon anhuiensis может быть как омомидом, так и анагалидом, и, с очень большой вероятностью, кондиляртром (возможно даже – уже поминавшегося семейства Hyopsodontidae). Достоверные приматы в Китае отмечены в позднем палеоцене, хотя вначале они там крайне немногочисленны и почти идентичны североамериканским. На Индостанском острове приматоморфы появились как минимум в раннем эоцене, если не принимать в расчет спорных адаписорикулид. Фаунистические связи работали в разных направлениях, и трудно разобрать, насколько реконструированная зоогеографическая схема соответствует действительности.
В палеоцене в разных регионах имелись свои потенциальные “приматы”: в Азии – анагалиды, в Африке – тенреки, в Южной Америке – опоссумы, в Австралии – кускусы. И лишь в Европе и Америке зародилась группа приматоморфов. Только на границе палеоцена и эоцена – с глобальным потеплением и распространением тропических лесов – возникают настоящие приматы адапиформы Adapiformes и омомиформы Omomyiformes, которые чрезвычайно быстро расселились по Азии и Африке и дали в последующем все более поздние группы. Приматы стали приматами в результате целого ряда конкретных обстоятельств. Огромную роль сыграли первичные морфологические и этологические специализации и конкурентные взаимоотношения с другими млекопитающими и птицами. Не будь великого множества прочих животных, приматы так никогда бы и не ступили на путь “приматизации” и никогда не увенчались бы разумным “венцом”.
Глава 22 Кем приматы стали и кем не смогли
Почему же именно приматы вылавировали между крайностями насекомоядных, грызунов, травоядных и хищников и пошли по пути развития интеллекта? Ведь задел у всех был один!
Среди приматов можно найти примеры конвергенции с самыми разными животными. Руконожка ай-ай Daubentonia madagascariensis имеет постоянно растущие резцы, как у грызунов. Мадагаскарские палеопропитеки Palaeopropithecus и бабакотии Babakotia, вымершие уже в историческое время, пропорциями конечностей и способом локомоции мало отличались от ленивцев. Мартышки-гусары Erythrocebus patas и мезопитеки Mesopithecus скорее напоминают в этих отношениях газелей, а галаго Galago – тушканчиков. Зубы гигантопитеков Gigantopithecus на удивление похожи на зубы крупных травоядных, причем не только копытных, но и ископаемых гигантских панд. Мандрилы Mandrillus имеют впечатляющие клыки, по сути это саблезубые обезьяны. Конвергенция касается не только строения, но и поведения. Так, жирохвостые лемуры Cheirogaleus впадают в спячку на сухой сезон, как делают и многие другие животные в неблагоприятные времена. Образ жизни и способ добывания пищи современных горилл Gorilla и, возможно, гигантопитеков Gigantopithecus напоминают таковые халикотериев Chalicotheriidae, гигантских наземных ленивцев Megatherioidea и, в меньшей степени, нотоунгулятных хомалодотериев Homalodotheriidae Южной Америки. Так что у приматов было много адаптационных возможностей, которые они успешно использовали!
Однако весьма поучительно знать не только экоформы, приобретенные приматами, но и те, которыми приматы так никогда и не стали. Рассмотрение таковых показывает ограниченность экологической пластичности приматов и одновременно подчеркивает специфику этого отряда.
При всем разнообразии среди приматов ни разу не возникли специализированные водные формы. Носачи Nasalis larvatus, переходящие затопленные мангровые заросли по пояс в воде, макаки-крабоеды Macaca fascicularis, добывающие пищу в воде, и целебесские макаки Macaca nigra, плещущиеся в морском прибое, даже не повод для сравнения с выхухолями, бобрами и капибарами. Приматы с самой своей зари были столь далеки от воды, что за десятки миллионов лет не смогли полюбить ее всей душой. Человек в этом смысле большое исключение, хотя и он стал человеком тогда, когда вышел осваивать горизонты саванн, а не морские просторы. Многочисленные модные домыслы о невероятной связи человеческих предков с водой, вплоть до постулирования необычайного родства с дельфинами, не имеют под собой особых оснований.
Не освоили приматы и роющий образ жизни, столь любимый ближайшими родственниками – насекомоядными и грызунами. Древнейшие специализированно-роющие звери известны уже из верхней юры – это Fruitafossor windscheffeli из Колорадо (Luo et Wible, 2005) и Docofossor brachydactylus из Китая (Luo et al., 2015). Современные шахтеры и спелеологи – первый шаг в столь новой для приматов области, как недра Земли, но внутренние сомнения не дают поверить в скорое эволюционное обособление морлоков.
Приматы не стали хищными. Конечно, приматы возникли из насекомоядных существ и почти все не против съесть кого-нибудь не слишком опасного, но избыточной свирепостью обезьяны никогда не отличались, ведь и самые хищно настроенные долгопяты, лори и галаго постоянно едят фрукты. Человек – максимальное приближение к идеалу плотоядного, но даже светлый образ неандертальца-суперхищника в последнее время оказался замутнен фактом варки каш из ячменя и поедания фиников, бобов, кувшинок и сорго (Henry et al., 2011).
Приматы никогда не дали крупных наземных травоядных. Гориллы и особенно гигантопитеки, сколь бы велики и растительноядны они ни были, не могут сравниться с антилопами, носорогами и слонами; да и гориллы при всей своей тяжести не выходят из густых лесов и отлично лазают по деревьям, если те достаточно прочные. Приматы с самого начала своей эволюции не умели жить на земле. Показательно, что даже на Мадагаскаре с его бедной на хищников фауной лемуры не дали полноценных наземных видов. Лишь несколько приматов спустилось с деревьев, и лишь один – человек – окончательно и бесповоротно (впрочем, из окна биофака каждую осень я наблюдаю студентов на яблонях, опровергающих сей тезис). Даже галаго, столь похожие на тушканчиков и живущие в буше, скачут в основном по ветвям, а не под ними. Этим приматы основательно отличаются от всех близких групп млекопитающих – грызунов, насекомоядных, афросорицид, ископаемых кондиляртр, лептиктид и многих прочих, включая даже тупай. Лишь шерстокрылы и летучие мыши сопоставимы с приматами по степени “отрыва от почвы” и даже превзошли их в этом, но шерстокрылов всего два вида, а летучие мыши оторвались не только от почвы, но и от деревьев.
Учитывая все вышесказанное, нельзя согласиться с часто приводимым рассуждением, что приматы – удивительно неспециализированные и генерализованные, что они “сделали ставку на специализацию к неспециализации”, что они адаптируются силой мысли, а не морфологически. Среди мира млекопитающих приматы заняли вполне определенную экологическую нишу, которую ревниво оберегали весь кайнозой, крайне редко покушаясь на чужие вотчины. Приматы за свою историю дали массу удивительно специализированных форм; с другой стороны, многие древние и современные животные гораздо менее специализированы.
Секрет успеха приматов кроется в сочетании специализации к древолазанию и всеядности (с уклоном в растительноядность) с сохранением заметной доли экологической пластичности. Жизнь в трехмерном мире на ветках деревьях привела к развитию зрительного и тактильного анализаторов с подавлением обонятельного, заставила напрягать мозги и пользоваться руками; одновременно не дала конечностям закостенеть и специализироваться по пути срастаний и редукций элементов. Разнообразное и достаточно калорийное питание способствовало загрузке мозга нестандартными задачами и обеспечению энергетики для их решения. Не слишком малые размеры тела, малое число детенышей и большая продолжительность жизни обеспечили возможности развития крупного мозга и наполнения его богатой информацией – жизненным опытом. В комплексе с высоким уровнем социальности это дало приматам возможность развития интеллекта вплоть до человеческих высот и, хочется верить, бóльших.
Вершина эволюции Часть шестая, опять недлинная, оставляющая в терпеливом Читателе смешанные чувства, ибо в ней говорится о том, почему Читатель – не Пуп Земли
Человеку свойственно считать себя венцом творения, вершиной эволюции, старшим братом братьев наших меньших – в общем, пупом Земли. Об этом рассказывает множество преданий, мифов и легенд, в которых подчеркивается момент получения специфики, отличающей человека от прочих живых существ. Научный взгляд на мир, надо признаться, в этом отношении недалеко ушел от религиозного. Обычно черты, отличающие человека от животных, априори признаются прогрессивными, а сближающие – примитивными. Признаюсь, такой терминологией часто пользуюсь и я сам. Удивительно, но признаки, отличающие какой-либо другой вид от прочих, обычно называют специализированными, но этот термин крайне редко применяется в отношении человека. В чем же здесь хитрость?
Наверное, стоит четко определить значения слов.
Примитивным обычно называется признак, присутствовавший у предков ныне живущих организмов, но изменившийся или исчезнувший у многих из них.
Прогрессивными стоит называть вновь возникающие признаки, дающие возможность выхода вида на новые просторы эволюции.
Специализированным является признак, который не может богато изменяться в будущем, а потому заводит вид в эволюционный тупик.
Посмотрим, как же распределяются видоспецифические признаки человека, благо таковых не столь уж много.
Большие размеры мозга – как абсолютные, так и относительные – без сомнения, могут считаться величайшим человеческим достижением. Впрочем, тут важно именно сочетание обоих показателей. Абсолютный размер мозга вдвое больше человеческого у дельфинов, китов и слонов, а относительный – показатель церебрализации – значительно “прогрессивнее” у колибри, землероек, мышей, а среди приматов – например, у паукообразных обезьян и тамаринов. Ясно, что гигантский мозг гигантских китов занят в основном обслуживанием чувствительности и моторики, а “относительно гигантский” мозг землероек очень уж мал абсолютно. Таким образом, надо говорить о прогрессивности человека не по размерам мозга в целом, а по более существенным показателям – проценту новой коры или проценту ассоциативных нейронов. К сожалению, достоверно оценить их развитие в сравнительном аспекте очень трудно. Даже процент коры лобной доли, который, казалось бы, можно просто измерить в линейных размерах, площади или объеме, оценить можно по-разному. Так, по некоторым расчетам, человек не отличается по относительным размерам лобной доли от мартышкообразных; впрочем, другие исследователи эти выводы отвергают. Согласно самым точным оценкам, полученным путем томографического исследования мозга, человек по объему неокортекса, особенно в лобной доле, резко превосходит всех прочих приматов. У человека идеальное сочетание больших абсолютных размеров и больших относительных размеров мозга, хотя по каждому из этих показателей человек – не рекордсмен. Однако можно ли расценивать современного человека как прогрессивного в этом отношении?
Выше уже говорилось, что средний размер мозга мужчин неандертальцев и кроманьонцев превосходил величину современных мужчин. Объяснения приводились разные, но факт остается фактом: за последние пару десятков тысяч лет размер мозга довольно заметно уменьшился, так что его современную величину никак нельзя рассматривать как однозначно прогрессивную.
Крупный мозг трудно расценивать как прогрессивный орган и по причине его крайней энергоемкости: сложно представить, какие могут быть широкие эволюционные перспективы у такой особенности. Разум – это не приз в гонке, гораздо закономернее расценивать его как причудливую специализацию, вроде хобота слона или длинных ног тушканчика.
С большими размерами и энергозатратностью мозга человека связано увеличение синусной системы и количества питательных отверстий в костях черепа. Из-за изменения конфигурации затылка у современного человека сильнее изогнут сигмовидный синус, даже в сравнении с неандертальцами. Но все эти отличия второстепенны и не могут рассматриваться как прогрессивные на тех же основаниях, что и их первопричина – увеличение мозга.
Косвенно к изменениям нервной системы относится полное исчезновение вибрисс, имеющихся у шимпанзе. Вероятно, это связано с редукцией шерсти и, соответственно, увеличением чувствительности непосредственно кожи. Либо же выход в открытые местообитания вкупе с прямохождением вознесли лицо так высоко от всего, к чему вибриссы могли прикоснуться, что они просто стали бесполезны. Как бы то ни было, исчезновение органа и вида чувствительности вряд ли можно считать прогрессивной новацией.
Следующая богатая группа признаков связана с прямохождением. Сюда относятся, в частности, смещение большого затылочного отверстия на середину основания черепа, шейный и поясничный лордозы позвоночника – его изгибы вперед, короткий и широкий крестец, широкая и уплощенная спереди назад грудная клетка со сросшимся телом грудины, широкая низкая форма таза и его специфическая ориентация, продольный и поперечный своды стопы, консолидация стопы с нехватательным большим пальцем и редукцией других пальцев, латерализация стопы – усиление первой и пятой плюсневых костей, редукция волосяного покрова и усиление потоотделения. Насколько прогрессивны эти признаки? С медицинской точки зрения весь этот комплекс – сплошной регресс, поскольку сопровождается многочисленными нарушениями в функциях. Вертикальный позвоночник с лордозами чреват межпозвоночными грыжами и защемлениями нервов; поднявшееся сердце – варикозом вен ног; нестандартно повернутый таз – или ноги, нестандартно повернутые относительно таза, – вкупе с большой головой младенца приводят к большим проблемам при родах, выпадениям матки и прямой кишки; своды стопы норовят выпрямиться и достичь стабильности в плоскостопии; редукция шерсти с тоской вспоминается долгими зимними вечерами, а о повышенном потоотделении даже говорить страшно. Кроме всего этого, человек резко проигрывает в скорости передвижения всем животным аналогичного или большего размера и большинству – меньшего размера, включая, например, кошек. Выигрывает, впрочем, в выносливости, хотя верблюды могли бы поспорить.
С эволюционной точки зрения тоже не все однозначно. Поясничный лордоз есть у некоторых крупных горилл, у них же может срастаться тело грудины. Таз у афарского австралопитека “Люси” и всех известных архантропов был относительно ниже и шире, чем у современного человека, так что современное состояние можно расценивать как некоторый шаг обратно – к проконсулам. По степени консолидации стопы и редукции пальцев лошади, коровы и страусы на суше, а по степени латерализации – моржи с тюленями на море оставили нас далеко позади. Можно, конечно, говорить, что копыто лошади и ласта тюленя – тупиковая специализация, а у человека стопа благородно-прогрессивна, но в действительности человеку просто, видимо, не хватило десятка-другого миллионов лет до превращения стопы в идеальную точку опоры непарно– или парнокопытного образца. У всех наземных бегающих существ число пальцев со временем уменьшается, неясно, почему человек должен быть исключением. Впрочем, человек имеет культуру и предвосхитил слишком медленную эволюцию, создав себе искусственное копыто – ботинок. Однако даже в обуви человеку далеко до совершенства ноги копытных. Одновременно вихляющее устройство голеностопного сустава гарантирует вывихи даже на ровном месте. По большому же счету всем ясно, что гораздо надежнее вообще никуда не бежать, а прикрепиться к почве прочным стебельком и стать божьим одуванчиком – морские лилии обставили нас еще в ордовике.
Редукция шерсти типична для всех крупных наземных зверей саванны; в таком крайнем выражении, как у человека – с полным исчезновением пуховых волос, – она может расцениваться только как специализация, ограничивающая эволюционные возможности в будущем. Кроме того, число волос на квадратный сантиметр у человека такое же, как у шимпанзе, так что речь идет либо о редукции пуховых волос еще до появления человека, либо об именно видоспецифическом уменьшении размеров волос, но не их числа.
Двуногость в целом, конечно, послужила, казалось бы, необходимым условием для освобождения рук и трудовой деятельности, и этим плюсом все его минусы должны быть списаны. Однако, с одной стороны, многообразные двуногие динозавры, птицы, тушканчики и кенгуру являют пример того, что бипедия – недостаточное условие развития трудовой деятельности. С другой же стороны, вполне четвероногие обезьяны и даже еноты делают руками очень многое, а попугаи выполняют то же самое клювом. Шимпанзе могут пользоваться орудиями, используя четыре конечности – это куда как удобнее, чем двумя. Тонкость в том, что двуногость позволяет специализировать руку под орудийную деятельность, а обезьяньи кисти должны быть в первую очередь функциональными ходилками-цеплялками.
Тут мы переходим к следующей особенности человека – трудовой кисти. В ее комплексе особенно обращают на себя внимание противопоставление большого пальца с седловидным суставом первой пястной и кости-трапеции, широкая ладонь, а также сохранение всех пяти пальцев – прямых, длинных, подвижных, способных к точечному захвату, с расширенными и укороченными конечными фалангами. Прогрессивность такой кисти может быть поставлена под сомнение. С одной стороны, давно отмечено, что пятипалость – генерализованное (читай, примитивное) состояние. С другой стороны, у многих приматов кисть видоизменилась по сравнению с крысоподобным изначальным состоянием гораздо больше, чем у человека. Примеров множество – от потто и руконожек через паукообразных обезьян и колобусов до гиббонов, орангутанов, горилл и шимпанзе. Хватательная кисть – особенность всех приматов; можно в этой связи опять помянуть енотов и попугаев. Большой палец у потто противопоставляется гораздо противопоставленнее, чем у человека, что обусловлено, правда, редукцией указательного пальца. У некоторых неандертальцев большой палец противопоставлялся при плоском или шаровидном первом пястно-запястном суставе – обычно это расценивают как минус, вызывавший необходимость больших мышечных усилий и уменьшение точности движений, но наличие тонкой ретуши на некоторых мустьерских орудиях говорит само за себя, а с другой стороны – чем плоха сильная кисть? Крепкое мужское рукопожатие всегда предпочиталось вялому и безвольному, а уж кто-кто, а неандертальцы могли крепко пожать руку! У руконожки пальцы длиннее и подвижнее, чем у человека. У долгопята конечные фаланги пальцев не в пример шире и уплощеннее человеческих. Редукция большого пальца у древесных видов обезьян, конечно, всеми справедливо расценивается как специализация, но кисть гоминоидов, приспособленная к опоре на фаланги согнутых пальцев, однозначно ушла от варианта проконсула дальше, чем человеческая. Эксперименты показывают, что к точечному захвату способны даже макаки, хотя осуществляют его редко. Таким образом, кисть человека представляет мозаику многих примитивных и нескольких специализированных признаков, но прогрессивных – открывающих новые горизонты эволюции – в ней, возможно, вовсе нет.
Грацилизация черепа – прогрессивный признак, красной нитью проходящий по всему антропогенезу. Очевидно, ей – в совокупности со смещением сроков зарастания швов с детства на взрослый период жизни – мы обязаны большим мозгом. Однако малая толщина свода черепа типична для всех полуобезьян, широконосых, мартышкообразных и гиббонов. Древнейшие известные крупные человекообразные тоже часто имели малую или умеренную толщину свода; для проконсулов это типичное состояние; не слишком толсты кости свода у ранних австралопитеков и хабилисов. Правда, в эволюции приматов и человека были этапы значительного утолщения свода – понгиды, грацильные и массивные австралопитеки, эректусы, гейдельбергенсисы и палеоантропы отличаются большой толщиной костей. Таким образом, тонкие стенки костей свода в действительности не прогрессивный, а архаичный признак, несколько раз склонявшийся к специализации в виде утолщения, а потом снова возвращавшийся в исходное состояние. Ровно то же самое можно повторить о надбровном, теменном, височном и затылочном рельефе черепа. Ясно, что приматы с тонким черепом и слабым рельефом имеют обычно небольшие размеры, а человек попадает совсем в иную весовую категорию. Поэтому правильнее говорить не о грацилизации, а о возврате к архаичному варианту при увеличении размеров, что для приматов, конечно, необычно.
Действительно прогрессивным можно считать позднее зарастание швов черепа – эта особенность резко отличает человека от прочих приматов и даже всех млекопитающих. Одновременно она потенциально может привести к появлению новых вариантов строения – например, новых костей свода, что является необходимым элементом определения прогрессивности. Впрочем, кости основания черепа – височная, клиновидная, затылочная – у человека срастаются капитальнее, чем у многих млекопитающих, обеспечивая прочный фундамент для больших мозгов.
Один из самых заметных – по причине нахождения на лице – сапиентных признаков – подбородочный выступ. Много было написано о вероятных причинах его появления и значении; в популярной литературе стойко бытует утверждение о связи подбородка со способностью к речи. В некоторых книгах это утверждение приобретает чуть ли не мистический смысл. Связь на самом деле есть, но она косвенная. С ходом прогресса жить становилось все лучше, большие зубы были уже не нужны, они уменьшались. Но укоротить всю челюсть было нельзя, ведь к задней стороне подбородка крепятся мышцы подъязычного аппарата. Если бы они стали короткими, то подвижность гортани тоже уменьшилась бы и люди не смогли бы говорить. А говорить хотелось. Поэтому отбор продолжал укорачивать челюсть по верхнему краю, но оставил ее длинной по нижнему, отчего передняя часть нижнего края оказалась выступающей вперед в виде подбородочного выступа. Альтернативой было бы удлинение шеи (и оно действительно осуществилось), но при выросшем шибко умном мозге беспредельно вытягивать шею просто опасно – как бы голова не отвалилась. То есть подбородочный выступ – признак весьма второстепенный, не имеющий собственного эволюционного значения, кроме разве что участия в половом отборе уже после своего появления. Он появляется автоматически как побочный эффект необходимости говорить вкупе с редукцией зубов. Но такое же, если не большее, удаление подбородка и гортани достигается и без подбородочного выступа на длинной челюсти неандертальцев с крупными зубами. С другой стороны, можно вспомнить некоторых ископаемых рептилий, например Ulemica invisa, у которых тоже имелся немалый подбородочный выступ, не сделавший их при этом особо болтливыми (хотя кто знает, может, оттого они и вымерли? много болтали?..). Имеется подбородочный выступ и у мандрила. Кстати, редкие случаи отсутствия сего украшения у современных людей не приводят к потере способности к речи. Несущественность в видовом масштабе, впрочем, не снижает принципиальной важности волевого подбородка для генералов и голливудских суперменов.
Уменьшение размеров и даже числа зубов часто рассматривается как прогрессивная человеческая черта. Интересно, морда муравьеда фантастически прогрессивна или все же специализирована? Небольшие размеры клыков, не выступающих за уровень других зубов, и, соответственно, исчезновение межзубных промежутков-диастем – типичные черты гоминид. Однако процесс редукции клыков зашел гораздо дальше – вплоть до полного отсутствия – у многих копытных, а из приматов – у руконожки. Ясно, что гигантские – на уровне саблезубости – клыки некоторых ископаемых и современных павианов – это специализация. Отсутствие клыков у руконожки – тоже специализация. Но вопрос: где “золотая середина” – у мартышек или человека? Не слишком большие клыки мартышек могут уменьшаться, а могут и увеличиваться в дальнейшей эволюции. Клыки людей явно только уменьшаются последние 4 млн лет, а у некоторых людей уже встречается их врожденное отсутствие. Так где бóльшие эволюционные возможности? Можно, конечно, утверждать, что уменьшение клыков привело к усилению способностей к жестикуляции, мимике и речи, в компенсацию резко ослабившейся демонстративной устрашающей функции, а также к увеличению боковой подвижности челюстей с последствиями для типа питания и опять же речи, но это примерно то же, что утверждать, что исчезновение зубов у муравьеда прогрессивно, ибо привело к появлению новых способностей в высасывании термитов из термитников, а также к специфической форме защиты в виде размахивания когтистыми лапами. Функции-то появились, но куда они ведут в эволюционном плане?
Масса видоспецифических признаков сконцентрирована на височной кости: это размеры и форма чешуи, вертикальная и поперечная ориентация барабанной пластинки, ориентация и степень изгиба пирамид, большие размеры сосцевидного отростка, окостенение и удлинение шиловидного отростка, углубление нижнечелюстной ямки, увеличение предсуставного бугорка и позадисуставного отростка, а также другие тонкости. Хотя все эти особенности действительно позволяют более-менее надежно диагностировать виды, трудно сказать, насколько они прогрессивны в эволюционном смысле. С большой вероятностью большинство из них – например, ориентация барабанных пластинок и пирамид – меняются автоматически в связи с укорочением лица, изменением формы черепа и особенно его основания, но не имеют какого-либо глубинного адаптивного смысла. Косвенно об этом свидетельствует огромная изменчивость – межвидовая, хронологическая, популяционная, половая, возрастная и индивидуальная. Ярчайший пример – сосцевидный отросток. Он мал у обезьян, австралопитеков, неандертальцев, женщин и детей, но велик у гейдельбергенсисов, сапиенсов, мужчин и взрослых. Как можно рассуждать о нем в рамках примитивности – прогрессивности? Изменения области нижнечелюстной ямки, очевидно, связаны с ослаблением жевательной мускулатуры и необходимостью укрепить сустав механически, но это не свидетельствует об особой прогрессивности нашего варианта по сравнению с обезьяньим. У некоторых ископаемых гоминид встречались специфические особенности, которые обычно рассматриваются как специализации, например отсутствие позадисуставных отростков у людей из Нгандонга или крупная щель между барабанной пластинкой и сосцевидным отростком у них же и эректусов Сангирана. Почему же тогда прогрессивно вертикальное положение барабанной пластинки у сапиенса?
Кстати, о прогрессивном вывихе…
Уменьшение человеческой нижней челюсти и жевательной мускулатуры вызвало необходимость укрепления височно-нижнечелюстного сустава. Скажем, у гориллы жевательные мышцы мощнейшие, они надежно притягивают нижнюю челюсть к черепу, она гарантированно не отвалится. Поэтому на височной кости суставная поверхность почти плоская, без особенных ограничителей по сторонам. У человека же слабенькие мускулы не могут обеспечить качественного прикрепления, посему нижнечелюстная ямка височной кости глубокая, сустав спереди огражден высоким предсуставным бугорком, а сзади – позадисуставным. При слишком большом открывании рта мыщелок нижней челюсти упирается в эти бугорки и движение прекращается. Беда же начинается, если ямка мелкая, бугорки невысокие, а мышца очень слабая. Особенно эта напасть типична для особо грацильных девушек, так как у них рельеф и мышцы по определению ослаблены: стоит такой чрезмерно эволюционно прогрессивной особе весело засмеяться или, не дай бог, зевнуть, как челюсть выскакивает из сустава и отваливается, закрыть рот уже невозможно. Это называется привычный вывих сустава. Но поскольку он привычный, то девушка скучающим движением с отчетливо слышимым щелчком рукой вставляет челюсть на место и продолжает смеяться или зевать. Такие вот издержки прогресса! У мужчин подобное бывает редко, ибо андрогены обеспечивают хорошее развитие мышц.
Одна из особенностей височной кости – шиловидный отросток – очевидно, связана с речевым аппаратом. У негоминидных приматов, австралопитеков, хабилисов и эректусов на месте этого отростка обычно расположена ямка, у человека отросток может быть длинный и даже состоять из нескольких отдельных костяных палочек. На отросток крепится шилоподъязычная мышца гортани, а потому логично, что отросток связан со способностями к речи.
Кстати, о болтунах…
Шилоподъязычная мышца тянет подъязычную кость и, соответственно, всю гортань вверх и вниз, участвуя в артикуляции речи. Вроде бы логично предположить, что шиловидный отросток височной кости будет развит сильнее у болтливых людей и останется махоньким пупырышком у молчунов. Однако размеры отростка прямо зависят от массивности мышц и косвенно – от размеров нижней челюсти, а потому у маленьких людей отросток может тоже быть небольшим, независимо от способности к речи. Даже напротив, легкие мышцы и челюсть способствуют большей скорости речи, что наглядно при сравнении мужчин и женщин – последние говорят в минуту больше слов, – а также разных групп современного человечества: кое-кто подсчитал, что французы тараторят по 350 слов в минуту, а полинезийцы едва выдавливают полсотни, тогда как разница между их челюстями более чем очевидна.
Более того, если шиловидный отросток будет слишком большим или даже шилоподъязычная связка окостенеет почти полностью, то движения будут ограничены, а человек не сможет говорить. Все то же можно повторить о костных остях на задней стороне симфиза нижней челюсти.
Таким образом, отростки и ости свидетельствуют о способности к речи в межвидовом масштабе, но не срабатывают в индивидуальных случаях.
Другие особенности, так или иначе связанные с речевым аппаратом, – низкое положение гортани, сильный изгиб основания черепа и большой диаметр канала подъязычного нерва. Они резко выражены – видоспецифичны – именно у современного человека, но вопрос – увеличивают ли они эволюционную пластичность? Прогрессивен или специализирован увеличенный горловой мешок обезьян-ревунов или гиббонов-сиамангов? Сложные способности певчих птиц в области пения способствуют этологической изоляции и видообразованию, но у людей они скорее способствуют общению, взаимопониманию и взаимодействию со слиянием коллективов – вещам благородным в социальном плане, но уменьшающим изменчивость и потому специализированным в плане эволюционном.
Крайне показательно, что форма подъязычной кости, на коей покоится вся гортань и от которой, по логике, должны зависеть способности к речи, тем не менее слабо отличается у самых разных млекопитающих, включая человека, но при этом крайне изменчива индивидуально.
Последняя видоспецифическая человеческая черта, которую хотелось бы упомянуть, – короткие раздвоенные и сильно наклонные остистые отростки шейных позвонков. У обезьян и неандертальцев они мощные, длинные, с монолитными верхушками и направлены почти строго назад. При большой массе головы – с тяжелыми челюстями и жевательными мышцами, крупными зубами, толстыми костями черепа – мощная шейная мускулатура обезьян и неандертальцев, крепящаяся к остистым отросткам, разрывала бы эти отростки пополам, будь они такими же, как у современного человека. У человека же голова легкая, даром что мозгов много, а потому отростки могут сохранять в некоторой степени свою первичную эмбриональную раздвоенность. Прогрессивность данной черты сомнительна: куда она ведет, кроме так называемого “перелома землекопа”?
Кстати, о землекопах…
Часть шейной и спинной мускулатуры крепится к остистым отросткам шейных позвонков. Например, там кончается полуостистая мышца шеи, распрямляющая верхнюю часть спины. Когда человек много и усиленно разгибается, скажем копая яму для фундамента или ставя мировой рекорд в угольном забое, мышцы перенапрягаются и – хрусть, пополам! – могут даже оторвать дугу или остистый отросток позвонка (Knüsel et al., 1996). Хорошо еще, если спинной мозг при этом не страдает. Конечно, после такого приходится отлеживаться, но диггерская профессия зовет, чары кирки и лопаты непреодолимы: после пары недель лечения человек отправляется обратно в шахту – до следующего стахановского успеха и нового перелома. Такова цена грацилизации. Читатель, отправляясь на дачу копать картошку, вспомни о судьбах предшественников и давай отдых спинным мышцам!
Как упоминалось в начале этой главы, прогрессивными стоит считать признаки, открывающие новые перспективы эволюции. У человека же видоспецифические признаки либо являются генерализованными, а стало быть примитивными, либо специализированными. Истинно прогрессивным можно считать лишь позднее зарастание швов черепа. Совершенно закономерно это выражается в том факте, что видовое разнообразие гоминид никогда не было слишком значительным, а со времен австралопитеков всегда только уменьшалось. Сниженное видовое разнообразие – первый признак ограниченности перспектив эволюции. У человека же оно снижено до предела – даже у шимпанзе больше видов, хотя они частенько поминаются как реликтовые и тупиковые!
Настоящая глава, конечно, не призвана развить у читателей чувство неполноценности, но имеет целью вызвать некоторую задумчивость и, возможно, побудить несколько объективнее относиться к морфологическим и эволюционным фактам.
Мир глазами руконожки Часть седьмая, немножко хулиганская, продолжающая линию части шестой, рассказывающая об изобилии вершин, о том, почему руконожка прогрессивней долгопята, долгопят – гориллы, а горилла – руконожки
Часто эволюция живого мира излагается в виде пресловутой “лестницы существ” или же дерева с человеком на вершине. То есть, скажем, был Великий Предок пургаториус, потом линия-ствол все более и более продвинутых обезьян, по ходу которой ответвлялись боковые второ– и третьестепенные ветки всяких тупай, шерстокрылов, лемуров, широконосых, мартышковых, гиббонов, орангутанов, горилл и шимпанзе. Генеральная же линия включала, скажем, афарского австралопитека, а прямым итогом – аки звездой на новогодней елке – был-таки человек. На самом деле с точки зрения любого вида картина была иной. Ведь у любого примата (и даже вообще любого живого существа) была своя неповторимая родословная, сложились свои уникальные особенности; каждый является вершиной эволюции. В реальности картина эволюции представляет собой не дерево с ветвями, а бесчисленный лес параллельных стволов, тем не менее выходящих друг из друга. Нарисовать такой лес сложновато, но можно, по крайней мере, попробовать встать на точку зрения других живых существ. Как тогда будет выглядеть эволюция?
Глава 23 Мир глазами руконожки
Несомненно, венцом эволюции живого мира является мадагаскарская руконожка ай-ай Daubentonia madagascariensis. Эволюция приматов (руконожкогенез) представляется так: около 65 млн лет назад жил Великий Предок пургаториус, далее от генеральной линии ответвлялись всякие малозначимые боковые ветви наподобие лемуров, широконосых и узконосых обезьян (внутри коих на общем фоне и не различишь человека), а через промежуточные звенья вроде Plesiopithecus teras эволюция достигла своего апогея – руконожки.
Да и как можно думать иначе? Это же очевидно! Взгляните на руконожку: ни у кого среди приматов нет столь уникального черепа, никто не обладает такими пальцами и хвостом. Передние резцы огромные и растут непрерывно. Клыки вовсе исчезли (тут руконожка давно и навсегда обогнала гоминид, столь гордящихся редуцированными клыками; “не выступающие за линию других зубов” – вот уж смешная формулировка, то ли дело, когда клыков вообще нет!), а на их месте зияет огромная диастема. Столь замечательная зубная система является лишь одним из элементов хитрой пищевой адаптации. Ночью руконожка идет по джунглям и простукивает трухлявые стволы чрезвычайно длинным и тонким средним пальцем кисти. При этом она внимательно прислушивается своими огромными ушами к эху, отдающемуся в ходах, прогрызенных личинками насекомых; подобной эхолокации нет ни у одного примата. Запеленговав личинку, ай-ай прогрызает дырочку своими замечательными резцами, а все тем же длинным пальцем выковыривает добычу из коряги. Кстати, сложность добывания пищи, видимо, сказалась и на развитии нервной системы: относительный размер мозга у руконожки – один из самых больших среди полуобезьян. Хотя особой гениальности за ней пока не замечено, но много ли мы вообще знаем об этом уникальном существе?..
Рис. 22. Руконожка, ее кисть и череп.
Специализации руконожки столь значительны, что первоначально ее вообще описали как грызуна. Потом долгое время она числилась в лемурах, но скорее по географической логике: всем известно, что на Мадагаскаре живут одни лемуры, стало быть, ай-ай тоже лемур. Но более объективно выделение руконожки в качестве самостоятельного инфраотряда. Прочие приматы однообразны и безыдейны на ее фоне.
Руконожки могут гордиться еще одним достижением: они до сих пор живы. Где апатемииды и Chiromyoides, имевшие такие же адаптации? Вымерли! Эти конкуренты обойдены в честной борьбе. Однако ж есть еще скрытая угроза в виде новогвинейских полосатых поссумов Dactylopsila: вдруг переплывут Индийский океан и захватят Мадагаскар? Но гораздо опаснее истинные враги прогресса, не дающие самим руконожкам захватить мир, – коварные дятлы. Не дай бог их черно-белые эскадрильи вторгнутся на чудный остров веерных пальм, тогда руконожкам может прийти конец…
Глава 24 Мир глазами шерстокрыла
Руконожка замечательна, но можно взглянуть на ту же картину и иначе. С точки зрения шерстокрылов – филиппинского Cynocephalus volans и малайского Galeopterus variegatus, именно они венец эволюции. Дело было так: Великий Предок пургаториус дал генеральную линию, от которой, конечно, ответвлялись какие-то тупайи, лемуры и обезьяны, но все они в своем убожестве сливаются в неразличимую серую массу. На самом деле эволюция (шерстокрылогенез) через ряд промежуточных звеньев типа Ignacius graybullianus пришла к совершенству в лице шерстокрылов.
Никто из приматоморфов не достиг таких высот, как шерстокрыл! Какие руки, какие ноги, какая летательная перепонка между ними! Всем хочется летать, а шерстокрыл – может. Хотя он только парит, но, во-первых, может планировать до 140 метров, а во-вторых, способен нести полезный груз в виде, например, детеныша, прицепившегося на животе. Конечности и пальцы невероятно вытянуты, можно сказать изящны, позавидует любой пианист. На подошвах кистей и стоп есть особые присасывательные диски для прилипания к коре дерева при посадке-пристволении. На грудине даже развит небольшой киль, хоть и не столь мощный, как у летучих мышей и птиц, но зачем же вдаваться в крайности специализации. А зубы! – таких фестончатых наружных резцов нет больше ни у кого.
Конечно, жизнь шерстокрылов есть кому омрачить. Того и гляди, схватит филиппинская гарпия Pithecophaga jefferyi. Кстати, другое ее название – “обезьяноед”; умная птица, похоже, хорошо разбирается в систематике и склонна относить шерстокрылов к приматам. Кроме того, по тем же лесам планируют вечные соперники – гигантские белки-тагуаны Petaurista. Живут они на тех же деревьях, имеют схожие размеры и внешний вид, ведут тоже ночной образ жизни, питаются частично той же пищей, так что вообще не очень понятно, как до сих пор они уживаются с шерстокрылами. Очевидно, все же диета совпадает не абсолютно.
На самом деле, у шерстокрылов есть гораздо более успешные противники – зловещие крыланы, например Megaerops. У них-то диета совпадает с шерстокрыльей почти абсолютно; они тоже ночные и входят в близкую весовую категорию. Но они умеют летать по-настоящему, а значит – быстрее находят плоды. Вероятно, именно появление летучих мышей стало в свое время причиной вымирания бывших некогда разнообразными и широкораспространенными шерстокрылов. Два вида еще держат последние рубежи, но долго ли им будет это удаваться?..
Глава 25 Мир глазами долгопята
Акаков мир глазами долгопята Tarsius? Вне всяких сомнений, именно этот пучеглазый эльф венчает животное царство! Эволюция приматов (тарзиогенез) выглядела так: Великий Предок пургаториус основал генеральную линию развития (стоит ли упоминать несущественные – либо несусветно примитивные, либо невозможно аберрантные – боковые ветви, среди коих лемуры, широконосые и узконосые обезьяны оказываются безликой толпой), составленную знатной плеядой достойных предков типа Necrolemur antiquus с закономерным итогом в виде долгопята.
И разве это не очевидно? У долгопята что ни признак – то эксклюзив. Глаза занимают больше половины лица, а по объему больше головного мозга – таких выразительных нет больше ни у кого среди приматов! Правда, при таких размерах глазá уже невозможно вращать в глазницах – слабеньким мышцам не хватает сил и размаха, зато долгопят может вертеть головой на 180°. Такой способностью не обладает ни одно млекопитающее! Челюсти и зубешки махонькие – куда там человеку с его гордыми мыслями о редукции жевательного аппарата. Поскольку зверюшка размером с ладонь, то крошечные пальчики уже не могут обхватить большинство веток, но не беда – в компенсацию на кончиках пальцев, ладошках и стопах развились присоски, а ногти стали остренькими когтевидными цеплялками.
Долгопят мал, да удал – он свирепый хищник. Люди часто склонны утверждать, что они – самые хищные приматы. Ан нет! Ни один самый мясоедский эскимос и огнеземелец в подметки не годится долгопяту по части плотоядности. Долгопяты отлично слышат, мастерски находят насекомых во тьме, стремительно и бесстрашно бросаются они на жертву размером в половину себя, хватая ее руками. Еще и по этой причине концы пальцев оказались куда как более расширенными, чем у человека с его трудовой кистью. Чтобы совершать роковые прыжки, долгопяты обладают цевкой, сделанной из крайне удлиненных пяточной и ладьевидной костей. Малая и большая берцовая кости у них срослись, причем миллионы лет назад. Человек, если не вымрет, тоже обречен на подобное срастание и редукцию малой берцовой кости, но у него это в сомнительном и туманном будущем, а предки долгопята решили эту проблему еще в эоцене. Если измерять длину прыжка в пропорции к размерам тела, то посрамленные человеческие олимпийские чемпионы должны сгореть со стыда и с горя податься в дворники, ибо у них нет ни малейших шансов превзойти долгопята, который при габаритах 10 см скачет на несколько метров, тем более безо всякого разбега.
А хвост – это ж просто чудо какой хвост! Длинный, тонкий, с изящной кисточкой на конце – идеальный балансир. Долго еще можно петь оду истинному венцу эволюции. Но, думаю, уже ясно – подобное совершенство высится над прочими приматами, как Эверест над кочкой.
Впрочем, жизнь долгопятов, сколь это ни прискорбно, тоже небезоблачна. Она омрачена существованием разнообразных супостатов на земле и над землей. Некоторые из них даже красивы – скажем, райские мухоловки Terpsiphone paradisi и варакушки Luscinia svecica: эти отнимают у долгопятов пищу на ветвях. Некоторые безлики – например, белозубки Suncus и Crocidura: они не пускают долгопятов на землю. Третьи же страшны – примером может служить суматранский филин Bubo sumatranus: такие могут и сами запросто съесть бедного маленького долгопятика.
Глава 26 Мир глазами мандрила
Иным предстает мир, на который гордо взирают мандрилы Mandrillus leucophaeus и Mandrillus sphinx. Им ясно, что эволюция приматов (мандрилогенез) началась с Великого Предка пургаториуса, давшего ряд замечательных предков типа Victoriapithecus macinnesi. Боковые ветви типа лемуров, широконосых и человекообразных (где там человек, где гиббон – кто ж их, человекообразных, разберет, все они на одно лицо) блекнут на фоне действительно значимой эволюционной вершины – мандрила.
Ясно, что мир изначально вертелся для того, чтобы его населили мандрилы. Для начала, мандрил красив. Это самый красивый примат (а отбросив ложную скромность – вообще самый красивый зверь). Какая расцветка морды, да не простая, а усиленная рельефными кожными валиками, какая палитра зада! Какая грива – обзавидуется и лев! Она не только со вкусом раскрашена, но и изысканно причесана от природы, а не сваляна космами, как у некоторых. Это вам не бессмысленные патлы двуногих. В сложении мандрила удивительно сочетаются мощь и грация, сила и стройность. Мандрил не так безобиден – ведь это саблезубая обезьяна. Клыки самцов могут выступать за край нижней челюсти. И что за дело, что люди считают эволюционно прогрессивными маленькие клыки, ведь по модулю изменение размеров клыков, начиная от общего предка, у мандрилов гораздо сильнее, чем у гоминид. А бóльшие изменения – это больший прогресс. Огромные клыки – гарантия защиты от хищников. Конечно, леопард без особых проблем справится с одним мандрилом, но мандрилы не живут поодиночке. А против толпы орущих оскаленных обезьян, у каждой из которых клыки больше, чем у самого леопарда, уже лезть как-то не очень хочется. Поэтому мандрилы и их родственники павианы успешно живут в окружении злых и смертельно опасных хищников. Конечно, приходится существовать на постоянном осадном положении; законы военного времени работают тут всегда. Поэтому мандрилы и павианы имеют самую иерархичную систему из всех существующих среди приматов. Это отражается даже в построении отряда на марше. Со стороны невнимательному наблюдателю такое стадо может показаться беспорядочной толпой, но если разобраться, кто есть кто, то павианы идут фактически немецкой “свиньей”: авангард и арьегард составляют молодые самцы, а старые самцы с вожаком во главе окружают самок с детенышами, идущих в центре.
Власть альфа-самца практически безгранична. В группе мандрилов и павианов не место вредным мыслям о революциях, конституциях и таких сомнительных явлениях, как феминизм. Идеалы – в лучших традициях “Домостроя”, военно-диктаторских режимов и романа “1984”. Насколько такая система упрощает жизнь! Каждый знает свое место, начальник решает за всех, в обществе царит порядок и стабильность. Все попытки нарушить гармонию однозначно пресекаются устрашающим оскалом вожака. Кстати, несмотря на иногда бурные проявления чувств, контактная агрессия в группах и между группами мандрилов в природе случается редко, обычно все ограничивается демонстрациями силы. Впрочем, субординацию в таком строгом обществе соблюдать необходимо, нарушители “табели о рангах” сурово караются, неспроста едва ли не основной причиной смерти самцов павианов являются убийства отнюдь не леопардами, а другими павианами.
Мандрилы и павианы достигли своего идеала еще в плиоцене. Их план строения практически не поменялся за последние несколько миллионов лет, да и зачем? Они достигли совершенства – освоили леса и саванну, расселились по всей Африке и даже за ее пределы. Разве могут суетные гоминиды со своими морфологическими метаниями и экологическим экстремизмом сравниться со взвешенной стабильностью мандрилов?
Глава 27 Мир глазами гориллы
Спокойна за свой статус вершины эволюции горилла Gorilla gorilla. Великий Предок пургаториус… Ну, вы уже все поняли, терпеливый Читатель. Chororapithecus abyssinicus был одним из немногих ископаемых приматов, достойных упоминания в курсе гориллогенеза.
Горилла – несомненный чемпион. Она огромна (были, правда, некогда гигантопитеки, но где они теперь?), у нее громадные ручищи и железные мышцы. Как написал М. Ф. Нестурх: “Горилла обладает нечеловеческой силой!” Даже не самая крупная самка гориллы со смехом одной левой поборет олимпийца-человека. Показателен случай, произошедший в одном зоопарке. Там в клетке много лет жил самец гориллы. Однажды уборщик оставил рядом с клеткой метлу. Гориллу очень хотелось поиграть ей, но он никак не мог дотянуться через решетку. Тогда он раздвинул прутья, вышел, взял вожделенную игрушку, вернулся назад и не забыл загнуть прутья на место. И только тут работники зоопарка поняли, что все эти годы горилл сидел в клетке вполне добровольно…
Невероятная мощь короля джунглей сказывается в каждой детали его строения: здоровенные кости с гребнями для прикрепления мышц, сросшаяся грудина, поясничный лордоз (где вы, сказки двуногих о комплексе прямохождения?), широченная кисть с толстенными фалангами. Череп самцов увенчан сагиттальным гребнем для жевательных мышц, огромные челюсти украшены мощными клыками.
Горилле не страшен ни один враг в родном лесу. Леопарды могут изредка нападать на детенышей горилл, но когда рядом пасется хмурое двухметровое чудище с седой спиной, вкусы как-то сами собой склоняются к антилопам и лесным свиньям. Пребывая в родной стихии, горилла является идеальным воплощением тезиса “сила есть – ума не надо”, но разве это проблема? С другой стороны, в неволе гориллы оказываются едва ли не самыми интеллектуальными животными, в этом им помогает уравновешенность, недоступная вздорным шимпанзе. Размер мозга гориллы вплотную приближается к наименьшим величинам у современного человека и превосходит австралопитековые значения. Коэффициент интеллекта знаменитой гориллы Коко – 75–95, тогда как у людей умственная отсталость отсчитывается со значений ниже 70.
Все бы ничего, жить бы да жить гориллам спокойно миллионы лет, умиротворенно жуя банановые листья, но и на их горизонте ходят тучи. Речь, конечно, не о таких смехотворных конкурентах, как леопарды и бодибилдеры. Перенаселение в Африке и вообще в мире фатально сокращает площади, на которых могли бы жить лесные гиганты. Даже в центрах заповедников масштабно вырубаются деревья, вереницы женщин тащат дрова в деревни, холмы, на которых в зарослях должны пастись гориллы, оголяются и покрываются сельскохозяйственными посадками. Наконец, браконьеры, несмотря на формальные запреты, десятками уничтожают таких больших и таких беззащитных перед ружьями и проволочными петлями горилл. Будет ли будущее у властителей джунглей?..
Глава 28 Мир глазами…
Много еще есть точек зрения, без числа вершин эволюции. Можно часами рассказывать о них.
Перохвостую тупайю Ptilocercus lowii не перепьет ни один калдырь. Галаго Galago – бешеная чебурашка – скачет на двух ногах по ветвям, подобно хищному древесному тушканчику. Потто Perodicticus не может так быстро умчаться от врага, поэтому при опасности сворачивается в пушистый шар и выставляет шипы на загривке – увеличенные остистые отростки последних шейных и первых грудных позвонков, выступающие из-под кожи. Вроде и не так ужасно, и мягкий бочок беззащитен, но на удивление действенно, судя по тому, что всех потто пока не съели. Этот же зверь обладает уникальной формой кисти и стопы, с редуцированным указательным пальцем и сросшимися в цепкую клешню остальными.
Медленный лори Nycticebus оказался одним из семи известных ядовитых млекопитающих. Его яд (производное запахового сигнального вещества) выделяется на внутренней стороне плеч повыше локтя и становится особо действенным в сочетании со слюной. Зверек втирает отраву себе в шерсть и держит в слюне во рту, причем яд, будучи сильнейшим аллергеном, может убить даже человека. При опасности лори начинает раскачиваться и шипеть, обхватив голову руками, изображая очковую кобру, чему способствуют круги вокруг глаз и темная полоса вдоль спины (Nekaris et al., 2013). Кстати, несмотря на неизбывно-печальный и умоляюще-жалостный вид, лори – невероятно злобные и кровожадные монстры. Если посадить в клетку двух самцов, наутро в ней окажется только один, от второго же останутся в лучшем случае клочки шкурки.
Жирохвостые лемуры Cheirogaleus – единственные приматы, впадающие в спячку. Они делают это в сухой сезон, когда в мадагаскарском лесу нечего есть. Чтобы не пропасть с голоду, они запасают жир в своем хвосте; в тропиках накапливать подкожный жир по всему телу было бы непредусмотрительно, а в хвосте ничего не перегреется. Мышиные лемуры Microcebus, во-первых, одни из самых маленьких приматов, а во-вторых, питаются в значительной степени нектаром цветов.
Игрунки Callithrix и тамарины Saguinus имеют столько замечательных свойств, что впору писать о них отдельную книгу. Например, их социальная система подобна муравьиной, пчелиной или термитовой: в группе размножается только одна самка, а остальные – “рабочие особи”. Конечно, они не строят муравейники, но жизнь в группе повышает выживаемость детенышей. Среди млекопитающих подобная система есть еще только у голых землекопов – африканских подземных грызунов. Также у игрунок практически всегда рождается двойня. Сразу после родов близнецов забирает самец, сажает их себе на спину и носится с ними как с писаной торбой. Маме он их отдает только для кормления, а сразу после ревниво отбирает назад. Это почти единственный пример столь ответственной отцовской заботы среди млекопитающих. Подобного уровня достигают вообще немногие животные: морские коньки и колюшки, пингвины и страусы. Морфологические особенности игрунок на этом фоне уже не выглядят такими уж специфическими: третьих моляров нет (тут игрунки обогнали гоминид на миллионы лет, ведь у человека третьи моляры – “зубы мудрости” – сейчас находятся как раз в активной фазе исчезновения); размеры тела самые мелкие среди приматов – даже меньше мышиных лемуров; ручки крошечные и практически не могут обхватить ветки, отчего большой палец перестал противопоставляться, а ногти стали когтеподобными. Относительный объем мозга игрунок намного больше человеческого и не беда, что мал абсолютно, ведь общительность этих лесных эльфов столь развита, что они умудряются кооперироваться даже с представителями других видов, включая носух и попугаев. Еноты лучше нюхают, попугаи – слышат, обезьяны – соображают, а вместе защищены от хищников: кто-нибудь да засечет подкрадывающуюся онциллу или оцелота.
Другие широконосые обезьяны обладают собственными достоинствами: мирикини Aotus единственные из обезьян ведут ночной образ жизни – куда до них нашим полуночникам; паукообразные и шерстистые обезьяны Ateles, Brachyteles и Lagothrix обладают пятой конечностью – невероятно цепким и ловким хвостом, на кистях же большой палец укорачивается, а остальные образуют цепкий крюк; ревуны Alouatta способны реветь так, что их слышно за несколько километров (как минимум за три, но многие утверждают, что и за пять-шесть или даже шестнадцать), для чего подъязычная кость преобразовалась в костный ковш, поддерживающий огромный горловой мешок.
Масса замечательных вершин эволюции среди мартышкообразных: носачи Nasalis уникальны своим клоунским носом; немейские тонкотелы Pygathrix nemaeus чрезвычайно красивы разноцветьем, а колобусы Colobus – черно-белым нарядом с мантией и богатой кистью на хвосте, а также знамениты крайним укорочением большого пальца и слиянием прочих; тонкотелые в целом замечательны крайней специализацией к листоядности, причем часто они едят ядовитые листья, для переваривания которых имеют многокамерный желудок, в особой трубчатой камере которого живут симбиотические бактерии, разлагающие клетчатку и нейтрализующие яд, а в нижней выделяется собственно желудочный сок с соляной кислотой; мартышки-гусары Erythrocebus patas живут в саванне и быстро бегают подобно газелям; тибетские Macaca thibetana и японские макаки Macaca fuscata способны зимовать при хорошо отрицательных температурах с глубоким снегом.
Гораздо ближе к человеку гиббоны. Сиаманги Hylobates (Symphalangus) syndactylus имеют горловые мешки подобно ревунам (только у ревунов горло покрыто бородой, а у сиамангов надувается голый пузырь), но могут не просто орать, а по-настоящему петь. Их песни разносятся за три-четыре километра. Как и другие гиббоны, для этого они всей семьей по утрам забираются на вершину самого выдающегося дерева в округе и оттуда поют. Кроме того, гиббоны – самые выдающиеся брахиаторы: они могут нестись по ветвям, цепляясь за них только руками, причем их скорость равна скорости не слишком быстро летящей птицы.
Перечисление достоинств бесчисленных вершин эволюции можно продолжать сколько угодно. Причем необязательно ограничиваться приматами – чем хуже раффлезии, рыбы-прилипалы или муравьеды? Но думается, Читатель уже проникся главной мыслью: да, человек уникален, таких двуногих и умных на всем белом свете больше не сыскать, но не сыскать и второго африканского страуса, второго комодского варана, вторую комаровку. Если уж некое существо появилось и, более того, дожило до современности, то оно совершенно и достойно называться истинной вершиной эволюции.
Альтернативные пути развития разума Часть восьмая, совсем хулиганская, где Автор вырывается на вольные просторы фантазии и с развевающейся бородой и взором горящим грезит о несбывшихся парачеловечествах – гигантопитечествах, ореопитечествах и неандерталечествах
Все же, что бы ни говорилось в предыдущей главе, многие и многие возразят: “Подумаешь – зубы, хвосты… Главное – мозг!” Разум безмерно возвышает нас над руконожками и мандрилами, даже хваленые умные-разумные гориллы и шимпанзе по-прежнему остаются обезьянами, скачут по лесам, жуют бананы и не задаются высокими материями. Ведь и сия книга написана отнюдь не муравьедом, а читают ее не илистые прыгуны. Это – неоспоримый факт.
Однако был ли разум столь уникален в прошлом? Могло ли развиться параллельное человечество на другой основе?
Канадские палеонтологи рассчитали, что мелкие позднемеловые тероподы Troodon inequalis (Stenonychosaurus по старой классификации) имели коэффициент энцефализации в шесть раз больший, чем у других динозавров. Если бы их не скосило всеобщее вымирание, то даже при прежних темпах эволюции – без всяких ускорений – сейчас они имели бы размер мозга 1100 см³ и оказались бы вполне разумными (Russell et Séguin, 1982). Теплокровность, двуногость, сложный способ добывания пищи и хватательная кисть, хотя бы и трехпалая, – хорошие зачины для поумнения.
Но динозавры – слишком давняя и слишком фантастичная история. Гораздо больше примеров альтернативного разума предоставляют разнообразные приматы.
Среди изобилия ископаемых приматов есть несколько кандидатов, которые при более удачном для них стечении обстоятельств вполне могли стать истинно разумными.
Глава 29 Орангутаны и их предки
Вмиоцене Пакистан и Северную Индию населяли сивапитеки Sivapithecus. Судя по всему, они были предками орангутанов или очень близкой к ним линией развития. Родственные обезьяны жили также в Китае – Lufengpithecus – и Таиланде – Khoratpithecus. Размер их мозга, общее строение и образ жизни принципиально не отличались от того, что известно для африканских гоминоидов того же времени. Потенциально орангоподобные обезьяны вполне могли бы эволюционировать в собственное парачеловечество. Современные орангутаны не глупее шимпанзе, а благодаря уравновешенности и большей миролюбивости могут обучаться даже лучше наших ближайших родственников. Однако азиатских обезьян подвела география: Южная и Юго-Восточная Азия представляют собой длинные выступы, со всех сторон омываемые морями. Высокие горы своими вершинами ловят несущиеся из океанских далей тучи, обильные дожди исправно орошают склоны и долины, богатейшие тропические леса покрывают весь ландшафт от хребтов до побережий. Даже в эпохи похолоданий и осушений здесь почти ничего не менялось, азиатские джунгли сохранялись тогда, когда обе Америки, Европа и Африка покрывались степями, саваннами, а то и пустынями. Неспроста именно в Азии ныне сохранились реликтовые осколки прошлого приматов – тупайи, шерстокрылы, лори и долгопяты.
У сивапитеков и их родственников, похоже, не было никакой особой необходимости менять миллионами лет отработанный образ жизни. Когда же ряд плейстоценовых оледенений все же создал посреди Сунды (слитых Малакки и Индонезии) широкий коридор саванн (Bird et al., 2005), то у орангутанов уже не было особых шансов его освоить. Из Африки по степной полосе уже бежали архантропы. Они уже имели достаточно развитые орудия труда, умели использовать огонь, превосходно охотились. Если азиатские обезьяны и делали робкие попытки выхода в открытую местность, то питекантропы быстро загнали их обратно в леса. Вероятно, в немалой степени питекантропы и их последователи ответственны за вымирание большинства поздних азиатских человекообразных, в том числе нескольких видов и подвидов орангутанов, гигантопитеков, позднейших люфенгпитеков и таких малоизвестных существ, как лангсония.
Печальная участь современных орангутанов показывает, что, несмотря на впечатляющую внешность, эти животные весьма уязвимы. Нынешние орангутаны в природе ведут практически одиночный образ жизни и крайне мало общаются между собой. Однако, когда их сселяют в заповедники и обезьяньи реабилитационные центры, они начинают демонстрировать необычно богатые способы общения. Очевидно, социальная структура орангутанов нарушена совсем недавно (на равнинном Калимантане, больше освоенном людьми, в большей степени; на гористой Суматре, где не на каждой горе можно устроить поля, – в меньшей). Все задатки разумности у рыжих “лесных людей” имеются.
Глава 30 Гигантопитеки
Близок к сивапитекам самый большой в истории примат Gigantopithecus из Южной и Юго-Восточной Азии – Южного Китая, Вьетнама, Таиланда, Индонезии, Пакистана и Индии. Гигантопитеки ответвились от рамапитековых приматов около 9 млн, а вымерли лишь около 300 или даже 100 тыс. лет назад, не менее 900 тыс. лет просуществовав бок о бок с питекантропами и их потомками. Гигантопитеки известны почти исключительно по зубам, которых, впрочем, обнаружена уже пара тысяч. Кроме зубов, найдены пять обломков нижних челюстей – три из Китая, один из Индии и один с Явы (в литературе иногда упоминается еще конец плечевой кости из китайского уезда Цзяньпин, но отнесение его именно к гигантопитекам весьма спорно).
Не только коренные и предкоренные зубы гигантопитеков, но и их клыки служили для перетирания растений. Их зубы очень часто поражены кариесом, как, кстати, и у панд. Очевидно, гигантопитеки были огромными и исключительно растительноядными приматами, в своем роде азиатским аналогом гориллы, но ушедшим гораздо дальше по пути специализации.
Примечательно, что останки гигантопитеков иногда встречаются в одних слоях с останками древних людей. Впрочем, не менее часто они обнаруживаются в слоях, не содержащих признаков присутствия человека. В этом случае внимание привлекает тот факт, что пещеры с этими слоями иногда расположены на весьма труднодоступных склонах крайне крутых гор, но тем не менее в пещерных отложениях найдены многочисленные кости копытных животных, которые явно не забрались туда сами. Логичным выглядит предположение о том, что гигантопитеки могли охотиться на разных зверей. Это противоречит строению зубов, но ведь и шимпанзе, судя по зубам, охотиться вроде как не должны. Даже орангутаны замечены за ловлей медленных лори (почему-то только самки; самцы же – истинные вегетарианцы: Hardus et al., 2012) и рыб.
Более того, китайские археологи в свое время демонстрировали огромные каменные рубила, обнаруженные в слоях с зубами гигантопитеков. В руке их держать неудобно, а размеры руки у питекантропов и прочих древних людей были не больше, а то и меньше наших. Не орудия ли это гигантопитеков? Впрочем, научных публикаций по этим огромным орудиям так и не было, так что само их существование сомнительно.
Челюсти и зубы гигантопитеков были в полтора-два раза больше, чем у современных горилл, так что размеры черепа и тела должны были быть просто огромными. Конечно, не факт, что пропорции челюстей и тела у гигантопитеков были горилльские, но рост в два-три, а то и четыре метра – вполне достоверная для них величина. Хотя остатки черепной коробки гигантопитеков доселе не попали в руки антропологов, по размерам челюстей можно предположить, что объем мозга у этих обезьян должен был быть заметно больше, чем у гориллы. А ведь максимальный размер мозга гориллы превосходит минимальный нормальный размер мозга человека! Стало быть, у гигантопитеков средний размер мозга должен быть примерно в пределах значений питекантропов. Это, конечно, не гарантирует большого интеллекта (особенно с учетом грандиозных размеров тела), но все же размер имеет значение! Не исключено, что гигантопитеки – очередной нереализовавшийся путь гоминизации.
Минутка фантазии
Представим на минутку, какую бы цивилизацию могли бы создать гигантопитеки, продлись их изоляция еще подольше. Скажем, если бы люди по некой причине не добрались до Азии – скажем, Гималаи доходили бы до Индийского океана с одной стороны и до сибирской тундры – с другой. Наземный образ жизни и питание бамбуком располагает к прямохождению и использованию рук как рук, а не ног. Даже панды активно перебирают передними лапами ветви бамбука, а гигантопитекам сам отбор велел! Выход в саванны был бы облегчен уже имеющейся наземностью и защищенностью от хищников, переход к питанию мясом неудивителен для крупного примата (вон панды – перешли же от мяса к бамбуку, почему бы гигантопитекам не сделать наоборот?), а отсюда и до орудийной деятельности недалеко. И вот из гигантопитеков возникают гигантропы – трех-четырехметровые разумные полувегетарианцы, не гнушающиеся мясом (особенно женщины, ведь, как уже говорилось выше, у их ближайших родственников суматранских орангутанов охотятся только самки), но предпочитающие в качестве гарнира бамбук любому укропу и кресс-салату. Родство с орангутанами, огромные размеры и азиатские флюиды способствуют гармоничности и доброте гигантропов. Они мало спорят, все проблемы улаживают посиделками, а в крайнем случае просто вколачивают противника кулаком в землю – и все дела, без всяких зверств. Гигантропы склонны к философии и изящным наукам, они быстро постигают дао, изобретают письменность, мудрые книги из бамбуковых дощечек заполняют библиотеки. Дивны сооружения гигантропов: сказочная силища позволяет им ворочать мегалиты на зависть египтянам и ацтекам. Куда там пирамидам и стоунхенджам! Ангкор-Ват – хутор средних размеров для властелинов Азии. Гигантропы изобретают земледелие; долины и горы Индокитая и Китая покрываются плантациями сортового бамбука, особо сочного и быстрорастущего. Огромный размер гигантропов способствует успешному освоению северных широт, отважные первопроходцы преодолевают Берингию и заселяют обе Америки. Гигантские ленивцы и броненосцы приручаются ими в качестве домашнего скота и верховых животных.
Эх, какой сюжет для фэнтези! Где вы, писатели и графоманы?! Полмира – за гигантропами, полмира – за сапиенсами, своим ходом параллельно возникшими в Африке и уже освоившими Европу. И вот не то гигантропы преодолевают Гималаи, не то сапиенсы доплывают по морю до владений исполинов, но две цивилизации находят друг друга! Встреча неандертальцев и кроманьонцев блекнет на фоне эпичного контакта людей и гигантропов. Гигантропы в недоумении: как такая раса карликов с крошечным мозгом (у самих-то ведро мозгов!) смогла достичь столь многого? Сапиенсы тоже в оторопи: они-то думали, что мир принадлежит им, стоит его только открыть, а тут некие огромадные чудища с неясными намерениями и бамбуком между зубами. Гигантропы склонны к самоизоляции, им не надо чужого, они задумывают отгородиться кроме Гималаев еще и циклопической стеной вдоль побережья, благо навыки строительства у них выдающиеся. Сапиенсы разворачивают очерняющую пропагандистскую войну (на настоящую поначалу они не отваживаются), в которой центральное место занимает образ Кали, в котором сосредотачиваются все мрачные стороны без единого положительного свойства. Упор делается на изображении женщин гигантропов как особо злобных, хищных существ, враждебных всему живому…
Каков итог этой истории? Возможно, мы узнаем его от кого-нибудь из читателей…
Препятствием для “параочеловечивания” гигантопитеков явилась, видимо, специализация к растительноядности и гигантские размеры тела. У столь огромных зверей не может быть природных врагов. А безопасность расслабляет, не дает стимулов для развития интеллекта. Неспроста гориллы при большем мозге никогда не используют орудий труда, тогда как гораздо более мелкие шимпанзе делают это довольно часто. Та же расслабленность и врожденное чувство безопасности, наверняка присущие гигантопитекам как одним из самых могучих зверей своего времени, привели их к вымиранию. Древние люди, пришедшие в Азию с копьями и факелами, не могли не оценить гигантопитеков как гору мяса, хотя, конечно, охотиться на таких громадных зверей наверняка было не так уж просто. Но люди к тому времени уже были отличными охотниками, так что гигантопитеки, вероятно, пали жертвой гастрономических вкусов питекантропов и их потомков.
Конечно, не исключено, что и климатические причины сыграли заметную роль, но климат в Южной Азии за последние сотни тысяч лет менялся, кажется, не столь принципиально, чтобы это привело к вымиранию гигантопитеков. Впрочем, совпадение по времени сокращения в численности гигантопитеков в Азии и вымирания массивных австралопитеков в Африке – около 0,9–1 млн лет назад – не может не насторожить. Вероятно, осушение климата, смена преобладающей растительности и усилившаяся конкуренция с копытными и грызунами фатально сказались на благополучии крупных человекообразных.
Выдвигалась даже версия, согласно которой гигантопитеки питались преимущественно бамбуком и, таким образом, их численность могла периодически резко падать во время цветения этой травы. Ведь бамбук цветет хоть и редко, но сразу весь, а потом обязательно гибнет – все бескрайние леса разом высыхают. Кроме того, предполагалась даже конкуренция не на жизнь, а на смерть с пандами, хотя лично мне крайне трудно представить, как она могла реализоваться на практике.
Гигантопитеки по-своему боролись с судьбой: у самых распоследних из них обнаружены некоторые специализации в строении зубов (Zhang et al., 2014); однако фатум был неумолим – огромные обезьяны исчезли.
Бамбук или не бамбук – вот в чем меню…
Гигантопитеки – исполинские обезьяны, миллионы лет бродившие по лесам Юго-Восточной Азии, но исчезнувшие 380 тыс. лет назад или несколько позже. С момента их открытия в 1935 г. образ огромного гоминоида будоражит умы как профессиональных палеонтологов, так и нормальных людей. Таинственности добавляет странная тафономическая карма: найдены уже сотни зубов гигантопитеков, но только пять обломанных нижних челюстей – и ни одного черепа.
Судьба азиатских кинг-конгов всегда была предметом бурных фантазий. Может, они эволюционировали в современных людей? Может, их потомки до сих пор бегают по Гималаям, Таймыру и Аляске в виде йети и сасквачей? Может, их истребили питекантропы? А может, в их вымирании виноваты гигантские панды – мощнейшие конкуренты в сложном деле промышленного пожирания бамбука? Как узнать правду, имея в распоряжении лишь мешок зубов?
Но на то и мощь науки XXI века, чтобы невозможное делать возможным!
Группа немецких специалистов при мощной поддержке французского палеоприматолога произвела исследование диеты древних исполинов (Bocherens et al., 2016). Были задействованы многочисленные зубы гигантопитеков из Таиланда и Китая, гигантских панд (в древности и панды были гигантскими!), а также множества прочих ископаемых и современных животных, включая орангутанов, тапиров, носорогов и слонов-стегодонов. Выяснилось, что гигантопитеки ели примерно то же самое, что современные орангутаны.
Несколько неожиданным оказалось, что диета гигантопитеков включала весьма широкий спектр пищи. Ранее многие антропологи предполагали, что они были специализированными животными. На основании необычайного сходства зубов гигантопитеков и гигантских панд неоднократно звучало, что огромные обезьяны были бамбукоедами, этакими монстрическими жевалками-утилизаторами. Ан нет! Теперь ясно, что именно непривередливость позволила гигантопитекам миллионы лет жить от Индии до Явы.
С другой стороны, приверженность именно лесной пище могла свести огромных обезьян в могилу. Если в Южном Китае лесов все-таки хватало, то в Таиланде им приходилось ютиться в перелесках, росших между обширными саваннами. Но даже когда плейстоценовые гиганты жили в окружении равнин, они старались питаться дарами джунглей. Поэтому, когда участившиеся похолодания еще больше сократили площадь лесов, возможности отстали от гаргантюанских потребностей, дебет разошелся с кредитом и гигантопитеки вымерли.
Вот такая вырисовывается картина.
Есть, конечно, маленькое ехидное но!
Если диета гигантопитеков была почти неотличимой от орангутаньей, значит ли это, что гигантопитеки умели лазать по деревьям? Ведь обычно их вес реконструируется как значительно превосходящий двести килограммов, а то и достигающий полутонны! Или в допотопные времена и деревья были соответствующие? Гигантопитеки, неспешно лазающие по гигантодурианам и бросающие сверху колючие шкурки на гигантских панд, жующих гигантский бамбук?
Вероятно, меню древних обезьян все же было не совсем идентично выбору современных рыжих древолазов.
Что ж, методики совершенствуются, поиски продолжаются…
Минутка фантазии
Самые оптимистичные криптозоологи считают, что гигантопитеки вовсе не вымерли, а существуют поныне в труднодоступных районах планеты в виде “снежных людей”. Дескать, они приспособились к жизни на холодных ледниках, в таежных лесах и северных тундрах, пообросли шерстью, перешли к питанию мясом – и вот готовы йети, сасквачи, алмасты и чучуны. Изначально большой мозг еще подрос (ведь теперь им приходится скрываться от назойливых сапиенсов), развилось и усовершенствовалось прямохождение, возможно, даже появилась трудовая деятельность. В принципе, ничего невозможного в этом нет. Есть лишь одна проблема, емко высказанная известным писарем Федей: “По всем палатам мы за ними гонялись! Хвать – ан демонов-то и нету!” Десятилетия поисков так и не дали внятных результатов.
На самом деле, каждый антрополог глубоко (или даже не очень глубоко) в душе мечтает, чтобы “дикие люди” оказались реальностью. Каждый хочет первым добежать до вожделенного экземпляра, буде его найдут или поймают. Любой грезит о сенсации и своем авторстве в описании уникального вида. Скучно же годами изучать то, что ни от кого не скрыто. Все самое интересное по верхам уже изучено, остались лишь самые сложные и занудные темы, дешевую славу снискать трудно. Где ты – реликтовый гоминоид?..
Глава 31 Ореопитек в руках ученых, или Ученые в лапах ореопитека
Людям, далеким от науки, может казаться, что далекие от реальной жизни чудаки-ученые в тиши своих кабинетов годами тихонько поскрипывают перьями по пергаменту, выцарапывая на нем тайны мироздания, а после с тихой гордостью являют свои манускрипты на суд дружного и сплоченного научного сообщества. Почтенные, убеленные сединами академики на торжественном заседании степенно возлагают лавры на главу достойного, после чего он углубляется в дебри науки на следующие годы.
В реальности картина несколько иная. Тишина научных кабинетов нарушается отнюдь не скрипом перьев – его заменил нервный перестук клавиатуры; скрипят в основном натруженные мозолистые мозги и процессоры компьютеров. Отчетливо слышен и зубовный скрежет. Он адресован научным оппонентам. Накал страстей может быть весьма велик, под давлением мысли на страницы журналов изливается кипящая магма статей, которую дополняют летящие вслед раскаленные бомбы комментариев.
Примерно в таком виде на просторах журнала Journal of Human Evolution развернулась битва сторонников и противников особой продвинутости ореопитека Oreopithecus bambolii – знатного кандидата на почетное звание парачеловека.
…Впрочем, стоит начать с истории. Ореопитек с самого своего появления в 1872 году задал жару ученым. Словно черный чертик выскочил из угольных копей Тосканы и в лучших гоголевских традициях стал морочить голову палеонтологам. Его таксономическое положение менялось от парапитековых через мартышкообразных до гоминид, а в 1951 году У. Грегори даже прописал его среди свиней (видимо, в противовес пресловутому гесперопитеку, но это уже совсем другая история…). Д. Хюрзелер, самый известный исследователь ореопитека, считал его вполне возможным предком человека. Одни авторы подчеркивали примитивные черты итальянской обезьяны, другие – продвинутые, третьи – специфические.
Ореопитек замечателен массой особенностей. Обычно пишется, что он жил 9–7 млн лет назад, но новейшие исследования фауны расширяют этот интервал до 9,5–6 млн, а абсолютное 40Ar/39Ar-датирование и магнитостратиграфия сужают до 8,3–6,7 млн (Rook et al., 2000, 2011).
Ареал ореопитека был крайне невелик – кусочек западного побережья Италии (севернее Рима, но южнее Флоренции) и Сардиния. В позднем миоцене эти области были островом Гаргано в Тирренском море. В свое время упоминалась возможная находка ореопитека из Молдавии, но, видимо, это было ошибкой. Остров был оригинален: его покрывали болотистые леса – они-то и стали тем углем, в котором теперь находят останки ореопитеков, – и там совсем не было крупных хищников, опасных для обезьян. Был, правда, местный вид крокодила, средних размеров медведь, одна мелкая и одна крупная выдра, более чем полуметровый хищный еж Deinogalerix koenigswaldi, такого же размера гигантские совы Tyto robusta и еще более крупные Tyto gigantea, еще кто-то такого же разлива, но это все не львы с леопардами. Древние средиземноморские острова знамениты своей эндемичной фауной: карликовые слоны и олени, гигантские кролики и крысы, ореопитеки… Впрочем, карликовые олени, гигантские крысы, хомяки и пищухи жили вместе с ореопитеками, а вот слоны обитали по соседству – на Сицилии, Мальте и Кипре; на Сардинии карликовые мамонты тоже появились, но гораздо позже – не раньше конца среднего плейстоцена.
Рис. 23. Реконструкция ореопитека, его череп и кисть.
Небольшая обезьяна – около 32 кг весом – имела брахиаторные пропорции: короткое туловище с расширенной грудной клеткой, очень длинные руки и маленькие ноги. В строении черепа обращают на себя внимание мощные, но укороченные челюсти и сравнительно небольшие клыки; не было и межзубных диастем. Рельеф черепа выражен отлично: надбровные валики, сагиттальный и выйный гребни развиты едва ли не как у гориллы. В свое время Д. Хюрзелер даже ошибочно реконструировал слишком большой объем мозга, приняв сплющенные гребни за стенки мозговой коробки.
На нижней челюсти обращает на себя внимание чрезмерное развитие восходящей ветви и особенно – резкое выступание угла назад; такое строение типично для специализированных на листоядности тонкотелых обезьян. Зубы в целом сравнительно маленькие, имеют массу примитивных черт, присущих скорее мартышкообразным, нежели человекообразным приматам, а также несколько особенностей, встреченных только у ореопитеков. Самым замечательным является центроконид на нижних молярах – бугорок, которого нет ни у каких иных приматов.
Судя по пропорциям конечностей и повышенной подвижности суставов, ореопитек должен был быть брахиатором, однако кости его рук очень тяжелые, так что порхать по веткам подобно гиббонам он явно был неспособен. Выраженные углы ребер свидетельствуют о сильном развитии прямых мышц спины, то есть о ее выпрямлении, а другие черты – об укороченности и расширенности туловища.
Такая вот оригинальная обезьяна с оригинального острова.
Вернемся же в современность.
Началось все с трех статей в Proceedings of the National Academy of Sciences – 1997 и 1999 годов. В них команда антропологов: Сальвадор Мойя-Сола, Мейке Кёлер и Лоренсо Рук – показала, что, во-первых, ореопитеки были своеобразно прямоходящими, во-вторых, имели развитые способности к точечному захвату кисти. Аргументация авторов была богата и весьма убедительна.
В первой статье С. Мойя-Сола и М. Кёлер рассмотрели признаки, связанные с прямохождением (Köhler et Moyà-Solà, 1997). Например, пять поясничных позвонков ореопитека имеют размеры тел спереди большие, чем сзади, а сверху – меньшие, чем снизу. Это говорит о наличии поясничного лордоза и о повышенной нагрузке на крестец. Такой вариант типичен для человека и нетипичен для обезьян. Таз ореопитека низкий и широкий, на нем развиты передняя нижняя подвздошная ость и седалищная ость (обе отсутствуют у обезьян и имеются у человека), расстояние от ушковидной поверхности до вертлужной впадины уменьшено, а седалищная кость укорочена. Лобковый симфиз тоже оказался коротким, а за счет тонкой и прямой формы нижней лобковой ветви в наибольшей степени соответствует варианту австралопитека, а не каких-либо понгид. На бедренных костях мыщелки образуют большой угол с диафизом, что опять же характерно для человека. Хотя у орангутанов и гиббонов угол тоже есть, но у них внутренний мыщелок очень большой, а у людей и ореопитеков мыщелки одинакового размера.
Самой оригинальной частью оказалась стопа. Она у ореопитека ориентирована пальцами наискось в стороны, а не вперед, как у всех приличных приматов. Внутренняя часть стопы, судя по деталям строения суставов, была предназначена держать большую нагрузку, а вот наружная не усилена должным образом. У современных обезьян усилена именно боковая сторона – для лазания по деревьям и ходьбе по земле вразвалочку. Пяточный бугор ореопитека ориентирован вертикально – как у человека, а не наискось, как у обезьян. Отличают ореопитека также укороченные пропорции плюсневых костей и в целом относительно небольшие размеры стопы – такие соотношения среди приматов есть у прямоходящего человека и у гориллы с ее огромной массой; но ореопитек-то был маленький. Однако своеобразнее всего оказалась ориентация большого пальца стопы: он был развернут от прочих пальцев градусов этак на 100. То есть стопа ореопитека представляла странный треножник, одной опорой которого была пятка, второй – II–V пальцы, а третьей – далеко отставленный большой палец. Такое строение напоминает ногу птицы.
Позже – в новой статье – те же антропологи в соавторстве с Лоренсо Руком, Лукой Бондиоли и Роберто Макиарелли привели новые доказательства прямохождения ореопитека (Rook et al., 1999). На этот раз они исследовали особенности трабекулярной структуры тазовой кости. В зависимости от нагрузок мелкие перегородочки внутри костей – стенки ячеек губчатой ткани – выстраиваются во вполне определенной последовательности и с неслучайной плотностью. Эти трабекулы располагаются вдоль преобладающих нагрузок и плотнее в тех местах, где нагрузка больше. В тазовой кости ореопитека трабекулярная структура оказалась более похожей на человеческую, чем на понгидную. Так, сильно укрепленными оказались область ушковидной поверхности по направлению к лобковой кости, подвздошная кость спереди по направлению к седалищной кости, в том числе область передней нижней подвздошной ости, также – задневерхний край подвздошного гребня; усиленная полоса кости проходит у ореопитека между передней и задней частями подвздошной кости от большой седалищной вырезки до передней нижней подвздошной ости. Все эти особенности у австралопитеков и человека выражены ярче, но у гиббонов и крупных человекообразных обезьян по большей части отсутствуют вовсе. Частичное исключение составляет лишь горилла с ее огромным весом, из-за которого область подвздошно-крестцового сустава в скелете этой обезьяны оказывается усиленной.
Третья из упомянутых статей была посвящена хватательным способностям кисти ореопитека (Moyà-Solà et al., 1999). Были разобраны всевозможные параметры, могущие свидетельствовать о том, что ореопитек был не только способен, но и приспособлен к точечному захвату. Точечный захват – это захват, осуществляемый кончиками пальцев, когда каждый палец может прикоснуться к любому другому и все они могут быть сведены в одну точку. Пальцы прижимают предмет к другим пальцам. Этим точечный захват отличается от силового, при котором предмет сгребается всей кистью, а большой палец участвует вместе с прочими, прижимая предмет к ладони. Команда С. Мойя-Солы привела массу аргументов в пользу наличия точечного захвата у ореопитека: маленький относительно величины тела размер кисти при значительной длине большого пальца; отсутствие сужения головчатой кисти – у понгид и австралопитеков такое сужение возникает из-за значительного развития одной из связок, связанных с древолазанием; строение пястно-фаланговых суставов, схожее с человеческим – без суставной поверхности на верхней стороне головок пястных (каковая есть у Proconsul, Dryopithecus и мартышкообразных с их хождением на ладонях) и без поперечного валика в том же месте (каковой есть у горилл и шимпанзе для ограничения разгибания суставов при костяшкохождении – с опорой на согнутые пальцы), с уплощенными основаниями проксимальных фаланг (чего нет у других приматов, кроме людей); ориентированное почти вперед соединение между головчатой костью и II пястной для противостояния боковым нагрузкам при точечном захвате – в противоположность боковой ориентации у Proconsul, Dryopithecus и шимпанзе (правда, у четвероногих мартышкообразных ориентация фасетки тоже заметно смещена фронтально, но у них это связано с усилением боковых нагрузок при ходьбе); человекоподобное строение концевой фаланги большого пальца – с расширенным и уплощенным основанием, развитой бугристостью для прикрепления сгибателя и глубокой бороздкой внизу для связки длинного сгибателя большого пальца. Все вышеупомянутые особенности у ореопитека, конечно, не идентичны человеческим и не достигают даже уровня австралопитековых, но все же явно уклоняются в эту сторону, закономерно отличаясь от вариантов прочих приматов.
Дополнением к этим трем важным статьям стали еще две, опубликованные через несколько лет в Journal of Human Evolution. В первой было показано, что, хотя половой диморфизм по размерам клыков у ореопитеков был выражен вполне отчетливо, все же сравнительно с мартышками, дриопитеками, шимпанзе и прочими обезьянами сопоставимого размера самцы ореопитеков имели не такие уж крупные клыки (Alba et al., 2001). Это говорит о пониженной внутривидовой и особенно межсамцовой агрессии, примерно на уровне бонобо – самых миролюбивых и дружелюбных среди современных понгид. А ведь известно, что доброта и взаимопонимание – залог успешного развития.
Несколько позже вышла статья о строении внутреннего уха ореопитека (Rook et al., 2004). Его полукружные каналы оказались в целом понгидного строения, непохожими на вариант медленных древолазов. Передний и боковой каналы имеют размеры примерно как у понгид, а задний несколько увеличен. Это говорит о сильных угловых движениях головы в сагиттальной плоскости (то есть кивках вперед-назад), поскольку размер канала увеличивается у быстрых и подвижных видов для большей стабильности, а уменьшается у медленных. Например, у человека передний и задний каналы имеют увеличенные размеры для стабилизации при ходьбе, а вот боковой – маленький, так как боковые движения головы слабые.
Итак, нарисовался замечательный и благородный образ ореопитека: прямоходящая обезьянка с чуткими и ловкими ручками, добрая в душе и только что не разумная. Все эти прогрессивные особенности, как предполагалось, смогли возникнуть в условиях эндемичной островной экосистемы при ограниченном количестве ресурсов, но и при почти полном отсутствии хищников. Никто не мешал ореопитекам ходить по болотистой земле своего острова, может быть и не совсем прямо, но хоть бы и придерживаясь длинными руками за низкие ветви деревьев и кустарников. Еды, впрочем, не хватало. Потому ореопитеки развили способность тщательно собирать все съедобное, усовершенствовав пальцевый захват до точечного. Не совсем, правда, ясно, для чего листоядной обезьяне точечный захват, но листоядность ореопитеков реконструируется по строению челюстей и зубов, а в условиях островов чего не бывает. Например, мыши из ореопитековой фауны имели зубы, вроде бы приспособленные для жевания степной травы, однако ж жили в болотистых лесах; это противоречие тоже объясняется, вероятно, отсутствием гнета хищников и конкуренцией за ограниченные ресурсы (Casanovas-Vilar et al., 2011). Микростертость эмали указывает на питание ореопитека скорее фруктами и твердыми плодами и семенами, нежели листьями (Williams, 2013).
Oreopithecus, конечно, не был предком человека, но замечательным образцом параллельной эволюции.
Такой продвинутый образ ореопитека продержался несколько лет. Удар нанес Рэндэлл Сасман в 2004 году (Susman, 2004). Он оспорил почти все признаки, якобы свидетельствующие о способности ореопитека к точечному захвату. Самым крупнокалиберным выстрелом Р. Сасмана в адрес сторонников ловкорукого ореопитека стало утверждение, что команда С. Мойя-Солы перепутала целый ряд фаланг. Так, фаланги, считавшиеся проксимальными большого пальца, в действительности являются медиальными фалангами III пальца, исходя как из их тонкой морфологии, так и из относительных размеров. Якобы на спорных фалангах имеется явная раздвоенность основания – для соединения с головкой проксимальной фаланги. Кроме того, проксимальная фаланга большого пальца ни у каких приматов не бывает такой же длины, как проксимальные фаланги других пальцев, а согласно статье 1999 года получается именно так. Наконец, якобы на проксимальных фалангах I пальца человека и шимпанзе имеются следы асимметричного прикрепления косой связки. Вообще, согласно Р. Сасману, ни один исследователь еще не находил проксимальных фаланг I пальца кисти ореопитеков. Кроме этой путаницы, проксимальная фаланга V пальца была принята командой С. Мойя-Солы за фалангу II-го. Еще мимоходом Р. Сасман помянул, что на рисунке в статье 1999 года третья плюсневая изображена задом наперед.
Дистальная – концевая – фаланга I пальца кисти ореопитека, по мнению Р. Сасмана, вовсе не имеет черт, присущих гоминидам. Ее длинная узкая форма аналогична понгидной, а нижняя поверхность сильно разрушена, так что место прикрепления мышцы-сгибателя просто не видно, а рельеф для этого прикрепления не выражен.
Также Р. Сасман показал, что длина кисти ореопитека была вовсе даже не маленькой, а относительно длины руки даже более длинной, чем у орангутана – самого длиннорукого современного гоминоида. Стоит, конечно, учесть, что С. Мойя-Сола с командой считали длину кисти относительно размеров тела, а Р. Сасман – относительно длины руки, но вроде разница подходов дает еще более впечатляющие результаты, чем кажется, ибо руки у ореопитека длинные, а тело – короткое. Впрочем, Р. Сасман заметил, что даже абсолютные цифры, приведенные в статье 1999 года, ошибочны, ненавязчиво и корректно показав, что уважаемые коллеги не умеют считать.
Кроме того, Р. Сасман указал, что ореопитек имел очень длинные руки и длинные изогнутые пальцы – черты, типичные для древолазящих приматов. Впрочем, стоит сразу отметить, что изгиб фаланг ореопитека хотя и превышает индивидуальный максимум человека, все же несколько меньше средней гориллы – самой “прямопалой” обезьяны, находится в самых нижних пределах изменчивости обыкновенного шимпанзе, на нижней границе вариативности бонобо и далеко не достигает минимума орангутана.
Сильным аргументом Р. Сасмана послужило то, что ладьевидная кость запястья ореопитека похожа на орангутанью, поскольку центральная кость к ней не прирастает, что говорит о небольших размерах и малой подвижности большого пальца. У горилл, шимпанзе и человека ладьевидная кость кисти массивная, поскольку срастается с центральной костью, хотя у обезьян это слияние происходит позже, чем у людей. Таким образом, хватательная способность большого пальца ореопитека была очень слабой.
Короче говоря, корректно и очень вежливо Р. Сасман утверждал, что статья С. Мойя-Солы со товарищи полностью бессмысленна.
В восемнадцатом веке горячие испанские и итальянские сеньоры стали бы точить кинжалы, в девятнадцатом – перья, в двадцатом – карандаши, но научный прогресс неумолим. Точить компьютерную клавиатуру было бы странно, а потому в двадцать первом веке пришлось точить аргументы.
В новой статье 2005 года С. Мойя-Сола, М. Кёлер и Л. Рук исчерпывающе ответили на доводы Р. Сасмана (Moyà-Solà et al., 2005). Они привели качественные и подробные фотографии спорных фаланг, на которых отчетливо видно, что основания их вовсе не раздвоенные, а потому они не могут быть медиальными. Кроме того, С. Мойя-Сола с коллегами намекнули, что сам ореопитек показывает уважаемому Р. Сасману кукиш, ибо кисть ореопитека Ba#140 залегала в угольном пласте именно в этом положении. Первая пястная напрямую соединяется с проксимальной фалангой кисти, а та – со второй, так что вопрос об их идентификации практически не стоит. Нет путаницы и с длиной костей – разница измерений команды С. Мойя-Солы и Р. Сасмана практически незаметна на графиках.
II и V фаланги команда С. Мойя-Солы тоже не перепутала, поскольку они имеют закономерно разную длину. По новой реконструкции номера фаланг скелета IGF 11778 оказались следующими: III средняя по Susman, 2004 – I проксимальная; IV проксимальная – II проксимальная; IV средняя – III средняя; III проксимальная – слипшиеся III и IV проксимальные.
Наконец, ямка на нижней стороне дистальной фаланги I пальца имеет ненарушенную поверхность и, по утверждению команды С. Мойя-Солы, имеет совершенно явственные следы прикрепления связки длинного сгибателя большого пальца, говорящие о незаурядных способностях к точечному захвату.
От себя добавим, что ералаш с определением костей кисти ореопитека был всегда. Например, в 1973 году в том же Journal of Human Evolution была опубликована статья о находке скелета ореопитека IGF 11778, в которой имеется хорошая фотография скелета и препарированной кисти (Berzi, 1973). На фотографии кисти имеется I пястная кость, и притом совершенно целая. Правда, на той же фотографии в качестве V пястной показана, видимо, проксимальная фаланга, а фрагмент V-й посчитан за II-ю, так что путаницы тут хватает. Показательно, что не только нумерация, но даже число сохранившихся костей различается в разных источниках. В публикации 1973 года на фото скелета пястных и фаланг 14, на фото кисти – 13 (судя по всему, одна дистальная фаланга попала за край кадра); на реконструкции команды С. Мойя-Солы 1999 года – 17 костей, а на реконструкции Р. Сасмана 2004 года их 16, но кусок 17-й, вероятно, прилеплен сбоку к одной из проксимальных фаланг.
Р. Сасман не задержался с ответом (Susman, 2005). Его богатая и чрезвычайно обильная анатомическая аргументация должна была не оставить сомнений, что автор сей аргументации является крупнейшим специалистом в данной области, а спорные фаланги все же медиальные. Помянуто и раскритиковано было предполагавшееся сходство кисти ореопитека с кистью африканского Nacholapithecus. Опять упор шел на расположение и следы прикрепления косой связки, которых нет на фалангах. Подробно был рассмотрен вопрос об ориентации соединения II пястной и головчатой костей. Р. Сасман указал, что скошенное проксимо-латеральное соединение встречено у Oreopithecus, мартышкообразных, Australopithecus и человека, а потому не может отражать способность к точечному захвату. Более того, такая ориентация сустава имеется и в кисти колобусов, у которых большой палец вообще редуцирован. У австралопитеков вариант промежуточен между шимпанзе и человеком.
Относительно ямки на нижней стороне дистальной фаланги Р. Сасман указал, что она, судя по всему, тесным образом связана со способностями изготовления каменных орудий, поскольку встречается только у гоминид, эти орудия делавших. Дотошно было разобрано единственное возможное исключение – фаланга Stw 294 из Стеркфонтейна. Эта фаланга ранее поминалась как кость Australopithecus africanus, имеющая пресловутую ямку, но Р. Сасман показал, что кость вполне может происходить из более позднего слоя, в котором встречены кости Homo habilis.
Еще раз речь шла о длине фаланг и их изгибе, о форме таза, который у ореопитека по комплексу параметров более всего похож на орангутаний… Впрочем, что касается таза, его форма у ореопитека своеобразна настолько, что можно утверждать разные вещи. С одной стороны, подвздошная кость действительно широкая и низкая, несколько похожая на гоминидную. С другой стороны, пропорции всей тазовой кости крайне вытянутые, сопоставимые с орангутаньим состоянием.
Наконец, много раз поминавшиеся обеими сторонами в качестве авторитетов М. Марзке и М. Шрусбери издали статью (Marzke et Shrewsbury, 2006), в которой пояснили, что ямка на основании дистальной фаланги I пальца никак не связана с расположением и размером связки длинного сгибателя большого пальца, поскольку в любом случае связка крепится дальше – на всякого рода бугорках и гребешках (что, кстати, сказано и в любом анатомическом атласе), а ямка, когда имеется, заполнена окружающими тканями или жировой подушечкой. Ямка бывает выражена у самых разных приматов и ничего не говорит о способностях кисти. Таким образом, бурный спор, кипевший годами, частично не имел смысла. Попутно авторы вспомнили и другие примеры, когда уважаемые всем мировым сообществом ученые связывали большие размеры ямки с сильным развитием длинного сгибателя – статьи Р. Сасмана о парантропах, Д. Риклана об африканских австралопитеках, Э. Тринкауса о шанидарских неандертальцах и даже собственную – статью М. Марзке об эволюции точечного захвата.
Во второй части статьи М. Марзке и М. Шрусбери убедительно показали, что асимметричность прикрепления косой связки большого пальца никак не может быть показателем принадлежности проксимальной фаланги этого пальца, поскольку связка крепится на кость не в тех местах, что были показаны в статье Р. Сасмана, дистальной частью соединяется с суставной сумкой, вообще не оставляет на кости никаких следов и имеется далеко не у всех приматов.
Авторы отметили, что из информации и рисунков, приведенных в статьях и С. Мойя-Солы, и Р. Сасмана, невозможно сделать вывод о принадлежности спорных фаланг к проксимальным большого пальца или медиальным других пальцев.
В заключение М. Марзке и М. Шрусбери посетовали, что существует крайне мало исследований, в которых бы реально рассматривались взаимоотношения скелетных и мышечных структур, хотя далеко идущие эволюционные выводы готовы делать все. Учите анатомию, господа!
Но наука не знает покоя. Собравшись с новыми силами, команда С. Мойя-Солы детальнейшим образом исследовала вопрос о строении концевых фаланг большого пальца руки ореопитека и других приматов (Almecija et al., 2014). Сардинская обезьяна в целом оказалась весьма примитивной, похожей на проконсула. Однако некоторые черты ореопитека все же удивительно похожи именно на человеческие: это расширенность головки и усиленные места прикрепления длинного сгибателя пальца, связанные с соответствующими ямками на основании и теле кости. Из всех приматов рельеф фаланг ореопитека больше всего похож на таковой оррорина и современного человека. Очевидно, что речь идет не о родстве, но о функциональной конвергенции. Ореопитеки, похоже, все же брали предметы, зажимая их подушечками пальцев, как люди, а не кончиками, как прочие обезьяны.
Какова же мораль всей этой истории? Людям, далеким от науки, может показаться, что ученые заврались, запутались и вообще лепят что попало, дурят честных людей и зря едят свой хлеб. Однако стоит напомнить, что все специалисты, упоминавшиеся нами, – ведущие антропологи и палеоприматологи планеты. Они собственноручно искали и чистили окаменевшие останки, препарировали мышцы современных обезьян и людей, годами искали тонкие закономерности во взаиморасположении и развитии всяческого рода шероховатостей и малейших неровностей костей. Откуда же взялась столь впечатляющая разница в выводах, большой спор из-за малых бугорков? Причина проста: реальность сложна! Древние кости сохраняются плохо, лежат в угле как попало, взаимосвязи мышц и костей слабы, изменчивы и плохо изучены. Мы многого не знаем! Но в спорах рождается истина! Именно благодаря подобного рода историям в науке выкристаллизовывается знание. Противоречия будят мысль и вызывают оппонентов на новые изыскания, все более тщательные и глубокие. Ошибки выявляются, и замечательно, что выявляют их всё те же самые ученые, а отнюдь не те, кто готов, ничего не делая, говорить о бестолковости ученых.
Знание – сила!
Не так много людей занималось анатомией приматов и ореопитеков. Слишком мало останков ореопитеков дошло до нас, очень уж сплющены и деформированы эти кости в угольных толщах. Ситуация с нашими современными знаниями об ореопитеках несколько напоминает ситуацию со знаниями о неандертальцах в конце XIX века или об австралопитеках до 1940-х годов.
Пока неандертальцы были известны по паре неполных черепов и одному-двум скелетам, да еще частично патологичным, чего только не говорилось о них! Ведущие медики и антропологи утверждали самые невероятные с нынешней точки зрения вещи. Чего стоит одна только байка о русском казаке-микроцефале, умершем в пещере в погоне за Наполеоном! А ныне? Известен даже цвет волос некоторых неандертальцев!
А как встретил научный мир сообщение Р. Дарта об открытии древнейшего прямоходящего существа в 1925 году? Вплоть до открытий в Восточной Африке в 1970-х годах большинством ученых австралопитеки признавались лишь боковой ветвью эволюции (в целом обоснованно, ведь речь шла о южноафриканских формах). Когда же данных стало достаточно, были пересмотрены коллекции скелетов людей и обезьян, проведены корректные сравнения и дополнительные исследования по биомеханике, геологии, палеофаунистике и множеству прочих дисциплин и австралопитеки заняли свое прочное место в ветвях эволюционного древа жизни.
Ученым свойственно сомневаться. Противоречия и споры – неотъемлемая часть процесса научного познания. Без них наука догматизируется и превращается в религию. Ученые обязаны сомневаться и спорить, подвергать проверке все новое и все старое. Любое новое знание ставится под знак вопроса и многие знаки вопроса – до полной победы истины, иначе не избежать ошибок.
…А как же ореопитек? Ходил ли он на двух ногах? Брал ли пищу кончиками пальцев или сгребал всей ладонью? Будущее покажет, каким было прошлое. История спора не закончена, и в научных лабораториях по-прежнему раздается напряженный скрип…
Крестец ореопитека – крест на прямохождении ореопитека
Да, много проблем создал ореопитек для ученых. Не то он был прямоходящий, не то – специализированный древолаз. Не то изящно срывал малину кончиками утонченных пальцев, не то грубо сгребал листья всей мохнатой пятерней. Много аксонов было сломано в былинных турнирах сторонников и противников необычайной продвинутости ореопитека. Много нейронов погибло в попытках открыть тайны островной обезьяны. Но, видимо, недостаточно…
А потому двое антропологов из Техаса – Габриэль Руссо и Лиза Шапиро – решили продолжить эпическую битву за ореопитека (Russo et Shapiro, 2013). На сей раз они обратили внимание на часть, доныне не привлекавшую взоры. Оказалось, что доселе никто не исследовал крестец ореопитека. Честно говоря, оно и понятно, ибо окаменелость больше напоминает нечто из фильма “Чужие” (если не что похуже), нежели филейную часть обезьяны. Ничем не лучше выглядят и нижние поясничные позвонки. Вообще-то, исследователям приходится изучать деформированный кусок угля, а не исчезнувшие в вечность кости, так что проблема и впрямь немалая.
Однако крестец называется крестцом неспроста, ибо находится в самом важном месте – в Центре Тяжести! А посему на нем в первую очередь отражается положение тела при ходьбе. У человека и австралопитеков крестец очень широкий и короткий, с мощным верхом, резко сужающийся вниз. У человекообразных обезьян крестец узкий, длинный, вытянутый, сужающийся постепенно. Поясничные позвонки прямоходящих мощные, увеличивающиеся от первого к последнему, образующие изгиб вперед – поясничный лордоз. У косолапых антиподов все не как у людей. Что же ореопитек?
По большинству рассмотренных параметров он оказался человекообразной обезьяной. Абсолютная ширина крестца, размеры верхних и нижних суставных поверхностей поясничных позвонков и крестца, ширина позвоночных дуг, описательные признаки – все как у горилл и шимпанзе. Самой человеческой чертой выглядит только увеличение ширины между суставными отростками от первого до последнего поясничных позвонков, но оно не такое уж существенное и в той же мере встречается у обезьян. Из всего вышеназванного Г. Руссо и Л. Шапиро делают вывод, что нагрузки на поясницу и крестец у ореопитека были как у обезьян, никакого поясничного лордоза не было, а на гипотезе прямохождения можно поставить крест. Казалось бы, удивительная сказка заканчивается…
Но!
Никуда не делись другие признаки прямохождения ореопитека! А как же наклон мыщелков бедренной кости относительно ее диафиза? А как же масса специфических черт тазовых костей, в числе коих – трабекулярная структура? А как же “птичья ножка” – полуфантастическая форма стопы-треножника с опорой на пятку, оттопыренный на 100 градусов большой палец и на прочие 2–5-й пальцы? Даже с поясничными позвонками не все так окончательно и безнадежно, ибо сумма их передних высот, согласно предыдущим исследованиям, выше задних, что свидетельствует-таки о поясничном лордозе. А зачем последний, если ты ходишь на четвереньках и при этом не гигантская горилла? Так что любителям ореопитеков не стоит расстраиваться, расслабляться и успокаиваться; надо ждать новых изысканий и потрясений.
В лабораториях и ученых кабинетах по-прежнему раздается стук и треск, скрип и скрежет. Наука не стоит на месте!..
Замечательно, что ореопитеки начали переход к прямохождению (если начали) в то же самое время, что и наши предки. Замечательно и то, что одна и та же причина уничтожила ореопитеков и дала “зеленый свет” нашим предкам. Дело в том, что похолодание и осушение климата привело к соединению острова Гаргано с материком и исчезновению тропических влажных лесов. Для ореопитеков это окончилось фатально: вязкие почвы их родины подсохли, с материка туда ринулись голодные хищники, и на том история потенциально прогрессивных, вкусных, но совершенно беззащитных обезьян завершилась. Не исключено, что, подобно многим островным животным, долгое время существовавшим в отсутствие хищников, ореопитеки потеряли страх перед зубастыми и когтистыми и даже не пытались спасаться.
Удивительно, но те же климатические изменения “подстегнули” эволюцию преавстралопитеков. Африка – не Европа. Хищников тут всегда хватало, и преавстралопитеки знали, чего от них ждать. Так что выход в саванну не застиг их врасплох. Леопард в лесу и леопард в саванне – все одно леопард. Очевидно, наши предки были гораздо более общительными и сплоченными существами, что и спасало их от опасностей африканских ночей. Вероятно, в этот момент произошел существенный скачок социализации, что отразилось в уменьшении размеров клыков и ослаблении полового диморфизма. Впрочем, это уже другая история…
Глава 32 Австралопитеки – предки разумных
Среди ранних австралопитеков нам известны несколько видов, из коих некоторые, видимо, не были предками человека. Даже сахелянтроп Sahelanthropus tchadensis, который обычно упоминается как наш древнейший прямоходящий предок, имел слишком уж гориллоподобный рельеф затылочной кости при павианьих размерах черепа. Далеко не факт, что он числился в наших прямых пращурах. То есть прямохождение могло возникать не один раз, а параллельно в близких линиях.
Не исключено, что некоторые популяции ранних австралопитеков могли специализироваться в необычную сторону. Так, лучевая кость KNM-ER 20419 анамского австралопитека Australopithecus anamensis из Аллия Бей в Кении имеет характерную скошенность нижнего конца: лучезапястная суставная поверхность загнута в ладонную сторону. Аналогичная ориентация типична для человекообразных обезьян, ходящих на согнутых фалангах пальцев (Corruccini et McHenry, 2001). А ведь у более древнего ардипитека Ardipithecus ramidus и более поздних людей специализаций к такому костяшкохождению нет, а анамские австралопитеки, вообще-то, по всем данным вроде бы были предками афарских Australopithecus afarensis. Видимо, отдельные популяции вполне могли уклоняться от генеральной линии. С другой стороны, летом 2013 года автор этих строк в личных руках держал лучевую кость черняховца III–V века нашей эры из-под Харькова с точно такой же скошенностью суставной поверхности. Поскольку крайне сомнительно, что готы в позднеримское время скакали по степям на четвереньках, приходится признать, что дело просто в индивидуальной изменчивости. Поскольку от анамского австралопитека известна лишь одна лучевая кость, делать глобальные выводы на основе одного признака одной кости надо с огромной осторожностью.
Около 2,7 млн лет назад от грацильных австралопитеков отпочковались парантропы, или массивные австралопитеки. Эта эволюционная линия крайне интересна. С одной стороны, они представляют собой явный эволюционный тупик: мощнейшие челюсти и жевательные зубы, огромные костные гребни на черепе для прикрепления жевательных мышц. С другой – парантропы были не столь уж примитивными.
В южноафриканской пещере Стеркфонтейн “олдованская” брекчия пятого уровня содержит много оббитых галек из кварца и кварцита и кости Paranthropus robustus. Там же, а также в первых трех уровнях Сварткранса (где тоже найдены кости парантропов, но и “ранних Homo”) обнаружены интересные костяные обломки со следами стертости (Backwell et d'Errico, 2001). Когда исследователи провели эксперименты по использованию костей для самых разных целей, точно такие же царапины, как на древних осколках, получились на тех, которыми ученые разрывали термитники. Стоит вспомнить, кстати, что еще в 1980 году советский энтомолог Г. М. Длусский выдвинул предположение о значительной роли питания термитами и личинками из древесины в происхождении навыков труда и необходимости использования для этого каменных орудий труда нашими древнейшими предками (Длусский, 1980).
Другой вопрос, как могли парантропы использовать изготовленные ими каменные орудия? Ведь, судя по строению челюстей и зубов, а также микроэлементным и изотопным анализам костей, восточно– и южноафриканские парантропы питались хоть и очень различно, но те и другие были практически исключительными вегетарианцами. По всей видимости, Paranthropus robustus выкапывали какие-то корневища и другие подземные части растений, а Paranthropus boisei жевали осоку на берегах рек и озер (Cerling et al., 2011a, 2013; Sponheimer et al., 2013).
Кроме того, всегда остается некоторое сомнение: не принадлежат ли эти костяные и каменные орудия более развитым “ранним Homo” – например, Homo habilis, нашим непосредственным предкам, жившим в тех же местах и в то же время, которые к тому же вполне могли охотиться на парантропов? Однако кисть массивных австралопитеков была приспособлена для изготовления и применения орудий намного лучше, чем у Homo habilis: у парантропов имелся седловидный сустав между костью-трапецией и ладьевидной костью, а концевые фаланги пальцев были расширены даже в большей степени, чем у современного человека, то есть имели гипергоминидные пропорции. По строению мозга парантропы тоже были не так уж отсталы. Конечно, их мозг не особо отличается от обезьяньего, но, по крайней мере, он не меньше, чем примерно у половины “ранних Homo”. Впрочем, и масса тела у парантропов была в полтора раза больше, чем у хабилисов, так что относительные размеры мозга оказываются заметно меньшими.
Парантропы так и не стали по-настоящему разумными. Они сделали ставку на размеры и растительноядность, что привело их к экологической специализации и вымиранию. Видимо, на пути поумнения массивных австралопитеков имелось несколько технических проблем. Для начала, растительная пища низкокалорийна, ее надо поглощать в больших количествах и желательно без остановки. Для этого надо иметь мощнейший жевательный аппарат и длинный пищеварительный тракт. Мощные челюсти движутся мощными мышцами, которые оказывают давление на кости; уже в подростковом возрасте швы между костями свода срастаются, а мозг теряет возможность увеличиваться. Кроме того, добывать осоку и корешки не так уж сложно, для этого не требуется особо напрягать извилины и не очень-то нужны орудия. В крайнем случае можно обойтись самой примитивной ковырялкой на уровне, доступном и шимпанзе.
Почему исчезли парантропы? Есть разные мнения. Возможно, усилилась конкуренция с нашими предками, более беспокойными и агрессивными. А может быть, массивные австралопитеки проиграли эволюционную гонку с грызунами, тоже любящими вкусные корневища, но куда как быстрее плодящимися и успешнее приспосабливающимися к новым условиям. Показательно, что вымирание парантропов совпадает с очередными климатическими пертурбациями в Африке. Примерно в это время наблюдается усиление засушливости климата и очередное наступление саванн на леса (Cerling et al., 2011b). Не сказать, чтобы оно было каким-то чересчур грандиозным, но в сочетании с другими факторами оказалось фатальным для парантропов.
Массивные австралопитеки вымерли, но остались окаменевшим примером альтернативности эволюции, более того – альтернативности разумности на основе растительноядности. Кто знает, не появись “ранние Homo”, может, Землю заселили бы разумные вегетарианцы?..
Среди грацильных австралопитеков тоже далеко не все были нашими предками. Особенно любопытен в смысле параллельной гоминизации австралопитек гари Australopithecus garhi. Он обитал 2,5 млн лет назад на территории нынешней Эфиопии (Asfaw et al., 1999). Судя по особенностям строения зубов, австралопитек гари не был нашим предком. Однако в тех же слоях, в коих обнаружены его останки, исследователи нашли обломки костей антилоп с надрезками, а также каменные орудия, которыми повреждения были нанесены. Как обычно бывает в таких случаях, возникли две основные версии развития событий, ведь орудия откопаны не зажатыми в костлявых руках, а кости антилоп – не застрявшими между зубов, а лишь в тех же слоях на обширной территории.
Во-первых, по соседству могли жить какие-то более продвинутые гоминиды типа первых Homo. Они накололи камней, съели антилоп и, возможно, австралопитеков и удалились в зыбкое марево саванн. Правда, с этой версией есть пара неувязок: никаких останков Homo в этих отложениях нет (конечно, никто не сказал, что они были обязаны сохраниться, но останков австралопитеков довольно много, да к тому же не в одном месте, а целом ряде локальных местонахождений), а на костях австралопитеков нет следов орудий.
Так что возникает вторая гипотеза: именно гари умели делать чопперы и охотились на антилоп. А это значит – напоминаем, что они не были нашими предками, – что до уровня изготовления орудий и перехода ко всеядности дошли как минимум две эволюционные линии: гари и наша. Что помешало австралопитекам гари стать полностью разумными? Нам это неизвестно. Не так много мы знаем об этом виде.
С большой вероятностью гоминизация – превращение в человека или “парачеловека” – затронула целый ряд видов.
Так, южноафриканские Australopithecus africanus вряд ли были нашими предками; это видно, в частности, по их стопе с оттопыренным большим пальцем, слишком обезьяньим пропорциям конечностей и специализациям черепа – по всем этим чертам они примитивнее более древних восточноафриканских Australopithecus afarensis. Вместе с тем Australopithecus africanus с наибольшей вероятностью являются предками Australopithecus sediba, живших в той же Южной Африке 2 млн лет назад. А седибы, в свою очередь, удивительно похожи на Homo habilis – настолько, что часть исследователей склонна называть их Homo sediba. Так может, в Южной Африке развивалось свое, параллельное восточноафриканскому, человечество? Среди еще более поздних южноафриканских находок смесь своеобразных черт позволила выделить вид Homo gautengensis (Curnoe, 2010). Они вроде бы и похожи на хабилисов Восточной Африки, а вроде бы и не вполне.
Да и в самой Восточной Африке таксономические взаимоотношения первых людей далеко не очевидны. Не исключено, что тут более-менее одновременно существовали два, три, а то и четыре вида “ранних Homo” (не считая парантропов): Homo rudolfensis, Homo habilis, Homo ergaster или Homo erectus, а возможно – еще и Homo microcranous. Подробно об этой чехарде будет сказано ниже, тут отметим лишь, что между 2,5 и 1,5 млн лет назад у эволюции был довольно широкий выбор – из кого сделать человека. Трудно сказать, чем взяли именно наши предки, но можно утверждать, что, сложись условия лишь немного иначе, мы имели бы иное прошлое, облик и привычки.
Альтернативы возникали и за пределами Африки. Древнейшие внеафриканские гоминиды весьма примитивного облика (хотя это уже явно не австралопитеки, а люди) найдены в Грузии, в местонахождении Дманиси; их датировка – около 1,8 млн лет назад. Часто они поминаются как древнейшие европейцы, однако в таком утверждении есть два лукавства: во-первых, Грузия географически относится к Азии, а во-вторых, дманисцы с наибольшей вероятностью вымерли, не оставив потомков. Однако они изготавливали галечные орудия, а стало быть, были настоящими людьми. Побольше глобальных засух в Африке, поменьше саблезубых тигров в Азии – и планету населили бы правнуки грузинских “ранних Homo”.
Глава 33 “Заповедник гоблинов”
По мере расселения по миру отдельные группы людей могли попадать в такие места, откуда трудно было выбраться обратно и куда мало кто добирался в последующем. Два образцовых примера дает Индонезия.
Люди попали на Яву около 1,1 (Hyodo et al., 2002), в самом оптимистичном случае – около 1,25–1,51 млн лет назад (Larick et al., 2001). Это были уже Homo erectus – достаточно продвинутый вид; яванские эректусы шире известны как питекантропы. Туда они пришли посуху, ведь регулярно уровень океана понижался, а острова соединялись с Малаккой в единый субконтинент Сунду. Потом воды морские наступали и отрезали питекантропов от остального человечества. Мало кто проникал сюда вновь, поэтому Ява – конец пути, тупик, край земли – оказалась своеобразным заповедником, где на протяжении как минимум полумиллиона, а то и целого миллиона лет шла совсем своя экзотичная эволюция. Последовательные этапы этой эпопеи мы видим в показательном ряду черепов: Сангиран, Моджокерто и Триниль – Самбунгмачан и Нгави – Нгандонг. Правда, для всех них датировки весьма расплывчатые и спорные, но, по крайней мере, мы можем сравнить их морфологию. Древнейшие питекантропы Явы не слишком отличались от африканских и европейских эректусов, но постепенно специализировались все больше и больше. Люди из Самбунгмачана уже гораздо более обособлены и выглядят уже отлично от среднеплейстоценовых гоминид Африки, Европы и даже материковой Азии.
Самые поздние яванские архантропы из Нгандонга на реке Соло специфичны уже настолько, что были описаны как особый вид Pithecanthropus soloensis, или Pithecanthropus ngandongensis (начало названия может по вкусу заменяться на Homo, Homo erectus, Homo neanderthalensis или даже Homo sapiens, а soloensis оказывается, соответственно, видовым или подвидовым эпитетом). Тут были найдены 14 мозговых коробок и черепных крышек, фрагмент тазовой кости и две большие берцовые кости – беспрецедентная коллекция.
Кстати, до сих пор нет внятного объяснения такому набору костей. Предполагалось, что тут имело место кровавое каннибальское пиршество с отрезанием голов, разбиванием оснований черепов, поеданием мозга и выставлением трофеев на видном месте на берегу реки. Этакий пикник на пляже с инсталляцией голов на кольях в исполнении продвинутых питекантропов. Впрочем, такая красочная картина имеет не очень-то твердые основания: с одной стороны, на большинстве черепов действительно есть повреждения и как минимум четверо могли от них погибнуть, с другой – на костях, которые неведомо сколько перемывались рекой, повреждения будут гарантированно без всяких людоедов (Chrisomalis, 1997). Проблема в том, что находки сделаны в переотложенных и сильно перемешанных слоях, кстати в сопровождении весьма богатой фауны. Концентрация черепов явно не случайна, но ее происхождение – таинственно.
Нам же важнее особенности строения людей из Нгандонга. Секрет тут в сочетании очень примитивных и прогрессивных черт.
Уголок занудства
С одной стороны, форма черепа нгандонгцев очень похожа на таковую питекантропов и синантропов, с другой – размеры в среднем больше. Мозговая коробка с мощнейшим лобным и затылочным рельефом, выраженным заглазничным сужением, но боковые стенки черепа почти вертикальны, а свод сравнительно округлый. Надбровный валик очень характерной формы – в виде прямой горизонтальной полки, с утолщениями по бокам и усилением начала височной линии. Специализирован затылочный валик: здоровенный, в виде острого поперечного гребня, загнутого вниз, с углублениями снизу и подпоркой в виде наружного затылочного сагиттального гребня выйной площадки. Специфическая черта – сильные бугристости позади мыщелков затылочной кости, из-за чего задний край затылочного отверстия оказывается углублен. Из-за этих же бугристостей затылочное отверстие расширено спереди и сужено сзади, что довольно необычно. Затылочные мыщелки очень малы относительно размеров большого затылочного отверстия и ориентированы параллельно друг другу.
Височная кость также специализирована: ее чешуя практически прямоугольная, с прямым верхним краем, без теменной вырезки. Примитивны резкая изогнутость каменистой части височной кости и отсутствие шиловидных отростков. С другой стороны, есть почти сапиентные черты, весьма нетипичные для ископаемых гоминид: сосцевидные отростки крупные, хорошо очерченные, выступающие далеко вниз, нижнечелюстные ямки височной кости глубокие и узкие, а суставной бугорок высокий. Уникальная черта гоминид из Нгандонга – отсутствие позадисуставного отростка височной кости. Вместо него имеется тоненький гребешок, который может быть “потомком” постгленоидного отростка, но расположенный на передне-боковой стороне ямки, почти прямо напротив изначального положения. Чешуйчато-барабанный шов проходит через наружную вершину нижнечелюстной ямки (Durband, 2008). Между барабанной пластинкой и сосцевидным отростком имеется широкая щель, этот признак отмечается как специфичный для азиатских архантропов (Delson et al., 2001), а у нгандонгцев выражен в наибольшей степени. Барабанная пластинка толстая, очень широкая и сильно изогнутая, она ориентирована горизонтальнее, чем у современного человека.
У нгандонгцев весьма специфично строение овального отверстия большого крыла клиновидной кости: на дне глубокой ямки и всегда с дополнительным маленьким отверстием, которое не имеет аналогий ни на одном современном черепе (Durband, 2007).
Показательно, что у классических питекантропов Явы из Триниля и Сангирана – древнейших сравнительно с нгандонгцами – строение основания черепа и нижнечелюстной ямки более стандартное: мыщелки крупные, имеется большой, расположенный сзади позадисуставной отросток, а чешуйчато-барабанный шов локализован на задней стороне ямки.
Объем мозга по всем нгандонгским черепам варьирует от 1013 до 1251 см³, в среднем 1100 см³. Строение мозга в целом примитивно, но прогрессивнее, чем у классических питекантропов и вообще архантропов.
Две известные большие берцовые кости чрезвычайно массивны, с очень толстыми стенками, узким внутренним каналом и округленным передним краем кости. Рост индивида Нгандонг B был около 1,65–1,68 м – самая средняя величина в мировом масштабе.
Таким образом, можно утверждать, что на Яве в условиях островной изоляции шел долгий – в сотни тысяч лет – природный эксперимент по выведению особого сорта людей. У австралийских аборигенов, тасманийцев и каких-либо современных людей нгандонгский вариант не встречается. Таким образом, можно уверенно утверждать, что препалеоантропы Явы не участвовали в формировании современных рас, а вымерли без следа. Изоляция и специализация до добра еще никого не доводили. Когда исчезли яванские “гоблины”, что стало причиной их вымирания? Мы этого не знаем. Вряд ли “нгандонгцы от испуга скушали друг друга”, скорее, они тихо вымерли еще задолго до прихода сюда сапиенсов или же проиграли соревнование с более продвинутыми людьми, возникшими в Большом Мире в ходе напряженной конкуренции и вновь открывшими Яву.
Однако люди с реки Соло – еще не самый выдающийся пример “параллельного человечества”. Дальше лежали еще более экзотические острова, и их населяли еще более экзотические существа…
Глава 34 Где водятся хоббиты?
На краю земли, на западе острова Флорес, чьи горы отражаются на севере в лазури моря Флорес, а на юге – в аквамарине моря Саву, есть долина Вак-Ракан. На ее жарком южном склоне зияет исполинский вход в прохладную пещеру Лианг-Буа. А в пещере лежат сокровища. Археологи раскопали много слоев и нашли в них великое изобилие костей. В плейстоцене остров населяли удивительные звери: трехметровые комодские вараны и полутораметровые слоны-стегодоны, полуметровые крысы и двухметровые аисты-марабу. Поэтому ничего особо странного, что тут же жили и карликовые метровые люди. Самый целый скелет был описан в 2004 году как Homo floresiensis (Brown et al., 2004), а поскольку три года до этого экраны сотрясала кинотрилогия “Властелин колец”, новообретенного члена человеческого братства, конечно, сразу прозвали “хоббитом”. И было за что: рост “хоббитов” был всего один метр – на треть меньше, чем средняя высота самых низких африканских пигмеев! Впрочем, для пигмеев рост даже ниже метра – не такая уж редкость в индивидуальных случаях, тем более что скелет из Лианг-Буа был женским. Гораздо более удивительным было строение черепа: объем мозга оказался таким же, как у шимпанзе! Сначала его измерили вообще в 380 см³, потом уточнили до 426 см³, но это тоже крайне мало – в пределах австралопитековых значений, меньше, чем у подавляющего большинства хабилисов, и вдвое меньше самых захудалых питекантропов! Размерами дело не ограничилось: строение мозга оказалось крайне примитивным, по большинству характеристик напоминающим вариант Australopithecus afarensis. Другие признаки черепа были своеобразными: очень маленькое, довольно сильно выступающее вперед лицо, круглые глазницы, широкий нос, ограниченный по бокам костными валиками, челюсть без подбородочного выступа. Надбровье, к сожалению, оказалось разрушенным, но, судя по всему, выступало довольно мощно для черепа таких размеров. В целом череп совсем не похож на череп современного человека, а скорее уж – хабилиса или крайне уменьшенного питекантропа.
Остальной скелет “хоббита” тоже необычен. Пропорции рук и ног хотя и не откровенно обезьяньи, но почти австралопитековые. Кости запястья имеют массу специфических черт, ставящих “хоббита” особняком среди всех гоминид.
А жила самая известная “хоббитиха” – Лианг-Буа 1, или LB1, – около 60 тыс. лет назад (по первым датировкам – 18 тыс. лет назад), когда на планете царили неандертальцы, денисовцы и прочие дремучие орки, а сапиенсы уже собирались в путь из Африки.
Естественно, возник вопрос: что бы это все значило?!
Для ответа на этот вопрос надо обратиться в глубокое прошлое. Более миллиона лет назад питекантропы пришли в Сунду и обосновались в том числе на ее юго-восточных берегах. Дальше нынешнего острова Бали лежал пролив, который уже настолько глубок, что не осушался даже в периоды самого низкого уровня океана; путь был прегражден. Но через водную гладь 25 км шириной в ясные дни были видны горы острова Ломбок, который соединялся сушей с Сумбавой, а через следующий пролив в 19 км можно было узреть вершины Флореса.
Что творилось в головах питекантропов, стоявших на берегу и взиравших на недосягаемые земли По-ту-сторону? Какой допотопный Колумб решился переплыть море? Что изобрел этот первобытный гений – бревно, плот или даже лодку? И он же был не один, ведь вряд ли он почковался на вновь обретенной родине.
Рис. 24. Хоббит, стегодон, гигантский марабу, комодский варан и гигантская крыса Hooijeromys nusatenggara.
Наверное, мы очень недооцениваем способности и возможности питекантропов, а также и других древних существ. Снобизм “человека разумного”, узурпировавшего право на интеллект, вкупе с бедностью фантазии, беспощадно высвечивающей незаконность этого самовольства, даже вызвал к жизни гипотезу, что предков “хоббитов” занесло на Флорес волной цунами! Интересно, а черепах, варанов и слонов забросило тем же катаклизмом или цунами были вполне рядовым средством передвижения? Судя по как минимум двухкратному появлению стегодонов на Флоресе, а также их наличию и на многих других индонезийских островах, серфинг был среди плейстоценовых хоботных модным развлечением…
Как бы то ни было, на Флоресе питекантропы оказались 1 млн лет назад. Мы знаем об этом благодаря каменным орудиям из Воло-Сеге (Brumm et al., 2010), а также более поздних местонахождений Мата-Менге и Боа-Леза в долине Соа. В это время в Азии – да и на планете вообще – не было других людей, кроме Homo erectus (разве что на юге Африки могли доживать свой век последние парантропы, но к Индонезии они точно отношения не имеют). На Флоресе питекантропы обрели свой истинный Bag End, то есть “Тупик”, – пасторальное родовое имение, в котором положено жить Бэггинсам. Отсюда не было обратного пути, и сюда никто больше не мог добраться вплоть до появления сапиенсов в самом конце плейстоцена.
Предки “хоббитов”: люди из Мата-Менге
Образ удивительных карликовых человечков из Лианг-Буа никогда не перестанет будоражить фантазию исследователей. Без сомнения, самая интригующая загадка – их происхождение. Откуда и когда появились “хоббиты”? Какие превратности судьбы уменьшили рост и объем мозга их предков вдвое? Про это уже были написаны сотни страниц размышлений, но всегда приятнее кость в руке, чем идея в книге. И вот они – кости!
Долина реки Соа, расположенная в центре Флореса, уже прославилась древнейшими на острове орудиями. В нескольких местонахождениях археологи обнаружили артефакты разных времен: 1,01–1,026 млн лет назад в Воло-Сеге, 906 тыс. лет назад – в Танги-Тало, 880 тыс. лет назад – в Боа-Леза и Мата-Менге. Местность Мата-Менге и оказалась источником палеоантропологического счастья: раскопки октября 2014 года принесли кусочек черепа, обломок нижней челюсти и шесть зубов (Bergh et al., 2016a). Они были откопаны из второго слоя, датированного рядом методов временем 650–800 тыс. лет назад (Brumm et al., 2016). Тут же нашлись кости комодских варанов, гигантских крыс и карликовых слонов-стегодонов, а также орудия – примитивные отщепы.
Как ни мало найдено в Мата-Менге, даже по этим немногочисленным фрагментам можно видеть некоторые моменты эволюции “хоббитов”. Челюсть из Мата-Менге, судя по тому, что в ней прорезался третий моляр – “зуб мудрости”, принадлежит взрослому человеку, но какая же она маленькая! Она на четверть меньше, чем даже челюсти “хоббитов” из Лианг-Буа, не говоря уж обо всех прочих известных людях – древних или современных. Не так много признаков можно определить на обломке, но они явно отличают человека из Мата-Менге от австралопитеков и хабилисов, зато сближают с эректусами и “хоббитами”. То же можно сказать о зубах. Хотя верхнюю челюсть и переднюю часть нижней не нашли, по асимметрии стертости резцов и премоляра мы можем уверенно утверждать, что череп был прогнатный, то есть лицо выдавалось вперед.
Для понимания островной эволюции важно строение моляра: у человека из Мата-Менге он пятибугорковый и умеренной длины, как и у яванских питекантропов, тогда как у “хоббитов” – четырехбугорковый и укороченный. При этом размеры и моляра, и других зубов, включая два молочных клыка, чрезвычайно маленькие – меньше, чем даже у самых мелкозубых современных людей, не говоря уж об эректусах, зато близки к параметрам зубов “хоббитов” из Лианг-Буа. Лишь премоляр из Мата-Менге вполне вписывается в изменчивость сапиенсов, хотя и он несопоставим с огромными премолярами Homo erectus.
Получается, что сначала у предков “хоббитов” катастрофически уменьшились размеры челюстей и зубов (и, трудно сомневаться, всего черепа), а уж потом стали меняться детали строения.
Выводы из всего сказанного вполне очевидны: люди из Мата-Менге – потомки яванских питекантропов и предки флоресских “хоббитов”, уже чрезвычайно мелкие, но не во всем еще подобные своим потомкам.
Вместе со всем прочим необходимо отметить, что у “хоббитов” Лианг-Буа нет специализаций гоминид из Нгави, Самбунгмачана и Нгандонга. Стало быть, их пращуры отделились от питекантропов Явы до того, как те стали превращаться в странных людей Нгандонга.
Благодаря новым находкам в Мата-Менге мы можем достовернее оценить скорость уменьшения размеров тела “хоббитов”: 1 млн лет назад на Яве жили полноразмерные питекантропы, а около 700 тыс. лет назад – уже карлики. Думается, что в реальности изменения заняли не все эти 300 тыс. лет, а намного меньший срок. Известно, что на острове Джерси в проливе Ла-Манш благородным оленям для того, чтобы из 200-килограммовых стать 36-килограммовыми, понадобилось всего 5,8 тыс. лет! Ясно, что люди – не олени, но дело ведь не в рогатости и копытастости, а надлежащем отборе.
Показательны изменения культуры на Флоресе: если 1 млн лет назад в Воло-Сеге первые жители острова делали крупные ашельские рубила, то уже около 900 тыс. лет назад их потомки перешли на изготовление маленьких отщепов. Это можно объяснять по-разному, но самым очевидным и логичным выглядит то, что у творцов просто-напросто уменьшились руки. Они уже не могли ухватить большой булыжник и колоть его мощными ударами, силенок хватало лишь на скалывание мелких кусочков камня. Похвально, впрочем, что предки “хоббитов” в принципе не забросили трудовую деятельность, а упорно продолжали работать, даже несмотря на катастрофическое усыхание мозгов.
Нельзя также не вспомнить недавно описанные орудия с Сулавеси, ставящие очередной вопрос, требующий разрешения: попали ли люди на Флорес напрямую с Явы через Ломбок и Сумбаву или же шли кружным северным путем через Сулавеси? Что ж, неплохо бы поискать орудия на Ломбоке и Сумбаве и найти кости на Сулавеси…
Климат в Мата-Менге реконструируется как сухой, ландшафты – саванные, хотя и с болотами. Интересно, что фауна Флореса почти не менялась за все время существования людей на острове: те же комодские вараны гонялись как за “протохоббитами” Мата-Менге, так и за “хоббитами” Лианг-Буа, те же гигантские крысы и почти те же стегодоны радовали тех и других своим вкусным мясом. Видимо, именно эта стабильность позволила существовать карликовым человечкам сотни тысяч лет почти без изменений.
В очередной раз можно порадоваться, что предположения, высказанные исследователями еще в первоописании “хоббитов”, полностью подтверждаются с появлением новых находок. Логика и сопоставление данных позволяют предсказывать открытия. Упорный труд позволяет делать их. Мы узнали новые интересные детали, картина мира стала целостнее, а в еще одном “белом пятне” проявились призрачные черты удивительного прошлого. И нет сомнений, что новые изыскания позволят наполнить его яркими красками.
Чем занимались питекантропы на Флоресе следующие 800 тыс. лет – неведомо. То есть мы имеем их каменные орудия, но они мало о чем могут рассказать нам. Видимо, троглодиты коротали время, поедая слонов и черепах. Дело в том, что около 900 тыс. лет назад на Флоресе водились особые карликовые слоны-стегодоны Stegodon sondaari полутораметрового роста и гигантские черепахи Geochelone. Трудно сказать, кто был вкуснее. Судя по всему, питекантропам нравилось разнообразить меню, потому что уже 880 тыс. лет назад и пигмеи, и исполины исчезли. Хотя многие палеонтологи склонны связывать это с катастрофическими извержениями вулканов, но, думается, без активного участия людей вымирание не обошлось. Косвенно за это свидетельствует то, что комодские вараны, которые и сами могли кого угодно съесть, от вулканов особо не пострадали. Но тучи от извержений рассеялись, лава остыла, а волны нанесли на берег новых слонов – теперь уже полноразмерных Stegodon florensis. С ними питекантропам справиться было уже сложнее, поэтому их хватило на следующие несколько сотен тысяч лет. Конечно, волшебство зачарованного острова продолжало действовать – и их не миновало стремление уменьшиться: огромные Stegodon florensis florensis были таковыми по крайней мере до 680 тыс. лет назад, но Stegodon florensis insularis, жившие 95–50 тыс. лет назад, оказываются уже на 30 % мельче (Bergh et al., 2009). Разнообразили стол “хоббитов” огромные крысы Hooijeromys nusatenggara.
Собственно, пещеру Лианг-Буа – любой “хоббит” обзавидовался бы такой норке со входом шириной 30 и высотой 25 м! – люди заселили еще 190 тыс. лет назад, но в древнейших слоях останки людей пока не найдены. А вот в отложениях с датировками от 100 до 60 тыс. лет назад (первоначально предполагались даты даже от 95 до 11 тыс. лет назад, после – от 74 до 17 тыс. лет назад, но они были пересмотрены и уточнены) кости принадлежат “хоббитам” (Morwood et Jungers, 2009; Sutikna et al., 2016). Судя по орудиям, “хоббиты” могли дожить и до 50 тыс. лет назад. Все сходится: ведь хоббитам положено жить веками и поколениями в одном и том же уютном домике.
Видимо, 900 тыс. лет не прошли даром. Маленький тропический остров (425×70 км), значительная часть которого к тому же покрыта горами, выглядит райским садом, но прокормиться на нем охотой и собирательством не так уж легко. В таких условиях всегда начинается отбор на уменьшение размеров. Неспроста во всех тропических лесах мира живут пигмеи: в Центральной Африке и Малакке, на Андаманских островах и Филиппинах, Новой Гвинее и многих прочих островах Меланезии, в Северном Квинсленде и Венесуэле. Карликовый рост известен и из прошлых времен.
Уголок занудства
Древнейшим известным случаем пигмейского роста является находка ключицы в Нармаде в Индии (Sankhyan, 1997) с предположительной датировкой 400–500 тыс. лет назад. Ее длина всего 10 см – меньше, чем в среднем у андаманских женщин; ширина плеч была совсем небольшая – около 24 см, а рост – 1,38–1,47 м.
Очень маленькие размеры имел древнейший – 66,7 тыс. лет назад – филиппинец из Каллао, чья крохотная плюсневая кость меньше, чем даже у женщин современных филиппинских же негрито.
Следующий пигмеоид – индивид из пещеры Ниа на Калимантане с древностью 37–42 тыс. лет назад, живший в окружении саванн и травянистых степей с отдельными участками тропических дождевых лесов. Он был уже несомненным сапиенсом (Barker et al., 2001) и имел рост всего 1,37 м.
Рост людей из Минатогавы, живших в Японии 16,6–18,3 тыс. лет назад, был очень низким: 1,55–1,58 м у мужчины Минатогава I, 1,45 м – Минатогава II, 1,49 м – Минатогава III, 1,46 м – Минатогава IV (The Minatogawa…, 1982).
Пигмейский рост был типичен для древнейшего населения, погребенного в пещерах Уэлиунгс и Омедокел на острове Оррак Республики Палау с датировками 1410–2890 лет назад, притом что 940–1080 лет назад тут уже жили высокорослые люди (Berger et al., 2008).
Больше пигмеев – хороших и разных!
Слово “пигмей” у разных людей вызывает разные ассоциации. Кто-то припомнит Геродота и журавлей, кому-то слово покажется обидным, а антрополог имеет на сей счет собственное мнение. В самых дремучих и жарких лесах нашей планеты там и сям живут люди очень низкого роста. Они есть в Австралии и Венесуэле, на Новой Гвинее и Филиппинах, Малакке и Андаманских островах и, конечно же, в Африке.
Африканские пигмеи – своего рода эталон пигмейскости: средний рост мужчин мбути в Заире – 1,44 м. Именно за сверхмалый рост их и назвали пигмеями (кстати, это редкий случай, когда отечественная политкорректность превзошла западные аналоги: именно из-за отрицательной составляющей слова “пигмей” наши антропологи с середины XX века предпочитают термин “центральноафриканская раса”). Группы пигмеев расселены довольно широко – по всей лесной экваториальной зоне Африки, хотя численность их мала. Одна из загадок пигмеев – их происхождение. Про него писали немало, в том числе немало необоснованных выдумок (например, что пигмеи – необычайно древняя раса, от которой происходят все прочие). Главная проблема – труднодоступность мест, где живут эти невысокие люди, и как следствие – их плохая изученность. Экваториальный климат не оставил надежд на многочисленные палеоантропологические материалы, их действительно фактически нет. Остается надежда на генетику. А данные генетики, как часто бывает, интерпретируются весьма неоднозначно. Одни исследователи полагают, что пигмеи обособились десятки тысяч лет назад (вплоть до 90 тыс. лет назад – времен, когда и нынешних сапиенсов-то еще не было), другие – что их появление восходит лишь к неолитической эпохе, едва ли уже не после начала нашей эры (обзор мнений: Дробышевский, 2014б). Тонкость интриги состоит в разнообразии африканских пигмеев. Многочисленные мелкие племена в целом группируются в две общности – восточную (мбути и батва) и западную (бакола, бабинга, бака и ака). Взаимоотношения восточных и западных пигмеев доселе оставались тайной, хотя гипотез на эту тему хватало.
Очередную попытку осветить загадку происхождения и родства западных и восточных пигмеев сделал международный коллектив исследователей, опубликовавший результаты в Proceedings of the National Academy of Sciences (Perry et al., 2014). Генетики выделили группу нуклеотидных замен, которые коррелируют с низким ростом у батва Уганды. Низкий рост обеспечивается совокупным действием многих генов, конкретный механизм работы коих пока неясен, но группу генов вычислить это не мешает. Для проверки параллельно были изучены представители бакига – земледельческого народа, живущего рядом с батва. Кроме прочего, обнаружилось, что степень метисированности батва и бакига прямо отражается на их росте – явление в общем-то предсказуемое, но всегда ведь приятно, когда здравый смысл сходится с теорией, а теория – с практикой.
Но самое интересное обнаружилось, когда те же гены были проверены у пигмеев бака Камеруна и Габона, а также их земледельческих соседей нзеби и нзиме. У земледельцев “пигмейских” вариантов генов никто и не ожидал увидеть, но удивительно, что их не нашлось и у бака. Это говорит о том, что низкий рост восточных (батва) и западных (бака) пигмеев наследуется разными способами, а стало быть – возник независимо и параллельно. Таким образом, Африка дала как минимум два очага пигмейскости. Это лишний раз показывает, что происхождение азиатских и океанийских малорослых племен, скорее всего, было также многократным и конвергентным.
Исследователи осторожно не стали называть время возникновения низкого роста исследованных групп, помянув несколько существующих гипотез, в том числе ту, согласно которой пигмеи появились очень поздно, уже после изобретения производящего хозяйства. Авторы отмечают, что среди животных известны случаи очень быстрого изменения размеров тела при соответствующем отборе, так что версия постнеолитического происхождения пигмеев не так уж фантастична.
Велика Африка, и пигмеев в ней не счесть. Пока независимость происхождения протестирована только для двух групп, а сколько еще раз это могло случиться!
Популяция питекантропов на Флоресе оказалась победительницей в этом конкурсе измельчания.
Самый полный скелет “хоббита” Лианг-Буа 1 с ростом 1,06 м еще не самый низкий: найдены останки как более высокорослых – 1,51–1,62 м (Barham, 2004), так и более низкорослых – от 1,01 даже до 0,97 м – индивидов (Jacob et al., 2006; наш пересчет по данным Morwood et al., 2005). Существенно, что самый высокий индивид одновременно и один из самых древних (Brown et al., 2004) и, таким образом, может либо не иметь прямого отношения к более поздним пигмеоидам, либо быть их далеким предком. Кроме того, его рост реконструирован по лучевой кости с учетом современных пропорций, а если он имел те же пропорции, что Лианг-Буа 1, то тоже был пигмеем. Вообще, сравнение останков приводит к мысли, что Лианг-Буа 1, вероятно, был довольно рослым по “хоббичьим” меркам…
Чрезвычайно показательно, что по соседству с пещерой Лианг-Буа в деревне Рампасаса в настоящее время живут люди крайне низкого роста (Jacob et al., 2006). Учитывая датировки из Лианг-Буа, люди рампасаса, очевидно, не являются прямыми потомками Homo floresiensis (впрочем, узнав об открытиях в пещере, они моментально сочинили легенду именно об этом), но важно, что природные факторы, приведшие к появлению современных пигмеев, действовали и в далеком прошлом.
Но “хоббиты” принципиально отличаются от рампасаса и прочих пигмеев мира – древних и современных. Сколь бы ни были мелки нынешние пигмеоиды, они имеют мозг в среднем не меньше килограмма. Мировой минимальный рекорд среди современных людей принадлежит женщинам-андаманкам, средняя величина мозга которых 1130 см³, но даже у них наименьший индивидуальный размер – 950 см³, то есть такой же, как и у европейцев. У “хоббита” же объем более чем вдвое скромнее! То есть уменьшение размера тела сопровождалось ускоренным уменьшением мозга. Неравномерное изменение разных размеров называется аллометрией. Исследования карликовых островных видов млекопитающих – мадагаскарских бегемотов, оленей Джерси, слонов Мальты и Сицилии – сравнительно с их полноразмерными собратьями показывают, что линейное уменьшение размеров тела сопровождается гораздо более быстрым уменьшением размеров мозга (например: Weston et Lister, 2009). И “хоббиты” здорово вписываются в эту общую тенденцию. Таким образом, измельчание Homo erectus'ов должно было дать не просто маленьких Homo erectus'ов с маленьким мозгом, а маленьких Homo erectus'ов с очень маленьким мозгом. Что мы и имеем!
Удивительно, но двукратное уменьшение мозга, похоже, не слишком катастрофично сказалось на способностях “хоббитов”. Они по-прежнему изготавливали каменные орудия примерно тех же незамысловатых форм, что и у предков; как и раньше, охотились на стегодонов. Конечно, одолеть толстоногое хоботастое и клыкастое чудище малышам “хоббитам” было нелегко, поэтому треть костей слонов в Лианг-Буа принадлежат новорожденным, а все остальные – молодым и лишь несколько обломков – взрослым особям. Некоторые кости стегодонов надрезаны и найдены рядом с орудиями. Впрочем, чопперы использовались в основном для обработки древесины и волокнистых растений, вероятно для выделки древков копий из дерева или бамбука. В общем, культура принципиально не отличалась от таковой питекантропов. Этим “хоббиты” рушат столь стройную доселе концепцию “мозгового рубикона”. Как уже писалось выше, сохранение важнейших функций было возможно, видимо, за счет уменьшения “не самых актуальных” частей исходно более-менее крупного мозга. А вот каких способностей не было, те и не появились. Например, нет никаких свидетельств похоронной практики питекантропов – и в Лианг-Буа все кости “хоббитов” найдены без малейших следов погребения, в отличие, кстати, от скелетов сапиенсов в поздних слоях.
Минутка фантазии
В пещере Лианг-Тоге на Западном Флоресе найден удивительный скелет. Его датировка – всего 3550 лет назад (Jacob, 1967). Крайне низкий рост – 1,48 м – и очень грацильное сложение сочетаются с маленьким объемом черепа – 1204 см³. Может быть, это метис сапиенсов с “хоббитами”? Неужели такое было возможно?! Однако все видоспецифические признаки Лианг-Тоге совершенно сапиентны. Учитывая, что скелет женский, и рост, и размер мозга не кажутся слишком мелкими. В пещере Лианг-Момер-E на Флоресе обнаружен скелет мужчины, в целом похожий на Лианг-Тоге, но вполне обычных размеров. Так легко забыть, что люди разнообразны…
Как уже говорилось выше, у “хоббитов” изменились и другие параметры: пропорции конечностей оказываются чуть ли не австралопитековыми, кости запястья вообще специфичны, на плечевой и бедренной костях почти нет следов прикрепления мышц. Такие особенности вызвали к жизни новые гипотезы происхождения “хоббитов”.
Некоторые ученые доказывают большую близость Homo floresiensis к Homo habilis, нежели к Homo erectus, и обосновывают происхождение этого эндемического вида либо прямо от “человека умелого”, либо от близкого, но еще неизвестного вида Homo (например: Morwood et Van Oosterzee, 2007). В доказательство приводятся измерения черепа, своеобразие пропорций тела LB1 и особенности морфологии бедренной кости. Наконец, логическим завершением удревнения корней вида Homo floresiensis является возведение его к австралопитекам, возможно даже карликовым; эта точка зрения находит наиболее весомое подтверждение в исследовании костей запястья (Tocheri et al., 2007; Orr et al., 2013), а также нижней челюсти с зубами (Brown et Maeda, 2009). Главная и труднопреодолимая проблема этой версии – тот факт, что вне Африки австралопитеки до сих пор не найдены, а расстояние между ней и Флоресом немалое.
Наконец, некоторые исследователи интерпретируют эту загадочную находку принципиально иначе. Они считают, что скелет Лианг-Буа 1 принадлежал микроцефалу, причем ему уже поставлены самые разные диагнозы: синдром Ларона (Hershkovitz et al., 2007), эндемический кретинизм (Obendorf et al., 2008), микрогирия (Holloway et al., 2006), синдром Дауна (Henneberg et al., 2014) и другие. Вообще же к микроцефалии может приводить около двухсот причин. Как главные признаки патологического состояния Лианг-Буа 1 обычно называются резкая асимметрия черепа, лица и скелета, отсутствие лобных и клиновидной пазух, увеличенная гипофизарная ямка, крайне малый угол торзиона – скрученности – плечевой кости, почти полное отсутствие следов мышечного рельефа на ней и бедренной, а также плоскостопие. Что же, никаких хоббитов на планете не было и толкинисты могут использовать слово в прежнем незамутненном смысле?
Но по всем пунктам можно привести мощные возражения. Так, лобные пазухи, видимо, все же имелись, гипофизарная ямка была обычных размеров, отсутствие свода стопы тоже крайне спорно. Вместе с тем патологические гипотезы не объясняют форму мозга и исключительные пропорции конечностей. Усиленная асимметрия черепа, на которую так налегают авторы “патологических” версий, отмечалась почти в каждой статье, посвященной “хоббиту”. Однако череп пролежал в земле десятки тысяч лет, и было бы довольно странно, если бы он не был перекошен. Кроме того, любой череп обладает асимметрией, иногда довольно существенной и без всяких экзотических патологий. Нельзя также забывать, что у хоббита прижизненно выпал второй правый нижний премоляр, был перелом правой скуловой дуги и как минимум три травмы свода черепа. Такие повреждения запросто могут привести к значительной асимметрии лица и свода за счет того, что человек наверняка жевал скорее левой стороной челюстей.
Самое же главное – находки не ограничиваются одним скелетом. Есть кости других индивидов, и они имеют те же особенности: нижняя челюсть LB6/1 со скошенным передом без всяких следов подбородочного выступа; лучевые кости LB3 и LB6/2 и большая берцовая LB8 еще короче, чем LB1; головчатая кость LB20 оказывается промежуточной между вариантом шимпанзе и современного человека, да при этом еще меньше, чем LB1; очень мелкие крючковидные кости LB21 и LB22 с необычайно длинным крючком, круглым в сечении (в отличие от уплощенного у австралопитеков, неандертальцев и сапиенсов) и закругляющимся на конце без, собственно, крючковидного изгиба.
Крайне сомнительно, что десятки тысяч лет пещеру населяла популяция микроцефалов с множественными отклонениями в самых разных частях скелета. И при этом они изготавливали орудия, охотились на слонов и прочих животных, избегали комодских варанов и полностью обеспечивали себя всем необходимым… Этот вариант выглядит несравненно сказочнее, чем версия с островной карликовостью.
Уголок занудства
При ближайшем рассмотрении у “хоббита” обнаруживается много черт, типичных именно для яванских питекантропов: расширенная в нижней части черепная коробка, заглазничное сужение и схождение височных линий, надбровный, сагиттальный лобный и затылочный валики, надваликовая борозда лобной кости, сильная преломленность затылка, отсутствие шиловидного отростка, глубокая борозда между сосцевидным отростком и каменистым гребнем барабанной пластинки, перпендикулярная относительно продольной оси черепа ориентация барабанной пластинки и нижнечелюстной ямки, общая форма нижней челюсти, ее массивность и очень большие относительно черепа размеры, скошенность подбородка, удвоенность подбородочных отверстий, расширенность, вертикальность и сужение кверху восходящей ветви, венечный отросток нижней челюсти выше суставного, моляризованность нижних премоляров с широкими и сжатыми раздвоенными корнями.
Ключицы очень короткие даже для человека метрового роста, из-за чего суставные впадины лопаток были направлены почти вперед, а не вбок, что, в свою очередь, приводило и к малому торзиону плечевой кости. Кстати, аналогичная конфигурация сустава известна у восточноафриканского Homo ergaster KNM-WT 15000. Кости конечностей, несмотря на малые размеры, очень массивны. Ладьевидная, трапециевидная, головчатая и крючковидная кости похожи скорее на таковые человекообразных обезьян и Australopithecus afarensis, но заметно отличаются от подавляющего большинства древних и современных представителей рода Homo. Крылья подвздошных костей относительно короткие, широкие и сильно развернуты вбок. Подобно австралопитекам, очень сильно выступает вперед передняя верхняя подвздошная ость. Как у архантропов, передняя сторона больших берцовых костей плавно закруглена. Стопы маленькие абсолютно, но огромные относительно длины ноги и тела. Торзион головки таранной аналогичен таковому у человекообразных обезьян; похожа на кость африканских человекообразных обезьян и австралопитеков ладьевидная кость стопы. Большой палец стопы массивный и очень короткий относительно других пальцев, при этом полностью приведен, а не отставлен, тогда как проксимальные фаланги других пальцев стопы относительно длинны, массивны и несколько изогнуты.
Последний яркий штрих к образу “хоббитов” и их жизни – флоресские аисты-марабу Leptoptilos robustus. Их головы с огромными клювами возвышались на 1,8 м над землей, то есть вдвое выше “хоббитов”, – такая птица не показалась бы маленькой и современному человеку, что уж говорить о пигмеях! Толстые кости указывают на ограниченные способности флоресских марабу к полету. Как часто бывает, островная фауна задает животным новые роли. Современные марабу в Африке – преимущественно падальщики. Но на Флоресе была открыта вакансия крупных хищников на треть ставки: тут имелись комодские вараны и те же “хоббиты” (да-да, маленькие, да удаленькие – единственные хищники острова, способные победить даже слона, хотя бы и уменьшенного), но почему бы благородным аистам не составить компанию варанам и человечкам? А то и закусить этими человечками, благо размер позволяет, ведь одними крысами, хоть бы и гигантскими, сыт не будешь… Древние греки любили миф о гераномахии – битве пигмеев с журавлями, но эти сказки блекнут на фоне пеларгосомахии – реальных эпических сражений “хоббитов” с чудовищными аистами.
Сказка закончилась 50 тыс. лет назад. В более поздних отложениях нет ни слонов, ни марабу, ни “хоббитов”; остальные животные – крысы и вараны – сократились в численности почти до нуля, а затем снова стали многочисленными (Westaway, 2006; Sutikna et al., 2016). Такому печальному финалу есть две причины: во-первых, поверх сказки лежит толстенный слой вулканического пепла, недвусмысленно свидетельствующий о грандиозном извержении, которое, вероятно, подкосило экосистему острова и довело “хоббитов” и слонов до вымирания. Почти метр последующих отложений – до 11 тыс. лет назад – стерилен. А выше начинается совсем другая история: с погребениями современных людей и интродуцированными животными типа макак, оленей, кабанов и дикобразов. И не исключено, что это и есть вторая причина конца Хоббитшира.
Возможно, не таким уж мифом является предание, записанное у современных жителей Флореса. Племя 'уа (группа народа наге) при заселении на место своего нынешнего обитания якобы обнаружило тут маленьких людей эбу гого (известны и другие местные названия), покрытых шерстью и говорящих на “птичьем” языке (Forth, 2012, pp. 206–213). Первые встречи были нейтральными, но в дальнейшем эбу гого обнаглели, стали воровать еду и детей, 'уа расстроились, начались столкновения. Последних эбу гого загнали в пещеру и сожгли большим костром. Обращает на себя внимание, что эбу гого в мифах не имеют никаких сверхъестественных особенностей и описываются как реальные существа, к тому же всегда одинаково уточняется время их исчезновения – за семь поколений до середины XX века, незадолго до появления европейцев на острове, то есть примерно в XVI или даже XVIII веке.
По мнению некоторых этнографов и антропологов, миф об эбу гого вполне может отражать реальность соприкосновения современных людей с реликтовой популяцией Homo floresiensis, а самые позитивно настроенные считают, что “хоббиты” дожили в джунглях и до XX века.
Казалось бы, вот легенда, вот кости – все сходится! Проблема, однако, в том, что совершенно аналогичный миф был записан на востоке Шри-Ланки у веддов, которые уничтожили мохнатых человечков ниттаево, также загнав в пещеру и разведя огромный костер (Jayatunga, 2010). Похожие легенды известны на Тайване и Сулавеси, хотя там не упоминается огонь (Forth, 2012, p. 208). Почти буквальное сходство легенд на столь удаленных островах запросто может быть следствием распространения единой фольклорной традиции. Вряд ли миф возник на Флоресе, а потом попал к веддам, учитывая усиленную изоляцию тех и других и их жизнь в центральных областях островов; на побережье еще можно было бы ожидать взаимовлияний шриланкийцев и индонезийцев, но в горах… Кстати, у полинезийцев и микронезийцев тоже весьма распространены легенды о предшествовавшем нынешнему чернокожем низкорослом населении – маруиви, моуриури, – уничтоженном предками современных островитян. На Палау даже есть некие странные кости, предположительно принадлежавшие этим карликам (Berger et al., 2008), но это – отдельная история…
Некоторые оптимисты склонны полагать, что аналогичные флоресскому мифы на Шри-Ланке, Тайване и Сулавеси свидетельствуют о существовании и там аналогичных видов карликовых гоминид. Хотя это не слишком невероятно, но, к сожалению, пока нет никаких фактических доказательств их реальности.
Другое дело, уже существовавший у предков 'уа миф, не имевший первоначально фактической основы, мог встретиться с реальностью при заселении на Флорес. Люди могли принять существующую сказку как руководство к действию: “Ага, вот они – мохнатые карлики, о которых говорили мудрые предки! Так нам уже известно, что надо с ними делать: загнать в пещеру и спалить”.
Впрочем, миф об эбу гого мог возникнуть и менее экзотическим образом. На островах Индонезии (в том числе на самом Флоресе) и Меланезии, а также Филиппинах, Андаманах, в Австралии и Малакке живут племена низкорослых охотников-собирателей, иногда объединяемых названием “негрито”. Контакты первых земледельцев с ними могли послужить основой для мифов о лесных карликах, а в последующем уже в мифологическом варианте перейти и к самим охотникам-собирателям.
Как бы то ни было, еще одно человечество прекратило свое существование. Сначала местный Ородруин привел к апокалипсису островного масштаба, потом орды гигантских и шибко умных пришельцев с запада оказались чересчур сильными конкурентами. “Хоббитам” некуда было бежать, для них не нашлось Валинора, мир стал еще немного скучнее, и лишь преданья старины глубокой ведают нам о них…
“Хоббиты” Сулавеси?
Не так уж и давно мир узнал о флоресских “хоббитах”, о том, что 1 млн лет назад какие-то питекантропы умудрились преодолеть морские проливы и “линию Уоллеса”, обрели свой Хоббитон и превратились в удивительных маленьких человечков. И сразу после описания Homo floresiensis воодушевленные первооткрыватели писали о том, что стоит поискать подобных эндемичных гоминид на соседних островах, а в качестве первой цели упоминали Сулавеси. И вот оно – замечательнейшее подтверждение истины “кто ищет – тот всегда найдет!”.
На Сулавеси таки откопаны орудия труда с датировкой 118–194 тыс. лет назад! Неведомые гоминиды кололи свои неказистые отщепы в то же время, когда остров населяли такие удивительные животные, как гигантские черепахи, карликовые слоны-стегодоны и огромные свиньи-целебохерусы с исполинскими бивнями (Bergh et al., 2016b).
Кем были эти неведомые первопроходцы Восточной Индонезии? В столь отдаленные времена крайне сомнительно, чтобы это могли быть сапиенсы, ведь тогда сапиенсов в современном виде вообще нигде не было. Хотя китайские антропологи и пытаются всеми силами доказать, что “люди разумные” уже бродили по Поднебесной больше сотни тысяч лет назад, доказательств этому маловато. Даже в Африке – признанной колыбели нашего вида – нет достоверных останков сапиенсов с достоверной датировкой более 100 тыс. лет назад. В Европе в это время начинали подмерзать неандертальцы. В Азии же творилось что-то непонятное: где-то шастали крупнозубые денисовцы, где-то, возможно, и другие гоминиды. По соседству с Сулавеси могли обретаться и реликтовые эректусы, если считать таковыми людей из яванского Нгандонга. Причем на самом деле никто не знает – может, нгандонгцы и были “денисовцами”? Проводить между ними однозначное разделение – рискованное допущение. А неподалеку жили те самые флоресские “хоббиты”. Коли уж их предки разок добрались до Флореса, отчего бы им не очутиться и на Сулавеси? Дело за малым – найти кости сулавесских людей. И кто знает, кем они окажутся: “хоббитами”, “эльфами”, “гномами” или “орками”?
Глава 35 Китайские “хоббиты” или чудеса реконструкции?
Вуже далеком 1979 году в Гуанси-Чжуанском автономном округе далекого Южного Китая геолог Ли Чанкин нашел в пещере Лунлин человеческие останки – череп с нижней челюстью, зубы, атлант, ребра и кусок локтевой кости. Через пару лет фрагменты были кратко описаны китайскими антропологами как принадлежащие современному Homo sapiens, похожему на человека из Дуньдяньяня (Zhang et Li, 1982). Прошло еще десятилетие, и в 1989 году на юго-востоке Юньнани в пещере Малудун были раскопаны другие останки – мозговая коробка, три черепных фрагмента, две нижние челюсти, два зуба, проксимальный обломок бедренной и дистальный фрагмент большой берцовой кости. Через год они были упомянуты в литературе как принадлежавшие современному Homo sapiens, похожему на человека из Цзыяна (Zhang et al., 1990). Время в Поднебесной текло не спеша… Миновало еще одно десятилетие, и в 2008 году новое поколение исследователей выкопало в Малудуне новые останки, а череп из Лунлина наконец-то был вынут из породы, почищен и склеен. Это все, понятное дело, присказка…
И вдруг случилась сенсация!
В 2012 году в электронном журнале PLoS ONE международная группа исследователей опубликовала статью, подробно описывающую упомянутые находки и обстоятельства их залегания (Curnoe et al., 2012). Хитрыми абсолютными методами кости были датированы временем 11,5–14,3 тыс. лет назад, причем находки в обеих пещерах условно синхронны. Время, как понимает просвещенный Читатель, довольно позднее, уж недалече были голоцен, домашние овечки, пшеничные караваи и прочие элементы цивилизации. Однако ж удивительный многомерный метод главных компонент показал, что люди из Малудуна и Лунлина выходят за рамки изменчивости нормальных людей и по ряду параметров вылетают за границы вариаций верхнепалеолитических сапиенсов. Пафосным выводом прозвучало утверждение о сохранении в конце плейстоцена в Южном Китае редкостных архаичных популяций, близких к примитивным североафриканским людям из Дар-эс-Солтана и Темары. Тут уж недалеко до идей о метисах с вечно-загадочными денисовцами – ими теперь можно и модно что угодно объяснять!
Но у меня лично возникают некоторые недобрые вопросы…
Во-первых, почему лицевой скелет Лунлин склеен так откровенно криво? На фотографии видно, что левая скуловая кость присоединена с некоторым зазором от остальных и, очевидно, ориентирована не совсем так, как должно быть в оригинале. Понятно, что древние черепа частенько бывают сильно перекошены, но почему же тогда реконструкция правой скуловой кости намного усиливает “специфику”, делая лицо заметно асимметричным, а скуловую и среднелицевую ширину – очень большими? В то же время верхняя челюсть справа (там, где соседние части не сохранились), очевидно, поднята вверх по сравнению с левой стороной. Это видно по расположению зубов и соотнесению подносовой ости с носовыми костями. Как итог – все высотные размеры лица оказались приуменьшены.
Во-вторых, метод главных компонент изначально не предназначен для сравнения резко различных групп, а уж тем более разных видов. Такова странная традиция зарубежных антропологов, но доколе?!
В-третьих, где в многомерных анализах современные люди? Сравнения отдельных признаков проведены, однако ж по ним люди из Малудуна и Лунлина не такие уж и особенные. А на многомерных графиках современных людей нет. Не потому ли, что при их наличии китайские “хоббиты” оказались бы не столь уж экзотичны?
И как организованы сравнительные материалы? Я, конечно, понимаю, что политкорректные западные ученые склонны игнорировать факты расоведения, но не настолько же! В группу “восточных азиатов” попали айны, андаманцы, атайялы (аборигены Тайваня), буряты, жители острова Гуам (в Микронезии), хайнаньцы (почти китайцы или даже китайцы), японцы (отдельно помянуты северные и южные, хотя на фоне прочих они просто близнецы) и филиппинцы (зная сводку Хауэллса, это – аэта меланезийской расы, а не монголоидные народы Филиппин, то есть отличаются от монголоидов примерно так же, как от жителей Европы). Комментарии излишни! А в таблицах эта группа “восточных азиатов” сопоставляется с эскимосами. То есть имеется в виду, что буряты гораздо ближе к андаманцам и аэта, чем к эскимосам…
Прочие претензии на фоне предыдущих мелки и незначительны. К примеру, откуда на реконструкции нижней челюсти из Лунлина взялась столь невероятная восходящая ветвь с удивительно мощным углом? Как проводилось сравнение с Омо I, если этот череп склеен из мелких кусков, и судя по фантастической высоте – ошибочно? Почему в одной группе сапиенсов оказались Херто и Омо с датировками 160–200 тыс. лет назад, Схул и Кафзех, жившие 100 тыс. лет назад (впрочем, сюда же до кучи примешаны и некоторые верхнепалеолитические кафзехцы), ранневерхнепалеолитические европейские кроманьонцы – 40–20 тыс. лет назад, а также смесь верхнепалеолитических, мезолитических и даже неолитических людей из Восточной Азии? Датировки совсем не имеют значения?
Столь ли примитивны и архаичны новоявленные “хоббиты”? Большая часть размерных характеристик обоих черепов попадает в область средних значений по современному человеку, например наибольшая ширина черепа и объем мозга из Малудуна. Лобная кость из Лунлина весьма выпукла, что видно и невооруженным взглядом, и столь же очевидно следует из размеров. Наименьшая ширина лба на обоих черепах просто средняя, хотя наибольшая ширина лба у Малудуна велика, – но это особенность всех древних черепов. Теменные кости Малудуна заметно выпуклы. Надбровные дуги на обоих черепах вполне умеренные даже по современным меркам, не говоря уж о древних людях. Кости свода малость толстоваты, но вовсе не чересчур, толщина близка к средним значениям по современным людям. Размеры лица Лунлина вполне средние, кроме скуловой и среднелицевой ширины, которые, как уже сказано, резко преувеличены в ходе реконструкции, а также за исключением высоты лица – очень маленькой (хотя это не рекорд), но, как уже говорилось, высота-то была приуменьшена. Конечно, сочетание получилось довольно экзотическим, хотя высотно-широтный индекс опять же вышел не рекордно низкий. Глазницы имеют среднюю высоту и большую ширину – опять же из-за реконструкции положения левой скуловой кости, но даже при этом орбитный указатель просто низкий, но никак не очень низкий. Для верхнепалеолитического (да и современного) человека такие параметры вполне нормальны. Ширина носа почти запредельная, но она-то как раз реконструирована целиком, поскольку края грушевидного отверстия вообще не сохранились. Высота носа очень маленькая, и как следствие – носовой указатель оказался-таки мегарекордным, но стоит поставить на место верхнюю челюсть – и то ли будет?
В качестве специфики приводятся крупные размеры нижнечелюстной ямки височной кости Лунлина, но эту область крайне сложно измерить адекватно, что, кстати, видно из сравнительных данных, приводимых в таблице. Кроме того, эта ямка вообще весьма изменчива и подвержена мощным прижизненным изменениям под влиянием питания и болезней.
Анализ эндокрана Малудуна показал, что он отлично укладывается в рамки изменчивости людей верхнего палеолита, а его основные параметры близки к таковым людей из Верхней пещеры Чжоукоудяня.
Нижние челюсти заметно порушены, а после с чувством реконструированы. Однако ж они тоже укладываются в современный размах вариабельности.
В общем, ученый мир посмотрел на китайских “хоббитов” столь же косо, какими были их черепа, так что требовалось подтверждение. Таковым явился обломок бедренной кости из пещеры Малудун. Фрагмент невеликий, но ведь верхняя часть бедренной кости очень богата на важные признаки.
А что будет, если долго глядеть на кости бабуинов, австралопитеков и хабилисов, а потом взять и посмотреть на некрупную, хорошо обломанную и опять же неведомо как склеенную человеческую кость? Ясно – увидишь признаки австралопитеков и хабилисов! А если поиграться цифирками, то тут недалеко до наибольшего сближения кости из китайского Малудуна с датировкой 14 тыс. лет с костями KNM-ER 1472 и 1481A из кенийского Кооби-Фора с датировкой 2 млн лет (Curnoe et al., 2015). Однозначный график прилагается! А вывод какой? Конечно: на территории Китая почти до голоцена дожили невероятно архаичные гоминиды. Китай – уникален!
Но! Внутренний голос подсказывает, что что-то тут не так. Для начала: почему в расчетах не использовались данные по современным людям? Возможный ответ мы еще предположим. Далее – почему авторы гипотезы фактически проигнорировали, что все параметры кости вполне укладываются в размах изменчивости верхнепалеолитических сапиенсов, хотя бы и в нижние его пределы? Что теперь, любого мелкого мужичонку или стройную девушку приравнивать к хабилисам?
А ведь можно еще взглянуть на нагрузки по конкретным признакам, ответственным за попадание кости в “архаичную” половину графика. И что же мы там видим? Фактически с “ранними Homo” древнего китайца роднит лишь сравнительно небольшой процент компактного слоя в общей площади сечения середины диафиза да малый передне-задний диаметр на этом же уровне кости. А это вещи связанные, ибо процент получается малым лишь за счет небольшого развития “пилястра” – выступающего костного гребня на задней стороне кости, образующегося из-за резкого увеличения шероховатой линии, то есть места прикрепления медиальной группы мышц бедра, нужных для сведения ног вместе. А пилястр слабый конкретно на этой кости может быть по двум причинам: во-первых, это вообще не середина диафиза (кость-то сохранилась не целиком), а во-вторых, размеры кости невелики, так что и вес у человека был маленьким (сами авторы высчитали 50 кг – а это, товарищи, меньше, чем даже у меня!), так что и мышцам большим тут было быть необязательно. Может, потому-то и не стали авторы брать для сравнения современных людей? А ископаемые кроманьонцы – все сплошь здоровенные дядьки и столь же брутальные тетки. А может, стоило сравнить Малудун с теми же китайцами или даже негрито? Изменчивость-то никто не отменял!
Даже многомерный анализ надо применять с толком, он не дает строго однозначной картины, тем более для диагностики отдельных находок, тем более по одному-единственному графику. Смысл-то тоже не отменяется. Всегда надо много сравнений, хорошо бы и по разным признакам, и разными способами.
А еще мы – помним, помним… В Малудуне найдены еще и огрызок локтевой, и конец большой берцовой, и даже фрагменты второго черепа. Видимо, стоит ждать новой сенсации?..
Так жили ли “хоббиты” в Южном Китае? Конечно, с некоторых пор охота на хоббитов стала модным занятием, но стоит ли разводить их искусственно? Может, оставить их в покое?
Глава 36 Человечество на западе: неандертальцы
Конечно, самым известным альтернативным человечеством являются неандертальцы. Подробнее о них будет сказано ниже, тут же отметим, что неандертальцы, с одной стороны, эволюционировали чуть ли не миллион лет отдельно от африканских родственников, с другой же – независимо развили множество сугубо человеческих особенностей и способностей.
Некоторые морфологические черты поздних неандертальцев даже обозначаются как гиперсапиентные. Это значит, что они дальше ушли по неким показателям от общих предков, чем мы. Самый яркий признак такого рода, конечно, размер головного мозга, о чем уже писалось выше. Многие другие черты лучше описывать как специализированные, так как они типичны только для неандертальцев. Это, например, весьма специфическое строение носовой полости и костного лабиринта внутреннего уха.
Судя по трабекулярной микроструктуре подъязычной кости неандертальца из Кебары, жившего в Израиле 60 тыс. лет назад, он использовал свою гортань так же, как мы, а стало быть – говорил (D'Anastasio et al., 2013). Крайне сомнительно, чтобы это могли так же свободно делать общие для неандертальцев и сапиенсов предки, вышедшие из Африки около 1 млн лет назад или даже раньше. Показательно, что Homo heidelbergensis из Сима-де-лос-Уэсос с датировкой 430 тыс. лет назад – предки неандертальцев, – судя по строению среднего уха и улитки внутреннего уха, слышали почти в том же диапазоне, что и современные люди, хотя и с явственным уклонением в сторону шимпанзе, которые сами по себе заметно отличаются от людей (Martínez et al., 2004). Что такое могли слушать гейдельбергенсисы, чтобы у них были такие уши? Думается, именно слова. Но их явно неполноценная человечность в этом отношении наглядно показывает: как минимум дальнейшая эволюция шла у неандертальцев и сапиенсов независимо. Когда кроманьонцы встретились с неандертальцами, воспринимали ли они речь последних как речь? Как она звучала, как была построена, можно ли ее вообще назвать речью с нашими мерками? Этого мы пока не знаем…
Сотни тысяч лет независимой эволюции предков неандертальцев и сапиенсов дали, как ни странно, очень похожие формы поведения. Неандертальцы хоронили умерших. Правда, в их погребениях всегда лежит только один скелет, его поза неизменно скорченная, а погребального инвентаря ни разу не нашли. Однако это не отменяет того факта, что погребения могут быть взаимно ориентированы (как в Ла-Ферраси, где могилы мужчины и женщины расположены вдоль одной линии, а погребения двух детей – параллельно рядом), то есть, когда хоронили следующего умершего, неандертальцы знали, где был ранее похоронен предыдущий. Также многие археологи не сомневаются в существовании неких погребальных ритуалов, что устанавливается по сооружениям поверх захоронений. Так, в гроте Тешик-Таш в Узбекистане могила ребенка была окружена кольцом рогов горных козлов; в Ла-Ферраси пятое погребение сопровождалось восемью симметрично расположенными холмиками, а шестое было накрыто треугольной каменной плитой; погребальная яма в Ле-Мустье также была увенчана тремя каменными плитками, размещенными симметрично; в Комб-Греналь аналогичную роль выполняли наложенные друг на друга наподобие черепицы каменные обломки.
Рис. 25. Украшения из Крапины (а) и Арси-сюр-Кюр (б, в).
Самыми трогательными свидетельствами человечности неандертальцев являются находки в Шанидаре (Solecki, 1971; Trinkaus, 1983). Эта пещера расположена на севере Ирака, на границе с Ираном, в Курдистане. Неандертальские слои датированы 45–55 тыс. лет назад. Вообще-то тут найдены останки десяти индивидов, но первый оказался наиболее выдающимся. Скелет принадлежал человеку в возрасте 30–45 лет – не сказать чтобы слишком старому по нынешним цивилизованным временам, но истинному Мафусаилу по неандертальским меркам. Этот долгожитель за свое долгое бытие умудрился огрести столько болезней и проблем, что приходится диву даваться, как он вообще жил.
Уголок занудства
Патологии Шанидара 1: на его костях обнаружены следы гиперостоза, шрам на правой стороне лба от небольшого поверхностного повреждения, сильное повреждение – вдавленный перелом – внешней стороны левой глазницы, возможно приведшее к слепоте на левый глаз, в наружном слуховом проходе разрастание костной ткани, первые нижние резцы выпали, а остальные зубы полностью стерты и несут следы воспаления на верхушках корней, разрастания на поясничных позвонках, остеомиелит – редукция – правой ключицы и ости правой лопатки, псевдоартроз суставной впадины правой лопатки, два перелома правой плечевой кости, которая к тому же была атрофирована из-за ампутации, врожденной недоразвитости или паралича правой стороны тела (соответственно, руки ниже локтя не было), сильный артрит левого локтя, правых колена и лодыжки, искривление диафиза левой большой берцовой, заживший перелом правой пятой плюсневой кости, дегенеративные изменения сустава первой и второй плюсневых, а также сустава правых первой пястной и медиальной клиновидной костей. Резко выраженная оссификация связок и дегенеративные изменения могут быть последствиями синдрома диффузно-идиопатического гиперостоза – заболевания из ряда оссифицирующих гиперостозов. Суммарно, у Шанидара 1 не было левого глаза, правой руки и не функционировала правая нога. Все эти проблемы могли быть последствием обвала в пещере с мощной травмой правой стороны с последующим инфекционным заражением, паралича правой стороны тела из-за повреждения левой стороны мозга или нервов в подростковом возрасте или же полученными независимо.
Понятно, что такой человек не мог полноценно обслуживать себя, животное с подобными травмами в дикой природе однозначно умерло бы. Однако Шанидар 1 пережил почти всех сородичей (только Шанидар 5 превзошел его, он сумел дожить аж до 50–60 лет!). Характерно, что Шанидар 1 умер не своей смертью: видимо, он погиб при землетрясении и обвале в пещере, когда со свода ему на голову упал здоровенный булыжник, – в черепе зияет огромная дыра. Если бы не несчастный случай, этот патриарх прожил бы еще дольше. По этой же причине он не был похоронен по-настоящему, а оказался под завалом, хотя поверх этой естественной могилы скорбящие соплеменники вроде бы навалили еще камней и даже, возможно, намеренно положили кости животных. (Конечно, можно интерпретировать это и иначе: страшный, глухой, одноглазый, однорукий и хромоногий старикан-паралитик так всех достал, что внуки добавили к обвалу еще толику, чтобы, не дай бог, не вылез снова, но не будем такими ехидно-злословными; будем считать, что это был любимый всеми дедушка с добрым прищуром единственного глаза, обнимавший ненаглядных внучков единственной рукой и провожавший их на охоту, ковыляя к выходу из пещеры на единственной ноге: “Когда вернетесь-то? Ась? Не слышу я, стар стал…”)
Вторым примером из Шанидара является Шанидар 4. Этот мужчина, тоже весьма пожилой – 30–45 лет, был уже по-настоящему похоронен в неглубокой могиле, украшенной кругом из больших камней. Открытие ждало исследователей, когда они взяли пробу грунта на споро-пыльцевой анализ, чтобы установить, какие растения росли в окрестностях в те дремучие времена. Неожиданно обнаружилось, что концентрация пыльцы в могильном заполнении невероятно большая, какой не положено быть в глубине пещеры, ведь там цветы не растут, а ветер столько нанести не мог. К тому же пыльца в погребении лежала концентрированными кучками, соответствующими отдельным цветкам, тогда как в других отложениях была, как полагается, рассеяна случайным образом. Получается, что могила была прямо-таки завалена цветами! Перед глазами уже встает похоронная процессия, венки и проникновенные речи понуривших большие плоские головы родственников. Однако стоит разобраться, что имели в виду неандертальцы, бросая на тело цветы. Эстетика ли играла тут главную роль – большой вопрос.
Пыльца, сконцентрированная кучками, принадлежала семи видам цветов, цветущих в конце мая – начале июля (Шанидар 4 не успел порадоваться наступившему лету). Среди них шесть видов определены достаточно точно – солнечный василек, тысячелистник, крестовник, гадючий лук, алтей и эфедра. Самое же интересное, что все эти растения обладают выраженными целебными свойствами (Solecki, 1975; Leroi-Gurhan, 1975; Lietava, 1992). Показательно, что эти же цветочки растут тут и ныне и используются в качестве лекарственных курдами, живущими в окрестностях Шанидара в наши дни. Это, конечно, не говорит о происхождении курдов от неандертальцев, но биохимия-то у приматов одна и та же, а народная медицина неизбежно исходит из наличных средств. Выходит, бабушкины методы особо не поменялись за последние полсотни тысяч лет. Понятно, что лекарственные растения оказались в погребении неслучайно: судя по скелету, у Шанидара 4 болела спина, руки и ноги, а погибнуть он мог из-за перелома ребра, возможно пробитого копьем. Видимо, сострадательные сородичи пытались чем могли помогать ему как при жизни, так и после смерти.
Злые языки, правда, утверждают, что цветы затащили в норы персидские песчанки (Sommer, 1999), а может, пыльцу принесли пчелы, чье гнездо висело в пещере (Fiacconi et Hunt, 2015). Или же шанидарец, как любое раненое животное, инстинктивно наелся каких-то травок (дескать, пыльца сконцентрирована в области живота), заполз в уголок да там и помер, некоторые особо циничные даже упоминают копролиты в могильном заполнении, портящие всю эстетику рассказа о погребальных венках, но мы не будем равняться на них… Тем более что в реальности пробы брались вовсе не из района живота и даже вне скелета.
Конечно, доброта неандертальцев была относительной, иначе откуда бы взяться проникающему ранению на девятом ребре Шанидара 3, наверняка с повреждением легкого и с большой вероятностью приведшему к гибели через несколько дней или недель? Кто бы мог треснуть Шанидара 4 по левой стороне лба так, что это отпечаталось на черепе (кстати, травма на лбу слева – признак того, что ударявший был правшой), и сломать ему ребро незадолго до смерти (малую берцовую он мог сломать и сам случайно, причем эта травма зажила)? Чья рука приложила по левой же стороне лба и Шанидара 5, хоть удар и вышел скользящим? Учитывая время и место, все это не свалишь на злобных и безжалостных кроманьонцев, которым, если верить некоторым мизантропам, только и дай, что побить беззащитных неандертальцев. Вероятно также, неандертальцы тыркали друг друга копьями и мочалили дубинами по доброте душевной, с участливой добротой во взгляде, лучезарной улыбкой на лице и от чистого сердца, а на поминках заливались искренними слезами и с теплотой поминали усопшего… Впрочем, нет, это невероятно…
Почти то же самое, что о Шанидаре 1, можно сказать о более древнем человеке Бо-дель-Обезье 11, утерявшем при жизни большинство зубов и неспособном разжевать себе пищу, а также о неандертальце из Ла-Шапель-о-Сен. В этой французской пещере в слое с датой 47–56 тыс. лет назад был найден скелет “старика” 40–50 лет с массой патологий.
Уголок занудства
Патологии Ла-Шапель-о-Сен: разрастание костной ткани в наружном слуховом проходе; артроз височно-нижнечелюстного сустава; зубы нижней челюсти, кроме резцов, выпали при жизни, а их альвеолы заросли; позвоночник поражен сильным деформирующим артритом или болезнью Баструпа (возникает во взрослом состоянии при больших нагрузках на позвоночник); возможно, спондилез инфекционной природы грудных и поясничных позвонков; заживший перелом ребра; артрит плечевой и, возможно, бедренной костей; билатеральный артроз тазобедренных суставов – следствие возрастных изменений, а в левом тазобедренном суставе дегенеративные изменения, вероятно, связаны еще и с травмой; артроз левого крестцово-подвздошного сустава травматической природы; один из пальцев на ноге сломан-размозжен; наконец, еще в детстве этот человек перенес рахит.
Как и Шанидар 1, Ла-Шапель-о-Сен явно был неспособен прокормить себя сам, последние годы он мыкал свою долю с грехом пополам – на пределе возможностей. Более того, после смерти его заботливо похоронили в аккуратной квадратной могилке в центре маленькой уютной пещерки.
Крепкий старик: Ла-Шапель-о-Сен и его судьба
И никто не узнает, где могилка моя…
Неандертальцы известны давно, еще с XIX века. Тогда были золотые годы палеоантропологии: пещеры и гроты были не тронуты лопатами исследователей, своего часа ждали целые черепа, скелеты и прочие чудеса. Славно поработали тогда археологи! Неандерталь и Спи, Ла-Ферраси и Ле-Мустье! Музыкой звучат они для слуха антрополога! Все крупные и почти все мелкие пещеры были раскопаны уже к концу первого десятилетия XX века. Современным охотникам за ископаемыми остается либо углубляться в изучение деталей найденного ранее, либо надеяться на случай – обнаружение скрытой доселе пещеры, либо копать уже раскопанное. Последним способом воспользовались французские и примкнувшие к ним американские и испанские исследователи, подробнейше изучившие пещеру Ла-Шапель-о-Сен (Rendu et al., 2014).
Дело в том, что искатели древностей – братья Амеди и Жан Буиссони, в 1908 году раскопавшие слои маленькой пещеры Буффиа-де-Бонневаль рядом с деревней Ла-Шапель-о-Сен (антропологами эти названия используются как синонимы), не были профессиональными археологами. Они даже не зарисовывали расположение находимых костей и артефактов. Судя по многочисленным разломам на драгоценных костях, не слишком они церемонились и с доставаемыми из земли находками. Обилие костей животных в отвале и перекопанных слоях показывает, что допотопные звери братьев тоже не особо интересовали. А наличие нетронутых участков слоя свидетельствует, что, найдя скелет, они не слишком занудствовали в попытках исследовать все отложения грота.
И все же открытие в Ла-Шапель-о-Сен по праву считается одним из величайших во всей палеоантропологии. Именно этот скелет оказался лучшим образцом неандертальца, послужил идеалом для всех последующих исследований и сравнений. Конечно, не обошлось и без казусов. Множественные старческие патологии старика-неандертальца стали основой стереотипа о сгорбленных сутулых пещерных троглодитах с кривыми ногами и повисшими чуть ли не до земли руками. Несколько костей стопы быка, случайно попавших в заполнение погребальной ямы, в пересказах позднейших археологов выросли в целую ногу, торжественно положенную неандертальцами в качестве загробной пищи. Вообще, немало было сказано о погребальных обрядах неандертальцев.
И вот тут-то у многих заронились сомнения. А действительно ли старик Ла-Шапель-о-Сен был погребен? А может, он, аки дикий зверь, заполз в маленькую пещерку, забился в ямку и тихо окончил там свою сумрачную неандертальскую жизнь? И никто не проронил по этому поводу ни слезинки, не произнес проникновенной речи над телом усопшего, “отряд не заметил потери бойца”?
Хотя бы частично на эти вопросы современная наука может ответить. Конечно, речь не идет об анализе палеослез или надгробных речей (добавим: “пока”, ибо мы верим в торжество науки!), но сам факт преднамеренности погребения потенциально вполне установим. Основное препятствие тут – помянутая беззаботность, с которой был раскопан скелет.
Итак, современные археологи решили исправить положение. С этой целью в 2011–2012 годах они провели новые изыскания как в самом гроте Буффиа-де-Бонневаль, так и в соседних, каковых в округе нашлось немало. Что характерно, в каждой пещерке нашлись мустьерские орудия и кости животных; очевидно, неандертальцы жили здесь долго и успели посидеть-поужинать под любым навесом. В Буффиа-де-Бонневале тоже обнаружилось немало нового. Самыми интересными находками, без сомнения, являются новые останки неандертальцев. Конечно, братья Буиссони не пропустили в своих изысканиях крупных костей, но несколько фаланг и зубов ускользнули из-под их заступов. Более того, среди вновь обретенных фрагментов нашлись останки еще трех индивидов – одного взрослого и двух детей (3 и 10–12 лет). Старик был не одинок! От самого патриарха тоже нашлось кое-что новенькое, в том числе недостающая часть правой лучевой кости и кусок лопатки.
Переосмыслению подверглись и старые находки. Во-первых, подробно были проанализированы кости животных. Выяснилось, что в Буффиа-де-Бонневале покоятся слои как минимум двух фаз. В более древние времена неандертальцы предпочитали охотиться на северных оленей, а позже почему-то переключились на быков и бизонов. Олени кончились? Пришло другое племя со своими кулинарными вкусами? Шеф-повар уволился? Изменился климат? Это пока не очевидно.
Во-вторых, дополнительное исследование квадратной ямы, в коей покоился скелет, показало, что это таки искусственная яма. А ведь многие археологи сомневались в ее рукотворном происхождении, утверждая, что неандертальцы не стали бы утруждаться выдалбливанием могилы в твердом полу грота.
В-третьих, важнейшим стало сравнение сохранности звериных и человеческих костей. Первые практически всегда выветрены, на многих имеются отпечатки зубов хищников и падальщиков, очень немногие из них залегают в анатомическом сочленении, а о мало-мальски целых скелетах речь вообще не идет. Скелет же неандертальца обнаружен целым, в анатомическом положении, с минимальными поверхностными повреждениями (преобладают свежие разломы, появившиеся в процессе раскопок – неравной борьбы дряхлого неандертальца с полными сил братьями Буиссони) и без малейших следов погрызов. Логичным выводом является то, что скелет был быстро и тщательно закопан, благодаря чему и сохранился почти идеально.
Так все же Ла-Шапель-о-Сен был не просто бессмысленным больным животным, умершим в полном одиночестве, забившись в нору. Крепкий старик, хоть и скрюченный артритом, но уважаемый своими сородичами, после смерти удостоился погребения в намеренно выдолбленной могиле, был тщательно скрыт от надругательства гиен и волков и лишь благодаря этому может ныне служить лучшим образцом своего славного вида.
А работа французских археологов является образцом стремления к познанию тайн прошлого. Она лишний раз показывает, что даже по следам трудов классиков можно сделать еще немало новых открытий. Наука не стоит на месте, неандертальцы же, хоть и давно вымершие, с ее развитием становятся все человечнее и человечнее.
Да, ничто человеческое не было чуждо неандертальцам. Могли похоронить и положить цветочки, а могли и съесть. Об этом недвусмысленно свидетельствуют находки, например, в Муля-Герси на юго-востоке Франции. 100–120 тыс. лет назад неандертальцы устроили тут пир горой (Defleur et al., 1993, 1999). От шести человек остались в буквальном смысле объедки: черепа и длинные кости были очищены от мяса и разбиты на куски каменными орудиями. По надрезкам видно, что срезалось именно мясо: язык с детской челюсти, руки от тела, бицепс с костей предплечья, мышцы бедра с бедренной кости, ахиллово сухожилие с голени. Особое внимание было уделено большому пальцу ноги – он, вероятно, пошел на десерт. Человеческие кости разбросаны в беспорядке по полу пещеры и перемешаны с костями оленей, которые точно так же надрезаны и разбиты.
Практически то же действо повторилось в пещере Куэва-де-Сидрон на севере Испании 47,3–50,6 тыс. лет назад. Надрезанные и разбитые для добывания мозга кости как минимум тринадцати человек рисуют ужасную картину каннибальского разгула. Особенно досталось детскому черепу, с которого, вероятно, сняли скальп. Царапины на нижнем крае одной из нижних челюстей свидетельствуют об отрезании головы. Короткие и глубокие надрезы на концах длинных костей рук и ног указывают на расчлененку покруче пресловутой “резни бензопилой в Техасе”. И снова кости людей раскиданы в слое вперемешку с костями животных…
Но хватит чернухи! Пора поговорить о прекрасном.
Предки – гейдельбергенсисы – имели зачатки искусства, а позднейшие неандертальцы развили его до некоторого уровня совершенства. Если в немецком Бильцингслебене (412 тыс. лет назад) при галечной культуре искусство ограничивается серией насечек на ребре слона (Marshack, 1981), то в голландском Маастрихт-Бельведере (200–250 тыс. лет назад) многочисленные кусочки охры со следами использования говорят о некой более основательной творческой деятельности (Roebroeks et al., 2012). Из немецкого местонахождения Олдислебен I (80–135 тыс. лет назад) с микокской культурой известен кусок кости с процарапанным человечком в стиле “палка-палка” и другой с параллельными насечками. В германском Бокштейншмейде (110 тыс. лет назад) слой с микокской культурой содержал кость стопы и хвостовой позвонок волка с просверленными отверстиями на концах (Marshack, 1989). В Ортю (около 60 тыс. лет назад) в слое типичного мустье обнаружены целая кисть-лапа и хвост леопарда, не имеющие вроде бы практического применения, зато красивые. На венгерской стоянке Тата (50 тыс. лет назад) в слое позднего мустье найдены гравировка на овальной пластинке от зуба мамонта, отполированной до зеркального блеска и покрытой охрой, с закругленными от длительного использования краями, а также слегка отшлифованный круглый нуммулит с вырезанным на нем крестообразным знаком (Marshack, 1976).
Конечно, не все открытия такого рода подтверждаются. Все надо перепроверять. Наглядным примером тому служит “неандертальская флейта” из Дивье-Бабе 1 в Словении. В ориньякском слое с датировкой 43–45,1 тыс. лет назад была обнаружена бедренная кость пещерного медведя с двумя круглыми дырками и следом третьей на сломе. Радости археологов не было предела! Кость была широко разрекламирована как самая настоящая неандертальская флейта (благодаря датировке, но вопреки ориньякскому сопровождению). Неандертальцы не были грубыми и бездушными, они не были чужды влиянию муз! В полухудожественном, полунаучно-популярном фильме “Последний неандерталец” самый распоследний неандерталец ходит от Гибралтара аж до Западной Сибири и обратно в поисках родичей, грустно дудя на этой самой словенской флейте, найденной, впрочем, на скелете вроде бы кроманьонца. Надо же ему было скрашивать одиночество (впрочем, в фильме появляется и еще один старик-неандерталец, тоже последний, но он явно не в своем уме, так что компанию ему не составишь)… Однако подробное исследование следов повреждений на краях отверстий порушило столь возвышенный образ. Оказалось, что некая гиена просто пару раз удачно клацнула зубами и оставила дырки на кости. Гиена не знала, что изготовила музыкальный инструмент, неандертальцы тоже были не в курсе, и лишь археологи XX века оценили сие творение по достоинству (Nowell et Chase, 1998; d'Errico et Villa, 1997). Можно добавить, что таких “флейт”, изготовленных трудолюбивыми гиенами, известно не так уж мало (Diedrich, 2015).
Особый ажиотаж вызвали открытия в гроте Рипаро-ди-Фумане на севере Италии (Peresani et al., 2011). В слое финального мустье с датировкой 42,2–44,8 тыс. лет назад исследователи откопали 660 костей 22 видов птиц, включая тетеревов, куропаток, диких голубей, альпийских галок, черных грифов и красноногих соколов. Чуть меньше половины костей – от крыльев, а двенадцать из них имеют следы соскабливания. Наиболее восторженно настроенные исследователи расценили это как доказательство того, что неандертальцы украшали себя перьями, ведь, дескать, с грифа или галки мяса немного, а перья у них красивые и блестящие. Против этого можно возразить, что, во-первых, с голодухи можно съесть и грифа, во-вторых, перья можно использовать и вполне функционально – как, например, метелки или подстилки, в-третьих, 12 костей из 660 – это меньше 2 % и, наконец, скрести крылья можно не для использования перьев, а чтобы избавиться от них, дабы не застревали в зубах.
Но птица – это не только ценные перья! Это еще два, три, а то и восемь красивых когтей. Во французской пещере Комб-Греналь в слое с датировкой 90 тыс. лет назад найдены семь костей птиц со следами обработки, в том числе один коготь беркута с двумя надрезами у самого основания (Morin et Laroulandie, 2012). Видимо, неандертальцы отрезали коготь от пальца. Во французской пещере Ле-Фьё в слое, образовавшемся 40–60 тыс. лет назад, обнаружены два когтя орлана-белохвоста с надрезами у самого основания когтей. Аналогичные когти найдены в Пеш-дель-Азе IV (хищная птица среднего размера, 100 тыс. лет назад), Пеш-дель-Азе I (беркут, 67 тыс. лет назад) и Фумане (орлан-белохвост, 44 тыс. лет назад). Наконец, в хорватской пещере Крапина обнаружены не просто когти орланов-белохвостов и даже не только с надрезками, но восемь штук от трех птиц, с отчетливыми следами затертостей на основаниях (Radovčić et al., 2015). Более того, они были найдены рядом, а повреждения по краям могли возникнуть, если когти стучались друг о друга. Получается, когти были привязаны на какую-то веревочку? Ожерелье из орлиных когтей на груди неандертальца? А ведь Крапина датирована временем 130 тыс. лет назад: это же получается самое первое украшение в мире! Даже древнейшие бусы сапиенсов из раковин моложе, поскольку имеют возраст около 100 тыс. лет.
Вообще, среди останков птиц на неандертальских стоянках Италии и Франции к хищникам относится 71,4 % находок; в Крапине кости орлов и сов составляют 41,4 % от всех птичьих костей. Выходит, неандертальцы предпочитали хищных птиц всем прочим, даже вкусным гусям-лебедям.
Зачем неандертальцам были нужны орлиные когти? Точно ли они носили их в виде ожерелья? Или вставляли в уши и носы? Ковырялись ими в зубах? И где остальные кости? А может, они глотали орлов целиком, а когти просто не переваривались? А как же клювы? Много возникает вопросов! Если бы я поймал орла, чтобы его съесть, я бы тоже когти отрезал, прежде чем глотать. Десяток орлов на сотни стоянок и десятки тысяч лет – насколько это показательно? Почему бы им и не быть просто едой? Интересно, сколько орлиных когтей найдено на стоянках индейцев? И каков контекст? Или нет никакого контекста? Заметим, от птиц в ископаемом виде вообще мало что остается по причине их воздушности. А когти и концевые фаланги – прочные. И логично, что орлиные сохранятся лучше, чем куропаточьи.
Кстати, а как там с когтями медведей? Пещерных медведей неандертальцы тоже любили, и когти медведей встречаются на их стоянках часто (я лично такой нашел в Денисовой пещере). Можно ли их считать украшениями? Или раз их много, то и сказать ничего нельзя? А орлов мало и потому это что-то особенное? Ясно одно – нужны новые изыскания.
Но сторонники развитого творческого начала у неандертальцев не сдаются; недавно у них появился еще один козырь. В пещере Горэма на Гибралтарской скале на юге Испании на стене обнаружилась царапулька в виде значка “#”, перекрытая ненарушенным мустьерским слоем с датировкой более 39 тыс. лет назад (Rodríguez-Vidal et al., 2014). К сожалению, антропологических находок в этом слое нет, а древнейшие сапиенсы появились в Европе несколько раньше, но все же версия о неандертальском происхождении гравировки выглядит наиболее правдоподобной.
Наконец, в пещере Арси-сюр-Кюр во Франции слой с культурой шательперрон и датировкой 33,8 тыс. лет назад порадовал археологов изобилием и разнообразием бус и подвесок разных типов из зубов и костяшек с отверстиями и бороздками (Marshack, 1989). В этом же слое найдена височная кость ребенка, имеющая выраженные неандертальские черты и явственно отличающаяся от современного варианта (Hublin et al., 1996).
Перечень произведений неандертальского искусства можно было бы еще продолжать, ведь есть черные линии на лопатке мамонта в Молодова I, крест на плитке известняка в Цонской пещере, подвески с отверстиями в Проломе и Заскальной VI…
Но стоит ли? Даже из приведенного списка видно, что неандертальцы были в некоторой степени одарены. Однако из него же со всей очевидностью следует, что неандертальцы очень, очень уступали кроманьонцам по всем пунктам. Ведь в то же самое время у сапиенсов были уже наскальные росписи, гравировки, статуэтки, настоящие флейты, богатые украшения, сложные погребения, посыпанные охрой и снабженные богатым инвентарем. Многие исследователи даже считают, что немногие и преимущественно поздние достижения неандертальцев на культурном поприще – сплошь заимствования у продвинутых кроманьонцев. Дескать, 10–15 тыс. лет сосуществования и конкуренции стимулировали европейских кроманьонцев к созданию шедевров верхнего палеолита, а вот неандертальцы оказались плохими учениками: все, на что их хватило, – это подвески из зубов. Впрочем, учитывая большие датировки для некоторых находок, скорее всего, неандертальцы и сами могли изобретать что-то подобное, но все же и близко не достигали уровня первых сапиенсов.
Минутка фантазии
Контакты кроманьонцев с неандертальцами не могли пройти даром. Последние неандертальцы исчезли примерно 28 тыс. лет назад, а первые сапиенсы появились в Европе не позже 35, а вероятно – 42 тыс. лет назад. На окраинах ареала: на Балканах, в Пиренеях, Южной Испании, возможно, в Крыму и на Кавказе – неандертальцы держались дольше. Детали взаимоотношений видов обсуждаются и большей частью остаются невыясненными, но контакты как минимум существовали. Воспоминания об общении с последними неандертальцами могли отразиться в европейском фольклоре. Как это ни покажется удивительным, легенды и мифы вполне могут жить тысячелетиями. Древнейшие фольклорные мотивы восходят, похоже, к моменту выхода сапиенсов из Африки, то есть возникли не менее 45 тыс. лет назад, а то и сильно раньше (Березкин, 2013)! Посему не должно казаться слишком удивительным, что неандертальцы, исчезнувшие еще на десяток-другой тысячелетий позже, могли оставить какие-то, хотя бы смутные, следы в сказках и легендах.
Морфологические и этологические черты неандертальцев подозрительно напоминают некоторые характерные особенности североевропейских троллей. Трудно сказать, кто первый высказал эту мысль. К. Саган еще в 1977 году писал: “Иногда я думаю: не являются ли наши мифы о гномах, троллях, великанах и карликах генетической или культурной памятью о тех временах?” (Sagan, 1977), правда, он имел в виду довольно абстрактные древние времена “плиоцена и плейстоцена”. Более конкретно о неандертальцах как прообразе троллей заговорили недавно исследователи непосредственно неандертальцев (например: Arsuaga, 1999).
Сходств действительно немало. Впрочем, как часто бывает со сказками и легендами, визуальное описание троллей крайне скудно (примеры: Киттельсен, 2009). Об их внешности известно фактически только то, что они то ли очень большие, то ли очень маленькие, а также что они уродливы и у них очень большой нос. Но и такой небогатый портрет мы можем примерить к неандертальцам.
Неандертальцы сравнительно с кроманьонцами имели очень большую ширину плеч, грудной клетки, таза и чрезвычайное развитие мускулатуры. Отсюда их описание как великанов. Однако европейские неандертальцы были на голову ниже кроманьонцев – вот и упоминание карликов. Столь противоречивое восприятие размера напоминает ситуацию с орангутанами: при росте обычно ниже полутора метров эти обезьяны обладают невероятной шириной, поэтому люди склонны воспринимать их как присевших на корточки и скрючившихся. Кажется, орангутан вот-вот выпрямится во весь свой исполинский рост и окажется гигантом. Ан нет, он действительно мал. Вопрос в том, на что больше обращает внимание человек – высоту или ширину.
Размеры носового отверстия неандертальцев превосходят значения любой современной расы, даже минимальные значения ширины попадают в рубрику “очень больших” значений по современному масштабу. Очевидно, внимательные и не слишком носатые кроманьонцы не могли пропустить столь яркую черту внешности. Поскольку же нос – центр лица, он затмил собой все остальные особенности, в преданиях осталось воспоминание только о нем. И конечно, кроманьонцам не могли показаться привлекательными лица коренных европейцев, уродливость троллей в сказках – дань первобытной ксенофобии.
Несмотря на огромные размеры и массивность, тролли иногда способны очень быстро бегать. Неандертальцы, судя по строению тазовых костей и ног, были выдающимися спринтерами (Власенко, Дробышевский, 2010). Тогда как современные люди специализированы для выносливого бега в медленном и среднем темпе, а также длительного стояния, неандертальцам лучше удавались рывки и сидение на корточках, а неподвижное стояние было для них обременительным. Можно предположить, что такие качества неандертальцев появились как адаптация к охоте на быстрых животных при недостатке и несовершенстве метательных орудий. А ведь им явно неплохо удавалось охотиться даже на таких чутких животных, как горные козлы.
Еще одна физиологическая особенность троллей – хорошее зрение: будучи ночными существами, они видят в темноте, а днем не показываются, тем более что от солнечного света они вообще каменеют. Неандертальцы обладали очень большими – рекордными для всех приматов! – затылочными долями мозга; у современных людей в них находятся высшие зрительные зоны. На этой основе даже была построена концепция неандертальцев – ночных хищников, имевших якобы вдобавок большие глаза – ведь глазницы у них действительно очень крупные – и отлично видевших в сумерках (Pearce et al., 2013). Хотя у этой идеи слишком много слабых мест (в частности, размер глазниц у людей практически никак не связан с размером глаз или даже связан обратной связью, а среди приматов большие глазницы тоже не так однозначно свидетельствуют о ночном образе жизни, иначе и северных монголоидов надо записать в полуночники), но коли уж у нас минутка фантазии, то всякое лыко в строку.
Тролли появились на земле раньше людей. Как правило, люди вторгаются в земли троллей, а тем это не нравится. Аналогия с неандертальцами и кроманьонцами более чем очевидная.
Сказочные тролли – жители густого леса. Именно такие местности населяли неандертальцы (например: Vernet, 1981), тогда как в периоды расширения степных и полупустынных ландшафтов их численность сокращалась (d'Errico et Goni, 2003). Кроме и более того, тролли живут обычно в горах, а чаще всего – в лесистых горах. Высокогорные поселения неандертальцев известны на Алтае, в Узбекистане, Ираке и Европе – в Самарине в Греции (Efstratiou et al., 2011). Связь троллей с пещерами, глухими, удаленными местами запросто могла быть спроецирована с неандертальцев. С появлением кроманьонцев неандертальцы уходили в самые труднодоступные и негостеприимные чащобы и ущелья. Тролли очень привязаны к своему месту, очень не любят покидать своих владений и, как правило, не любят гостей. Сравнение вариантов мустье и микока показывает, что способности неандертальцев к культурному обмену были не на высоте. Они могли чуть ли не тысячи лет обитать в одной пещере и практически никак не общаться с жителями соседней, расположенной в каких-нибудь тридцати километрах.
В поведении троллей есть несколько ярких черт: они жадны, грубы, вспыльчивы, часто скандалят, ругаются и дерутся – как с людьми, так и между собой, громко и дико ревут. Уплощенная лобная доля неандертальцев и значительное число травм, в том числе на лице и ребрах, позволяют предположить довольно слабый сознательный контроль над эмоциями. Особо часто упоминается, что тролли по любому поводу бросают огромные камни. Мощная мускулатура неандертальцев вполне подходит для этого занятия. Кстати, иногда в сказках упоминаются каменные топоры троллей. Впрочем, в сказках тролли не всегда противопоставляются людям, иногда они помогают друг другу, тролль может приглашать путников в гости от чистого сердца. Археология дает нам пару примеров возможного культурного взаимовлияния неандертальцев и людей. Например, от первых последним могли достаться специфической формы наконечники стрелецкого типа – треугольные, с вогнутым основанием: в Проломе 1, Заскальной 5 и Тринка 3 их делали, скорее всего, неандертальцы, а в Костенках, Сунгире, Гординешты и ряде других мест – сапиенсы (Вишняцкий, 2010). Правда, на неандертальских стоянках найдено всего несколько экземпляров таких наконечников, а стоянки, их содержащие, одни из самых поздних для неандертальцев, тогда как на кроманьонских стоянках их много и они одни из древнейших для верхнего палеолита, так что не исключено, что речь идет как раз о заимствовании неандертальцами от сапиенсов. Впрочем, для нашей темы направление обмена имеет второстепенное значение.
Уровень культуры троллей обычно изображается крайне низким, они олицетворяют дикость. На фоне кроманьонцев даже самые выдающиеся достижения неандертальцев действительно выглядят блекло. Практически всегда тролли в легендах глупы и даже тупы, их легко обмануть – это вообще один из главных мотивов. Трудно сказать, насколько остроумны были неандертальцы, но все, что мы о них знаем, заставляет предположить, что у них было меньше фантазии, чем у сапиенсов.
В перерывах между скандалами и бросаниями камней тролли воруют красивых девушек; иногда они пытаются честно свататься, но в сказках всегда получают отказ, так что все равно дело кончается похищением. Палеогенетики утверждают, что между сапиенсами и неандертальцами происходила метисация на уровне около двух процентов. Причем специфических неандертальских митохондриальных последовательностей у современных людей никто не находил (мтДНК выделяли из костей самих неандертальцев, так что они в принципе известны; митохондрии делятся сами по себе, независимо от ядра, и передаются в следующее поколение только через цитоплазму яйцеклетки, то есть только от матери, митохондриальные гаплогруппы – варианты – это фактически фамилия по материнской линии). Возможно, они просто не сохранились, вероятность-то невелика, но не исключено, что неандертальские красавицы были неинтересны кроманьонцам, а вот кроманьонские неандертальцам – очень даже. Для подтверждения осталось обнаружить сапиентные гаплогруппы мтДНК у неандертальцев, чего, правда, покамест не бывало.
Даже такой аспект тролльской сущности, как особые медицинские знания, может иметь фактическое основание. Как уже говорилось, в погребении Шанидар 4 пыльца цветов в повышенной концентрации принадлежала как минимум шести лекарственным видам (Solecki, 1975). В зубном камне неандертальской женщины из пещеры Сидрон обнаружены остатки ромашки и тысячелистника (Hardy et al., 2012). Вряд ли она жевала их в качестве гарнира к мамонтятине – эти растения горькие, зато целебные. Поскольку неандертальцы были аборигенным населением, они должны были лучше ориентироваться в свойствах местной флоры и фауны, чем пришлые из тропиков и субтропиков сапиенсы. В глазах кроманьонцев неандертальцы являлись хоть и дикими, но великими знатоками природы.
Существенной проблемой “неандертальско-тролльской” гипотезы является северное распространение мифов о троллях, тогда как основной ареал неандертальцев лежал как раз в средиземноморской зоне; они избегали мест, где зимой было холоднее –8… – 10 °C (Vendramini, 2009). В Норвегии неандертальцев в принципе быть не могло – в их времена тут все было покрыто толстым безжизненным ледником. Однако, во-первых, стоянки неандертальцев известны в Дании и Финляндии (Дробышевский, 2014а), а одна лобная кость выловлена рыбаками в Северном море вместе с костями животных мамонтовой фауны (Hublin et al., 2009), все они жили на побережье, после ушедшем под поднявшуюся воду.
Во-вторых, на юге неандертальцы могли исчезнуть раньше, а потомки европейских кроманьонцев в эпоху неолита массово сменялись тут новым населением, пришлым с Ближнего Востока, у которого была своя мифология. На севере сельское хозяйство затруднено, ближневосточные земледельцы почти не доходили в эти бесплодные земли. Зато именно сюда – на освободившиеся от растаявшего ледника просторы – из центральных областей Европы заселились потомки кроманьонцев, охотники и собиратели, уходившие от многочисленных и беспокойных земледельцев. С собой они принесли на Крайний Север свою родную мифологию, включая, вероятно, рассказы о неандертальцах, с которыми их предки встречались едва ли не на берегах Средиземного моря.
Впрочем, не исключено, что местами и на юге – в самых что ни на есть гнездилищах неандертальцев – сохранились воспоминания о них. В преданиях басков упоминаются джентилаки – гиганты, которые любят кидать камни. А ведь баски живут в Пиренеях, на юге Франции и севере Испании, там, где неандертальцев было больше, чем где бы то ни было, и где доживали свой век последние из них. А изолированный язык басков всегда считался свидетельством их обособленности и особой древности в Европе, по крайней мере доиндоевропейской. Впрочем, надо признать, в нынешней Стране басков баски оказались лишь в конце мезолита или неолите, а вероятно, даже в эпоху переселения народов уже в железном веке. Однако, во-первых, они переселились сюда не то из юго-западных районов той же Франции, не то из Италии, может быть из Центральной Франции или Бельгии, а то и из южной части Испании, но в любом случае из района, где неандертальцев тоже хватало. Во-вторых, переселенцы могли воспринять мифы некого более коренного пиренейского населения. Правда, есть еще одна проблема: в сказках джентилаки очень уж умные – открыли выплавку металлов, изобрели хозяйственные инструменты, научились выращивать злаки. Такие свойства уж совсем не вяжутся с неандертальцами…
С другой стороны Средиземноморья и даже чуть дальше – на Кавказе – в нартском эпосе присутствуют уаиги или ваюги. Общий смысл этих существ с нашей колокольни тот же самый – тупые и неуклюжие гиганты, обитающие в пещерах, жившие на данной территории раньше людей, как правило, воюющие с людьми и любящие красивых девушек (и пусть я буду поруган фольклористами!). Уаиги, кстати, “черноголовые”, а как минимум один из них имел золотистые волосы (у неандертальцев из Сидрона и Рипаро-Меццена – вот совпадение! – волосы тоже были темные, а иногда рыжие: Lalueza-Fox et al., 2007, 2011). Конечно, уаиги одноглазые и семи-, а то и стоголовые (кстати, это типично и для норвежских троллей), но за тридцать тысяч лет перевираний глаз могло и поубавиться, а голов – прирасти для пущей красоты и выразительности. Кроме того, уаиги чаще выглядят и ведут себя просто как очередное племя кочевников, но ясно, что новейшие события не могли не затмить исходника. Зато на Кавказе неандертальцы держались тоже до последнего, и сапиенсы тут засели прочно, так что преемственность от кроманьонцев до наших времен в горных аулах большая, чем на равнинах севернее и южнее (и пусть я буду поруган знатоками этногенеза народов Кавказа!).
Гулять так гулять! В ирландском эпосе рассказывается о фомори с человеческим телом и козлиной головой. Впрочем, они были привязаны к воде или даже жили в воде и питались рыбой – слишком неподходящая характеристика для неандертальцев (хотя если внутри нашей минутки фантазии включить еще секундочку фантазии, то можно предположить, что на маленьком изолированном острове могли появиться прибрежные рыбоядные неандертальцы). Учитывая их связь со “стеклянными башнями в западном океане” – айсбергами, скорее речь идет об эскимосах, если, конечно, вообще есть смысл искать какие-то реальные их прототипы. Племя фомори было сменено фирболгами – гигантами, некоторые из которых были порабощены греками, которые заставляли их таскать землю с низин на террасные поля на холмах в огромных кожаных мешках. В фирболгах некоторые исследователи видят кельтов, возможно, белгов. А в Норвегии записана сказка, в которой тролля пугают: “Будешь плохо себя вести, придется тебе таскать землю в мешках”. Хотя и тут связь с неандертальцами более чем косвенная, все же показательно, что в средневековом ирландском эпосе упоминается фактически античное рабовладение в Греции и хозяйственные приемы, свойственные земледельцам другого конца Европы, в приложении к мифическому народу, а в Норвегии тот же мотив применен к троллям. Надо думать, викинги, побывав в Ирландии, услышали мотив мешков и у себя на родине приспособили его к своим родным сказочным созданиям. Это как минимум свидетельствует о наличии неких реальных корней у фольклорных существ и событий.
Но довольно! На этом месте и без того уже изрядно щербатая бритва Оккама окончательно тупится о деревянистую ботву домыслов. Очевидно, все указанные соответствия троллей и неандертальцев имеют сугубо предположительный характер, нетрудно придумать совершенно отличные интерпретации тех же фактов и привести тьму совершенно антинеандертальских характеристик троллей.
Дабы не прослыть мракобесом и фантазером, надо бы уравновесить разгул мысли чем-то более трезвым. На самом деле, вовсе не исключено обратное влияние – от науки к фольклору.
Первые сборники норвежского фольклора опубликовали в 1841, 1845–1847, 1852 и 1871 гг. П. К. Асбьёрнсен и Й. Э. Му, ныне являющиеся классиками в своей области. В 1836 г. датский ученый К. Ю. Томсен создал периодизацию истории в виде трех веков, первым из которых был каменный, хотя эпоха палеолита фактически была известна как минимум с 1823 г. С 1830 по 1871 г. множество трудов о каменном веке создал Э. Ларте, который в числе прочего открыл верхний палеолит. Значительны также работы о палеолите, написанные в 1847–1864 гг. Буше де Пертом. Август 1856 г. ознаменовался открытием неандертальца в Дюссельдорфе, который был кратко опубликован в следующем году, а в 1864 г. описан как Homo neanderthalensis. В 1860-х гг. поиски древних людей были достаточно популярным занятием, в числе прочего в марте 1868 г. во Франции были откопаны скелеты в гроте Кро-Маньон, давшие название кроманьонцам.
Собиратели скандинавского фольклора XIX и XX веков были образованными людьми, по определению интересовавшимися древнейшей историей и неизбежно знавшими о палеоантропологических открытиях, тем более что находки неандертальцев и прочих “троглодитов” широко освещались даже в популярной прессе, дебаты о них были достоянием всех грамотных людей. Образ “дикого пещерного допотопного человека” – непременно обмотанного шкурой и с дубиной в руке – стоял у них перед глазами, когда они записывали легенды о троллях. Неопределенность визуального образа в устных преданиях, возможно, восполнялась уже самими фольклористами, которые могли невольно подгонять записи преданий под стереотипы о пещерных жителях, сложившиеся в собственной голове. Методика сбора фольклорного материала тогда была не столь строгой, как ныне, известно, что исследователи публиковали не исходники записей, а уже литературно обработанные тексты. Ясно, что влияние это могло быть совершенно неосознанным.
Й. Бауэр – самый известный шведский иллюстратор сказок, своими замечательными картинами в немалой степени создавший каноническое представление о внешности троллей, в основном работал с 1907 по 1915 г. – время громких открытий во всех самых классических местонахождениях неандертальцев и их предшественников: Спи (1886 г.), Крапина (1899–1905 гг.), Мауэр (1907–1908 гг.), Ла-Шапель-о-Сен (1908–1913 гг.), Ле-Мустье (1908 и 1914 гг.), Ла-Ферраси (1909–1921 гг.), Ла-Кина (1910–1927 гг.), Эрингсдорф (1914–1916 гг.). Как он, так и его предшественники уже с середины XIX века могли черпать немалую долю вдохновения в более или менее научных реконструкциях неандертальцев. Проверить эту гипотезу можно было бы, сравнив описания и изображения троллей, созданные до середины XIX века, с последующими, но оставим этот интересный труд будущим исследователям.
Подводя итог: с большой вероятностью распространение научных, но искаженных научно-популярным пересказом и художественным переосмыслением данных о “пещерных людях” сказалось на записях европейского фольклора уже в XIX и XX веках.
Глава 37 Человечество на востоке: денисовцы
Неандертальцы жили в Европе и Западной Азии. А кто же населял земли восточнее? Китай весьма богат палеоантропологическими находками, но как-то так сложилось, что они всегда рассматривались как приложение к европейским. Например, черепа из Дали, Цзиньнюшаня и Мапы при всем их своеобразии так и не получили особого обобщающего названия. Конечно, антропологи не поскупились и сочинили термины Homo sapiens daliensis и Homo erectus jinniushanensis, но обычно они расценивались либо как “неандерталоиды”, либо “архаические Homo sapiens, промежуточные между Homo erectus и Homo sapiens”. Появление новых находок типа черепной крышки из местонахождения Салхит в Монголии (Coppens et al., 2008) не привело к пересмотру устоявшейся традиции. А меж тем можно задуматься: если уж современные люди в Евразии столь четко разделились на европеоидов и монголоидов, то насколько сильнее должна была действовать изоляция в допотопные времена?
Возможный ответ на этот вопрос дают открытия, сделанные палеогенетиками. В Денисовой пещере на Алтае многочисленные слои хранят летопись как минимум последних 60 тыс. лет. В них были найдены немногочисленные и очень фрагментарные останки людей. Самые древние находки – первый верхний постоянный резец из слоя 12 и левый второй нижний молочный моляр из слоя 22 (1) – по строению больше всего напоминают зубы современных людей и отличаются от неандертальских. В 2000 году в слое 11.1 был обнаружен третий верхний постоянный моляр огромных размеров, в 2008 году к нему добавилось основание концевой фаланги мизинца правой кисти, а в 2010-м – еще один здоровенный третий моляр. В 2011 году раскопки принесли концевую фалангу левой кисти и среднюю фалангу IV или V пальца левой стопы. По такому набору можно рассказать не так уж много (впрочем, настоящий антрополог всегда найдет массу информации даже в самом мельчайшем обмылке: Mednikova, 2011, 2013; Mednikova et al., 2013). Зубы вообще очень изменчивы, а фаланги весьма подвержены прижизненным модификациям.
Сенсация случилась, когда в дело включились палеогенетики. Сначала была расшифрована мтДНК из фаланги мизинца кисти (Krause et al., 2010). Оказалось, что она отличается от сапиенсов вдвое сильнее, чем отличаются неандертальцы от сапиенсов, но самое интересное, что и разница новой мтДНК с неандертальцами примерно столь же велика! Таким образом, нарисовалось “третье человечество” – денисовцы.
Почти сразу были опубликованы данные и по ядерному геному, выделенному из зуба денисовца (Reich et al., 2010). Они немножко сбавили градус специфичности, так как алтайские люди оказались все же заметно ближе к неандертальцам, чем к сапиенсам. Однако денисовцы – это не разновидность неандертальцев. Остроты добавило обнаружение денисовских генетических вариантов у некоторых современных людей, прежде всего у австралийских аборигенов, новогвинейских папуасов и прочих меланезийцев (Reich et al., 2011), причем примесь эта оценивается примерно в 5 % – вдвое больше, чем неандертальская доля у неафриканцев!
Денисовская генетика была выявлена еще в двух молярах – постоянном и молочном, а вот в средней фаланге стопы ДНК оказалась вполне неандертальской. Таким образом, Денисова пещера, по меткому выражению М. Б. Медниковой, является “пещерой всех людей” – тут успели пожить и денисовцы, и неандертальцы, и сапиенсы.
Кто же такие эти денисовцы? Судя по специфике мтДНК, линия денисовцев могла отделиться от неандертальской от 779 тыс. до 1,3 млн лет назад. А ведь это фактически время выхода первых архантропов за пределы Африки. Получается, покинув Черный континент, гоминиды разбрелись в разные стороны: те, что пошли на закат – в Европу, стали неандертальцами, а любители восхода преодолели степи, горы и леса, оказались в Восточной Азии и стали денисовцами. Судя по огромным размерам двух моляров, денисовцы могли сохранять очень архаичные черты. При этом ясно, что большая часть денисовцев жила вовсе не на Алтае, а намного южнее и восточнее, ведь смешение с сапиенсами – предками австралийцев и меланезийцев – скорее всего, происходило где-то на берегах Индийского океана. Крайне сомнительно, чтобы путь в Австралию пролегал через горы Центральной Азии.
Что ж, картина вырисовалась красивая – складная и логичная. Однако, чтобы антропологам не жилось слишком вольготно, палеогенетики выдали новую сенсацию, запутавшую начавшую было проясняться ситуацию. Они выделили мтДНК из останков, найденных в Сима-де-лос-Уэсос. В этой испанской пещере обнаружены тысячи фрагментов костей, которые принадлежали образцово-показательным гейдельбергенсисам – предкам неандертальцев, жившим тут 430 тыс. лет назад. Но! Митохондриальная ДНК этих пращуров оказалась намного более похожей на денисовскую (Meyer et al., 2013)! Хотя мтДНК из Сима-де-лос-Уэсос и не полностью идентична таковой алтайских гоминид, стоит принять во внимание колоссальную разницу во времени: как раз за несколько сотен тысяч лет мтДНК должна была дойти до денисовской кондиции. Что это значит? Антропологи пока чешут затылки. Крайне маловероятно, что денисовцы по пути из Эфиопии на Алтай сделали крюк через Испанию – чересчур извилистая дорога даже для заблудших троглодитов. Скорее всего, и “протоденисовские”, и “протонеандертальские” варианты мтДНК имелись у общих предков, вышедших из Африки, они еще сохранялись у гейдельбергенсисов Европы, но потом денисовские потерялись при переходе к неандертальцам, а на востоке наоборот – неандертальские пропали, а денисовские сохранились. Эта версия подтвердилась новейшей расшифровкой ядерного генома трех индивидов из Сима-де-лос-Уэсос: он оказался больше похожим на неандертальский (Meyer et al., 2016). Все вздохнули с облегчением. Правда, тут же появилась новая версия: а может, “неандертальские” мтДНК-линии достались неандертальцам в позднейшие времена от неких очередных мигрантов, пришедших из Африки? Есть же в Европе Чепрано и Мала-Баланика, не очень-то похожие на неандертальцев… Ход мысли генетиков иногда похож на форму двойной спирали ДНК, к тому же в состоянии суперспирализации.
Как же выглядело восточное человечество? Наверное, Ж. Л. Кювье и взялся бы реконструировать облик денисовцев по зубам и фалангам, но времена ныне не те. А генетики пока не умеют восстанавливать лица, исходя из генов; известно только, что кожа у денисовской девочки была темной, волосы черными, а глаза темно-карими (Meyer et al., 2012). Таким образом, возникает проблема: мы имеем хороший вид, известный только по ДНК, и набор черепов, генетика которых неизвестна. По географической и хронологической логике денисовцами были и Дали, и Цзиньнюшань, и Мапа, и Салхит, но как это доказать? Выделить бы из них тоже ДНК…
Чем хороша наука – никогда не знаешь, какой сюрприз преподнесет природа. Сколько еще необычных фортелей эволюции выявится при изучении прошлого?..
Глава 38 Человечество на юге: африканские… кто?
Впрочем, прошлое можно успешно изучать, подробно рассматривая настоящее. Этим путем пошли генетики – исследователи африканских народов.
Расшифровка ДНК современных мандинка, пигмеев биака и бушменов-сан выявила, что три участка на хромосомах 4, 13 и 18 оказались слишком специфичными, непохожими на такие же у других людей планеты. Расчеты показали, что примерно 2 % специфически человеческой части генома этих африканских групп было получено около 35 тыс. лет назад от неких неведомых архаичных гоминид, обособившихся от сапиенсов аж 700 тыс. лет назад (Hammer et al., 2011). Аналогичный результат получился в результате полного секвенирования геномов камерунских пигмеев, а также танзанийских хадза и сандаве (Lachance et al., 2012).
Если с метисацией в Европе и Азии все очевидно – на то там и неандертальцы с денисовцами, – то с Африкой ситуация загадочна. Крайне любопытно, как могла в Центральной Африке сотни тысяч лет сохраняться некая популяция “архаичных людей” без вливания в предков сапиенсов, а потом вдруг дать это вливание? Что их там изолировало? Тропические леса? Или сапиенсы доползли-таки до Западной Африки из Восточной? Печально, что в нашем распоряжении почти нет палеоантропологии Западной и Центральной Африки. Может, там тоже были свои “хоббиты”? А как сапиенсы перелезли через лес, так стали смешиваться? Экологически, коли могли смешиваться, загадочные “архаичные люди” должны были или исчезнуть раньше, или раньше смешаться. Не живут два родственных вида с одной экологией на одной территории. Культурную изоляцию в данном случае нельзя представить как фактор, так как она никому никогда смешиваться не мешала. Стало быть, должна быть изоляция географическая или экологическая. А Африка плоская, рек там немного, гор вообще фактически нет (есть в Северной Африке и в Эфиопии, но они очень уж далеко). Вот леса разве что или пустыни. Лесные “хоббиты” Конго? “Родезийцы”, сохранившиеся за Калахари или в Намибе?..
Возможно, следы неуловимых “архаичных людей” все же имеются. В одном случае это буквально следы: в Центрально-Африканской Республике, в Бамбари, в округе Бакала, найдены два отпечатка стоп с неопределенной датировкой (Marquer, 1960). Следы очень маленьких размеров – меньше индивидуального минимума женщин пигмеев, отличаются крайне широкими пропорциями – больше индивидуального максимума любых человеческих групп – и отсутствием сводов. Примерно так должны бы выглядеть следы “хоббитов”, но где Флорес, а где Центрально-Африканская Республика! Впрочем, следы могли принадлежать и детям, что объясняет малые размеры, расширенность пропорций и отсутствие сводов.
В заирском местонахождении Ишанго найден довольно большой набор костей с датировкой 21 тыс. лет назад или меньшей. Часть находок определенно относится к людям современного вида, но некоторые имеют весьма своеобразное строение. В частности, пирамида правой височной кости Ишанго 37 заключает в себе костный лабиринт архаичной конфигурации: по большинству параметров он больше похож на лабиринт неандертальцев, нежели кроманьонцев, и сильнее всего отличается от современного. Еще интереснее фрагменты челюстей Ишанго 23 (“a”) и в особенности Ишанго 25 (“A”). Некоторые исследователи считают их архаичными настолько, что допускают отнесение к Homo erectus или даже австралопитекам (Orban et al., 2001). Это 20 тыс. лет назад! Впрочем, по параметрам восходящей ветви – крайне низкой и широкой – Ишанго 23 не отличается от верхнепалеолитических и мезолитических африканцев, хотя и находится на самом краю распределения современных людей; размеры премоляров Ишанго 23 велики, но не чересчур. Архаика следует исключительно из чрезмерных размеров моляров, которые у Ишанго 23 и 25 действительно зашкаливают выше пределов архантропов и практически равны средним по Australopithecus afarensis и Homo habilis. Нетипичны для современного человека и пропорции альвеолярной дуги Ишанго 23: относительно некрупные клыки, резцы и премоляры при огромных молярах; линия резцов почти прямая, а линии заклыковых далеко расходятся. Такие пропорции напоминают строение челюстей некоторых восточноафриканских массивных австралопитеков – KNM-ER 729, 1477a и 3230. Но ведь парантропы вымерли миллион лет назад! Еще грандиознее изолированный левый верхний первый моляр из Ишанго, превышающий средние значения Australopithecus afarensis, Homo habilis и даже более крупнозубых Australopithecus africanus. Поздние датировки делают ситуацию крайне интригующей. Возможны несколько объяснений: либо очень древние кости попали в поздние отложения случайно (тем более что найдены они не в захоронении, а в слое мусора), либо люди из Ишанго представляют собой крайний вариант изменчивости современного человека, либо в Центральной Африке вплоть до середины эпохи верхнего палеолита сохранялись популяции крайне архаичных гоминид. Впрочем, обломок челюсти Ишанго 25 и изолированный моляр могли принадлежать не человеку, а шимпанзе. Прецедент известен: в Шум-Лака женщина SE III была погребена поверх обожженных костей людей, среди которых находилась и нижняя челюсть молодого шимпанзе. Впрочем, это не отменяет морфологии челюсти Ишанго 23, которая точно не принадлежала обезьяне.
Новейшие исследования показывают, что, вероятно, дело в смешении древних и молодых слоев (Crevecoeur et al., 2014). Экзотический моляр мог действительно принадлежать австралопитеку или “раннему Homo”, жившему 2–3 млн лет назад или даже раньше. В этом случае находки в Ишанго не менее уникальны: выходит, это единственные останки австралопитеков в Центральной Африке!
В области распространения современного тропического леса – на юго-западе Нигерии – находится пещера Иво-Элеру. Ее отложения датировались радиоуглеродным методом примерно 13 тыс. лет назад, а методом урановых серий – 11,7–16,3 тыс. лет назад. В пещере был погребен мужчина в скорченном положении. В строении его черепа масса примитивных черт: череп длинный, низкий, с покатым лбом, высоко расположенными височными линиями и резко выступающим затылком в форме “шиньона”, подобного неандертальскому. На нижней челюсти обращают на себя внимание огромная ширина восходящей ветви с низким венечным отростком, а также отсутствие подбородочного выступа – передняя сторона челюсти практически вертикальна и плавно закруглена снизу. При этом надбровье развито умеренно, а нижняя челюсть относительно укорочена и с тонким телом. Метрическое исследование показало, что человек из Иво-Элеру вообще не попадает в границы изменчивости современных людей, но близок к гораздо более архаичным гоминидам типа Нгалоба LH 18 и Кафзех VI (Allsworth-Jones et al., 2010; Harvati et al., 2011; Stojanowski, 2014). Самым интригующим в этом является поздний возраст находки – едва ли не граница голоцена!
Восточная Африка тоже может похвалиться загадкой. В местонахождении Кабуя в Кении, на западном берегу озера Туркана, найдены черепная коробка и обломки челюстей. Первоначально череп был реконструирован как крайне архаичный, с чрезвычайно покатым лбом, низким сводом, невероятно высокими глазницами и тяжелыми челюстями (Whitworth, 1966). Впрочем, такой его облик является в большей степени результатом очевидно неверной ориентации черепной коробки при воссоединении с обломками челюстей. Однако часть архаики не исчезает при любой реконструкции: черепная коробка чрезвычайно длинная, с очень толстыми костями и мощным надбровьем, покатым лбом и сильно выступающим назад затылком, хотя и округлым. Наибольшая ширина черепа приходится на надсосцевидные гребни – весьма примитивная черта. На нижней челюсти есть подбородочный выступ, но обращает на себя внимание очень большая высота всей передней части. Датировки, строго говоря, не имеется, но предполагается позднеплейстоценовый возраст, хотя М. Лики отмечала наличие в отложениях вместе с каменными даже железных орудий (Leakey, 1966). Кто этот человек – искомый метис с африканскими “хоббитами”?
Южная Африка не могла остаться в стороне на этом конкурсе девиантов. Особняком стоит ископаемая находка, сделанная в Намибии, в местонахождении Оранжеманд (Senut et al., 2000). Черепная крышка без определенной датировки обладает довольно специфическим набором черт. Она отличается как от архаичных людей Африки – очень малой шириной, развитием лобных и теменных бугров, отсутствием заглазничного сужения, так и от сапиенсов – надбровным валиком, хотя бы и не слишком мощным, очень толстыми костями свода, приплюснутостью в целом и сильной покатостью узкого лба в частности, а также слабым продольным изгибом. Крышевидность свода и сагиттальный валик встречается и у древних, и у современных людей, но в данном случае придает черепу скорее архаизма. Географическое положение и пентагоноидная форма свода неизбежно наводят на мысль о родстве с бушменами, но отсутствие лицевого скелета не позволяет оценить его более определенно. Конечно, индивидуальная изменчивость современных людей велика, но Оранжеманд уж очень не вписывается в стандартные рамки.
Могут ли Ишанго, Иво-Элеру, Кабуя и Оранжеманд представлять позднейший вариант реликтовых популяций африканских “недолюдей”? Или они являются уже результатом метисации архаичных форм с протонегроидами? Выделить бы и из них ДНК, но, к сожалению, тропические условия делают такие надежды слишком призрачными.
Коли уж в этой главе сплошное “В гостях у сказки” – то “хоббиты”, то гоблины, – можно задуматься, какое бы название подошло больше всего африканским “архаичным людям”? В мифах африканских народов поминаются маленькие не то люди, не то духи – например, нгояма, мумбонелеквапи и кацумбакази. Но почти всегда в облике и повадках подобных карликов слишком явно сквозят черты пигмеев (если дело происходит в Центральной Африке) или бушменов (в случае Южной Африки). Люди всегда отличались богатой фантазией, им необязательно было увидеть орка, чтобы придумать его. Может, поэтому наш род и остался единственным на планете? Альтернативные человечества сгинули. Но сейчас мы можем воскресить их – хотя бы в виде знаний на страницах книг и в собственных головах.
Конечно, серьезной альтернативы человеческому разуму на планете нет (как бы ни любил я подчеркивать примитивность и специализированность человека, вынужден признать, что человек таки уникален). Почему? Очевидно, никто не хотел и не должен был стать разумным. Биологическая эволюция не направляется чьим-то разумом, это стохастический процесс, сплошная статистика. Скорее можно наметить причины, почему человек стал разумным, и отметить, какие факторы не работали в случаях медведей, шимпанзе и прочих дельфинов – у них в принципе другая жизнь. Однако ж ни из чего не следует, что человеческий путь поумнения единственно верный и возможный. Фантасты много сказали о разуме на основе хищников, растений и других странных существ. И кто скажет, что этого не может быть в принципе? Возникают же хищники на основе растений, моллюсков, насекомых, рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих независимо и в разных вариациях. Почему бы и разуму не возникать? Может, мы просто первые. Кстати, если судить по тому, что видно за окном, первый блин, как всегда, первый блин… Может, через пару миллионов лет у каких-нибудь ежей получится лучше, и они будут удивляться нашему несовершенству, как мы удивляемся недоделанности птерозавров сравнительно с птицами?
Достающее звено Часть девятая, главная, после прочтения которой умудренный Читатель почувствует себя настоящим антропологом, ибо в ней поведано обо всех открытых тайнах антропогенеза и даже о некоторых закрытых
До сих пор мы, строго говоря, ходили вокруг да около антропогенеза. Нетерпеливый Читатель вправе потребовать, наконец, внятного изложения всего процесса, а не его обрывков. Что ж, переходим к сути…
Глава 39 Немного о систематике и времени
Человеческое мышление дискретно. Люди склонны все воспринимать как набор отделенных друг от друга элементов, четко отличных по небольшому набору простых признаков. Такое восприятие характерно даже для маленьких детей: вот это мама, а это папа, это хороший дядя, а это плохой, это собачка, а это кошечка. Даже когда ребенок рисует что-то, он рисует это из отдельных кусочков: круг – голова, два кружочка внутри – глаза, треугольником нос, полукружием рот, два треугольника наверху – уши, квадратик – шея, два овала – лапки. Вот и готов портрет котенка анфас. Даже если потом перегородки между сегментами будут стерты, сначала они обязательно будут нарисованы. Это практично. Так гораздо быстрее и проще познавать мир. Торжеством такого подхода является, например, анатомическая номенклатура: это мышцы шеи, а это – спины, это – мышцы груди, а это – брюшного пресса. И неважно, что в реальности четкой границы между ними нет. Любой анатом приведет несколько веских доводов, почему, скажем, задние зубчатые мышцы относятся к мышцам спины, а передние – груди. Между тем расположены они рядом, те и другие крепятся к ребрам. Так же и во всех других областях.
Так же и в биологической систематике, в том числе антропологической. Очень удобно всех приматов разложить по своим полочкам: вот это лемур, это макака, это шимпанзе, австралопитек, хабилис, эректус, сапиенс. Есть сагиттальный гребень – австралопитек, нет – хабилис. Есть передние лицевые валики – африканский, нет – афарский. Пока находок было немного, такой подход прекрасно работал. Но различаются между собой не только виды, но и индивиды, поэтому поначалу исследователи были склонны почти каждую находку описывать как новый вид и даже род. Так появились бесчисленные “-питеки” и “-антропы”. Но чем плотнее заполнялась окаменелостями временная шкала, чем лучше ученые узнавали разные аспекты изменчивости, тем яснее становилось, что вполне можно ограничиться “джентльменским набором” названий: пара австралопитеков, один архантроп, один сапиенс – и ладушки. Но поступали свежие находки, порой из ряда вон выходящие, и вновь описывались новые роды и виды. Но снова находились сходства… Так и качается маятник “дробителей” и “объединителей” уже сто пятьдесят лет.
На самом же деле, как это ни покажется странным некоторым читателям, название ископаемого гоминида – не такая уж важная штука. Систематика – затягивающее занятие. Очень увлекательно тасовать латинские названия, спорить на тему, как правильно говорить: Homo neanderthalensis или Homo sapiens neanderthalensis, а можно еще развести демагогию на тему, что вернее писать Homo neandertalensis (заметили разницу?). Не счесть комбинаций слов Pithecanthropus, Homo, erectus, sapiens и десятка-другого иных.
Столь же поглощает многих определение хронологических видовых границ. Например, граница между гейдельбергенсисами и неандертальцами проходит 300, 200, 150 или 130 тыс. лет назад? Сапиенсы появились 200, 160, 100, 80 или 45 тыс. лет назад? Это же важно! Один из самых частых вопросов антропологам: “Когда же появился современный человек?” И люди расстраиваются и остаются неудовлетворены, услышав честный ответ: “Нет точной даты”. Не потому, что мы ее пока не знаем, а потому, что ее никогда и не было. Не было не потому, что человек не возникал эволюционным путем (как кто-то может это понять; надеюсь, Читатель не запутался в “не”), а как раз потому, что эволюционное происхождение не дискретно. Признаки, которые мы склонны определять как видоспецифичные для сапиенса, появлялись не сразу все, одним комплексом, и имелись не у всех индивидов в каждый конкретный момент времени. Не было такого, чтобы в семье “чистых” гейдельбергенсисов родился “чистый” сапиенс. Тут уместна аналогия со спектром света: любой человек, если он не дальтоник, отлично различает цвета радуги – вот красный, вот желтый, вот зеленый и синий. Но ведь в реальности спектр непрерывен! Между цветами нет барьеров, длина волны меняется вполне постепенно. Всегда найдется сине-зеленый аквамарин, про который одни будут говорить, что он голубой, а другие – салатовый. Другой пример – погружение в облако или туман: когда мы далеко от них, мы видим довольно четкие клубы пусть с не вполне резкими, но все же определенными границами. Когда мы внутри, это тоже ясно. Но при влете в облако или вхождении в туман есть довольно долгий период неопределенности: с какого момента мы уже внутри – когда не видим на сто метров, неспособны разглядеть пальцы на вытянутой руке или кончик носа?
Да и признаки мы используем хоть и не совсем произвольные, но, к сожалению, неидеальные. Потому что идеальных в природе просто нет. Подбородочный выступ появился в одно время, вертикальная ориентация барабанной пластинки – в другое, надглазничный треугольник – в третье. Причем в одной популяции мы и сейчас можем найти людей с разным состоянием этих признаков. Но у подавляющего большинства современных людей они все же будут выражены, тогда как среди неандертальцев мы с трудом найдем индивидов с сапиентным вариантом отдельных особенностей, а с полным комплексом не найдем вовсе. В промежутке от 200 до 50 тыс. лет среди африканских предков сапиенсов эти черты становились все более частыми и постоянными. Но где провести границу видов? Эректуса от сапиенса мы отличим без труда, среди гейдельбергенсисов уже можно найти особей с отдельными современными чертами, но с какого процента и каких признаков можно отсчитывать новый вид? Тут у разных антропологов есть свои мнения, тут мы переходим из мира объективного в мир субъективного, а потому и систематик существует великое множество.
Трудно описывать полутона, такие попытки оканчиваются великим занудством. Иногда бывает проще изобразить спектр или хотя бы палитру. Тут уже наука плавно превращается в искусство. А для простоты и наглядности можно выхватывать отдельные яркие пятна из картины и называть их “чистыми цветами”. Так обычно и бывает в учебниках. От этого у неискушенного читателя может сложиться ошибочное представление о контрастности всего полотна. В реальности же пастель в эволюции преобладает над резкими переходами.
Ученые, много работающие с реальными материалами, прекрасно понимают условность названий, данных нами, а потому часто предпочитают пользоваться туманными обозначениями – “архантропы”, “анатомически современные люди” – или оперировать каталожными обозначениями конкретных находок, избегая слишком однозначной латыни. Другим антропологам обычно ясно и понятно, что при этом имеется в виду. Но никто не станет спорить, что порядок нужен во всем. Безраздельный разнобой в дефинициях мешает пониманию, поэтому классическую систематику никто не отменяет. Надо только помнить о мере ее условности.
Уголок занудства
В биологии безраздельно господствует так называемая линнеевская система названий. Все живые существа подразделяются на группы, имеющие строгую иерархию. В идеале эта иерархия должна отражать родство, что, правда, не всегда удается строго соблюдать по разным причинам, главным образом из-за недостатка и противоречивости данных. “Табель о рангах” таксонов от крупных к мелким выглядит следующим образом: империи – царства – типы – классы – отряды – семейства – роды – виды. Например, современный человек относится к империи клеточных, царству животных, типу хордовых, классу млекопитающих, отряду приматов, семейству гоминид, роду человек и виду человек разумный. По необходимости выделяются также над– и подтаксоны, например, подотряд старше надсемейства, подсемейство – рода, а подрод – вида. Реже используются более экзотические группировки типа грандотрядов (выше отряда), гипотрядов (ниже подотряда), инфраотрядов (еще ниже), триб (ниже подсемейства, но выше рода, фактически это надрод) и подтриб.
Подвиды внутри иногда еще подразделяются на вариации, но обычно в таких случаях речь идет уже о конкретных популяциях, то есть более-менее родственных группах, населяющих некую территорию, внутри которой уже нет существенных барьеров для скрещивания, тогда как две популяции чем-нибудь да разделены (чаще – географической преградой типа реки, горы или пустыни).
Конкретный вид обозначается по биномиальной схеме: с большой буквы пишется название рода, затем с маленькой – вида (Homo sapiens). Видовое – обязательно с маленькой! Сразу видно небиолога, когда написано “Homo Sapiens”, особенно почему-то грешат этим журналисты. Латынь родов и видов выделяют курсивом, опять же легко распознать неспециалиста по написанию “Homo sapiens”; надродовые названия курсивом обычно не выделяются. Иногда добавляется третье слово – название подвида (Homo sapiens idaltu). Подрод пишется после рода в скобках (Presbytis (Presbytis) chrysomelas). По полной программе в конце обозначается автор и год описания (Strigorhysis rugosus Bown, 1979), но если первоначально вид был описан в составе другого рода или название как-то менялось, то автор и год ставятся в скобки (Presbytis (Presbytis) comata comata (Desmarest, 1822)). По умолчанию действует правило приоритета, то есть первое название считается самым главным, его меняют только в крайних случаях (например, если такое название еще раньше дали совсем другому существу).
Для постижения эволюции приматов достаточно оперировать уровнями отряда и ниже. Краткая систематика приматов дана в приложении к книге.
Время, конечно, лучше всего исчислять в миллионах лет, но такая возможность, к сожалению, есть не всегда. Иногда сделать абсолютную датировку затруднительно, зато богатые палеонтологические сборы дают возможность довольно точно определить эпоху и ярус. Границы периодов, эпох и ярусов определяются климатическими изменениями и, соответственно, существенными трансформациями экосистем. Поэтому нет ничего странного, что основные филогенетические события приходятся, как правило, именно на границы эпох; практически эти границы изначально и были установлены именно по смене групп растений и животных.
Трудности иногда возникают в определении синхронности отложений, расположенных на большом удалении, особенно на разных континентах. Но пара столетий напряженной работы геологов вылилась в создание сводных таблиц и весьма подробных шкал как для мира в целом, так и для отдельных географических областей. Развитие абсолютных методов позволило уточнить и исправить некоторые темные места, так что сейчас палеонтологи весьма уверенно ориентируются в бездне прошлого.
Кстати, о границах…
Границы эпох не всегда принимаются одинаково в разных странах. Особенно спорны границы эоцена и олигоцена, а также плиоцена и плейстоцена. Так, приабонский ярус в старых схемах часто определялся как первый олигоценовый, но в современной международной шкале закреплен как последний эоценовый. Гелазский ярус обычно рассматривался как позднеплиоценовый, но в новейших редакциях международной шкалы обозначен как раннеплейстоценовый. Еще больше путаницы привносят попытки совмещения региональных и глобальных шкал. Границы, скажем, южноамериканских ярусов могут на пару миллионов лет не совпадать с североамериканскими, а те – с европейскими. Строго унифицировать их крайне сложно, ведь на практике геологи и палеонтологи имеют дело с реальными слоями и фаунистическими комплексами с конкретными хронологическими границами, а не абстрактными рубриками таблицы. Несовпадение времени смены климата и экосистем в разных регионах – объективная реальность, которую никак не впихнуть в прокрустово ложе формальной шкалы.
Общая геохронологическая шкала в сопоставлении с региональными дана в приложении к книге.
Глава 40 Дальняя родня: тупайи и шерстокрылы
Тупайи (отряд Scandentia или подотряд Tupaiiformes отряда Primates) известны с середины эоцена Китая (Eodendrogale parvum), а сейчас обитают в Юго-Восточной Азии – от Северной Индии через Индокитай до Индонезии и Филиппин. Внешне эти зверьки очень похожи на белок, отчего раньше их относили к отряду насекомоядных. Сейчас существует пять родов и множество видов, среди которых есть полудревесные и полуназемные, дневные и сумеречные, растительно– и насекомоядные. По сравнению с приматами, тупайи имеют очень примитивную морфологию и, видимо, по облику и образу жизни близки к древнейшим предкам приматов – плезиадаписовым.
В отличие от приматов, у тупай на пальцах красуются когти, большой палец не противопоставлен остальным, мордочка сильно вытянута вперед, глаза расположены по бокам головы, на нижней челюсти шесть резцов.
Древнейшие тупайи из эоцена Китая мало отличались от современных, так что тупай можно рассматривать как настоящих “живых ископаемых”.
Шерстокрылы, или кагуаны, или летающие лемуры (отряд Dermoptera или подотряд Dermoptera отряда Primates), известны с нижнего и среднего палеогена Северной Америки, Европы и Азии, где были представлены множеством видов, но сейчас сохранилось только два вида. Филиппинский шерстокрыл Cynocephalus volans живет на Филиппинах, а малайский Galeopterus variegatus – на юге Индокитая, полуострове Малакка и Зондских островах. Шерстокрылы имеют довольно своеобразный вид. Это бурые плюшевые зверюшки с большими выразительными глазами, 35–40 см длиной и весом 1–2 кг. Между их передними и задними ногами вдоль тела до кончика длинного хвоста натянута кожная перепонка (она есть даже между пальцами), позволяющая им планировать с деревьев наподобие летяг. Лапы длинные и тонкие, а локтевая кость редуцирована и сращена с лучевой. Шесть нижних резцов имеют особое щетковидное строение. Своеобразной чертой шерстокрылов является наличие сосков под мышками; детеныши цепляются за шерсть на животе матери и летят на ней. На дереве мать помогает держаться детенышу, подворачивая хвост в виде пушистой люльки. Шерстокрылы ведут сумеречный образ жизни, питаются в основном листьями, а также плодами и цветами. С деревьев они практически не спускаются, по земле же могут только неуклюже ползать.
Хотя генетически шерстокрылы ближе к приматам, чем тупайи, их специализация к планирующему полету показывает, что морфологически они ушли дальше от общего предка всех трех групп.
Ископаемые шерстокрылы были гораздо разнообразнее и многочисленнее современных. Плагиоменоиды Plagiomenoidea, включающие циноцефалид Cynocephalidae, миксодектид Mixodectidae, плацентидентид Placentidentidae и плагиоменид Plagiomenidae, известны с палеоцена до миоцена из Северной Америки и Европы, а также с эоцена до современности в Азии. Древнейшие шерстокрыловые очень плохо отличимы от плезиадапиформов, главным образом из-за фрагментарности находок, но оттого также, что в палеоцене эти группы не так уж далеко разошлись от общего предка. А плацентидентиды и тилацелурины Thylacaelurinae (предположительно подгруппа плагиоменид) вообще могут быть ежиными – когда в распоряжении лишь зубы, бывает трудно отличить даже вроде бы вовсе не схожих животных.
Мы уже упоминали, что Ellesmene eureka умудрялась жить за полярным кругом, по полгода в темноте, планируя по парадоксальным арктическо-субтропическим лесам. Родственная ей Plagiomene очень схожа с шерстокрылами по строению зубов, но отлична от них черепом. Будем надеяться, что новые находки прольют более яркий свет на столь необычную группу животных.
Глава 41 Примитивнейшие приматы
Корни человечества обычно ищут среди человекообразных обезьян, человеческую линию отсчитывают от возникновения прямохождения. Но, собственно, почему? Ведь приматы тоже имеют своих предков. Они прошли большой и сложный эволюционный путь, а непосредственными предками человека могли быть разные обезьяны. Поэтому необходимо вкратце рассмотреть разнообразие и историю возникновения отряда – его систематику и филогению.
Приматы (отряд Primates) в большинстве современных таксономических схем делятся на полуобезьян и настоящих обезьян. Некоторые группы – долгопяты и многие ископаемые формы – занимают промежуточное положение между этими большими подразделениями.
Заря: поступь Древнейшего и Великого Предка приматов
Первое известное приматоподобное млекопитающее – пургаториус Purgatorius. Это был небольшой, размером с мышь, зверек, живший на деревьях и питавшийся насекомыми. Пургаториус является наиболее вероятным прямым пращуром всех приматов, хотя его систематическое положение пока неопределенно – не так много от него осталось.
Эти крошечные зверюшки жили на самой границе мелового и палеогенового периода 65 млн лет назад на территории нынешних Канады и США. Один зуб был даже найден в меловых отложениях, содержащих кости динозавров. Зубы пургаториуса крайне примитивны, но некоторые “приматные” черты в них угадываются. Однако до недавнего времени было неясно, какой образ жизни вели эти первопредки. Более поздние плезиадапиформы были довольно разнообразны: часть из них была древесной, но некоторые вроде бы жили на земле, в лесной подстилке. А ведь древесность – одна из важнейших отличительных черт приматов как отряда! Когда же появилась эта особенность?
Новейшие находки, сделанные в США, проливают свет на первые шаги прародителей приматов. В Монтане были найдены кости ноги – таранные и пяточные – в отложениях древностью 65 млн лет (Chester et al., 2012, 2015; Clemens et Wilson, 2012). Они оказались приспособлены к активным поворотным движениям, типичным для древесных существ; детали строения указывают на принадлежность владельца к плезиадапиформам и родство с приматами. А ведь в это переходное от мела к палеогену время нам известен лишь один род приматоподобных существ – пургаториус. Именно поэтому исследователи предположили, что новонайденные плюсневые кости и обнаруженные ранее зубы принадлежали одному виду существ.
Пургаториуса трудно назвать приматом – слишком уж он примитивен даже для полуобезьян. Тем более интересно, что древесный образ жизни, определивший облик и эволюционную судьбу всех приматов, появился задолго до них самих.
Попытки стать приматом – плезиадапиформы
Плезиадапиформы (отряд Plesiadapiformes или подотряд Plesiadapiformes отряда Primates) известны из палеоцена и эоцена Европы, Северной Америки и Азии (65–42 млн лет назад). Обликом и образом жизни они были во многом похожи на грызунов. Размеры с мышь или крысу, вытянутая мордочка, маленький и просто устроенный мозг, глаза, расположенные по бокам головы, короткие массивные лапы, длинный хвост – все это общие признаки всех некрупных млекопитающих. Плезиадапиформы, с одной стороны, в общем плане строения имеют много от приматов, с другой – отличаются рядом параметров. Например, плезиадапиформы имели когти на всех пальцах, по крайней мере у части видов отсутствовало окостенение слуховой капсулы, многие обладали специализациями в зубной системе. Благодаря отпечаткам из французского местонахождения Мена известно, что плезиадаписы владели пушистым хвостом – не слишком характерным для приматов.
При этом из палеоцена и эоцена неизвестны другие млекопитающие, которые могли бы быть предками приматов. Посему включение плезиадапиформов в приматов или исключение из этого отряда – вопрос совести, а не таксономии. В настоящее время их все же чаще выделяют в самостоятельный отряд Plesiadapiformes, но близость к приматам подчеркивается объединением тех и других в рамках надотрядной группировки Primatomorpha.
Несмотря на древность, известно весьма много разных плезиадаписовых, в основном по зубам, но есть находки и целых скелетов. Замечательно, что даже на ранних этапах эволюции они были чрезвычайно многообразны. Это тем более так, поскольку мы знаем лишь о малой доле из общего числа столь древних животных. Густой букет родов и видов, возникший чуть ли не мгновенно из единого предка, называется первой радиацией приматоморфов.
Рис. 26. Схема эволюции приматов
Относительно типа передвижения и образа жизни плезиадапиформов велись споры. Одни считали их наземными (Gingerich, 1976, 1984), другие – древесными (Szalay et Delson, 1979), однако ж отсутствие срастаний костей, гибкость конечностей и пропорции кисти однозначно свидетельствуют в пользу второго варианта. Впрочем, древесность древесности рознь: плезиадапиформы не умели бегать и скакать по веткам так же резво, как делают это сейчас обезьяны. Может, потому они и приобретали специализации зубов, подобные грызуньим, – при пониженной мобильности надо извлекать из доступных ресурсов максимум выгоды? Неспроста зубная система, аналогичная системе многобугорчатых – с резко выступающими резцами, крупным режущим премоляром и перетирающими или давящими молярами, – возникала неоднократно среди примитивных приматоподобных существ: у саксонеллид Saxonellidae, карполестоидов Carpolestoidea и фенаколемуриновых Phenacolemurinae. Наблюдая, сколь неряшливо едят обезьяны – без конца роняя что-то, выедая лишь самые вкусные кусочки и оставляя массу объедков, – можно задуматься. Обезьяны всегда могут быстро переместиться и найти новые вкусняшки, а медленные плезиадапиформы, грызуны и многобугорчатые вынуждены довольствоваться тем, что есть на месте, и грызть до победы.
Уголок занудства
Тип питания определяется по форме бугорков на молярах: высокие и острые типичны для насекомоядных животных, низкие и тупые – для растительноядных. Можно посчитать длину режущих гребешков эмали относительно длины самого зуба: у насекомоядных и листоядных гребешки будут относительно длинные (ведь надо пережевывать хитин или целлюлозу), у фруктоядных намного меньше, а у любителей нектара и древесных смол – совсем короткие. У насекомоядных эмаль обычно более гладкая, а у растительноядных – морщинистая.
Еще точнее можно определять диету по микростертости эмали: тут учитывается регулярность или беспорядочность царапин, их частота, направление, глубина и форма краев, микросколы, видные под электронным микроскопом (например: Calandra et al., 2012; Scott et al., 2012). Для анализа этих особенностей используются фракталы – вот зачем будущим биологам могут понадобиться уроки геометрии в школе!
У листоядов обычно очень крупные челюсти, так как листья малопитательны, их надо есть очень много; на углу нижней челюсти листоядов обычно развит большой дополнительный отросток.
Несмотря на внешнее сходство, зубная система специализированных плезиадапиформов не была идентична таковой грызунов. У представителей семейства плезиадапид Plesiadapidae верхние резцы имели бугорки и не были самозатачивающимися. У многих полностью исчезли нижние клыки и вторые нижние резцы, а у некоторых и верхние клыки, так что между резцами и премолярами имелся большой зазор – диастема. От ранних форм к поздним доля мягкой пищи – фруктов и особенно листьев – в рационе, вероятно, увеличивалась (Boyer et al., 2010a). Плезиадапиды были одними из самых успешных животных своего времени, в некоторых местонахождениях они встречаются чаще всех остальных млекопитающих. Это отразилось и в распространении: в Европе, Северной Америке, Пакистане и Китае с нижнего палеоцена по нижний эоцен. Размеры их сильно варьировали – самые мелкие были как белка, а некоторые были довольно крупными – размером с крупную кошку.
Не слишком родственны, но экологически схожи с плезиадапидами микросиопиды Microsyopidae, жившие с верхнего палеоцена по средний эоцен в Северной Америке; среди них встречались животные размером с бобра. Относительно микросиопидов, впрочем, есть сомнения: некоторые специалисты считают их грызунами, насекомоядными или группой в отряде шерстокрылов.
Паромомиоиды Paromomyoidea, включающие паромомиид Paromomyidae, одними исследователями считаются шерстокрылами, а другими – плезиадапиформами. В частности, род Ignacius на основании строения зубов относится к фенаколемуринам Phenacolemurinae – подгруппе паромомиид, типовой род которых Phenacolemur имел пальцы, почти неотличимые от пальцев современного шерстокрыла (Beard, 1990, 1993). Да и у самого Ignacius форма костей кисти тоже весьма шерстокрылья (Hamrick et al., 1999; Krause, 1991). Посему, пока были известны только изолированные кости конечностей, предполагалось, что эти существа имели летательную перепонку и были способны к планирующему полету. Однако обнаружение целых скелетов показало, что эти звери были больше похожи на белок, а не на летяг. Пропорции кисти к туловищу, строение основания черепа и внутреннего уха у Ignacius скорее как у современных обезьян (Bloch et Silcox, 2001; Bloch et al., 2007; Silcox, 2003). Такая мозаика признаков, запутывающая общую картину, типична для древнейших приматов и близких им групп. Паромомиоиды имели квадратные уплощенные моляры, приспособленные для перетирания фруктов, впрочем, в диете немалую роль могли играть древесный сок и насекомые. В последовательном ряду палеоценовых родов наблюдается быстрое удлинение и истончение нижних резцов с появлением промежутка – диастемы – между резцами и премолярами.
Карполестоиды Carpolestoidea почти полностью перешли на питание волокнистыми плодами, орехами и стеблями, благодаря чему приобрели плоские и высокие премоляры с пильчатым краем. У них имелись и продвинутые приматные черты: например, большой палец ноги был снабжен ногтем, а не когтем, что подразумевает и бóльшую чувствительность; впрочем, и карполестоиды были медлительными животными и не могли быстро прыгать по ветвям. Они существовали не так уж долго – в пределах среднего и верхнего палеоцена Северной Америки, а последние представители доживали свой век в нижнеэоценовых лесах Китая и среднеоэценовых – Пакистана. Карполестоиды никогда не были многочисленны, и исчезновение их может быть связано с климатическими колебаниями или конкуренцией с более крупными животными, поскольку карполестоиды были одними из самых небольших плезиадапиформов – размером с мышь или крысу.
Пикродонтиды Picrodontidae, с их морщинистыми многобугорковыми, очень широкими – особенно первыми – и совсем не стертыми молярами, стали очень специализированными фруктоядами, а может, даже питались преимущественно нектаром, пыльцой и древесным соком. Череп Zanycteris резко сужался спереди, этим пикродонтиды были похожи на современных мышиных лемуров Cheirogaleinae и хоботноголовых кускусов Tarsipedidae, питающихся нектаром. Пикродонтиды, видимо, дальше всех из плезиадапиформов ушли от исходной насекомоядности. Забавно, что зубы пикродонтид столь необычайно похожи на зубы летучих мышей, что в 1935 году Дж. Симпсон даже предполагал, что пикродонтиды относятся к рукокрылым (Simpson, 1935).
Все эти специализированные плезиадапиформы, конечно, не были предками приматов, но известны и более генерализованные их варианты, например средне-верхнепалеоценовые североамериканские палехтониды Palaechthonidae. У них сохранялась исходная для приматов зубная формула, не было диастемы между резцами и премолярами, отсутствовали гипертрофии каких-либо зубов. Строение черепа Palaechton nacimienti было самым примитивным среди всех плезиадапиформов: глазницы маленькие, ориентированы вбок и широко расставлены, заглазничное сужение не выражено, обонятельные луковицы большие; судя по увеличенному подглазничному отверстию, имелись длинные вибриссы. Ориентировались палехтониды в основном с помощью осязания, слуха и обоняния, а не зрения. Судя по всему, вели они в основном наземный образ жизни. В немалой степени все эти черты были связаны с малыми размерами тела и насекомоядностью палехтонид (Kay et Cartmill, 1977). Показательно, что группа палехтонид – вовсе не древнейшая среди плезиадапиформов; с одной стороны, она сохраняла исходную насекомоядность и экологически схожа с тупайями, с другой – по времени близка к настоящим приматам границы палеоцена и эоцена. Вряд ли настоящих приматов дали палехтониды с их особенностями, но истинными предками должны были быть очень похожие на них существа, только более древесные и всеядные.
Рис. 27. Черепа Plesiadapis (а) и Palaechton nacimienti (б).
Насекомоядность вполне сочеталась с древесностью у микромомиид Micromomyidae, которые были одними из самых мелких плезиадапиформов – весом 20–30 г (самыми лилипутскими были представители подсемейства тинимомиин Tinimomyinae), вдвое меньше современных мышиных лемуров. При их размере другая диета, нежели насекомые, млекопитающим резко противопоказана. Эти крошечные зверюшки жили в конце палеоцена и начале эоцена в Северной Америке.
Впрочем, и размеры микромомиид не предельны: поздние пикромомииды Picromomyidae побили все рекорды – Picromomys petersonorum весил ничтожные 10 г. Эти животные известны из среднего эоцена Северной Америки.
Позднейшей группой насекомоядных плезиадапиформов были толиапиниды Toliapinidae (Hooker et al., 1999). Они появились лишь в конце палеоцена и дожили до среднего эоцена. Большинство видов, включая примитивнейшего Sarnacius gingerichi, найдено в Европе, но Altiatlasius koulchii мигрировал в Марокко, а самый поздний – Seia shahi – обнаружен в Пакистане. Altiatlasius koulchii первоначально был описан как древнейший настоящий примат семейства Omomyidae, потом считался даже антропоидом-эосимидом (это было сенсацией, так как получалось, что человекоподобные приматы появились уже в конце палеоцена, 57–60 млн лет назад!), но позже пересмотрен как плезиадапиформ. Толиапиниды были весьма схожи с микромомиидами по образу жизни и являются их полным “старосветским” аналогом; к сожалению, от тех и других найдено очень немного останков.
Среди плезиадапиформов особняком стоит семейство Adapisoriculidae. Особенности его представителей позволяли разным исследователям включать его в сумчатых, насекомоядных, лептиктид или миксодектид, а также считать предковым для тупай. Адаписорикулиды назывались и как возможные предки афросорицид Afrosoricida, включающих современных златокротов Chrysochloridae и тенреков Tenrecidae (Seiffert, 2010). Несмотря на существенные различия с плезиадаписовыми в зубной системе, строение посткраниального скелета (то есть всего скелета, кроме черепа) у плезиадапиформов, шерстокрыловых и адаписорикулид весьма схоже (Smith et al., 2010); судя по всему, это были древесные насекомоядные животные. Более того, плечевая кость адаписорикулид имеет промежуточное строение между вариантами меловых “кондиляртр” и кайнозойских эуархонт, причем в ряду самих адаписорикулид обнаруживается постепенный переход от более примитивного варианта мелового Deccanolestes к более эуархонтовому у палеогеновых форм (Boyer et al., 2010b). Если считать адаписорикулид приматами или приматоморфами, а Deccanolestes hislopi – адаписорикулидом, то эта группа становится самой древней среди приматоморфов, поскольку указанный вид обнаружен в позднемеловых отложениях Индии. Учитывая, что Индия в то время была островом, удаленным от всех других земель, а Purgatorius в то же время жил в Северной Америке, пути миграций становятся совсем непонятными.
Замечательно, что адаписорикулиды найдены в нижнем и верхнем палеоцене и нижнем эоцене Европы, а также верхнем палеоцене и нижнем эоцене Северной Африки, но ни малейших их следов нет в хорошо изученных фаунах Северной Америки и главной части Азии. Таким образом, либо адаписорикулиды были до крайности приматоподобными сумчатыми или насекомоядными, либо приматы зародились не в Северной Америке. Сами адаписорикулиды могли возникнуть в разных местах: древнейшие представители найдены в верхнем мелу Индии (несколько видов одного или двух родов, отсюда они могли попасть в Европу через Восточную Африку или острова моря Тетис), но самое большое разнообразие обнаруживается в нижнем палеоцене Европы (они явно появились тут раньше, но меловые европейские млекопитающие известны плохо, так что в Индию и Африку могли попасть отсюда), а примитивнейший вид Afrodon chleuhi известен из верхнего палеоцена Марокко (хотя более ранних в Африке пока не нашли, потенциально они могли распространиться отсюда и в Индию, и в Европу; Smith et al., 2010; De Bast et al., 2012). Не исключено, что предки адаписорикулид жили в Европе и оттуда попали в Северную Америку, только там стали пургаториусами, а позже – плезиадапиформами. С другой стороны, адаписорикулиды могут быть предками современных шерстокрылов; из Индии они могли попасть в Юго-Восточную Азию, когда эти две части суши соединились (Smith et al., 2010). С третьей стороны, даже отнесение рода Deccanolestes к плацентарным вызывает сомнения; согласно некоторым кладистическим расчетам, он вместе с прочими адаписорикулидами может представлять очень архаичную линию (намного примитивнее, чем Cimolestes, Zalambdalestes и Purgatorius), восходящую к корням всех эутериев, поздние представители которой сохранили примитивные черты до весьма поздних времен (Goswami et al., 2011). Впрочем, адекватность результатов кластерного анализа, применявшегося в подобных исследованиях по выявлению филогении, мягко говоря, спорна, что можно видеть, например, при сравнении выводов двух групп палеонтологов: в одной работе адаписорикулиды оказались предками тенреков (Seiffert, 2010), во второй – ответвлением древнейших и примитивнейших эутериев, даже близко не родственных ни тенрекам, ни эуархонтам (Goswami et al., 2011). Как бы то ни было, существование адаписорикулид свидетельствует, во-первых, о возможности межконтинентальных обменов фаун в позднем мелу и раннем палеогене, а во-вторых, о существовании примитивных групп, близких к предкам приматов, на осколках Гондваны – в Африке и Индии.
Специфические признаки и особенности являются главным препятствием для признания плезиадапиформов в качестве настоящих приматов. Ведь они обладали маленьким мозгом (гораздо меньшим, чем у приматов таких же размеров, хотя и большим, чем у других зверей) с хорошо развитыми обонятельными центрами; зрение, судя по направленным в стороны глазам, не было стереоскопичным; имелись когти на пальцах, их большой палец не противопоставлялся, а кисть была больше “цеплятельной”, нежели “хватательной”. Поэтому, несмотря на тот факт, что плезиадапиформы уже ушли от сугубой насекомоядности, а некоторые стали специализированными листо– и фруктоядами, многие систематики склонны считать первыми приматами только эоценовых адапиформов Adapiformes и омомиформов Omomyiformes.
Имевшиеся же прогрессивные особенности плезиадапиформов не уберегли их от вымирания. Традиционно и по умолчанию считалось, что в их исчезновении повинны более продвинутые настоящие приматы. Однако изучение частот встречаемости останков рисует другую картину (Fleagle, 1999). Резкий спад численности плезиадапиформов начинается совершенно синхронно со столь же резким подъемом численности первых грызунов, тогда как лишь через некоторое время появляются и начинают распространяться полуобезьяны. Стало быть, плезиадапиформы проиграли эволюционную гонку грызунам, зато своим исчезновением освободили дорогу полуобезьянам; спасибо мышам – без них нас бы не было! Таким образом, отличия плезиадапиформов от приматов оказываются крайне существенными: то, чего не было у первых, не позволило им успешно конкурировать с грызунами; то же, что приобрели вторые, вывело их на новый уровень, недоступный грызунам.
Дальнейшее развитие группы привело к первой радиации приматов – возникновению множества новых видов, давших начало разным линиям приматов.
Полуобезьяны
Полуобезьяны (подотряд Strepsirrhini или Prosimii) включают четыре группы. Древнейшая и предковая для современных – адапиформы Adapiformes. Современные лемурообразные Lemuriformes, лориобразные Lorisiformes и руконожковые Chiromyiformes раньше объединялись вместе, но думается, что различия между ними сильно недооценивались. Срабатывал закон проекции: чем дальше приматы от человека, тем хуже мы их различаем, тем более склонны смешивать в одну большую кучу; а вот ближайших родственников мы классифицируем тщательно, подробно и с чувством. Но ныне приматологи стали объективнее.
Полуобезьяны отличаются от обезьян массой примитивных особенностей. Например, у них не полностью бинокулярное зрение: глаза ориентированы несколько наискосок. Вообще зрение играет меньшую роль в жизни полуобезьян, чем обезьян; обоняние же развито гораздо сильнее. Поэтому и мордочка у них вытянутая, а нос слит с верхней губой, что, в свою очередь, снижает способности к мимике. Да оно и понятно, ведь полуобезьяны ведут преимущественно ночной или сумеречный образ жизни.
У современных полуобезьян есть и черты специализации. На указательном пальце стопы есть коготь, нужный для расчесывания шерсти; для той же цели служит щетка из вытянутых нижних резцов и клыков, сильно выступающих вперед. Прилагается и особое устройство для очистки этой гребенки от шерстинок: под языком имеется “подъязык” – треугольный вырост с пильчатым краем. Очевидно, полуобезьяны очень пекутся о своей внешности. Зубная щетка из резцов и коготь на втором пальце стопы объединяют галаго, потто, лори и мадагаскарских лемуров, так что все они наверняка имели общего предка.
Кроме более примитивной морфологии, полуобезьяны отличаются от настоящих обезьян поведением. Это почти исключительно ночные или сумеречные животные. Почти все полуобезьяны – древесные. Насекомых и прочих мелких животных они едят гораздо чаще, чем обезьяны, что и логично при малых размерах тела. Некоторые виды ведут одиночный образ жизни, некоторые живут группами.
Адаписовые (Adapiformes или Adapoidea) появились в начале эоцена около 56 млн лет назад. Они были распространены в основном в Европе и Северной Америке, но известны также из Северной Африки и Азии. Большая часть адаписовых вымерла на границе эоцена и олигоцена, видимо из-за общего похолодания и сокращения площади лесов. Однако в Южной и Восточной Азии последние адаписовые дотянули даже до конца миоцена. Тут климат менялся меньше, так что примитивные группы имели хорошие шансы на выживание, неспроста тут и сейчас живут, например, тупайи. Последних адаписовых добили, похоже, не погодные неурядицы, а потомки-конкуренты – злобные лори.
От современных полуобезьян адаписовые наглядно отличаются отсутствием зубной щетки: что поделать, дремучие времена – варварские нравы, парикмахерское искусство еще не было изобретено. Адаписовые имели размеры от мыши до большой кошки, были преимущественно древесными жителями, питались растениями, а некоторые и насекомыми, вели дневной или сумеречный образ жизни. Группа адаписовых очень разнообразна, во время ее образования – в раннем эоцене – происходила вторая радиация приматов.
Нотарктиды Notharctidae – весьма богатое семейство, появившееся в начале эоцена и исчезнувшее в начале олигоцена. Ранние представители подсемейства церкамониин Cercamoniinae (типа Donrussellia) были предками прочих групп нотарктид, а также семейств адапид Adapidae и азибиид Azibiidae. Таким образом, церкамониины – непосредственные, хотя и очень дальние предки лемуров. В 1984 году в Германии нашли целый скелет Darwinius masillae с отпечатком тела и шерсти вокруг; этот зверек жил 47 млн лет назад. В его строении можно усмотреть черты высших обезьян: мордочка короткая, половинки нижней челюсти сросшиеся, нет когтей на пальцах, на таранной кости имеется фасетка для малой берцовой кости. Впрочем, с наибольшей вероятностью эти продвинутые черты возникли конвергентно – независимо у дарвиниуса и обезьян. То же можно сказать про намного более позднего Afradapis longicristatus из Египта, жившего 37 млн лет назад, представителя особого подсемейства Caenopithecinae.
Другие ранние нотарктиды – азиадапины Asiadapinae – известны из Индии. Marcgodinotius indicus, живший 53 млн лет назад и весивший всего 130 г, настолько похож на примитивную обезьяну Anthrasimias gujaratensis из эосимид Eosimiidae, что до сих пор неясно – один это вид или два разных. Вместе с тем большинство черт Marcgodinotius indicus – наиболее примитивны среди всех адаписовых приматов. Такая комбинация, если вдуматься, логична: самые примитивные полуобезьяны должны быть похожи на самых примитивных обезьян.
Отлично сохранились останки нотарктуса Notharctus tenebrosus из подсемейства Notharctinae из Северной Америки. Этот почти полуметровый примат с длинным хвостом весьма напоминал лемуров, однако имел даже более продвинутое строение: его морда уменьшена, а глаза развернуты вперед и окружены замкнутым костным кольцом. Его родственник смилодектес Smilodectes gracilis имел еще более короткую мордочку; обонятельные луковицы смилодектеса были редуцированы, а зрительные центры мозга развиты, что свидетельствует о дневном образе жизни. Как и большинство адаписовых, он был древесным и листоядным.
Рис. 27. Череп Adapis parisiensis.
Адапиды Adapidae известны преимущественно из Франции, Германии и Швейцарии, но в 1990-х гг. их представители были найдены в Китае (Adapoides troglodytes) и Северной Африке (Djebelemur martinezi и близкие ему формы, выделяемые в особое подсемейство Djebelemurinae). Лучше всего изучены парижский адапис Adapis parisiensis и более крупный Leptadapis magnus, от которых найдено довольно много целых черепов, в том числе более двадцати – еще в XIX веке. Обилие материалов позволило рассчитать уровень полового диморфизма, то есть степень различий самцов и самок. Выяснилось, что самцы весили примерно в полтора раза больше самок, а половой диморфизм по клыкам не больше или совсем немного больше, чем по размерам тела (Gingerich, 1981). Стало быть, межсамцовая конкуренция была незначительной, а в группах, скорее всего, присутствовало сразу множество и самок, и самцов.
Leptadapis magnus весил в среднем 8,4–9 кг, а отборные самцы аж 11,5 кг, тогда как чуть более поздний Adapis parisiensis – всего 2 кг (Gingerich et Martin, 1981). Мозг последнего имел размер лишь 8,8 см³ (втрое меньше, чем у кошки!); сравнение с современными полуобезьянами показывает, что адапис сильно уступал им в интеллекте. Маленькие глазницы свидетельствуют о дневном образе жизни, очень маленькие подглазничные отверстия – о редукции вибрисс. Слух у адаписов был отличный, но зрение все же играло роль главного органа чувств. Адаписы были древесными и преимущественно листоядными животными.
Североафриканские азибииды Azibiidae, жившие от 52 до 35 млн лет назад, были намного более мелкими животными: азибиус Azibius trerki – 115–160 г, другой вид того же рода – 630–920 г, алжирипитек Algeripithecus minutus – всего 65–85 г. Это были древесные ночные животные с очень большими глазами и длинными вибриссами. У нижне-среднеэоценового алжирипитека с большой вероятностью имелась зубная щетка из нижних резцов, так что этот примат – один из лучших кандидатов на роль общего предка лемурообразных и лориобразных.
Впрочем, на это почетное звание претендует и другой североафриканский примат – джебелемур Djebelemur martinezi, живший около 50 млн лет назад в Тунисе. Его выделяют в подсемейство Djebelemurinae, подгруппу адапид. Хотя у него нет зубной щетки, все же по комплексу признаков он оказывается отличным предком для африканских галаго, тем более что и по размерам – 100 г – он идеально соответствует карликовым галаго.
Последние адаписовые – сиваладапиды Sivaladapidae – дожили до конца миоцена (10 или даже 7 млн лет назад). Это были не очень крупные, но и не слишком мелкие – от 0,5 до 4 кг – животные, древесные, частично фрукто-, частично насекомоядные. В Таиланде найден среднемиоценовый Siamoadapis maemohensis. В Индии и Пакистане позднемиоценовые Sivaladapis nagrii и Indraloris himalayensis найдены вместе с останками сивапитеков Sivapithecus, а в Китае три вида Sinoadapis – с человекообразными юаньмоупитеками Yuanmoupithecus, люфенгпитеками Lufengpithecus и лаккопитеками Laccopithecus. Таким образом, последние представители примитивнейших полуобезьян передали эволюционную эстафету продвинутым гоминоидам. Современные орангутаны ловят лори; может быть, сивапитеки так же гонялись за их отдаленными родственниками? Вымирание последних адаписовых совпало с периодом похолодания и осушения климата; видимо, и конкуренция со стороны полуобезьян новых типов заметно возросла.
Некоторые палеоприматологи предполагают, что адаписовые могли быть предками и высших обезьян – это так называемая “адапоидная гипотеза”. В качестве переходных форм от адаписовых к обезьянам назывались Darwinius masillae, Algeripithecus minutus и Djebelemur martinezi, но сторонников этой точки зрения сейчас немного.
Современные полуобезьяны делятся на лемурообразных Lemuriformes (лемуры Мадагаскара), лориобразных Lorisiformes (галаго и потто Африки и лори Юго-Восточной Азии) и руконожковых Chiromyiformes (руконожка Мадагаскара). Размер этих животных колеблется от мыши до небольшой собаки, некоторые ископаемые лемуры были с крупную собаку или даже гориллу. Практически все они ночные или сумеречные, отчего круглые глаза – самая яркая черта всех полуобезьян.
Современные лемуры – жители только одного острова, но на нем, к сожалению, не найдены древнейшие предки лемуров. Удивительным образом ближайший родственник – Bugtilemur mathesoni – обнаружен в нижнем олигоцене Пакистана (впрочем, он может быть древнейшим мышиным лемуром, адаписовым приматом или же вообще шерстокрылом подсемейства Ekgmowechashalinae). Как лемуров занесло на Мадагаскар – непонятно. Остров был отделен от Африки уже в мезозое 160–165 млн лет назад, так что приматы могли достичь своей земли обетованной только по воде – на плотах из переплетенных растений, скорее всего, из Восточной Африки.
Предки руконожки точно неизвестны, в наибольшей степени на нее похож особый примат плезиопитек Plesiopithecus teras, чьи останки найдены в египетских отложениях с датировкой около 34 млн лет назад. Его своеобразие столь велико, что он выделяется в собственное надсемейство полуобезьян Plesiopithecoidea. С руконожкой плезиопитека роднит общее сходство формы черепа и строение зубов, в особенности выступающие вперед огромные нижние резцы (Godinot, 2006).
Лемуры Мадагаскара часто упоминаются как “живые ископаемые”, поскольку они действительно очень похожи на полуобезьян эоцена. В популярной литературе обычно пишется, что лемуры смогли дожить до современности благодаря изоляции, поскольку высшие приматы на Мадагаскар так и не попали. Это верно лишь отчасти, ведь ближайшие родственники лемуров живут и в материковой части Африки, и в Азии в одних лесах с обезьянами. Правдивость же такого утверждения заключается в том, что на Мадагаскаре сохранилось и развилось необычайное разнообразие лемуров, поскольку они заняли все экологические ниши, потенциально годные для обезьян. В Африке же и Азии потто, галаго и лори живут в достаточно специфических экологических нишах.
Среди мадагаскарских лемуров наиболее известны лемуры-катта Lemur catta (они же – кошачьи или кольцехвостые лемуры), обладатели запоминающихся длинных хвостов в черно-белую полоску. Они живут территориальными общинами, весьма ревностно охраняя границы от соседних стай. Не самым стандартным для приматов является главенство самок – настоящий матриархат. Также необычен для приматов большей частью наземный образ жизни; объясняется он жизнью в засушливых районах юга Мадагаскара, где с деревьями бывают проблемы. Хотя катты отлично лазают и прыгают по деревьям, большую часть времени они проводят на земле. Из-за этого длина рук и ног у катт примерно одинаковая. Хвост от наземной жизни не исчез, а приобрел новое – сигнальное – значение. Показательно, что то же самое случилось с павианами в саваннах Африки. К сожалению, конкуренция с людьми оставляет кошачьим лемурам мало шансов на окончательный выход в саванну и дальнейшее развитие в сторону разумности, хотя в сравнении с другими лемурами катта находятся в самом благоприятном положении, их численность пока довольно велика.
Оригинальное отличие имеется между двумя подвидами черного лемура: Eulemur macaco macaco обладает желто-оранжевыми глазами, а Eulemur macaco flavifrons – голубыми. Кстати, у этих же животных сильно выражен половой диморфизм по окраске: самцы черные, а самки коричневые.
Индри Indri indri выделяются резко укороченным хвостом – всего пять сантиметров. Думается, что редукция хвоста у индри не случайность, ведь эти животные – самые крупные современные полуобезьяны, достигающие от полуметра почти до метра длины и весящие до 9,5 кг. Видимо, увеличение веса снижает значение хвоста как балансира совершенно аналогично человекообразным обезьянам. Зато большой палец и на кисти, и особенно на стопе совершенно огромный, резко противопоставленный прочим, сросшимся к тому же до середины длины. Индри живут маленькими постоянными семьями; в отличие от большинства лемуров они ведут дневной образ жизни.
Специализация к прыжкам по деревьям у индри и их ближайших родственников сифак Propithecus зашла настолько далеко, что по земле на четвереньках они перемещаться не могут, а вынуждены скакать боком на двух ногах, подняв руки. По деревьям же они галопируют с легкостью неимоверной. Даже индри, несмотря на размер, умеют неплохо прыгать, причем делают это боком из сидячего положения на вертикальном стволе. Сифака Верро Propithecus verreauxi, живущая в засушливых лесах Юго-Западного Мадагаскара, ничтоже сумняшеся сигает по таким колючим стволам, что больно смотреть. Как она при этом умудряется не разодраться в клочья – науке неизвестно.
Особый подвид серого полумаки Hapalemur griseus alaotrensis, обитающий по топким берегам озера Алаотра, – единственный примат, населяющий болота. Эти редкие зверьки живут в зарослях камыша и питаются его листьями, в отличие от ближайших родственников других подвидов и видов, которые живут в лесах из гигантского бамбука и едят бамбуковые листья.
Мышиные лемуры Microcebus murinus – одни из самых мелких приматов в мире, соперничающие за это звание с карликовыми игрунками: наименьшая длина их тела без хвоста – около 10 см, плюс 15 см приходится на хвост. А вот гигантский мышиный лемур Mirza coquereli имеет длину тела аж 25 см и вес 300 г! Родственные жирохвостые лемуры Cheirogaleus впадают в спячку на время сухого сезона, перед чем запасают жир в хвосте. Это единственные приматы, впадающие в спячку. Многие мышиные лемуры питаются нектаром цветов или древесными смолами.
Особым своеобразием отличается руконожка ай-ай Daubentonia madagascariensis. Количество ее уникальных черт столь велико, что ныне ее выделяют в самостоятельный инфраотряд руконожковых, равный по рангу лемурообразным и лориобразным, хотя и включающий лишь один современный вид. Руконожка выделяется строением своих зубов, поскольку у нее всего по одному резцу в каждой половине челюсти, нет “зубной щетки”, нет клыков, нет премоляров на нижней челюсти и лишь по одному премоляру на верхней. Резцы растут постоянно, как у грызунов; руконожка прогрызает ими кору деревьев, добираясь до пустот-ходов личинок насекомых. Конечности ее специализированы, средний палец на руке чрезвычайно вытянут и используется для простукивания деревьев в поисках тех самых пустот-ходов, а также для вытаскивания оттуда личинок. Современные руконожки размером с небольшую кошку, примерно 2,5 кг весом, тогда как ископаемая Daubentonia robusta могла весить аж 12,5 кг. Судя по немногочисленным известным останкам, этот гигант вымер в последнюю тысячу лет, скорее всего – с непосредственной помощью человека.
Разнообразны лемуры Мадагаскара, но в недавнем прошлом его населяли еще более удивительные животные. Когда первые индонезийцы высадились на берега острова и углубились в его первозданные леса, они нашли там фантастическую фауну. Мы не будем рассказывать тут об эпиорнисах – птицах Рух, нескольких видах карликовых бегемотов и аналогах трубкозубов Plesiorycteropus, составляющих уникальный отряд Bibymalagasia. Среди лемуров тоже хватало уникальных представителей. К сожалению, все они пали жертвами аппетита предков мальгашей – современных жителей острова. Ясно, что в первую очередь уничтожены были самые крупные животные. Из-за этого даже может сложиться впечатление, что ископаемая фауна Мадагаскара представлена исключительно гигантами, а нынешняя – карликами. На самом деле малютки были и раньше, но их останки имеют гораздо меньше шансов сохраниться.
Кстати, о чертогах, сокровищ полных…
В национальном парке “Циманампесотсе” на Мадагаскаре исследователи нашли три затопленные пещеры, битком набитые сокровищами: целыми черепами и скелетами рогатых крокодилов и птиц-эпиорнисов, гигантских фосс и карликовых бегемотов, летучих мышей и грызунов. Кости буквально лежат там грудами! Среди прочих богатств Циманампесотсе имеются многочисленные останки вымерших лемуров Megaladapis и Archaeoindris.
Благодаря недоступности пещер кости сохранились идеально, как новенькие. Достать их можно, только ныряя с аквалангом. Только собирание и каталогизирование ценностей займет наверняка не один год, а их исследованием смогут потом заниматься многие поколения антропологов.
Например, современные вари Varecia весят 3–4 кг, а их ископаемые родственники Pachylemur – 8–10 кг, ласковидные лемуры Lepilemur – меньше килограмма, а Megaladapis – 50–88 или даже 140–200 кг, индри – меньше 10 кг, а его сородичи Mesopropithecus – 10–14 кг, Archaeolemur – 15–25 кг, Hadropithecus – 17–35 кг, Babakotia – 16–20 кг, Palaeopropithecus – 35–60 кг, Archaeoindris – от 130 до 200 кг.
Рис. 29. Реконструкция Megaladapis (а), Hadropithecus (б) и Palaeopropithecus (в).
Мегаладаписы Megaladapis были медленными листоядными древолазами, подобными огромным коалам. Судя по костям со следами разделки, они были желанным угощением на столах мальгашей вплоть до прибытия европейцев примерно полтысячи лет назад. Особенно впечатляющими габаритами отличался Megaladapis edwardsi. Не очень родственным, но очень похожим – как по габаритам, там и по пропорциям – был археоиндри Archaeoindris fontoynonti. У этих огромных существ – и мегаладаписов, и археоиндри – руки были заметно длиннее ног, предполагалось также, что они были наземными и вели образ жизни вроде современных горилл.
Гадропитеки Hadropithecus stenognathus характеризовались почти круглой головой с очень короткой мордой и мощнейшими челюстями. Их передние зубы были уменьшены, а моляры увеличены и имели бугристый вид, что позволяло пережевывать жесткие стебли и семена. Судя по коротким ногам с недлинными пальцами и малоподвижными суставами, гадропитеки были наземными животными. Таким образом, эти животные экологически были чем-то средним между современными геладами и гориллами.
Палеопропитеки Palaeopropithecus отличались отсутствием нижних клыков, вытянутым носом, крайне длинными руками (относительно ног – длиннее, чем у орангутанов и гиббонов!) с подвижными суставами, вытянутыми изогнутыми пальцами и уменьшенным большим пальцем. Очевидно, это были крайне специализированные древолазы, почти не спускавшиеся на землю. Возможно, они могли висеть на ветках вниз головой типа ленивцев или даже брахиировать подобно гиббонам, хотя бы и не так лихо.
Минутка фантазии
Некоторые криптозоологи не оставляют надежд, что какие-то из гигантских лемуров все еще хоронятся в дремучих лесах Мадагаскара. Упования эти основываются на свидетельствах местных жителей. Например, на севере Мадагаскара записаны предания о каланоро – маленьких “гоминоидах”, ныне вымерших, хотя один из них якобы был пойман в 1879 г. (Forth, 2012, p. 210). Трудно представить, что каланоро – какие-нибудь архаичные гоминиды типа “хоббитов”, поскольку древнейшие следы заселения острова оставлены всего около 4 тыс. лет назад (Gommery et al., 2011). Зато крупные лемуры как никто подходят на роль “лесных человечков”. Впрочем, леса Мадагаскара не такие уж бескрайние, как хотелось бы, они слишком быстро вырубаются, так что надежды на сохранение мегаладаписов или каких-то иных гигантов призрачны. Остается надеяться на их возрождение с помощью клонирования, ведь потенциально гены можно добыть из костей. Дело за технологиями.
Африканские галаго Galago – очень подвижные ночные животные, охотящиеся за насекомыми в кустарниковых зарослях. Галаго могут прыгать по ветвям на двух задних конечностях, балансируя длинным пушистым хвостом; из-за этого у них из пяточной и ладьевидной костей стопы развилась длинная цевка, хотя и не столь впечатляющая, как у долгопятов. Как и все немадагаскарские полуобезьяны, галаго – ночные животные, преимущественно насекомоядные, но уважающие и фрукты, и древесные соки.
Галаго уникальны тем, что переносят детенышей, держа их зубами, как кошки. Видимо, при столь бодром скакании цепляющийся за шерсть детеныш просто слетал бы с мамы.
Ископаемые галаго современного рода известны из миоцена и плиоцена – 3–11 млн лет назад – Северной и Восточной Африки. Там же жили похожие животные Laetolia, а несколько раньше – 15–20 млн лет назад – Mioeuoticus, Komba и Progalago, выделяемые в собственные подсемейства. Гораздо более древний сахарагалаго Saharagalago misrensis найден в отложениях конца эоцена Египта – 35–41 млн лет назад. Они уже древнее вадилемура Wadilemur elegans, жившего в том же Египте 34–35 млн лет назад, но классифицированного как представителя подсемейства Cercamoniinae (самого примитивного подсемейства среди адаписовых). Из всех адаписовых вадилемур и более древний джебелемур в наибольшей степени подходят на роль предков галаговых. Таким образом, корни галаговых, как и прочих современных полуобезьян, кроются среди изобилия эоценовых адаписовых. В те времена ареал таких животных мог расширяться и в более северные земли: среднеэоценовая хасселясия Chasselasia eldredgei, определяемая как примитивнейшее лориобразное, близкое к галаго, найдена в Швейцарии. То ли предки галаго мигрировали из Европы в Африку, то ли наоборот – новые находки должны прояснить ситуацию.
В противоположность быстрым галаго, африканские потто и азиатские лори – весьма медлительные животные с печальным выражением лица, не спеша подкрадывающиеся под покровом ночи к добыче и хватающие ее быстрым движением рук. Впрочем, все лориобразные едят и фрукты, а у африканских лори Perodicticus potto они составляют основу рациона.
Африканские золотые потто Arctocebus calabarensis – почти совершенные аналоги азиатских толстых Nycticebus и тонких Loris лори. Выше уже упоминалось, что толстые лори обладают ядовитыми железами на плечах и способны изображать очковую кобру, а потто обзавелись шипами на холке. Эти странные оборонительные стратегии, как бы чудно ни выглядели, достаточно действенны, чтобы обеспечить выживание своих обладателей.
Каранисия Karanisia из конца эоцена (35–41,2 млн лет назад) Ливии и Египта является древнейшим потто. Она была намного меньше своих потомков.
Лори современного рода Nycticebus linglom известны из миоцена Таиланда (18 млн лет назад). Родственные звери Nycticeboides simpsoni и Microloris pilbeami жили в Пакистане 9–10 млн лет назад, хотя неопределенные останки похожих животных есть там и в более древних слоях – до 15–16 млн лет назад.
Глава 42 Обезьяны
Обезьяны, “сухоносые”, или высшие приматы (Haplorrhini), подразделяются на три большие современные группы: долгопятовых, широконосых и узконосых. Ископаемые обезьяны более разнообразны. Обезьяны в целом отличаются от полуобезьян более развитым мозгом с редуцированными обонятельными луковицами и, соответственно, плохим обонянием, зато хорошим зрением, ориентированными вперед глазницами, более-менее отделенными от височной ямки костной стенкой, свободной верхней губой и богатой мимикой.
Момент расхождения полуобезьян и обезьян определить очень трудно, потому что примитивные представители тех и других чрезвычайно похожи друг на друга. Примером может служить носмипс Nosmips aenigmaticus из Египта, живший 37 млн лет назад и известный лишь по дюжине зубов: по морфологии он годился бы на роль предка в основании адаписовых, прочих полуобезьян и обезьян. Однако датировка носмипса слишком поздняя для того, чтобы считать его универсальным пращуром. Не исключено, что носмипс представляет особую группу приматов.
Долгопятообразные Tarsiiformes
Внижнем эоцене из какой-то группы полуобезьян выделилась линия современных обезьян, но почти сразу она разделилась на долгопятообразных и антропоидов. Поэтому долгопятообразные имеют едва ли не большинство признаков полуобезьян. По этой же причине раньше их включали именно в полуобезьян, потом стали выделять в самостоятельную промежуточную группу, а ныне рассматривают как специализированных и во многом примитивных, но все же обезьян.
Рис. 30. Archicebus achilles (а), Necrolemur (б), долгопят (в) и галаго (г).
Омомисовые (Omomyiformes) объединяют великое множество эоценовых долгопятообразных. Они были, наряду с адаписовыми, основными участниками второй радиации приматов в раннем эоцене. Не исключено, что их заря зарделась еще в среднем палеоцене Азии, так как в эту эпоху в Китае жил декоредон Decoredon anhuiensis. Однако это существо известно крайне плохо, неспроста изначально декоредон был определен вообще как кондиляртр.
Несравненно лучше сохранился архицебус Archicebus achilles – самая древняя настоящая обезьяна, лучше всех прочих подходящая на роль общего предка долгопятообразных и антропоидов.
Великий Предок – древнейший, наицелейший, примитивнейший и просто красавец
А у Икарушки бедного, Всеми братками забытого, Только бледные ножки торчат Из холодной зеленой водицы… Д. В. ШагинНаходки целых скелетов древних животных – большая редкость. А если эти животные к тому же жили на деревьях и не любили воду (а скелеты сохраняются преимущественно в водных отложениях), то вероятность обнаружения их останков крайне мала. Потому древнейшие приматы известны плохо и почти исключительно по зубам. Потому сенсацией стала находка почти целого скелета одного из древнейших приматов – архицебуса Archicebus achilles.
В очередном номере журнала Nature китайско-американо-французская группа исследователей описала не только новый род и вид, но целое семейство древнейших приматов – архицебид Archicebidae (Ni et al., 2013). Новейшая находка уникальна по всем возможным показателям.
Во-первых, датировка: скелет сохранился в отложениях, образовавшихся в самом начале эоцена, 54,8–55,8 млн лет назад. Такого древнего и одновременно целого скелета обезьян еще никогда не находили. Были, правда, скелеты полуобезьян, но эти два главных подразделения отряда приматов – совсем не одно и то же. Как всегда, огромный интерес вызывает момент расхождения главных эволюционных ветвей, зарождение новой группы. Омомисовые известны со среднего палеоцена, но в подавляющем большинстве случаев от них сохранились лишь зубы размером с песчинку. Доселе примитивнейшим представителем группы была тейярдина азиатская Teilhardina asiatica, описанная в 2004 году из отложений границы палеоцена и эоцена Китая, а древнейшими – декоредон Decoredon anhuiensis из середины палеоцена (с его статусом есть большие проблемы, далеко не все палеонтологи признают его за примата), анеморисис Anemorhysis tenuiculus и тетониус Tetonius homunculus из конца палеоцена, еще две тейярдины Teilhardina brandti и T. magnoliana, баатромомис Baataromomys ulaanus и два вида вастаномисов Vastanomys gracilis и V. major, синхронные новоописанному архицебусу. Показательно, кстати, что всплеск разнообразия приходится на границу между эпохами палеоцена и эоцена, ведь эта граница потому и определима, что отражает существенные изменения климата. Однако все эти зверюшки известны по столь скудным останкам, что ученым приходилось напрягать все усилия, чтобы разобраться в их родстве и хоть как-то представить их облик.
Тут мы переходим ко второй уникальной особенности архицебуса – его сохранности. Скелет этого зверька сохранился не то чтобы целиком, но настолько, как палеонтологи могли только мечтать. Особенно радуют идеально сохранившиеся ножки и трогательный хвостик. С головой дела обстоят хуже, время не пощадило хрупкий череп, смяв его в не очень внятное пятно. Все же определимых и сравнимых признаков на скелете архицебуса на порядок больше, чем на любой другой находке древнейших обезьян (правда, сравнивать приходится опять же зубы, ибо от других приматов сохранились в основном они).
Благодаря этим сохранившимся признакам возможно оценить третью уникальность архицебуса – его крайнюю архаичность. По сочетанию признаков он оказывается максимально приближенным к ожидаемому первопредковому для всех обезьян состоянию: с одной стороны, он лишен явных черт полуобезьян, с другой – отсутствуют специализации. Например, у архицебуса нет сращения большой и малой берцовых костей, нет у него и крайнего удлинения пяточной кости. Эти особенности древних омомисовых и современных долгопятов всегда огорчали исследователей, ведь омомисовые в принципе подходят на роль предков прочих обезьян, но подобные специализации ставят на идее предковости крест. Доселе оставалось предполагать, что более поздние обезьяны произошли от ранних неспециализированных форм омомисовых, но внешний облик таких предков оставался в значительной мере гипотетическим. По одним зубам о строении конечностей много не скажешь. У архицебуса же ноги – какие надо ноги, из таких могли возникнуть как скакательные лапки долгопятообразных, так и хватательные – антропоидов.
Конечно, архицебус не мог не преподнести и сюрпризов. Например, в стопе предплюсна имеет умеренную длину, как у антропоидов, плюсна – большую, как у тупай и антропоидов (но в отличие от лемуров, адаписовых и долгопятов), а фаланги – тоже большую, как у долгопятов. Фаланги архицебуса сильно выпрямлены – специфическая особенность; самым длинным пальцем стопы был четвертый – это сближает архицебуса с адаписовыми и долгопятами.
На примере стопы отлично видна очередная уникальная особенность архицебуса – сочетание признаков разных групп обезьян. В нем есть основа от долгопятообразных, но немного от широконосых, немного от узконосых, а что-то – и от эосимид, которые сами сочетают черты узко– и широконосых. Много примитивного и мало специализированного – идеальное сочетание для идеального Великого Предка. Ранее известные приматы обычно без особых проблем могли быть классифицированы либо как долгопятообразные, либо как антропоиды. Если бы от архицебуса были найдены только зубы, его тоже без малейших сомнений причислили бы к примитивным долгопятообразным и его имя затерялось бы среди бесчисленных “-омисов”. Но теперь у нас слишком много информации, чтобы так упрощать картину. Становится очевидным, что ранние обезьяны уже имели, хоть бы в зародыше, массу особенностей, одни из которых развились и усилились в одних группах, а другие – в других. В очередной раз приятно видеть, что понятия примитивности и продвинутости крайне относительны.
Как же, наконец, выглядел архицебус и какой вел образ жизни?
Это было небольшое – с крупную мышь, 20–30 г – животное, с округлой головой, не слишком большими глазами, маленькой суженной мордочкой, крохотным носом и острыми зубами. Очень длинный хвост служил противовесом при прыжках. Скакать он мог благодаря очень длинным задним ногам, а сравнительно короткими передними лапками цеплялся за ветки и хватал насекомых. Впрочем, и способ передвижения, и тип питания не были специализированы. Архицебус прыгал совсем не так специфически, как современные галаго и долгопяты, а мог и бегать на четырех ногах по ветвям. Преимущественно насекомоядная диета также не исключает того, что архицебус мог есть и другую пищу. Судя по размерам глаз, он вел дневной образ жизни.
Самый целый из самых древних, наиболее примитивный и одновременно генерализованный неспециализированный, воплотивший в себе идеал Великого Общего Предка – о чем еще можно мечтать?! Приятно, когда в одной находке сочетается столько достоинств! Порадуемся же преодолению еще одной ступени познания!
На самом деле, не только архицебус может быть предком высших обезьян, просто он очень уж хорошо сохранился. Из Индии известен вастаномис Vastanomys (54–55 млн лет назад), который обладал едва ли не самым примитивным среди всех омомисовых строением и, судя по зубам, был не насекомо-, а фруктоядным. Но от вастаномисов сохранились одни зубы, так что мы не знаем о строении их ног или черепа.
Таким образом, омомисовые явились предками долгопятов и высших обезьян – такая версия называется тарзиоидной гипотезой. Слава эволюции, что в самом начале группы омомисовых нашелся не слишком специализированный примат, давший начало более продвинутым обезьянам. Судя по всему, омомисовые специализировались чрезвычайно быстро, не успей зародиться линия антропоидов в начале эоцена, они могли бы и вовсе не появиться. Или же эволюция воспользовалась бы материалом из других групп – адаписовых или, возможно, даже плезиадапиформов.
Основные группы омомисовых – омомиды Omomyidae и микрохэриды Microchoeridae – жили в Северной Америке, Европе, Северной Африке, Южной и Восточной Азии. Те и другие имели очень маленькую – укороченную и суженную спереди – мордочку и округлый череп с огромными направленными вперед глазами. В строении зубов многих видов сохраняется такой примитивный признак, как четыре премоляра. Ноги омомисовых были длинными, со сросшимися малой и большой берцовой костями и резко увеличенной пяткой, образующей цевку. Очевидно, это были ночные, насекомоядные и активно прыгающие животные. Правда, во всех этих чертах омомисовые не превзошли долгопятов, но стремились к идеалу как могли; в силу не слишком далеко зашедшей специализации омомисовые могли внешне напоминать скорее галаго, чем долгопятов.
Микрохэриды были очень разнообразными в размерах животными: от 45 г у Pseudoloris parvulus до 1775 г у Microchoerus erinaceus. Объединяются они благодаря специфическому строению зубов: в частности, первые верхние и нижние резцы несколько увеличены и выдвинуты перед вторыми резцами. Не очень ясно, зачем им нужна была эта специализация.
Омомиды чрезвычайно многочисленны. Большинство их весило от 100 до 200 г, но были и рекордсмены: Teilhardina magnoliana была размером с мышь – 28 г, а Anaptomorphus westi, Gazinius amplus и Stockia powayensis с крысу – 465–475 г, Hemiacodon gracilis тянул на целый килограмм, а представители родов Rooneyia, Ourayia и Macrotarsius – от килограмма до 2520 г! Часть омомид питались преимущественно насекомыми (например, многие в подсемействе Omomyinae и представители трибы Washakiini), однако, в отличие от современных долгопятов, очень многие были фруктоядными (например, почти все представители подсемейства Anaptomorphinae), а некоторые даже листоядными (например, Hemiacodon gracilis).
Кстати, о размерах…
Размеры ископаемых приматов определяются разными способами. Конечно, идеальный случай, когда в нашем распоряжении есть целый скелет. Но это бывает крайне редко. Чаще приходится довольствоваться отдельными зубами. Тогда в дело идет регрессионный анализ: из соотношений размеров зубов (например, площади первого верхнего или длины второго нижнего моляра) и веса тела у современных приматов высчитывается вес ископаемых животных. Дело Ж. Кювье живет и побеждает! Понятно, что погрешность таких вычислений весьма велика – у разных авторов и полученные разными методами цифры могут отличаться в разы, – да и индивидуальную изменчивость никто не отменял, так что публикуемые величины не должны восприниматься слишком буквально, а служат лишь примерным ориентиром.
Можно обратить внимание, что почти никогда речь не идет о линейных размерах – длине тела. Дело в том, что приматы – гибкие зверюшки, они удивительно пластичны, даже у человека рост при нескольких измерениях легко может различаться на несколько сантиметров. Так что палеоприматологи предпочитают пользоваться определениями веса.
Altanius orlovi – единственная полуобезьяна из Монголии; он определяет северную известную границу распространения этих животных в Азии. Меж тем фауны Северной Америки и Евразии весьма схожи. Либо обезьяны все же могли преодолевать Берингию, просто мы пока не нашли их в Сибири, либо они периодически форсировали расширявшиеся моря между Северной Америкой и Европой и между Европой и Азией, ибо Европа была островом между двух континентов. По этим же географическим причинам североамериканские омомисовые (как, кстати, и адаписовые) намного разнообразнее европейских: Северная Америка больше по размеру и богаче на условия, вот и животные были отличающимися, тогда как в Европе имелось меньше вариаций экологических ниш, отчего и приматы были схожими (Gilbert, 2005).
Омомисовые в Европе и Северной Америке дожили до границы эоцена и олигоцена (около 34 млн лет назад или чуть позже), после чего вымерли по тем же причинам, что свели в могилу адаписовых и многих прочих животных, процветавших в тропических лесах эоцена.
Долгопятовые (Tarsiiformes) современности обычно объединяются в один род Tarsius, хотя предложено разделить его на три, сохранив прежнее название лишь за сулавесскими видами, тогда как суматранско-калимантанские выделяются в род Cephalopachus, а филиппинские – Carlito (Groves et Shekelle, 2010). Впрочем, разница между ними очень невелика, даром что разошлись островные популяции как минимум еще в миоцене.
В строении долгопятов совмещаются признаки полуобезьян и настоящих обезьян. Это животные размером с крысу, с очень большими глазами и специализированными для прыгания ногами. Они активны ночью и питаются насекомыми. Во многих чертах строения проявляется резкая специализация: глаза столь велики, что не могут вращаться, отчего подвижность шеи резко увеличена, благодаря огромному позвоночному отверстию атланта (первого шейного позвонка) и хитрому строению межпозвоночных сочленений шея может поворачиваться задом наперед; мордочка крайне маленькая; кончики пальцев расширены в виде присосок, большая и малая берцовые кости срастаются, пятка резко удлинена в виде цевки для прыгания по ветвям, а второй и третий пальцы стопы снабжены когтями. Живут долгопяты семейными группами, общаясь друг с другом своеобразным щебетом, похожим на птичий.
О долгопятах подробно говорилось выше, тут помянем лишь их происхождение.
45 млн лет назад в Китае жили как минимум три вида долгопятов или чрезвычайно похожих на них существ, правда, известны они только по таранной и пяточным костям. Один из них весил всего 30 г – вдвое меньше самых маленьких долгопятов: карликовых Tarsius pumilus. Из того же времени Китая описан Xanthorhysis tabrumi, но от него найдены лишь зубы, так что совпадает ли он с одним из трех “таранно-пяточных” видов – непонятно.
Некий долгопятовый зверек жил в Таиланде около 34 млн лет назад, но известен он лишь по одному зубу. В это же время в Китае скакал Oligotarsius rarus.
Миоценовый Hesperotarsius sindhensis обитал 16–18 млн лет назад в Пакистане. Своим существованием он указывает, что древние долгопяты жили далеко за пределами своего нынешнего ареала.
К современному роду относятся три ископаемых вида, причем древнейший – Tarsius eocaenus – жил аж в эоцене, более 37 млн лет назад, в Китае. Почти современно выглядят Tarsius thailandica (18 млн лет назад) и Tarsius sirindhornae (13,1–13,3 млн лет назад) из Таиланда.
Выжить в Индонезии и на Филиппинах долгопятам помогла крайняя специализация, а позволил не слишком сильно менявшийся климат.
Возникновение высших приматов
Время и место возникновения, а также родство первых человекоподобных обезьян-антропоидов – одна из наиболее дискуссионных тем в антропологии. Исследователей тут подстерегает множество трудноразрешимых сложностей: вечный недостаток материалов, крайняя ограниченность доступных для оценки морфологических систем, различие взглядов на таксономическую ценность тех или иных признаков. Поэтому, с одной стороны, каждая новая находка дает много нового, а с другой – интерпретации множатся и найти правду среди них сложно.
Первые человекоподобные-антропоиды известны почти исключительно по обломкам нижних челюстей, зубам и костям стоп. Никто еще не видел целого черепа и тем более скелета такой обезьяны. А ведь выглядеть она должна любопытно: это же переходное звено от полуобезьян к обезьянам. Понятно, что у такой зверюшки – как у любого приличного “достающего звена” – признаки предков и потомков перемежаются в полупереплавленном и частично мозаичном состоянии, что лишь добавляет головной боли систематикам, ибо трудно классифицировать цвета в непрерывном спектре, к тому же ветвящемся.
Начальные этапы эволюции высших приматов-антропоидов известны по четырем группам: эосимидам Eosimiidae, афротарзиидам Afrotarsiidae, амфипитецидам Amphipithecidae и парапитецидам Parapithecidae. Вместе они представляют третью радиацию приматов на границе эоцена и олигоцена. Есть два географических центра, где концентрируются находки: в Китае и Бирме с одной стороны и Египте с Ливией – с другой. Конечно, это не значит, что древнейшие антропоиды жили только там или что именно там от них возникли последующие группы. Просто именно в этих местах были подходящие условия для сохранения ископаемых останков, и именно тут их нашли палеонтологи, которым приходится действовать, как пьянице из анекдота, ищущему ключи под фонарем, потому что там светлее.
Кстати, о границе эоцена и олигоцена…
Эоцен – геологическая эпоха, длинная и теплая, в которую вершились великие дела. Это было важное время. После катастроф конца мелового периода и палеоценовых заморозков Земля вновь покрылась тропическими лесами. Старое уступало место новому, полуобезьяны становились обезьянами, а среди последних появлялись особенные линии, часть из которых оказалась предками современных высших приматов. Многое известно об эоценовых приматах, но чем больше мы узнаем о них, тем мудренее получается картина. Важнейшие события происходили на самом закате эоцена, на границе олигоцена – следующей, более сухой и холодной эпохи. Почти с самого начала эоцена климат постепенно становился все более холодным, а рубеж эпох ознаменовался резким похолоданием-оледенением: в начале олигоцена оледенела Антарктида. Это погубило тропические леса Северного полушария, а вместе с ними – скакавших по ним приматов. Впрочем, во всем есть плюсы: антарктические ледники взяли на себя гигантские массы воды, уровень океана понизился аж на 55 м, так что многие проливы и даже моря исчезли, а между материками возникли мосты суши, например, Северо-Восточная Европа соединилась с Северной Азией, Южная – с Южной, а Африка стала гораздо ближе как к той, так и к другой. В это же время Индия, наконец, доплыла до Азии и воткнулась в нее. Правда, возникшие просторы оказались заняты в основном степями, так что приматы расселяться по ним до поры до времени не могли. Олигоцен – время раздолья примитивных носорогов, лошадей и верблюдов (например, всем известны индрикотерии: даже люди, никогда не интересовавшиеся палеонтологией, видели их в фильме “Звездные войны. Империя наносит ответный удар” в виде четвероногих машин, шагающих по ледяной планете Хот, – отличная, хотя и доведенная до крайности аллегория на реалии олигоцена). Неспроста и ластоногие, ставшие в своем роде символом стужи, появились именно в эту эпоху. Впрочем, не стоит и преувеличивать: даже в самые ужасно холодные этапы олигоцена климат был не морознее современного, а то и существенно теплее.
Климатические и экологические перемены привели к исчезновению многих архаичных групп приматов и появлению более прогрессивных – обезьян. Одна из главных интриг – место появления обезьян. Как обычно бывает в палеоантропологии, за звание Великой Прародины борются два региона: Африка и Азия. Полуобезьяны известны из обеих, обезьяны – тоже, но где жили промежуточные звенья – вопрос не до конца решенный. С одной стороны, в Бирме и Китае были найдены многочисленные останки обезьян, относимых к семейству Eosimiidae, живших в среднем, а то и раннем эоцене, в основном около 45 млн лет назад. После их сменили Amphipithecidae, во многом схожие, но потреблявшие в пищу меньше насекомых и больше плодов. Намного позднее в Азии возникают Pliopithecidae. С другой стороны, в Северной Африке обнаружена масса видов, образующих семейства Afrotarsiidae, Parapithecidae, Propliopithecidae и Proteopithecidae. В среднем они моложе эосимид, но древнее многих амфипитецид, хотя по ряду признаков выглядят и прогрессивнее последних. Африканские ранние обезьяны вроде бы хорошо подходят на роль предков всех последующих обезьян, но вопрос – появились ли они изначально в Африке из местных полуобезьян, или их предки пришли все же из Азии. Конечно, неразберихи добавляет крайняя фрагментарность большинства находок и зачастую – неопределенность датировок. В изобилии зубов и обломков челюстей разобраться крайне сложно, а потому любые новые находки принимаются антропологами со смешанными чувствами: с пополнением данных картина вроде бы должна проясняться, но часто запутывается еще пуще.
Древнейшие антропоиды были преимущественно древесными дневными растительноядными животными размером от долгопята до мартышки. Все они характеризуются смесью архаичных и прогрессивных признаков, поэтому систематика их весьма запутана.
Эосимиды (Eosimiidae): Anthrasimias, Bahinia, Eosimias, Phenacopithecus и Phileosimias – крайне примитивные антропоиды из эоцена (55–33 млн лет назад) Индии, Пакистана, Бирмы и Китая. Они сохраняли массу признаков полуобезьян, но по некоторым существенным чертам строения зубов могут быть признаны древнейшими настоящими обезьянами. Самый древний из них – Anthrasimias gujaratensis из Западной Индии, живший 54–55 млн лет назад, – был и самым мелким: он весил всего 75 г. Судя по зубам, он был фруктоядным или даже смолоядным. Более поздние представители семейства были покрупнее – 100–400 г. Самый крупный вид – Bahinia pondaungensis – весил примерно полкило, в самом крайнем варианте – меньше полутора килограммов. От эосимид сохранились в основном зубы и обломки челюстей, так что судить о внешности этих животных трудно. Известны лишь пара обломков черепов и горсть костей стопы эосимид.
Рис. 31. Eosimias (а), Amphipithecus (б) и Apidium (в).
Судя по обломку черепа бахинии Bahinia pondaungensis, ее глазницы, с одной стороны, были сравнительно небольшие, с другой – ориентированы наискосок, как у лемуров и адаписовых, а не вперед, как у обезьян (Rosenberger et Hogg, 2007). Бахиния имела крупную мордочку и высокое подглазничное пространство. Сходство ее черепа с адаписовыми по многим признакам более сильное, чем с омомисовыми. Это может быть следствием конвергенции, сохранения эосимидами примитивных черт в отличие от специализированных омомисовых, или же говорить о том, что эосимиды на самом деле полуобезьяны, а не обезьяны, с коими у них конвергентно схожи лишь зубы.
Верхняя челюсть фенакопитека Phenacopithecus krishtalkai по размерам такая же, как у долгопята, но его подглазничное пространство пропорционально такое же, как у антропоидов, самые мелкие из коих в полтора раза крупнее (Beard et Wang, 2004). Это свидетельствует о небольших размерах глазниц и, соответственно, дневном образе жизни фенакопитека.
Пяточные и таранные кости эосимид из Китая и Бирмы замечательны сочетанием признаков полуобезьян и обезьян (Gebo et al., 2000, 2001, 2002). Отличия между этими группами достаточно существенны, так как полуобезьяны предпочитают передвигаться по вертикальным веткам и очень прочно обхватывают их пальцами, а обезьяны используют гораздо более разнообразный репертуар движений, любят бегать по горизонтальным ветвям и не так сильно цепляются за них. Эосимиды уникальны, так как у них мы воочию видим переход от одного варианта к другому.
Уголок занудства
Полуобезьяны и обезьяны хорошо отличимы по форме костей стопы.
На таранной кости латеральная лодыжковая поверхность (суставная фасетка для малой берцовой кости на боковой стороне кости) у полуобезьян наклонная, а у обезьян вертикальная. Также борозда на задней стороне блока, служащая для сухожилия длинного сгибателя большого пальца стопы у полуобезьян расположена латерально, а у обезьян следует плантарно вдоль задней стороны латеральной лодыжковой поверхности. Наконец, задний скат блока таранной у полуобезьян большой, а у обезьян маленький. На таранных костях Eosimias эти три особенности обезьяньи и четко отличаются от полуобезьяньих (Gebo et al., 2000). Впрочем, вопреки кажущейся логике, “обезьяний” вариант более примитивен, нежели “полуобезьяний”, так как именно обезьяны сохранили исходно приматное строение стопы, а полуобезьяны эволюционировали быстрее. Среди приматов эосимиды, что понятно, больше похожи на омомисовых, чем на высших обезьян: их таранная кость умеренно высокая и сравнительно узкая, имеет умеренный угол наклона шейки, мелкий блок и маленький задний скат блока. Обезьяньей и одновременно примитивной чертой выглядит укороченная медиальная лодыжковая поверхность (фасетка для соединения с внутренней лодыжкой большой берцовой кости).
На пяточной кости полуобезьян задняя таранная суставная поверхность вытянутая и узкая, с хорошо оформленным плантарным краем, а обезьян – короткая и широкая, с размытым плантарным краем; эосимиды похожи на обезьян. Кубовидная суставная поверхность пяточной у полуобезьян и омомисовых широкая, плоская, веерообразная с центрально расположенной осью вращения, у обезьян круглая, с несуставной вырезкой в медиоплантарной части и смещенной медиально осью вращения; у Eosimias плоская, но округлая с вырезкой и медиально смещенной осью.
На основании первой плюсневой кости у полуобезьян имеется большой бугор для прикрепления мощной длинной малоберцовой мышцы, а у обезьян его нет (у омомисовых есть, но не толстый, а узкий и высокий). На первой плюсневой кости из Китая, предположительно принадлежащей эосимиду, указанный бугор был (Gebo et al., 2008).
Примечательно, что в среднеэоценовых экосистемах, где одновременно встречались адаписовые, омомисовые и эосимиды, первые были наиболее крупными, вторые – более-менее средними, а последние – самыми маленькими приматами. Такое распределение напрочь отличается от нынешнего, где долгопяты самые маленькие, полуобезьяны средние, а обезьяны – большие. Как часто бывает, современные стереотипы не срабатывают в приложении к древности. К тому же лишний раз подтверждается истина, что все великое вырастает из малого.
Кстати, о кузнечиках и капусте…
Размеры обезьян связаны с их питанием: мелкие приматы должны поддерживать свой активный метаболизм, для этого им нужно много легкоусвояемых белков, которые легче всего получить, питаясь насекомыми. Крупные лучше сохраняют тепло за счет массы тела, так что им позволительно переходить на менее питательные, зато шире распространенные и легче добываемые ресурсы, самым дешевым из которых являются листья. И те и другие могут есть фрукты, ведь их более-менее легко добыть, но они при этом достаточно питательные. С другой стороны, только насекомыми питаться слишком большой примат тоже не может, потому что будет тратить слишком много усилий на охоту, но получать от этого несопоставимо мало выгоды.
Приматологи, изучая диеты современных приматов, выявили несколько надежных закономерностей. В частности, существует так называемая “граница Кея” – вес в 500 г, – разделяющая тех, кто должен и может получать белки, постоянно питаясь только насекомыми, от тех, кто уже никак не способен на такое, зато может позволить себе жевать одни листья (Kay et Covert, 1984). Насекомоядные приматы, регулярно подкрепляющие свои силы фруктами, могут быть значительно крупнее “границы Кея” – до 1,4 кг. Те же, которые едят только листья и фрукты, не бывают легче килограмма (Kirk et Simons, 2001; Ramdarshan et al., 2010). Впрочем, ни одна из этих границ не позволяет оценить степень фруктоядности, так как в качестве десерта фрукты готовы уплетать приматы любого калибра.
Практически все эосимиды оказываются легче “границы Кея”, так что с большой вероятностью белки они получали преимущественно из насекомых. Это не так странно, учитывая их вероятное происхождение от омомисовых приматов, многие из которых были именно насекомоядными. Однако строение зубов указывает, что все же основой диеты эосимид были фрукты. Такая диета при увеличении размеров тела легко могла превратиться в ту, что типична для современных антропоидов.
Как уже упоминалось, филогенетические связи эоценовых и олигоценовых “недообезьян” остаются весьма туманными, тут еще неизбежны открытия и откровения. Очередным “достающим звеном” явился верхний моляр древностью 39 млн лет, найденный недавно в Центральном Тунисе. По зубу был описан новый род и вид амамрия Amamria tunisiensis (Marivaux et al., 2014). Казалось бы, всего один зуб, но он очень уж красиво связывает азиатских эосимид и североафриканских проплиопитековых приматов. Признаки амамрии отличаются от типичных эосимиевых как раз в направлении проплиопитековых, а от проплиопитековых – в направлении эосимиевых. Идеальное сочетание для “достающего звена”! Причем среди проплиопитековых сходство обнаруживается у самых древних и примитивных представителей – протеопитецид и олигопитецин, живших как раз чуть позже амамрии, – опять же красивее некуда. Отличия же амамрии от афротарзиид свидетельствуют, что последние мигрировали из Азии в Африку независимо.
Последние эосимиды дожили в Пакистане до начала олигоцена – Phileosimias kamali и Ph. brahuiorum, они известны всего по двум зубам. Но в это время мир занимали уже новые приматы…
Афротарзииды (Afrotarsiidae) – странная группа приматов с границы эоцена и олигоцена (39–29,5 млн лет назад) Египта, Ливии и Бирмы. В последнее время все настойчивее слышатся голоса палеонтологов, призывающих обратить пристальное внимание на эту группу. Первым был описан афротарзиус Afrotarsius chatrathi, живший примерно 30 млн лет назад в Египте. Как понятно из названия, сначала он был определен как африканский долгопят, благо и размеры у него были более-менее подходящие – от 188 до 357 г. Не так давно в местонахождении Дур-ат-Тала в Центральной Ливии были найдены зубы более древнего (35–39 млн лет назад) представителя того же рода, названного Afrotarsius libycus.
Кстати, о Ливии…
Тут же – в Дур-ат-Тала – обнаружены зубы ископаемого потто Karanisia arenula, древнейшего олигопитекового Talahpithecus parvus и парапитекового Biretia piveteaui (Jaeger et al., 2010). Эта находка представляет огромный интерес, поскольку заполняет географический и хронологический разрыв в представлениях об эволюции сразу нескольких групп древних приматов. Картина пополнилась еще несколькими кусочками мозаики, причем в тех частях, которые доныне оставались темными.
В частности, изменились представления о времени возникновения антропоидов. Ранее на основании существовавших палеонтологических данных предполагалось, что человекоподобные появились в Африке в эоцене. Однако новые находки показывают, что к середине эоцена в Африке уже существовал ряд очень разнообразных групп антропоидов. Это может означать, что либо эволюция этих приматов в Африке началась задолго до среднего эоцена (поэтому они успели разделиться на множество таксонов), либо что они возникли и дивергировали за пределами Африки (возможно, в Азии) и затем уже в течение среднего эоцена произошло заселение Африки различными их группами.
Таким образом, Ливия может стать источником новых уникальных данных о ранней эволюции приматов, причем самых разных их ветвей. Ранее из Ливии была известна примитивная мартышка Prohylobates simonsi из нижнего миоцена. Осталось найти там еще австралопитеков, и Ливия вырвется в страны-лидеры по ископаемым приматам.
Сходство афротарзиусов с эосимидами позволило классифицировать их как антропоидов. К египетскому виду предположительно относилась большая берцовая кость, на которой есть следы прирастания малой берцовой. Эта черта была сильным аргументом принадлежности афротарзиуса к долгопятовым, однако сопоставление изолированных зубов и костей всегда спорно. Есть даже большие сомнения – действительно ли этой костью обладал примат, а не какое-то другое животное? Строение же зубов Afrotarsius скорее антропоидное, чем долгопятовое.
Афразия вылазила до Африки из Азии
Совсем недавно международная группа ученых описала четыре новых зуба, на сей раз найденных в Бирме (Chaimanee et al., 2012). Казалось бы, четыре зуба – не столь уж велика куча, но уж больно удивительна география находок! Дело в том, что в эоцене, 37 млн лет назад, Северная Африка и Юго-Восточная Азия были разделены широким морем Тетис. На месте нынешних Ближнего и Среднего Востока плескались волны тропического моря, лишь местами разбивавшиеся о берега островов. Азия была напрочь отрезана от Африки, однако же приматы этих континентов удивительно схожи! Бирманскую обезьяну исследователи назвали афразией Afrasia djijidae. Тонкости строения зубов и сравнение их по примитивности – прогрессивности позволяют предположить, что первые подобные приматы возникли в Азии, но именно во время существования афразии переселились в Африку, дав там род Afrotarsius. Более того, авторы исследования утверждают, что многочисленные более поздние североафриканские примитивные антропоиды могли возникнуть тоже от азиатских переселенцев, но от других, нежели Afrasia, например от амфипитецид. Таким образом, море было вполне преодолимо для обезьян, хотя бы и изредка. Конечно, нельзя было в связи с этим забыть вечную проблему возникновения широконосых обезьян Южной Америки, у которых вроде как есть годные предки, но в Африке. Годами ведется спор – как они переправились с материка на материк. Преодоление Атлантического океана в некотором роде сопоставимо с преодолением Тетиса, хотя современные люди обычно удивляются первому событию, но ничего не знают о втором.
Показательно, что не только обезьяны форсировали Тетис в поисках африканской благодати. Примерно в то же время аналогичный путь проделали гистрикоморфные грызуны, антракотерии и некоторые другие звери. Либо палеокарты врут, либо мы сильно недооцениваем живучесть животных и их способность к трансокеанским вояжам.
В любом случае с новыми находками систематика приматов стала сложнее (обогатившись не только новым родом-видом, но и целым инфраотрядом Eosimiiformes, причем эосимиды оказались не слишком родственными амфипитецидам, хотя раньше предполагалась их тесная связь), география их распространения усложнилась, а поводов для размышлений добавилось. Таким образом, можно закончить великой банальностью: с новыми находками знаний наших прибывает, но и вопросов прибавляется стократ. И это хорошо!
Амфипитециды (Amphipithecidae): Amphipithecus, Bugtipithecus, Ganlea, Krabia, Myanmarpithecus, Pondaungia и Siamopithecus – приматы, также промежуточные между полуобезьянами и высшими обезьянами. Они известны с границы эоцена и олигоцена (35–31 млн лет назад) Бирмы, Таиланда и Пакистана. Большая часть известных признаков позволяет отнести их к человекоподобным обезьянам, хотя сохранялись и примитивные черты, например три премоляра и несросшиеся половинки нижней челюсти. Размер этих животных был примерно с мартышку: от менее чем полкилограмма до 10 или даже более килограммов – заметно крупнее, чем у более древних антропоидов, да и вообще всех эоценовых приматов. Это были гиганты своего времени.
Внешность этих зверей остается загадкой. К амфипитеку в некоторый момент были отнесены два обломка лобных костей, но пересмотр показал, что они с большой вероятностью вообще принадлежали не то что не приматам, но даже не млекопитающим, они вообще непонятно чьи – даже класс этих животных остается неопределенным (Beard et al., 2005).
Кости прочего скелета тоже под вопросом. В слоях с пондаунгией и амфипитеком найден даже фрагментарный скелет без черепа, но как понять – кому он принадлежал, если виды описывались по зубам? По размерам и хроно-географической логике он мог принадлежать пондаунгии. Кости конечностей обладают смесью признаков нотарктид, адапид, лори, цебусовых широконосых, частично оригинальны, а в целом больше всего схожи с костями адаписовых (Ciochon et al., 2001). Либо скелет амфипитецид был гораздо примитивнее, чем их зубная система, либо верно подозрение, что кости принадлежали на самом деле не амфипитеку, а какому-то крупному сиваладапиду (Beard et al., 2007; Marivaux et al., 2008), тем более что зубы двух видов последних тут найдены. К тому же пяточная кость этого скелета не сходится с изолированной таранной из аналогичных слоев. Таранная тоже сочетает признаки полуобезьян и обезьян: с одной стороны, по совокупности измерений она гораздо ближе к таранным костям адаписовых и лемуров, а с другой – по части описательных показателей похожа на кости широконосых обезьян (Gunnell et Ciochon, 2008). Пока кости скелета амфипитецид не будут найдены вместе с черепом, сомнения о принадлежности этих останков продолжат грызть душу палеоприматологов.
Распределение признаков по видам запутано: таиландский сиамопитек Siamopithecus eocaenus – не самый древний, но наиболее примитивный и самый крупный представитель, тогда как пакистанский Bugtipithecus inexpectans – самый поздний, но один из самых примитивных и самый мелкий амфипитецид. Его размеры оказываются чуть ниже “границы Кея”, что предполагает насекомоядность. Более острые и гладкие бугорки зубов указывают на то же. Для большинства амфипитецид была характерна диета из орехов, семян, фруктов и листьев: она устанавливается по строению зубов, а также по значительному развитию нижних челюстей в высоту, очевидно, нагрузки на них были большими (Ramdarshan et al., 2010).
Клыкастая ганлея – гроза орехов
Центральная Бирма богата на находки амфипитецид. Она уже подарила миру собственно самого амфипитека Amphipithecus mogaungensis, самого древнего представителя семейства – мьянмарпитека Myanmarpithecus yarshensis, а также первого из описанных и самого изученного – пондаунгию Pondaungia cotteri. Но открытия продолжаются. В 2009 году был описан новый род и вид – ганлея Ganlea megacanina (Beard et al., 2009). Это была некрупная – 2,3 кг – по амфипитековым меркам обезьяна. Самая выдающаяся (в буквальном смысле) черта ганлеи – огромные нижние клыки. Но не стоит представлять себе оскаленную обезьяну с капающей с клыков кровью. Клыки ганлеи были сильно расширены и уплощены спереди назад, а верхушки их стерты. Больше всего такое строение напоминает резцы грызунов. Кстати, у очень похожего мьянмарпитека и чуть более отличающейся пондаунгии клыки сношены схожим образом. У пондаунгии эмаль моляров толстая и морщинистая, с низкими гребнями, что свидетельствует о питании слабоволокнистой едой. У амфипитека и пондаунгии к тому же верхние резцы широкие и уплощенные, с усиленными корнями, явно приспособленные к раскусыванию какой-то не самой мягкой пищи. Вероятно, эта группа животных была адаптирована к питанию орехами и твердыми семенами. Из современных приматов на них экологически больше всего похожи саки – широконосые обезьяны. Замечательно, что и по многим другим особенностям строения зубов амфипитековые оказываются ближе к южноамериканским широконосым обезьянам (а также североафриканским проплиопитековым), чем к жившим рядом эосимидам. Означает ли такое сходство истинное родство или лишь конвергенцию? Это пока неясно, тем более что география миграций получается уж очень широкой: азиатские амфипитециды должны были переселиться в Северную Африку, а их потомки – совершить оттуда заплыв до Южной Америки. Зато понятно, что ганлея со своими специализациями вряд ли могла быть предком узконосых обезьян.
Krabia minuta – не краб на минуту, а обезьяна на века
Krabia minuta – так названа новая обезьяна, жившая примерно 34 млн лет назад, на границе эоцена и олигоцена, на территории нынешнего Таиланда (Chaimanee et al., 2013). Ее окаменевшие зубы были откопаны трудолюбивыми тайскими руками в отложениях формации Краби, а малые размеры зубов послужили основанием псевдохронометрического видового наименования. Но, конечно, не в названии интерес находки.
Крабия – замечательный примат. Большая часть ее особенностей позволяет включить крабию в семейство амфипитецид. Однако ряд признаков зубов ставит ее особняком. Думается, не стоит утомлять ни в чем не повинного Читателя крайней бунодонтностью, сильным развитием лингвального цингулюма и отсутствием буккального, отсутствием гипоконусов и периконусов, редуцированными тригонами, слабыми парастилями и метастилями. Даже прожженные палеоприматологи не знают, что значило в жизни древней обезьяны наличие или отсутствие того или иного бугорка или бороздки. Для ряда признаков смысл более-менее очевиден (например, острые бугорки типичны для насекомоядных, а тупые – для растительноядных приматов), но у многих особенностей глубокого смысла может и не быть вообще. Однако это не мешает палеонтологам тасовать признаки, жонглировать ими в многомерных анализах, оценивать их таксономическую значимость и строить на их основании развесистые филогенетические схемы.
Крабия жила в сообществе других приматов – как минимум пяти видов. Кроме нее, по деревьям тех же лесов древнего Таиланда скакали адапис Muangthanhinius siami, сиваладапид Wailekia orientale, амфипитецид Siamopithecus eocaenus, некий мелкий амфипитецид и некий долгопятоподобный зверек, остающийся пока безымянным. Среди этого зоопарка крабия существенно выделялась своими зубами. Главное – сам факт ее сильного отличия. Он свидетельствует о далеко зашедших процессах дифференциации и, стало быть, – длительности эволюции амфипитецид в Азии. Также крабия имеет некоторые черты, связующие ее с более древними азиатскими эосимидами; это важно, ибо доныне между амфипитековыми и эосимидами промежуточные формы были неизвестны. Одновременно особенности крабии сближают ее с африканскими ранними обезьянами и даже современными широконосыми, живущими вообще в Южной Америке. Понятно, что, будучи на несколько миллионов лет моложе африканских проплиопитековых и парапитековых, крабия не может быть их прямым предком, но коли у нее есть признаки древних азиатских эосимид, сама она относится к амфипитековым и одновременно похожа на африканских проплиопитековых, то в сумме это значит, что проплиопитековые возникли от амфипитековых, которые, в свою очередь, произошли от эосимид. Азия побеждает!
Конечно, есть но.
Во-первых, чехарда датировок. Крабия, как уже сказано, не может быть прямым предком африканских обезьян, поскольку моложе их. Она только демонстрирует связь разных групп через сохранение древних признаков, усложненных позднейшими специализациями.
Отсюда вытекает “во-вторых”: некоторые из этих специализаций сами по себе исключают крабию из числа Великих Предков. По некоторым чертам лучше подходит на роль связующего Азию и Африку звена пакистанский амфипитецид бугтипитек Bugtipithecus inexpectans, но он жил вообще в нижнем олигоцене – еще позже крабии. Таким образом, амфипитековый предок африканских обезьян должен был жить в начале или, в крайнем случае, в середине эоцена. Таковой еще никем не найден.
В-третьих, сходства крабии с африканскими древнейшими и современными обезьянами могут быть вообще конвергентными. В таком случае нет смысла выводить африканских обезьян из азиатских, у них могут быть собственные автохтонные предки. Такую точку зрения развивают палеоприматологи, изучающие североафриканские находки. Обилие и разнообразие африканских, европейских и североамериканских палеоценовых и раннеэоценовых полуобезьян позволяет сделать широкий выбор возможных предков.
Наконец, в-четвертых, искомые Великие Предки вообще не обязаны были жить именно там, где мы находим больше зубов. То, что костеносные отложения сохранились и найдены в Бирме, Китае, Таиланде, Пакистане, Египте и Ливии, не говорит о том, что только там жили древние приматы. Великой Прародиной вполне могла быть, например, Индия, которая к этому времени как раз доплыла до Азии и воткнулась в нее. Проникшие туда приматы запросто могли в новых условиях и при незанятости экологической ниши совершить эволюционный рывок. А ведь еще есть Центральная Африка – terra incognita эоценовой палеоприматологии, есть Западная Африка, Восточная, Южная, наконец.
Разнообразие древних приматов было несравнимо большим, чем нам известно. Раскопки продолжаются, новые зубы (а то – чем тафономия не шутит – и целые скелеты!) расскажут новые истории.
Сколь много обезьянок древних готовит двадцать первый век….
Последние амфипитециды дожили до начала олигоцена в Пакистане, хотя известны там лишь по восьми зубам, описанным как бугтипитек Bugtipithecus inexpectans. Впрочем, этот вид уж очень специфичен, по части признаков он похож на Plesiopithecus teras, который сам по себе загадочен, по части занимает промежуточное положение между эосимидами и амфипитецидами, хотя моложе тех и других (Coster et al., 2013). Не исключено, что бугтипитек представляет самостоятельную экзотическую линию антропоидизации омомисовых обезьян.
Наступал олигоцен. Эта засушливая эпоха ставила свои задачи, ответы на которые находили уже новые приматы…
Парапитековые (Parapithecoidea): Abuqatrania, Apidium, Biretia, Lokonepithecus, Parapithecus, Qatrania, Serapia, Moeripithecus и Arsinoea – полностью вымершая группа из позднего эоцена и раннего олигоцена (39–30 млн лет назад) Северной Африки, известна почти исключительно из Файюмского оазиса в Египте (только самая ранняя биретия Biretia piveteaui происходит из Ливии, а самый поздний локонепитек Lokonepithecus manai – из Кении). Наряду с эосимидами, афротарзиидами и амфипитецидами они были участниками третьей радиации приматов и с большой вероятностью явились предками последующих обезьян-антропоидов. Как и рассмотренные выше родственники, парапитековые имели смесь примитивных и продвинутых признаков. Причем распределение этих признаков довольно любопытное: ранние парапитековые не имеют ярких специализаций зубов и челюстей, а поздние их приобретают и становятся похожи на более древних эоценовых амфипитецид Азии. Такое хронологически нелогичное распределение, скорее всего, свидетельствует о конвергенции азиатских и североафриканских групп.
В отличие от азиатских примитивных антропоидов, парапитековые известны не только по зубам, но и полноценным черепам. В нашем распоряжении есть реконструированное лицо апидиума Apidium phiomense и целый череп более крупного парапитека Parapithecus grangeri. Внешне они напоминали современных мармозеток. Одной из самых интересных черт является очень маленький размер мозга: 11,4 см³ у парапитека. Это, конечно, больше, чем даже у более крупных адаписовых, но примерно столько же, как у аналогичных по размеру потто и лори, заметно меньше, чем у современных широконосых, и намного меньше, чем у узконосых. Относительная масса мозга получается совершенно “полуобезьянья”. Обращают на себя внимание крупные обонятельные луковицы: они, конечно, на минимальном пределе развития у полуобезьян, зато намного больше, чем у обезьян. Третий примитивный признак – размер зрительного канала, через который проходит зрительный нерв. У современных человекоподобных обезьян нерв и канал заметно толще, нежели у полуобезьян, а у парапитека оказывается ровно средним. Выходит, что мозг первых антропоидов развивался отстающими темпами в сравнении с зубами (Bush, 2004; Bush et al., 2004).
Уголок занудства
Сравнительно с более поздними антропоидами, апидиум и парапитек имели более узкую мордочку, их глазницы были еще в значительной степени развернуты вбок, а не смотрели строго вперед. Строение слуховой области, столь важной для систематики, у парапитека в наибольшей степени похоже на мелких современных широконосых и несколько примитивнее (что закономерно), чем у более позднего и сравнительно продвинутого Aegyptopithecus: барабанная пластинка окружает слуховой проход, но сохраняются уплощенные слуховые капсулы, образованные каменистой костью. Неожиданно продвинутой чертой является полное закрытие задней стенки глазницы у парапитека, так что лобная кость контачит с большим крылом клиновидной: широконосые обезьяны имеют в этом месте щель, а подобное парапитековому строение типично для узконосых. У апидиума, впрочем, эта область была схожей с таковой у цебусовых широконосых.
Половинки нижней челюсти парапитековых срастаются (впрочем, у стоящей несколько особняком арсиноэи Arsinoea kallimos симфиз нижней челюсти несросшийся). Большинство парапитековых обладало тремя верхними и тремя нижними премолярами, но Parapithecus fraasi – только двумя. Parapithecus grangeri обладал странной и уникальной для приматов специализацией: у него были очень маленькие верхние резцы, а постоянных нижних не было вовсе, так что клыки оказывались самыми передними зубами и сходились между собой. При этом молочные нижние резцы у него наличествовали, а родственный и синхронный вид Parapithecus fraasi имел и постоянные.
Парапитеки были мелкими обезьянками: от 126–242 г для Qatrania wingi до 559–1029 г для Serapia eocaena и несколько больше килограмма (по самой смелой оценке – до 3 кг) для Parapithecus grangeri, то есть крупнее долгопята, но меньше карликовой мартышки. От апидиума сохранилось довольно много останков, что позволило реконструировать целый скелет, от парапитека тоже есть кости конечностей. Их анатомия ясно свидетельствует о древесном образе жизни, четвероногой ходьбе, беге и прыгании по ветвям без подвешиваний на руках и вертикального лазания. Больше всего скелет парапитековых похож на скелет омомисовых и маленьких широконосых обезьян, но отличается от полуобезьян и узконосых. В частности, большая берцовая кость имела прочное соединительнотканное соединение с малой берцовой, подобное тому, что наблюдается у мышиных лемуров и многих широконосых. Внутренняя и наружная лодыжки были крупными, ограничивающими движения голеностопного сустава передне-задним направлением, что способствует силе и точности прыжков. При малых размерах тела такое строение вполне закономерно.
В отличие от предшественников и живших в то же время полуобезьян, чьи гастрономические пристрастия были весьма разнообразны, все парапитековые были фруктоядами, хотя некоторые разнообразили свое меню древесными смолами, а Parapithecus grangeri с большой вероятностью перешел на листоядность. Показательно, что 34 млн лет назад в Египте исчезли крупные фрукто– и листоядные полуобезьяны, эти ниши окончательно заняли антропоиды и сообщество африканских приматов приняло более-менее современный облик (Kirk et Simons, 2001). Впрочем, парапитековые на то и “пара-”, что еще не были совсем “-питеками”. Для того чтобы стать окончательными и безоговорочными обезьянами, им надо было продолжать развитие.
Великолепная миграция: широконосые обезьяны
Широконосые обезьяны (Platyrrhini) – обезьяны Центральной и Южной Америк. По сравнению с узконосыми, широконосые сохранили ряд примитивных, почти полуобезьяньих признаков (например, слуховую капсулу, не полностью замкнутую глазницу, три премоляра), но компенсировали их редкостными специализированными чертами вроде хватательного хвоста и исчезновения третьих моляров у многих видов. Впрочем, для того чтобы распознать широконосую обезьяну, необязательно заглядывать ей в рот и считать зубы, можно узнать ее в лицо: носовая перегородка у нее будет толстая, а ноздри широко разнесены одна от другой и расставлены в стороны. Узконосые же обезьяны называются так не за габариты всего носа, а только за тонкую носовую перегородку; у какой-нибудь гориллы сам нос может быть сколь угодно широченный, но ноздри смотрят в одну сторону и расположены рядышком.
Возникновение широконосых весьма загадочно. Проблема в том, что Южная Америка большую часть своей истории была гигантским островом, полностью отделенным морями от прочих материков. Иногда она соединялась либо с Антарктидой (которая периодически бывала вполне теплым местом), а через нее – с Австралией, либо с Северной Америкой, а через нее – с остальным миром. Однако как-то так сложилось, что предки приматов в Южную Америку в палеоцене и первой половине эоцена не попали. А вот в середине или к концу эоцена – около 40 млн лет назад – они тут появляются, вдруг и без объявления войны. А ведь именно в это время Южная Америка находилась в очередном длительном одиночном заплыве. Ближайшей землей была Северная Америка, но самыми поздними известными оттуда приматами являются омомиды Rooneyia viejaensis и Macrotarsius montanus, имеющие в самом оптимистичном варианте датировку порядка 34 млн лет назад. Однако дело ведь не только в хронологии и географии: позднейшие североамериканские омомиды были весьма специализированными животными, из которых вывести широконосых довольно затруднительно. Конечно, всегда остается вероятность, что мы чего-то не знаем и переходные от омомисовых к широконосым пережили “темные века” на каком-нибудь острове в районе нынешней Панамы. Но тем наука и отличается, что оперирует фактами, а не догадками.
А факты таковы, что в Северной Африке в эоцене и олигоцене известно множество приматов, о части которых уже говорилось выше, в признаках которых там и сям проглядывают явственные черты широконосых. То есть получается замечательная ситуация: достаточно очевидные предки есть в Африке, а потомки – в Южной Америке. Вопрос: как они преодолели Атлантический океан? Потенциально это можно сделать несколькими способами. Во-первых, можно двинуться через Европу и цепочку островов в Северную Америку, а оттуда через Панамский пролив в Южную Америку. Во-вторых, из Африки можно пойти через Азию и Берингов пролив опять же в Северную Америку, а оттуда в Южную. Оба эти варианта неправдоподобны, поскольку предполагают слишком далекие миграции по областям, где по факту раннеолигоценовых приматов мы не находим; а Берингия к тому же совсем неподходящее для приматов место. В-третьих, из Африки теоретически можно добраться до Антарктиды, которая периодически соединялась с Южной Америкой. Этот путь не такой сумасшедший, как может показаться на первый взгляд, поскольку, как уже говорилось, климат в Антарктиде иногда был вполне тропический, а сама она соединялась с Южной Америкой. Главной проблемой были не морозы и айсберги, а морские просторы от Африки до Антарктиды. Мыс Доброй Надежды неспроста называется также Мысом Бурь; хотя в эоцене ситуация с ураганами могла быть несхожей с нынешней, все же вряд ли было какое-то течение, идущее тут с севера на юг. К тому же ископаемые сумчатые из Антарктиды известны, а плацентарные – нет.
Наконец, четвертой возможностью является вояж через Атлантику. На первый взгляд он выглядит тоже крайне сомнительным, но стоит учесть несколько важных моментов. Для начала ширина Атлантического океана была заметно меньшей, чем сейчас, ведь Южная Америка все последующее время двигалась на запад. Многим может показаться, что от Северной-то Америки до Южной всяко ближе, чем от Черного континента, но в реальности Северная миллионы лет ползла на юг, ее нынешнее положение сильно отличается от эоценового, так что расстояние от Северной Америки до Южной тогда было едва ли не большим, чем от последней до Африки. Северное и Южное пассатные течения несут воды от Западной Африки до Бразилии; неспроста в парусную эру капитаны по пути в Индийский океан предпочитали вести свои корабли от Европы сначала до Бразилии, а потом сворачивали обратно – уже к Южной Африке и мысу Доброй Надежды. Понятно, что у обезьян нет лодок, но большие реки Западной Африки – прежде всего Сенегал, Нигер и Конго – выносят в море огромное количество упавших деревьев, иногда сплетенных ветвями и корнями в довольно большие плавучие плоты. На этих естественных понтонах случайно оказываются самые разные животные, в первую очередь, понятно, древесные, в том числе обезьяны. Ясно, что долго без пресной воды они вряд ли могут протянуть, но, повторимся, океан был ýже, течение могло быть быстрее, так как на месте Центральной Америки зиял огромный пролив между Атлантическим и Тихим океанами шириной с хорошее море, да и дожди никто не отменял. К тому же никто и не говорит, что такой путь был налаженной торной дорожкой. Судя по морфологии и генетике современных широконосых обезьян, они происходят от одного предка. Не исключено, что плавание через Атлантику обезьяны совершили всего единожды. Теоретически это вообще могла быть одна беременная самка.
Достоверности сей гипотезе добавляет тот факт, что такой же путь, похоже, совершили предки кавиоморфных грызунов и плохо летающих птиц гоацинов – ныне эндемиков Южной Америки, а также амфисбен и гекконов, подходящие предки коих также обнаруживаются в Африке. Особенно интересно, что с большой вероятностью некоторые из этих групп появлялись в Южной Америке неоднократно. Споры об их происхождении не утихают многие годы, но позиция “африканистов” весьма сильна (Симпсон, 1983).
Как бы там ни было, обезьяны достигли своего Эдема. Они попали в замечательное место, где росли огромные деревья, из коры которых сочилась вкусная смола, на которых висели ароматные плоды и по которым ползали аппетитные насекомые. При этом не было ни одного достойного конкурента (южноамериканские грызуны появились примерно тогда же, но и они были почти все наземными, а немногочисленные древесные были медленными и глупыми; об опоссумах и речи нет), разве что птицы; в ветвях не прятался ни один хищник, специализированный на охоте за приматами и вообще за древесными животными, разве что птицы; да и вообще никто не мог сравниться с приматами в красоте и сообразительности, разве что птицы.
В итоге широконосые обезьяны оказались лучшим образцом кустообразной эволюции, когда в условиях незанятости идеальной экологической ниши на огромной территории из минимума предков за короткое время возникает широкий спектр линий, ближайшие из коих весьма похожи, но крайние варианты которых уже заметно отличаются друг от друга. Интересно, что многие древнейшие широконосые уже очень похожи на современных представителей, что свидетельствует о большой скорости первичного видообразования. Такое положение крайне осложняет систематику широконосых обезьян, поскольку очень трудно провести границы таксонов среди множества схожих родов и видов. В опубликованных таксономических схемах перебраны, кажется, все возможные сочетания семейств и подсемейств и все варианты отнесения подсемейств к тем или иным семействам, которых выделяют от двух до десяти; при этом обычно почти каждый род получает статус самостоятельного подсемейства. Даже молекулярная систематика в такой ситуации не то чтобы пасует, но не имеет преимущества перед классическими морфологическими методами установления родства.
Примерно 30 млн лет независимой от обезьян Старого Света эволюции дали ряд любопытных линий конвергенции, а также своеобразные группы, аналогов которым в Африке и Азии нет.
Древнейшие приматы Южной Америки долгое время были известны из Бразилии, но новейшие открытия сделаны в Перу, в отложениях, возраст которых с наибольшей вероятностью верхнеэоценовый, а то и финально-среднеэоценовый, возможно, древнее 40 млн лет и на десяток миллионов лет старше бразильских. В местонахождении Санта-Роза найдены четыре зуба приматов, из которых, правда, хорошо сохранился только один, а три прочих обломаны, так что исследователи не стали давать им формальные названия, чтобы не затруднять работу в будущем, когда появятся более полные находки.
Самый же сохранный зуб получил наименование перупитека Perupithecus ucayaliensis (Bond et al., 2015). Этот примат оказался очень примитивным – настолько, что его даже нельзя уверенно отнести к широконосым обезьянам. Он явственно архаичнее всех древних и тем паче современных широконосых, зато больше всего похож на зубы талапитека Talahpithecus parvus, который жил в Ливии тоже в конце эоцена (датировка его несколько спорна – 35–36 или 38–39 млн лет назад). Талапитек сам имеет не вполне понятное систематическое положение, так как описан всего по трем зубам, из коих два сломаны. Первоначально он был определен как олигопитековый примат, а олигопитеки – примитивнейшие обезьяны, в целом годящиеся в предки как широконосым, так и узконосым. Есть, правда, одна проблема: у олигопитековых на челюстях сохранилось только по два премоляра, а у широконосых их три. Сколько было премоляров у талапитека и перупитека – неизвестно, но в египетском Файюме есть находки похожих на талапитека обезьян с тремя премолярами. Таким образом, североафриканские корни южноамериканских широконосых вырисовываются с полной определенностью. Самое главное – нигде в мире больше нет более подходящих кандидатов на роль предков широконосых. Перупитек схож с североафриканскими древними приматами, примитивнее всех широконосых и хронологически вписывается аккурат между ними – что еще надо для полного счастья?!
Неожиданно новое открытие дало поддержку, хотя бы и призрачную, для североамериканской версии заселения Южной Америки. До сих пор считалось, что миграция совершилась около 26–27 млн лет назад, тогда как в Северной Америке позднейший примат жил 34 млн лет назад. С открытием же перупитека этот разрыв исчез! Впрочем, как уже сказано, этот аргумент очень слаб, ибо морфология важнее чисто хронологических соображений. В Северной Америке жили только полуобезьяны и омомисовые – довольно специализированные родственники современных долгопятов. Из них крайне проблематично вывести южноамериканских широконосых, а конкретно перупитек совсем на них не похож.
Так что теперь мы можем быть почти на 100 % уверенными (насколько в науке бывает 100 %-ная уверенность), что широконосые возникли из североафриканских антропоидов.
Открытие в Санта-Розе замечательно еще по двум причинам. Во-первых, судя по форме и размерам, три неназванных зуба могут представлять еще два вида, а то и рода приматов. Таким образом, уже в конце эоцена в Америке жили три вида обезьян! Из дополнительных зубов нижний моляр выглядит еще примитивнее, чем зуб перупитека, по признакам он занимает промежуточное положение между амфипитековыми и парапитековыми с одной стороны и широконосыми – с другой. Во-вторых, внимательный глаз бывалого географа может узреть, что Перуанская Амазония находится на прямо противоположном от атлантического побережья конце континента. То есть чтобы приплывшие из Африки приматы оказались у подножия Анд, им надо было пересечь весь материк. Думается, на это ушло какое-то время, очевидно, оно не было потрачено впустую, и по пути успели сформироваться несколько видов. Есть также вероятность, что приматы заселяли Южную Америку неоднократно (несколько миграций предполагалось также для южноамериканских грызунов, амфисбен и гекконов), этим можно объяснить довольно резкое отличие приматов Санта-Розы от более поздних широконосых и отсутствие находок в промежуточные этапы. Впрочем, для таких допущений нет особых оснований: за 10 млн лет признаки как раз должны были существенно трансформироваться, а находок в интервале от 40 до 26 млн нет, так как нет соответствующих местонахождений.
На что были похожи первые обезьяны Южной Америки – понять по зубам трудно. Можно лишь констатировать, что перупитеки были мелкими, вроде современных каллимико или тамаринов, причем неназванные виды были еще на треть меньше. Судя по строению зубов и их размерам, их обладатели были насекомо– и фруктоядными.
Кстати, о судьбе…
Местонахождения ископаемых приматов, к сожалению, весьма редки. Обезьяны – животные древесные, а отложения почти всегда формируются в воде. Чтобы кости примата попали в палеонтологическую летопись, должно свершиться необычайное стечение обстоятельств: зверь должен или умереть около воды, или быть унесенным потоком, или упасть в воду и утонуть; тело не должны растащить и разгрызть хищники и падальщики, кости должны быстро покрыться слоем осадков, а вплоть до современности отложения не должны разрушиться в пыль; наконец, исследователи должны эти слои и кости найти, собрать, распознать и описать. Понятно, что каждый шаг на этом тернистом пути случайностей весьма маловероятен. Обезьяны очень редко падали в воду, крокодилы и пираньи не зевали, превратности геологической судьбы миллионы лет рушили напластования, палеонтологов мало, а планета велика, да и не везде реально производить раскопки по миллиону причин. Нам невероятно повезло, что есть вообще хоть какие-то местонахождения, содержащие останки приматов, хотя бы отдельные зубы, и уж тем более фантастично, что существуют сокровищницы, даже богатые обезьянами.
Так что коли не судьба, то уж не судьба, а уж коли повезло – так надо радоваться!
Рис. 32. Branisella boliviana.
Собственно сами широконосые достоверно известны из верхнего олигоцена и нижнего миоцена. Древнейшей обезьяной Южной Америки, от которой сохранилось много останков, была браниселла Branisella boliviana, найденная в Боливии и имеющая датировку 26–27 млн лет назад. В 1991 году из тех же слоев был описан Szalatavus attricuspis, но, видимо, в реальности это та же браниселла. Показательно, что из всего бестиария ископаемых широконосых браниселла едва ли не единственная, не имеющая очевидной близости к какому-либо современному подсемейству, зато подходящая на роль общего предка. Всего на миллион лет моложе аргентинский Dolichocebus gaimanensis, но он уже может быть определен как капуцин – дифференциация началась.
Кстати, о древности…
Датировка южноамериканских фаун – непростое дело. До появления и широкого использования радиометрических методов датировки мнения о возрасте тех или иных слоев выдвигались достаточно произвольно. В Старом Свете обычно есть возможность прокоррелировать слои из разных местонахождений, сравнить виды и прикинуть как минимум последовательность и относительный возраст отложений. Так и были созданы сами понятия эр, периодов и эпох, и описаны они были именно на основе европейских фаунистических комплексов. Однако южноамериканские животные столь сильно отличаются от европейских и даже североамериканских, что геохронологические шкалы, построенные для Южной Америки, оказываются “вещью в себе”. С последовательностью еще как-то разобрались, а вот с абсолютным возрастом долго не могли. Конечно, это привело к перекосам, причем преимущественно в сторону удревнения по сравнению с реальностью. В немалой степени этому способствовала архаичность южноамериканских зверей.
Например, слои “сантакрусия” в аргентинской Патагонии сначала считались верхнеэоценовыми, потом финально-олигоценовыми, потом нижнемиоценовыми и, наконец, даже верхнемиоценовыми, то есть разброс был в пределах половины всего кайнозоя! Абсолютные датировки расставили все на свои места: сантакрусий соответствует все же нижнему миоцену. А ведь именно в этих отложениях были найдены останки гомункулюса Homunculus patagonicus: одно дело, если он синхронен адаписовым и омомисовым приматам, и совсем другое – проконсулам или сахелянтропам, есть же разница! Сейчас мы знаем, что гомункулюс жил в одно время с проконсулами.
В отличие от более древних приматов, широконосые известны по весьма полным находкам, в том числе немалому числу целых черепов и нескольким скелетам. Поэтому мы точно знаем, что ископаемые широконосые принципиально не отличались от современных. Все они, без единого исключения, были древесными животными. Почти все были мелкими, как и нынешние их потомки, среди которых самые тяжелые – ревуны – редко превышают 12 кг. Только позднеплейстоценовые бразильские протопитек Protopithecus brasiliensis, картеллес Cartelles coimbrafilhoi и кайпора Caipora bambuiorum весили порядка или более 20 кг – в полтора раза тяжелее самых откормленных современных широконосых (раньше их реконструировали даже до 25–35 кг, но такие оценки наверняка завышены: Halenar, 2011).
Уголок занудства
Как уже говорилось, даже первые представители широконосых весьма похожи на современные формы и, очевидно, были их прямыми предками. Например, колумбийская Stirtonia и бразильский Cartelles сильно напоминают современных ревунов, колумбийский Miocallicebus – обезьян-прыгунов, аргентинский Tremacebus – ночных обезьян мирикин, бразильские Caipora, Solimoea и Protopithecus – паукообразных обезьян, аргентинский Dolichocebus, чилийский Chilecebus, колумбийская Laventiana, бразильский Acrecebus и панамский Panamacebus transitus – капуцинов, перуанская Canaanimico, аргентинские Mazzonicebus, Soriacebus, Propithecia, Carlocebus и Homunculus, колумбийские Mohanamico, Nuciruptor и Cebupithecia – уакари, аргентинская Killikaike и колумбийская Neosaimiri – беличьих обезьян саймири, колумбийская Cebupithecia и аргентинский Carlocebus – саки, колумбийские Lagonimico, Micodon и Patasola – игрунок.
Возможно, уже в середине миоцена появляются современные роды, по крайней мере, в Бразилии из этого времени описан Cebus macrognathus.
Когда Северная Америка соединилась с Южной, по Панамскому перешейку на юг хлынули орды новых животных: оленей, верблюдов, саблезубых тигров, медведей. На север миграции тоже были, но гораздо скромнее. Среди гигантских ленивцев, броненосцев и опоссумов были и приматы. Будучи тропическими животными, слишком далеко они, конечно, не продвинулись – их остановили степи и пустыни Северной Мексики, но Центральную Америку заселили плотно. Первым поспешил перебраться на новые земли Panamacebus transitus – около 20 млн лет назад, даже еще до полного соединения материков, когда между ними оставался небольшой пролив.
Еще интереснее, что обезьяны умудрились попасть на все крупные Антильские острова. Как эти древесные животные доплыли до них – остается загадкой, впрочем меньшей, чем тайна проникновения приматов в саму Южную Америку. Течения исправно выносят из Ориноко и других рек немалое число деревьев, а Гвианское течение влечет их на север – как раз вдоль Малых Антильских островов к Большим. Первым большим портом был Гаити, откуда известны плейстоценовый Insulacebus toussaintiana, родственный ночным обезьянам, а также прыгун Antillothrix bernensis, чьи субфоссильные останки датированы вообще голоценом (позднейшая дата – 3850 лет назад). Западнее лежит Куба. В миоцене тут жила родственница прыгунов паралуатта Paralouatta marianae, в плейстоцене ее сменила P. varonai. Интересно, что древнейшая паралуатта имеет очень крупные по широконосым меркам размеры, это как бы пример островного гигантизма. “Как бы” – потому что реальный размер был, конечно, не слишком значительным, примерно как у современных крупных ревунов. До совсем недавнего времени на Кубе жили буроголовая коата Ateles fusciceps, сейчас обитающая в Панаме, Колумбии и Эквадоре, A. anthropomorphus и, вероятно, еще один вид паукообразных обезьян.
Дальше всего забрался ксенотрикс Xenothrix mcgregori – он известен из плейстоцена Ямайки. Обращает на себя внимание отсутствие третьих моляров – как верхних, так и нижних, что вроде бы роднит ксенотрикса с игрунками. Однако, скорее всего, сие сходство сугубо конвергентно, так как подавляющая часть признаков достаточно специфична (благодаря чему обычно выделяется самостоятельное подсемейство Xenotrichinae, иногда даже признаваемое семейством) или сближает ксенотрикса с прыгунами.
Родство многих островных видов остается под вопросом. Подробные исследования показали, что Antillothrix, Paralouatta и Xenothrix весьма родственны между собой и ближе всего к современным прыгунам Callicebus (Horovitz et MacPhee, 1999). Это может значить, что до островов добрались далеко не все широконосые; в отсутствие конкуренции прыгуны дали свой всплеск видообразования (выражаясь умно – адаптивной радиации) с появлением конвергентных форм: Antillothrix разными чертами был несколько похож на саймири, капуцинов и игрунок, крупная Paralouatta – на ревунов, Xenothrix – на уакари. Впрочем, как уже было помянуто, до Кубы добрались и паукообразные обезьяны.
Любопытно, что теоретически обезьяны могли пропутешествовать и дальше: морские течения несут воды от Кубы до Флориды, где для приматов условия хоть и неидеальные, но терпимые. Да и расстояние там явно не больше, чем от Африки до Бразилии. Почему не осуществилась такая миграция – неизвестно. Скорее всего, просто по случайности, ведь не каждый день обезьяны совершают трансокеанские круизы на бревнах. Может, сказалось отсутствие очень крупных рек на Кубе или кипарисовые болота Флориды оказались все же слишком экзотическим местом для приматов.
Разнообразие широконосых обезьян очень велико, выделяется множество родов и видов, но систематика их очень запутана, единства среди антропологов по этому вопросу нет. Чаще выделяют семейства цебусовых и игрунковых.
Цебусовые (Cebidae) покрупнее, их размер колеблется от масштаба крысы до средней собаки. Это практически полностью древесные животные, на землю они почти не спускаются. В связи с этим хвост у многих цебусовых – паукообразных, ревуновых и капуциновых – приобрел хватательную функцию и действует как пятая конечность. Обезьяны могут брать им предметы, а не самые тяжелые паукообразные даже подвешиваются на нем без помощи рук и ног. На нижней стороне кончика хвоста нет шерсти, зато имеются папиллярные узоры, подобные кожным узорам на ладонях, стопах и пальцах. Рисунки линий индивидуальны, потенциально обезьян можно определять по отпечаткам хвоста; впрочем, зверюшки эти законопослушны, злостных правонарушений не совершают, так что надобности в “каудоскопии” нет.
Едят цебусовые преимущественно фрукты и листья, но и любую животную пищу, какую могут найти. Широконосые – дневные животные, кроме нескольких видов дурукули Aotus (они же мирикини или ночные обезьяны, иногда выделяемые в особое подсемейство Aotinae), являющихся единственными ночными обезьянами, а также родственных им прыгунов-тити Callicebus (Callicebinae), ведущих сумеречный образ жизни. Большие глаза дурукули делают их похожими на лемуров или сов, откуда происходит еще одно их название – совиные обезьяны. Прыгуны крайне разнообразны внешне, некоторые очень красивы. Они любят сидеть рядышком на ветке, трогательно переплетясь хвостиками. Между прочим, воротничковый прыгун, или белорукий тити-вдовушка, Callicebus torquatus имеет самый маленький среди приматов кариотип из 16 хромосом в диплоидном варианте.
Среди подсемейства цебусовых (Cebinae) собственно цебусы или капуцины Cebus имеют самый большой относительный размер мозга и сложное поведение. Как в неволе, так и в природе они используют простейшие орудия труда, например раскалывают орехи или раковины моллюсков о камни. Капуцины больше, чем другие широконосые, потребляют животную пищу. Сообразительность и живой нрав этих зверюшек обеспечили их успех у дрессировщиков и, в частности, на поприще киноиндустрии: именно капуцин играет обезьянку-привидение в фильме “Пираты Карибского моря”.
Ревуны Alouatta (Alouattinae) уникальны своим голосом: с помощью огромного горлового мешка-резонатора они могут кричать на несколько километров. Крики не беспорядочны: обязательно есть обезьяна-запевала, которая задает речовку могучему хору. Вся анатомия головы ревунов подчинена вокальной мании, особенно у взрослых самцов: нижняя челюсть с широченными восходящими ветвями, подъязычная кость имеет вид черпака, горло огромных размеров, а борода еще больше увеличивает визуальный эффект. Во время крика ревуны характерно, очень сосредоточенно и весьма брутально вытягивают губы трубочкой, чтоб, не дай бог, не потерять еще пару децибел. Кроме того, у ревунов указательный палец кисти работает вместе с большим, но отставляется от прочих – уникальный для приматов вариант.
Паукообразные обезьяны (Atelinae): коаты Ateles, шерстистые обезьяны Brachyteles и Lagothrix – имеют крайне вытянутые руки и ноги и длинный цепкий хвост. Пальцы на руках образуют своеобразный крючок, а большой палец редуцируется до маленького бугорка или вообще полностью, – это замечательный пример конвергенции с колобусами и гиббонами. Передвигаются паукообразные обезьяны брахиацией, то есть на руках, часто с минимальным участием ног. Конечно, так залихватски, как у гиббонов, у паукообразных скакать не получается, зато помощь цепкого хвоста придает передвижению особое своеобразие. За счет стройности тела относительный вес мозга паукообразных обезьян – один из наибольших среди мало-мальски крупных животных.
Саковые, или чертовы, обезьяны (Pitheciinae) – одни из самых эффектных приматов Южной Америки. Мохнатые саки Chiropotes satanas, Ch. chiropotes и родственные виды имеют окладистую бороду и раздвоенную шапочку на голове, сильно выступающую вперед: такое впечатление, что на них надели странный парик не по размеру. У Ch. albinasus к этой красоте добавляется ярко-розовое лицо. Белолицый саки Pithecia pithecia – вид с самым сильным половым диморфизмом среди приматов: самцы угольно-черные с широким плоским белым или оранжевым лицом, а самки серые с пестринками. Детеныши окрашены как самки, и только с возрастом самцы приобретают свое великолепие. У родственного вида P. monachus разница не так сильна, зато на голове самцов есть шапочка волос в стиле “под горшок”. Существуют и другие, тоже оригинальные виды.
Лысые уакари Cacajao calvus действительно лысые, при этом голова у них воспаленно-красного цвета. На неподготовленных людей они производят впечатление плешивых больных, но нет – так и должно быть, просто понятия о красоте бывают разные. Остальное же тело покрыто очень длинной и красивой шерстью, причем у подвида C. calvus calvus она белоснежно-белая, а C. calvus rubicundus – рыжая. Уакари иначе называются короткохвостыми саки, ведь хвост у них действительно короткий – каких-нибудь 15 см при почти полуметровом размере самого зверя. Редукция связана, как часто бывает у приматов, с крупными размерами и медленным передвижением, причем обычно по нижним ветвям деревьев. C. melanocephalus, наоборот, имеет густую шерсть на голове с начесом вперед: именно родственные виды должны максимально отличаться для избегания межвидового скрещивания.
Саймири, или беличьи обезьяны, Saimiri (Saimiriinae) – самые маленькие цебусовые, примерно четверть метра без хвоста, который в полтора-два раза длиннее тела. Это в своем роде апофеоз примата: мультяшные обезьяны максимально похожи именно на этих жизнерадостных существ с круглыми выразительными глазами, цепкими пальчиками, непрестанно что-то ищущих, исследующих, ковыряющих, бегающих огромными стаями, чирикающих и корчащих друг другу мордочки. Пять видов, из которых наиболее известен Saimiri sciureus, заселяют практически всю Южную Америку и часть Центральной.
Второе семейство широконосых – игрунковые (Callithrichidae), его представители известны также как мармозетки и тамарины. Они отличаются от цебусовых очень мелкими размерами – вплоть до величины мыши: карликовая игрунка Cebuella pygmaea может иметь длину тела всего 10 см (то есть длину пальца), плюс 20 см хвоста, и весить 100 г, хотя обычно они несколько крупнее. Прочие игрунки раза в полтора-два больше, но, конечно, тоже неспроста называются игрунками. Мелкие размеры нынешних игрунок – древнее приобретение. Уже среднемиоценовые Patasola magdalena и Micodon kiotensis имели уменьшенные габариты. Однако синхронный Lagonimico conclucatus весил 1,2 кг – многовато для любой современной игрунки; он же сохранял третьи верхние и нижние моляры, хотя и уменьшенные (Kay, 1994).
Мармозетки имеют только два моляра в каждой половинке челюсти, поскольку размеры черепа крайне малы и третьи просто не помещаются. Ручки настолько крошечные, что игрунки не могут обхватывать ветки пальчиками, поэтому большие пальцы не противопоставляются остальным, а ногти на руках и ногах вторично приобрели вид когтей; только на большом пальце стопы сохраняется плоский ноготь. По стволам эти крошечные зверьки передвигаются наподобие белок, в том числе вниз головой.
Игрунковые обезьяны представляют уникальную форму сообщества, в котором размножается только одна доминирующая самка, а все остальные члены группы, включая самцов, ухаживают за детенышами. Таким образом, мы имеем тут некий аналог социальной структуры общественных насекомых или голых землекопов. Конечно, у игрунок остальные самки не теряют способности к размножению и не превращаются в специализированных рабочих особей, но когда-то и муравьи с чего-то начинали. В отличие от остальных приматов, у мармозеток чаще всего рождается двойня (бывает и один, и три дитятки, но гораздо реже). Не очень понятно, в чем причина этого; есть мнение, что мелкой самке проще родить двух маленьких детенышей, чем одного крупного, хотя логика тут сомнительная, ведь проще-то родить одного мелкого. У многих видов большую часть заботы о малютках берет на себя отец: он сажает их на спину, носит с собой, чистит и оберегает, холит и лелеет. Только для кормления молоком папаша отдает ненаглядных отпрысков маме, но потом ревниво забирает обратно.
Игрунковые делятся на собственно игрунок родов Callithrix (иногда из него выделяются еще Callibella и Mico) и Cebuella, а также тамаринов родов Leontopithecus и Saguinus. Разнообразие тех и других крайне велико: усы и хохлы, гривы и кисточки на ушах, пятна и полосы – все идет в ход для отличия от родственников.
Игрунки питаются древесным соком; для его получения животные надгрызают стволы острыми резцами. Погрызы затягиваются тягучей смолой, которую игрунки тоже едят. В итоге все дерево покрывается овальными наростами; когда на нем не остается живого места, игрунки находят себе новое дерево. Только белоухие игрунки Callithrix aurita не умеют надгрызать кору из-за слишком маленькой мордочки, но все равно основу питания составляет смола и древесный сок, они пользуются наработками других видов. До половины рациона игрунок составляют насекомые, главным образом большие кузнечики и личинки, которых обезьянки постоянно ищут в трещинах коры своими тонкими пальчиками. Не пропускают они фрукты, птичьи яйца и даже птенцов, ящериц и лягушек.
Внешне особенно красива обыкновенная игрунка Callithrix jacchus с пучками белого пуха на ушах и пестрой серо-желтой спинкой; несколько других видов в целом похожи на нее, но, например, у белолицей игрунки C. geoffroyi кисточки ушей серые, а у черноухой C. penicillata – черные и к тому же висячие.
В отличие от игрунок, у тамаринов клыки намного больше, а резцы значительно меньше, а потому они неспособны прогрызать кору деревьев. Тем не менее они тоже любят древесные соки, смолы и нектар, хотя чаще, чем игрунки, ловят насекомых и прочих животных, а также едят фрукты и цветы. Среди тамаринов особенно выделяется императорский Saguinus imperator – с огромными висячими усами а-ля Вильгельм II, только у обезьянки усы висят вниз, а у кайзера торчали вверх. По-королевски выглядит и эдипов тамарин S. oedipus – с белоснежным плюмажем на голове.
Очень впечатляют пышной гривой львиные тамарины, из которых Leontopithecus rosalia выделяется золотым цветом. Другие могут быть контрастны: например, L. caissara имеет золотую шерсть с черными лицом, руками и хвостом, а L. chrysomelas – черную шерсть с золотыми лицом, руками и хвостом.
Гельдиева мармозетка, или каллимико, Callimico goeldii (Callimiconinae) в целом похожа на других представителей семейства, однако имеет три моляра, то есть может представлять потомков исходной для игрунок группы. Она равномерно окрашена в черный цвет.
Амазония велика, а потому раз в несколько лет исследователи находят в сельве новые виды широконосых обезьян. К сожалению, леса безжалостно вырубаются, и многие виды оказываются на грани вымирания. Часть из них, как золотистых тамаринов, удается спасать в зоопарках, но часть может пропасть, не будучи даже открыта. Есть, конечно, и радостные моменты: в 2013 году в Бразилии была вновь найдена мармозетка Марка Callithrix marcai, с 2008 года считавшаяся уже вымершей.
Бывают и “закрытия”. Как-то по чучелу из одного музея был описан особый вид игрунки замечательного пепельного цвета. Однако потом выяснилось, что чучело принадлежало ранее известной мармозетке, шкурка которой просто покрылась густым слоем пыли за долгие годы хранения.
Широконосые обезьяны известны своей склонностью образовывать группы из представителей разных видов, рядом с которыми могут кормиться и не приматы. Такое сообщество оказывается лучше защищено от хищников: например, еноты-носухи лучше нюхают, попугаи – слышат, а обезьяны – видят и соображают. Какой-нибудь онцилле или оцелоту нелегко обмануть сразу всех этих животных. Так что толерантность заложена в глубине души широконосых обезьян; если будущее человечество возникнет из капуцинов, оно наверняка будет терпимее нынешнего.
Новые приматы Старого Света: примитивнейшие узконосые обезьяны
Узконосые обезьяны (Catarrhini) – обезьяны Старого Света: Африки, Азии и Европы. Они появились уже в верхнем эоцене, а на границе с олигоценом стали достаточно разнообразными. Как всегда бывает, переходные группы трудно однозначно классифицировать, так как они зависают между предками и потомками. В данном случае палеоприматологи нашли элегантный выход: примитивнейшие узконосые, которые не могут быть однозначно определены как мартышковые или человекообразные, выделяются в парвотряд “ранних узконосых” Eocatarrhini, тогда как более продвинутые формы, имеющие непосредственное отношение к современным, обозначаются как “истинные узконосые” Eucatarrhini. Маленькая буковка в названии, но огромный скачок в морфологии!
“Ранние узконосые” (Eocatarrhini) сами по себе подразделяются на две группы: более древние и примитивные проплиопитековые (Propliopithecoidea) известны исключительно с границы эоцена и олигоцена Северной Африки (почти исключительно из Египта), а поздние и относительно продвинутые плиопитековые (Pliopithecoidea) – из миоцена Уганды, Европы и Азии.
Проплиопитековые (Propliopithecoidea) имели еще довольно много архаичных черт строения, поэтому их систематический статус неустойчив: разные палеоприматологи предлагали объединять их с парапитековыми или, напротив, включать в состав человекообразных. Самые ранние формы – самые загадочные, что, в общем-то, закономерно.
Олигопитековые (Oligopithecinae), названные по роду Oligopithecus из нижнего олигоцена (31–33 млн лет назад) оазиса Файюм в Египте (предположительно туда же включаются катопитек Catopithecus browni из более старых отложений того же Файюма и еще более древний талапитек Talahpithecus parvus из верхнего эоцена Ливии), разными исследователями определялись как самостоятельное семейство Oligopithecidae надсемейства проплиопитековых (Propliopithecoidea), как подсемейство семейств проплиопитецид (Propliopithecidae) или плиопитецид (Pliopithecidae; в варианте с выделением подсемейств Propliopithecinae, Pliopithecinae и Oligopithecinae), как синоним проплиопитецид или парапитецин (Parapithecinae), включались в понгид (Pongidae) и даже в надсемейство адаписовых (Adapoidea), а также в качестве семейства в инфраотряд Paracatarrhini гипотряда Anthropoidea. Можно надеяться, что новые находки позволят точнее определиться в этом сложном вопросе. В то же время и в том же месте, что олигопитеки, жил странный примат – протеопитек Proteopithecus sylviae, выделенный в собственное семейство Proteopithecidae; впрочем, по общему эволюционному уровню, размерам и образу жизни он не очень отличался от своих соседей.
Очень здорово, что приматы Файюма были массовыми животными, особенно многочисленны были катопитеки, на втором месте по частоте – протеопитеки. От них, да и других приматов сохранились не только зубы, но и черепа и части скелетов. Благодаря такому богатству нам известны многочисленные подробности строения и образа жизни египетских позднеэоценовых и раннеолигоценовых обезьян; ни о каких других синхронных приматах у нас нет столь обширных сведений.
Олигопитековые и протеопитек еще имели некоторые примитивные черты: например, барабанная пластинка у них не полностью окружала слуховой канал. Зато был и прогресс: скажем, в челюстях осталась всего пара премоляров – черта, не очень надежно, но наглядно разграничивающая узконосых и всех прочих приматов. Олигопитековые имели вес от трети до полутора килограммов, вели дневной образ жизни, питались преимущественно фруктами, дополняя их листьями и иногда насекомыми; протеопитек мог вдобавок к тому лакомиться смолами и нектаром.
Рис. 33. Череп Aegyptopithecus zeuxis и реконструкция Propliopithecus.
Любопытно, что половой диморфизм по размерам клыков у катопитека и особенно протеопитека был выражен сильнее, чем у схожих по размеру тела современных обезьян (Simons et al., 1999). Крупные размеры клыков у самцов и мелкие у самок свидетельствуют о существенной межсамцовой конкуренции. Группы катопитеков и протеопитеков состояли либо из нескольких самцов со строгой иерархией и множества самок, либо вообще из одного самца с гаремом самок. Такая структура нетипична для полуобезьян, зато характерна для многих узконосых.
Пяточная кость протеопитека замечательна чудной смесью признаков, одни из которых почти идентичны чертам омомисовых, другие – видимо, конвергентно – мартышковых, а кои – так и вообще адаписовых (Gladman et al., 2013). Очевидно, на этом эволюционном уровне строение конечностей отставало от челюстей и зубов.
Позднейшим олигопитековым был некий неопределенный примат, живший в начале олигоцена в Египте. Он отличался карликовыми размерами – существенно меньшими, чем у Catopithecus и Oligopithecus (Seiffert et Simons, 2013). Трудно сказать, что довело его до жизни такой, а в конце концов и до вымирания.
Кстати, о Файюме…
Файюмский оазис широко известен среди искусствоведов файюмскими портретами, сделанными на крышках саркофагов (кстати, это отличный источник антропологической информации). Но палеонтологи любят Файюм совсем не за это: в нескольких карьерах они нашли и продолжают раскапывать сотни или даже тысячи окаменелостей эоценовых и олигоценовых животных. В Файюме найдены одни из древнейших слонов и слоновых прыгунчиков, даманов и сирен, антракотериев и китов, странных арсиноитериев и еще более странных птолемайид, летучих мышей и грызунов. Нынешняя пустыня 41–29 млн лет назад была цветущим садом, в болотах которого жизнь била ключом. Из Файюма известны самые разные приматы, в том числе предковые для нескольких крупных современных групп.
Проплиопитековые в узком смысле (Propliopithecinae) не слишком разнообразны – Aegyptopithecus zeuxis и четыре вида рода Propliopithecus – и известны только из Файюма в узком хронологическом интервале 29,5–31,5 млн лет назад, но чрезвычайно важны филогенетически. Один клык найден в Анголе.
Сложность разграничения парапитековых и “ранних узконосых” отлично видна на примере оманской находки в местонахождении Таках. Тут был обнаружен обломок нижней челюсти с пятью зубами. Первоначально он был описан как мэрипитек Moeripithecus markgrafi – вид, ранее известный из египетского Файюма (Thomas et al., 1991). Мэрипитек похож на проплиопитека, почему включался в проплиопитековых и даже иногда обозначался как Propliopithecus markgrafi. Зубы из Файюма, описанные как Propliopithecus ankeli, некоторыми палеоприматологами тоже определялись как принадлежавшие Moeripithecus markgrafi. Однако другие исследователи склонны обращать большее внимание на примитивные черты мэрипитека и включать его в парапитековых. В то же время оманская челюсть больше сближается с видом Propliopithecus ankeli, который признается самостоятельным и остается в проплиопитековых. И такая путаница сопровождает исследование почти каждой находки примитивных обезьян с границы эоцена и олигоцена.
Другой пример – алжирипитек Algeripithecus minutus: он описывался как парапитековая или плиопитековая обезьяна, однако с большей вероятностью является адаписовой полуобезьяной (Tabuce et al., 2009).
Из проплиопитековых лучше всего изучен египтопитек Aegyptopithecus zeuxis из олигоцена Египта (29,5–30,2 млн лет назад), от которого сохранились несколько целых черепов и фрагментарные скелеты. На первый взгляд египтопитек напоминал современных макак, благо он практически полностью соответствует им и размерами (2,5–6 кг), и пропорциями. Однако приглядевшись, в строении египтопитека нетрудно заметить массу примитивных черт: задняя стенка глазницы закрыта, да не вполне, барабанная пластинка окружает слуховой канал, но тоже не полностью, – тот и другой признаки развиты примерно как у широконосых обезьян. Совсем подкачал мозг: он у египтопитека вдвое меньше, нежели даже у карликовой мартышки (Radinsky, 1973; Simons et al., 2007). И относительный размер, и пропорции мозга египтопитека вообще оказываются как у мадагаскарских лемуров, хотя участки мозга, отвечающие за зрение, у египтопитека чуть больше, а за обоняние – чуть меньше; впрочем, на фоне современных обезьян эти “чуть” не считаются. Между прочим, это говорит о том, что увеличение мозга у широконосых и узконосых обезьян шло независимыми путями, коли уж общие предки по этому показателю находились на уровне развития полуобезьян. А это, в свою очередь, позволяет надеяться на появление в будущем новых разумных видов.
Судя по маленьким глазницам, египтопитек был дневным, а их разворот вперед говорит о хороших способностях к лазанию по деревьям. О том же свидетельствует строение конечностей: эти животные бегали по ветвям примерно как современные ревуны. В строении конечностей вообще много сходства именно с широконосыми обезьянами: руки и ноги были одинаковой длины, относительно толстые и короткие, неспособные полностью выпрямляться, зато очень цепкие. Далеко прыгать египтопитеки вряд ли умели, но хвост не утеряли, хотя вряд ли он был очень длинным.
Строение зубов свидетельствует, что египтопитеки и проплиопитеки питались почти исключительно фруктами, восполняя недостаток белков листьями. Таким образом, насекомоядное прошлое наконец-то было окончательно изжито.
Обилие черепов позволило оценить половой диморфизм и даже возрастные изменения египтопитеков: самки были существенно – вдвое – меньше и имели меньшие клыки и сагиттальные гребни на черепе. У проплиопитеков разница полов была далеко не такая значительная. С возрастом, как положено, росла морда и увеличивался сагиттальный гребень (Simons, 1987).
Плиопитековые (Pliopithecoidea), вероятно, были потомками проплиопитековых. Эта странная группа процветала от начала до конца миоцена (20–7 млн лет назад) в Китае, Таиланде, Пакистане и Европе, а одна спорная находка сделана в Уганде. Систематика плиопитековых остается предметом бурных дискуссий. С одной стороны, они объединялись с проплиопитековыми, с другой – с гиббонами. В одном из новейших вариантов плиопитековые делятся на дионисопитецид (Dionysopithecidae) и плиопитецид (Pliopithecidae); последние же – на более древнее подсемейство плиопитецин (Pliopithecinae) и более молодое крузелин (Crouzeliinae).
Кстати, о миоцене…
Граница олигоцена и миоцена ознаменовалась существенным потеплением и таянием льдов Антарктиды. Тепло, правда, не вернулось к эоценовому уровню, но все же существенно превосходило современные показатели. Карта мира в целом и Евразии в частности приобрела более-менее современный вид, только юг Европы еще существенно отличался: как бы Средиземное море тянулось аж до середины нынешних Украины и Казахстана, а посреди этих вод возвышались острова, которых не найти на современной карте, в числе коих знаменит Гаргано.
Примерно с середины миоцена опять стало холодать, причем ударными темпами, так что с климатической точки зрения границу между эпохами логично было бы проводить именно тут – порядка 12–14 млн лет назад.
Дионисопитециды (Dionysopithecidae) представлены всего тремя нижне-среднемиоценовыми (12–20 млн лет назад) видами из Таиланда, Китая и, видимо, Пакистана – Dionysopithecus orientalis, D. shuangouensis и Platodontopithecus jianghuaiensis, но известны фрагментарные и плохо изученные находки, которые могут представлять иные роды и виды. Сложность, как обычно, в том, что найдены почти исключительно изолированные зубы. Отдельными чертами эти животные уже настолько напоминали человекообразных обезьян, что некоторые палеонтологи объединяют их с проконсулами, хотя в целом они примитивнее плиопитецид. Дионисопитек числится в сонме вероятных предков гиббонов, благо и размером он был похож – около 15 кг. Вместе с тем пяточная кость платодонтопитека довольно примитивна и похожа на кости плиопитеков и проконсулид, а если выбирать между мартышковыми и человекообразными, то на мартышковых. Фаланги платодонтопитека очень вытянуты, по этому показателю их превосходят только гиббоны (Harrison et Yumin, 1999). Дионисопитециды были вероятнейшими предками плиопитецин, которые, таким образом, имели прародину в Азии.
Не исключено, правда, что плиопитековые возникли не в Азии, а в Африке. За это говорит существование ломорупитека Lomorupithecus harrisoni в Уганде 15–20 млн лет назад и возможного плиопитекового в Кении в местонахождении Форт Тернан, правда, уже в конце миоцена 12,5–14 млн лет назад (его зуб был отнесен к Limnopithecus – роду, раньше причислявшемуся к плиопитековым, но ныне считающемуся проконсулидом, то есть человекообразным). Ломорупитек известен по разбитому черепу, в целом похожему на плиопитековых Европы. Его древность – едва ли не старше дионисопитецид – и географическое расположение говорят, что корни плиопитековых могут быть глубже, чем нам известно.
Плиопитецины (Pliopithecinae) сыграли большую роль в истории палеонтологии, поскольку их останки впервые были найдены и описаны еще в середине XIX века. Благодаря этому они вошли во все учебники антропологии, хотя, строго говоря, наверняка были тупиковой группой приматов, имеющей к человеку лишь косвенное отношение. Они известны из Европы и Китая, где существовали не слишком долго – от 17 до 11,6 млн лет назад. Достоверно известен лишь один род Pliopithecus, в котором выделяются шесть-семь похожих видов. Некоторые роды от схемы к схеме кочуют между плиопитецинами и крузелинами.
Плиопитеки из всех ископаемых приматов в наибольшей степени похожи на гиббонов, причем как строением черепа, так и зубов и конечностей. Неспроста самый примитивный европейский вид Pliopithecus piveteaui был даже описан под названием Hylobates antiquus. Впрочем, это не значит, что плиопитеки больше всего похожи на гиббонов из всех современных приматов; при таком ракурсе сравнения плиопитеки сближаются скорее с широконосыми или мартышкообразными. Плиопитеки были довольно резвыми древолазами, но точно не брахиаторами.
Особенно здорово изучен Pliopithecus vindobonensis (15–15,5 млн лет назад), так как в Словакии были найдены многочисленные его останки, а Г. Запфе описал их в монументальном труде (Zapfe, 1960).
Уголок занудства
Плиопитек имел укороченную и суженную морду, сравнительно грацильную мозговую коробку округлой формы с более-менее вертикальным лбом, умеренно развитые височные линии, либо не сливавшиеся, либо образующие низкий сагиттальный гребень. Глазницы довольно крупные, ориентированные почти вперед, но все же несколько вбок, их край утолщен почти в виде кольца. Наглядное отличие от мартышкообразных – широкое межглазничное пространство. Скуловая область очень низкая. Угол нижней челюсти выступает назад. Особенности строения зубов выдают фруктоядность. Примитивной чертой является неполное срастание барабанной пластинки – для миоцена очень примитивная черта. В сравнении с гиббоном плиопитек имел практически той же длины ноги, но куда как более короткие и толстые руки. Если у гиббона руки заметно длиннее ног, то у плиопитека – наоборот; пропорциями он больше напоминал ревунов или павианов. Кисти и стопы плиопитека были удлинены, а фаланги сужены и изогнуты, хотя и не в такой степени, как у гиббона. Тело, судя по всему, было тонкое и длинное. Строение крестца наводит на мысли о сохранении хвоста.
Крузелины (Crouzeliinae): Plesiopliopithecus, Crouzelia, Barberapithecus, Anapithecus, Egarapithecus и Laccopithecus – более поздняя и продвинутая группа плиопитековых. Они известны почти исключительно из Европы (14,5–9 млн лет назад), только Laccopithecus robustus жил в Южном Китае (6–8 млн лет назад). Крузелия Crouzelia и лаккопитек Laccopithecus – очередные предполагавшиеся предки гиббонов.
Рис. 34. Череп Pliopithecus vindobonensis.
Больше останков сохранилось от анапитека Anapithecus hernyaki, особенно в венгерском местонахождении Рудабанья (9,5 млн лет назад). Это обезьяна весила 15 кг. Замечательно, что при малых различиях в размерах тела самцы и самки существенно отличались размерами клыков. Это говорит о своеобразной социальной структуре анапитеков. В черепе анапитеков вполне объемно повторяется план строения черепа более древнего плиопитека: крупные размеры, округлая мозговая коробка, сравнительно вертикальный лоб, чуть развернутые вбок глазницы с утолщенным краем, широкое межглазничное пространство, короткая морда с низкой скуловой областью. Судя по зубам, анапитеки, как и прочие плиопитековые, были фруктоядными (DeMiguel et al., 2013), хотя раньше предполагалась их листоядность. Есть и специфика: верхнечелюстные пазухи анапитеков уменьшены, хотя и не исчезли, как у мартышкообразных. Кости остального скелета тоже похожи на плиопитечий вариант, хотя фаланги изогнуты сильнее.
Кстати, о бедрах…
Сложность изучения фрагментарных останков нагляднейше видна в истории с бедром из Эппельсгейма (Köhler et al., 2002). В Германии еще в 1820 г. была найдена бедренная кость довольно большого размера. Первоначально она была описана как принадлежащая дриопитеку, хотя получила сразу три названия – Paidopithex rhenanus, Pliohylobates eppelsheimensis и Pliosymphalangus. После было показано, что она заметно отличается от варианта, типичного для человекообразных обезьян, зато весьма напоминает бедренную кость Pliopithecus vindobonensis. Однако европейские плиопитеки весили около 10 кг, а эппельсгеймский примат – 22. По размерам к нему приближается Pliopithecus zhanxiangi, но он найден в Китае. В 1935 г. в том же местонахождении был найден клык самца примата, описанный как Semnopithecus eppelsheimensis, который впоследствии определялся как Pliopithecus, Rhenopithecus или Dryopithecus. В итоге плиопитековая его природа была признана наиболее вероятной, но размеры зуба говорят о том, что его обладатель был вдвое меньше, чем владелец бедра, так что отнесение их к одному виду опять же совершенно необязательно. Далее, в рядом расположенном местонахождении Сальмендинген нашлись зубы, определенные как Anapithecus hernyaki – то есть опять же, плиопитековый примат. А анапитек весил 15 кг – уже ближе к размерам эппельсгеймской обезьяны. Однако в 1990-х гг. в плиопитековой природе этих зубов появились основательные сомнения, и исследователи стали склоняться к дриопитековой версии. Наконец, очередное подробное морфологическое исследование показало, что бедро наверняка не принадлежало дриопитеку, им мог обладать либо неизвестный доселе очень крупный плиопитековый примат, либо вообще совсем своеобразная узконосая обезьяна из “третьей группы” (первые две – плиопитековые и человекообразные).
Плиопитековые являют собой своеобразный аналог широконосых обезьян в Старом Свете, евразийский эксперимент: с наибольшей вероятностью они возникли в Азии, но дали всплеск разнообразия в Европе, где до этого крупных растительноядных приматов не было. Олигоценовые холода выкосили европейских жителей лесов, к середине этой эпохи тут исчезли и адаписовые, и омомисовые. Как и в случае с Южной Америкой, свободные экологические ниши просто-таки томились – когда же их займут новые жильцы, и те не заставили себя ждать. Как только в миоцене новые теплые леса заколосились от Испании до Таиланда, в рекордные сроки кустообразная эволюция заполнила европейские пущи крикливыми пожирателями плодов и листьев. Именно по этой причине быстрого видообразования из малого числа предков так трудно классифицировать плиопитековых – тут параллель с широконосыми тоже совершенно очевидна.
Правда, в это же время из Африки и с Ближнего Востока подтянулись человекообразные и мартышкообразные, составившие плиопитековым мощную конкуренцию. В конце же миоцена и вовсе стало грустно: леса сохли и заменялись саваннами. В Африке это привело к появлению австралопитеков, а в Европе – к глобальному вымиранию лесных приматов. Как-то не вставалось им на две ноги.
Последние крузелины – они же последние плиопитековые и самые специализированные среди прочих – исчезли 9 млн лет назад в Европе (Egarapithecus narcisoi) и 6–8 – в Китае (Laccopithecus robustus).
Минутка фантазии
Давным-давно никто не считает плиопитековых предками человека. Но это не отменяет того, что все задатки для появления разумности у этих обезьян были. Они обладали относительно большим мозгом и маленькими челюстями, не слишком сильным половым диморфизмом, не имели резких специализаций в строении конечностей. В каком-то смысле они находились даже в выигрышных условиях по сравнению с предками австралопитеков Африки, ведь условия Европы были более суровыми, а стало быть – располагающими к прогрессивной эволюции. В северных широтах раньше стали исчезать тропические леса, появляться саванны и степи. Тут бы плиопитекам и слезть с деревьев, заселить просторы и устроить марш на восток, юг и куда еще захочется… Что остановило их эволюцию – не вполне очевидно. С одной стороны, вымирание плиопитековых совпадает с концом миоцена и резким похолоданием, с другой – южнокитайские виды, жившие далеко на юге, потенциально могли развиваться дальше. Надо думать, основную роль сыграла конкуренция с мартышкообразными и человекообразными: “истинные узконосые” оказались быстрее, бодрее и нахальнее. Показательно, что у анапитеков постоянные зубы прорезывались заметно раньше, чем у мартышкообразных сопоставимого размера (Nargolwalla et al., 2005). Предполагалось, что раннее взросление было связано с усиленным прессом со стороны хищников или листоядностью, но новейшие исследования говорят скорее о фруктоядности анапитеков. Возможно, ускоренное развитие было способом конкуренции с “истинными узконосыми”. Как бы то ни было, укороченное детство означает меньшие возможности для обучения и в итоге интеллектуальное отставание от конкурентов.
“Истинные узконосые”
“Истинные узконосые” Eucatarrhini захватили Старый Свет. Они отличаются от прочих обезьян повышенной интеллектуальностью, исключительно дневным образом жизни (кроме сторожей и ночных диспетчеров), почти исключительной растительноядностью (хотя все не прочь при случае поесть мяса, но специализаций к этому никаких нет) и специфическими чертами типа закрытости задней стенки глазницы, отсутствия слуховых капсул и полного прирастания барабанной пластинки.
Среди узконосых выделяют две главные группы: мартышкообразных и человекообразных. Судя по всему, они разделились очень рано и достаточно быстро. Долгое время момент их расхождения был покрыт мраком неизвестности. Существование общего предка мартышкообразных и человекообразных давно предсказывалось палеоприматологами. По всем выкладкам он должен был жить в Африке или на Ближнем Востоке в олигоцене, между 30 и 25 млн лет назад: около древнейшей даты мы знаем проплиопитековых, а около молодой – уже дифференцированых мартышкообразных и человекообразных. Но предок оставался неуловим.
Рис. 35. Череп Saadanius hijazensis.
Наконец, в 2010 году и это звено стало достающим: на западе Саудовской Аравии был найден отличнейший череп (Zalmout et al., 2010). Обезьяна была названа сааданиусом Saadanius hijazensis. Его датировка – 28–29 млн лет назад, то есть идеально вписывается в требуемый интервал. Столь же красиво-промежуточна и его морфология – настолько предковая, что самого сааданиуса невозможно отнести ни к мартышкообразным, ни к человекообразным. Великому Предку – великие почести: специально для него было выделено особое надсемейство сааданиоид (Saadanioidea) с единственным семейством сааданиид (Saadaniidae). Правда, при жизни его величие не было должным образом оценено: на черепе есть следы клыков какого-то хищника. Зато теперь мы можем воздать ему должное. Сааданиус был довольно крупным зверем – 15–20 кг, хотя самки наверняка были меньше. Судя по зубам, он был фруктоядным. К сожалению, пока не найдены кости его рук и ног, так что мы можем лишь догадываться, как он передвигался, но, думается, в этом сааданиус вряд ли сильно отличался от проплиопитековых и макак.
Уголок занудства
Сааданиус обладал своеобразным набором признаков: у него была сильно вытянутая морда, большие клыки, височные линии, сходящиеся в сагиттальный гребень, не было лобных пазух (они отсутствуют у проплиопитековых, плиопитековых и мартышкообразных, зато типичны для большинства человекообразных), но имелись верхнечелюстные синусы (их также нет у мартышкообразных, но они есть у проплиопитековых, плиопитековых и человекообразных), зато барабанная пластинка полностью срасталась с другими частями височной кости и целиком окружала слуховой проход (в отличие от проплиопитековых и “ранних узконосых”, но как у “истинных узконосых”), моляры были большими и широкими. Это самая генерализованная узконосая обезьяна, какую только можно представить.
Древнейшая мартышкообразная обезьяна и древнейшая человекообразная обезьяна, или Oldest monkey, oldest ape
В качестве древнейших мартышкообразных и человекообразных назывались разные животные. Лучшим кандидатом на роль древнейшей мартышки до недавнего времени считался викториапитек Victoriapithecus macinnesi, скакавший 15–20 млн лет назад по территории нынешних Кении и Уганды. Прохилобатес Prohylobates tandyi из Египта и норопитек Noropithecus bulukensis из Кении жили около 17 млн лет назад. Древнейшим же человекообразным признавался камойяпитек Kamoyapithecus hamiltoni, обитавший 23,9–27,8 млн лет назад в Кении, хотя он настолько схож с сааданиусом в своих примитивных чертах, что далеко не все исследователи были готовы признать его человекообразным приматом. Более надежные кандидаты – лимнопитек Limnopithecus legetet (17–22 млн лет назад, Кения и Уганда), угандапитек Ugandapithecus meswae (19–21,5 млн лет назад, Кения) и моротопитек Morotopithecus bishopi (20,6 млн лет назад или древнее, Уганда), хотя и их положение на древе приматов неоднозначно. Рангвапитек Rangwapithecus gordoni (19 млн лет назад, Кения) еще надежнее, но моложе. Имеющийся временной разрыв между сааданиусом и его потомками по эволюционным меркам не столь уж большой, но досадный. Естественно, дотошные палеоприматологи не могли смириться с таким положением дел. Благо недра Африки еще далеко не иссякли на свидетельства прошлого.
В 2013 году американо-австралийско-танзанийская группа исследователей опубликовала описание двух древнейших обезьян (Stevens et al., 2013). Их останки, как водится, не слишком эффектны внешне (от одной сохранился обломок челюсти с одним моляром, от другой – половина нижней челюсти с четырьмя зубами), зато для специалистов несут ценнейшую информацию. Останки были найдены в Юго-Западной Танзании, около города Мбейя, в долине Руква, в местонахождении Нсунгве. Геологический слой, содержавший челюсти, образовался 25,2 млн лет назад.
Левый нижний моляр был описан как нсунгвепитек Nsungwepithecus gunnelli. Его особенности больше всего напоминают характерные для мартышкообразных. Но он древнее самых древних мартышек на 5 млн лет!
Четыре зуба из нижней челюсти были названы руквапитеком Rukwapithecus fleaglei. Детали строения выдают принадлежность их обладателя к примитивнейшим представителям человекообразных обезьян. Похожие существа иногда объединяются в подсемейство ньянзапитецин (Nyanzapithecinae) семейства проконсулид (Proconsulidae). Проконсулиды настолько примитивны, что не все ученые считают их настоящими человекообразными, хотя ясно, что они в любом случае предки “настоящих” человекообразных. И вот теперь мы имеем первейшего из первых или даже “нулевых”.
Что значат 3 млн лет, отделяющие сааданиуса от нсунгвепитека и руквапитека? Много это или мало? Для сравнения – 3 млн лет назад наши предки были австралопитеками и еще не научились делать каменные орудия. Ясно, что за 3 млн лет могли смениться несколько видов, появиться даже несколько линий. Как часто бывает, в этих неведомых пока трех миллионах таятся очередные “недостающие звенья” между достающими “еще не вполне” и “древнейшими уже”. Великая заслуга и удача палеоприматологов – найти и описать истоки основных групп современных обезьян. Конечно, всегда хочется большего. Когда-то величайшим достижением считалось обнаружение любого древнего примата, теперь же того и гляди раздадутся недовольные голоса: “А почему вам нечего сказать об этих трех миллионах лет? Что это вообще за жалкие зубы?” Не будем слушать критиканов! Порадуемся лучше открытию очередных достающих звеньев. Работы в Африке продолжаются, хочется верить, что скоро мы увидим останки такого существа, про которое трудно будет сказать – ближе он к общему предку сааданиусу, мартышкообразному нсунгвепитеку или человекообразному руквапитеку.
Благодаря работе палеоприматологов теперь мы знаем, когда и где разошлись пути мартышек и наш, когда и где были заложены очередные человеческие черты, когда и где был сделан еще один шаг к разуму.
Идеальные обезьяны: мартышкообразные
Итак, линии мартышкообразных и человекообразных разошлись. Их можно отличать по целому ряду признаков. Например, у мартышкообразных есть защечные мешки, седалищные мозоли и хвост, но нет гайморовых пазух в верхней челюсти, у человекообразных гораздо крупнее головной мозг и специализированнее конечности, отличия имеются и в строении зубов. Мартышкообразные в среднем меньше по размеру. Все эти и другие особенности позволяют распознавать ископаемых представителей даже по весьма фрагментарным останкам. К сожалению, они обычно и бывают фрагментарными.
Мартышкообразные (Cercopithecoidea), с одной стороны, многочисленны и внешне очень разнообразны, но с другой – удивительно монолитны филогенетически. Между крайними формами есть почти непрерывные морфологические переходы.
Древнейшие мартышковые появились не менее 25 млн лет назад. Они выделяются в особое семейство викториапитецид Victoriapithecidae: Nsungwepithecus, Victoriapithecus, Noropithecus, Prohylobates, Zaltanpithecus и, возможно, еще парочка родов. Только древнейший Nsungwepithecus жил в олигоцене, остальные – нижне– и среднемиоценовые, дожившие до 12 млн лет назад. Это исключительно африканские животные, их останки найдены в Танзании, Кении, Уганде, Египте и Ливии, так что возникновение мартышкообразных на Черном континенте практически неоспоримо.
Уголок занудства
От викториапитеков Victoriapithecus macinnesi сохранились целый череп, многие сотни зубов и остатки скелетов, так что их строение прекрасно изучено. Очевидно, эта обезьяна была обычнейшим видом. План строения черепа викториапитека откровенно мартышковый: выступающая морда, развернутые вперед глазницы, довольно сильное надбровье, узкое межглазничное пространство, длинные и узкие носовые кости, отсутствие лобных и верхнечелюстных синусов. Викториапитеки весили 3–4 кг, крупные самцы могли достигать аж 7–10,5 кг. Конечности были приспособлены к быстрому четвероногому бегу как по ветвям, так и по земле. Показательно, что фаланги викториапитека были короче, чем у мелких древесных мартышек, и даже короче, чем у полуназемных мандрилов, но такие же, как у наземных павианов и мартышек-гусаров. Викториапитек, судя по строению седалищной кости, имел седалищные мозоли и подвижный хвост (McCrossin et Benefit, 1992). Иначе говоря, седалищные мозоли были уже у первых мартышкообразных, еще до их разделения на современные группы.
В целом викториапитек удивительно похож на самых обычных современных мартышкообразных типа мартышек или макак. Получается, этот план строения тела оказался настолько удачным, что не возникало никакой нужды его менять больше десяти следующих миллионов лет. Это универсальное строение, идеально приспособленное сразу к разным типам местообитаний. Небольшими модификациями из него можно получить массу других вариантов – приспособлений к каким-то конкретным условиям.
Изобилие молочных зубов викториапитеков на острове Мабоко в Кении позволяет изучить не только особенности взросления этих обезьян, но и социальную структуру (Benefit, 1994). Клыки самцов встречаются намного чаще, чем клыки самок. Такое распределение говорит об организации общества наподобие макак: молодые самцы покидают группу, в которой родились, по полной программе испытывают невзгоды и опасности одинокой жизни и гораздо чаще гибнут. В группах же оказывается много взрослых самок и совсем мало самцов. Опять же это – удивительно стабильный в течение миллионов лет вариант.
Рис. 36. Череп Victoriapithecus.
Показательно, что едва ли не самая примитивная часть викториапитека – мозги (Gonzales et al., 2015). Особенно впечатляют размеры его обонятельных луковиц, контрастирующие с маленьким общим объемом: по этим показателям викториапитек больше похож на лемуров, египтопитеков и парапитеков. Объем мозга был 35,6 см³ – вдвое больше, чем у самок, и чуть больше, нежели у самых крупных самцов египтопитеков (по старым оценкам – 54 см³ – выходило, что викториапитек почти догонял мартышек среднего размера). На примере викториапитека можно воочию убедиться, что, при всей важности мозга для приматов, он на самом деле зачастую эволюционировал по остаточному принципу – после конечностей и зубов. Сколь часто звучит, что повышенный интеллект для приматов – самое святое! Сколь часто палеонтологическая реальность опровергает пафосную теорию…
Мартышковые (Cercopithecidae) подразделяются на собственно мартышковых Cercopithecinae (мартышки, макаки, мангабеи, мандрилы, павианы и гелады) и тонкотелых обезьян Colobinae (как это ни странно, их синоним – толстотелые; колобусы, носачи и лангуры). Они известны как минимум с позднего миоцена, примерно с 10 млн лет назад, причем уже во множестве видов; менее достоверные останки известны и из среднемиоценовых отложений, когда мартышковые, видимо, и появились. Все древнейшие находки: Colobus, Libypithecus, Microcolobus – сделаны в Африке.
Тонкотелые начали захватывать мир раньше: в верхнем миоцене представители рода мезопитеков Mesopithecus заселили Южную Европу, дошли до Ирана, Афганистана и Индии, мьянмарколобусы Myanmarcolobus yawensis уже жили в Бирме, а лангуры Presbytis – в Индии. В начале плиоцена в европейских лесах – от Франции до Болгарии, Молдавии и Украины – жевали листья родственные долихопитеки Dolichopithecus. В середине плиоцена тонкотелые освоили Азию, причем к этому моменту они оккупировали не только весь нынешний ареал, но распространились и гораздо севернее – мезопитеки до Германии, а парапресбитисы Parapresbytis eohanuman аж до Северной Монголии и Забайкалья. В конце плиоцена долихопитеки Dolichopithecus (Kanagawapithecus) leptopostorbitalis добрались до Японии, в Бирме и Индии появляется современный род хануманов Semnopithecus, а в Китае – носатые обезьяны Rhinopithecus. Своя эволюция продолжалась и в Африке: на протяжении плиоцена и плейстоцена тут обитали Cercopithecoides, Kuseracolobus, Rhinocolobus, Paracolobus и Colobus.
Собственно мартышковые вышли из Африки позднее тонкотелых: в начале плиоцена они прибыли в Европу, а в конце плиоцена жили уже по всей Европе и Азии. Без сомнения, всех превзошли макаки Macaca, которые появились еще в верхнем миоцене Северной Африки и огромное количество видов коих с начала плиоцена разбрелось от Испании, Франции и Германии до Китая, Японии и Индонезии. В их числе по всему югу Европы – в Италии, Испании, Германии, Франции, Венгрии – был распространен бесхвостый макак Macaca sylvanus, ныне обитающий на севере Африки и на Гибралтарской скале. В Европе жили и другие, ныне вымершие виды макак. В прошлом они населяли также Кавказ и даже Монголию (Macaca anderssoni). В нижнем плейстоцене в Китае некоторые виды достигли приличных размеров, неспроста один из них назван мегамакакой Megamacaca lantianensis. В конце плиоцена особенно удачным оказался близкий к макакам род парадолихопитеков Paradolichopithecus: его представители известны от Франции, Румынии и Греции (P. arvernensis) до Таджикистана (P. suschkini) и Китая (P. gansuensis). Тогда же по Индии и Китаю бегали проциноцефалы Procynocephalus. Удивительным образом, ни макаки, ни парадолихопитеки не проникли в тропические части Африки. Судя по всему, Сахара была лучшим барьером, чем даже морские проливы.
В Африке жизнь кипела своим чередом, плиоценовые саванны просто кишели павианами Parapapio, Pliopapio, Gorgopithecus, Dinopithecus, Procercocebus и первыми представителями уже современных родов павианов Papio и мангабеев Cercocebus. Целый ряд видов ископаемых гелад теропитеков Theropithecus на протяжении плиоцена и плейстоцена заселял всю Африку, в конце плиоцена попал в Индию, а в плейстоцене каким-то образом просочился в Испанию (что имеет прямое отношение к появлению тут человека – ведь в теории сюда можно попасть через Гибралтар или же добраться вдоль бережка в обход Средиземного моря). Многие древние павианы были гораздо крупнее современных. Так, гелада Theropithecus oswaldi могла достигать веса в 100 кг, тогда как даже большой самец крупного мандрила весит всего 35 кг. Такие павианы, как Dinopithecus и Gorgopithecus, вполне достойны названия саблезубых обезьян, ибо размеры их клыков были не меньше, чем у пресловутых саблезубых тигров.
Минутка фантазии
Интересно, что в эволюции павианов прослеживается универсальная тенденция к увеличению головного мозга. Хотя темпы такого роста не слишком высоки, он вполне достоверен и происходил тогда же, когда в Африке жили австралопитеки, причем у последних мозг увеличивался едва ли не меньшими темпами. Таким образом, павианы вполне могли бы обогнать двуногих конкурентов и развиться в собственное парачеловечество, если бы… Вероятно, причиной остановки прогресса послужила чрезмерная “бюрократизация” в обществе павианов, их повышенная агрессивность, жесткая иерархичность и приверженность строгому распорядку и субординации.
В конце плиоцена в Африке появляются современные мартышки Cercopithecus, а в середине плейстоцена современные виды зеленых мартышек Chlorocebus aethiops и мартышек-гусаров Erythrocebus patas.
Плейстоценовые оледенения выморозили обезьян в Европе и значительной части Азии, а опустынивание Средней Азии и Ирана истребило местных приматов; африканская и азиатская части ранее единого ареала оказались разделены. В итоге сейчас мартышковые обитают только в Африке, Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии. От европейских обезьян ничего не осталось, популяция макак на Гибралтарской скале на самом юге Пиренейского полуострова, скорее всего, не реликтовая, а заселена сюда в исторические времена людьми. В Западной Азии чудом сохранились лишь павианы-гамадрилы на юго-западе Аравийского полуострова; предполагалось, что они могли быть завезены человеком сравнительно недавно, но анализ мтДНК показал, что заселение свершилось более 12 тыс. лет назад, а стало быть, скорее всего, без помощи людей (Kopp et al., 2014).
Несмотря на плейстоценовые потери, мартышковые являются одной из самых экологически пластичных и эволюционно преуспевающих групп приматов.
Мелкие виды мартышковых – мартышки и мангабеи – обычно сугубо древесные формы, средние – макаки – одинаково ловко бегают и по земле, и по ветвям, а крупные – мандрилы, павианы и гелады – наземные. Мартышковые заняли весьма широкий спектр экологических ниш, но все являются дневными, стадными и растительноядными.
Африканские мартышки: обыкновенные Cercopithecus, черно-зеленые Allenopithecus, зеленые Chlorocebus, гусары Erythrocebus и карликовые Miopithecus – возникли совсем недавно – около 2,5 млн лет назад и позже, фактически они современники нашего рода Homo. Однако, в отличие от гоминид, число видов которых скорее уменьшалось со временем, пока не свелось к одному, мартышки бурно наращивали свое разнообразие. Конкретные виды отличаются зачастую экологическими тонкостями: например, мартышка диана Cercopithecus diana держится только в первичном лесу и очень не любит заходить во вторичный, похожая мартышка салонго Cercopithecus dryas процветает во вторичном и даже предпочитает его первичному, тогда как большая белоносая мартышка Cercopithecus nictitans любит держаться в переходной зоне от дождевого леса к саванне. Зеленые мартышки, или верветки, Chlorocebus ведут уже полудревесный-полуназемный образ жизни в довольно засушливых районах Африки. Мартышки гусары Erythrocebus patas приспособились к жизни в открытой саванне, где они бегают подобно мелким антилопам. Большинство мартышек питаются фруктами и в меньшей степени листьями, но голубая мартышка Cercopithecus mitis в большом количестве ест также медленных беспозвоночных.
Ареалы многих видов совпадают почти полностью, ведь зона лесов в Африке ограничена, так что среди мартышек хорошо поработал половой отбор. Большинство видов отличаются почти исключительно формой и цветом пятен и пучков волос на лице, это ясно даже по названиям: желтоносая, совинолицая, голуболицая, белощекая, чернощекая белоносая, коронованная, чубатая, усатая, бородатая, белогубая, красноухая мартышка с пятном на носу, большая белоносая мартышка, малая мартышка с белым пятном на носу. Те же и другие соревнуются в окраске живота или хвоста: белогорлая, краснобрюхая, золотобрюхая, золотая, краснохвостая, рыжехвостая. Калейдоскоп настолько пестр, популяционная и индивидуальная изменчивость столь велики, а переходы такие постепенные, что среди систематиков никогда не утихнут споры даже о числе родов и видов, не говоря уж о подвидах.
Макаки Macaca – самые холодоустойчивые обезьяны (кроме человека); особенно выделяются в этом отношении тибетские M. thibetana и японскиея макаки M. fuscata, каждую зиму сталкивающиеся с морозом и снегом. Эксперименты показывают, что макаки вполне могут жить на круглогодичном вольном выпасе в климате современной Германии. В военном Харькове три сбежавших из разбомбленного зоопарка макаки прожили без малого два года – перезимовали две зимы, – партизаня в здании Госпрома в самом центре города.
Достаточно крупные размеры и всеядность делают макак универсальными обезьянами и позволяют им выживать в самых разных местах – от скалистых утесов до густых лесов, от морских побережий до поселений людей в качестве воришек-нахлебников-мусорщиков. Жизнь шумными компаниями, подвижность и сообразительность – отличная защита от большинства хищников.
Самые банальные макаки – азиатские резусы M. mulatta и крабоеды M. fascicularis, а также североафриканские маготы M. sylvanus.
Резко выделяются устрашающей внешностью некоторые представители группы целебесских макак, или черные павианы, – M. hecki, M. maura, M. nigra, M. nigrescens. У этих угольно-черных обезьян поистине демонический облик: странная вытянутая морда, хохол на макушке и огромные зубы.
Другие виды имеют свой неповторимый облик: индийский львинохвостый макак M. silenus обладает шикарной белой гривой и пушистой кисточкой на длинном хвосте, тогда как у близкородственного свинохвостого M. nemestrina и грива гораздо скромнее, и хвостик крючком.
Африканские мангабеи: обыкновенные Cercocebus, бородатые Lophocebus и горные Rungwecebus – филогенетически наиболее близки павианам, но ведут древесный образ жизни; фактически они занимают ту же экологическую нишу, что макаки в Азии, тут мы видим пример своего рода микроконвергенции на уровне подтриб в пределах близкородственной в целом группы. У мангабеев хвост очень длинный и имеет очень слабую хватательную способность – уникальный случай среди узконосых приматов, хотя, конечно, они бесконечно далеки от возможностей цепкохвостых широконосых. Внешность некоторых видов примечательна панковскими хохлами-ирокезами и залихватскими гусарскими усами или бакенбардами, а то и бровями а-ля Мефистофель. Танзанийский Rungwecebus kipunji уникален тем, что умудрился быть неописанным до 2005 года, проживая в более-менее исследованной зоологами местности.
Рис. 37. Павианы: гвинейский P. papio (а), анубис P. anubis (б), гамадрил P. hamadryas (в), бабуин P. cynocephalus (г), чакма P. ursinus (д).
Мандрилы – Mandrillus и павианы Papio – крупные животные с клыками как у леопарда, очень сильные и агрессивные. Среди них особенно цветасты западноафриканские мандрилы с их ярко раскрашенной мордой и задом. Рекордные самцы мандрила Mandrillus sphinx могут достигать метра в длину и 50 кг веса! Это предел для современных мартышковых обезьян. Впрочем, обычно они в полтора раза меньше, а самки и вовсе весят в среднем 15 кг. Другой рекорд мандрилов – способность собираться в огромные стада, самое внушительное из которых состояло из примерно 1300 особей! Очевидно, что набеги таких орд на плантации местных жителей заканчиваются праздником для мандрилов и катастрофой для поселян.
Кстати, о леопардах и уроках…
В некоторых африканских странах возникает хитрая связь между браконьерством и успеваемостью школьников: когда охотники истребляют хищников, прежде всего леопардов, то плодятся мандрилы и павианы, они разоряют поля, на охрану и защиту коих посылаются дети, которые прогуливают уроки и в итоге плохо учатся. Мораль – берегите природу!
И мандрилы, и павианы питаются большей частью растительной пищей, но регулярно ловят мелких животных типа дукеров или детенышей антилоп. Показательно, что это никоим очевидным образом не отражается на их зубочелюстном аппарате; разрывают же они добычу руками, хотя бы и не голыми, а мохнатыми.
Мандрилы ведут более-менее древесный образ жизни, тогда как павианы уже почти полностью наземны и забираются на деревья только на ночевку или спасаясь от хищников.
Наземные павианы представляют вариант жестко построенного иерархического общества, где каждая особь кому-либо подчинена и кого-либо подчиняет. Иерархия основана на физической силе и жизненном опыте. Все дозволено лишь самым маленьким детенышам и вожакам стада. При переселениях стадо павианов представляет собой образец построения группы на марше. В центре стада движутся самки с детенышами, возглавляет шествие вожак, а по сторонам охраняют самцы. Жесткая иерархическая система держится на альфа-самцах. Интересно, что почти все нововведения и инициативы рождаются в “низах общества” – среди павианов самого низшего ранга, чаще среди самок, которые не так заняты поддержанием своего социального статуса, но которым достаточно плохо живется, чтобы хотелось стремиться к лучшему. Тот же эффект ярко был продемонстрирован в наблюдениях над группой японских макак, которых исследователи подкармливали бататами. Когда одна самка низшего ранга случайно уронила батат в воду, она обнаружила, что чистым его гораздо приятнее есть – песок на зубах не скрипит. Она стала регулярно мыть клубни, от нее научился ее детеныш, а после нововведение распространилось “от низов к верхам”. Последними научились мыть клубни альфа-особи; им и так хорошо, их позиция – лучше, когда ничего не меняется, пусть все навеки застынет в стабильности.
Раньше павианов часто предлагали в качестве модели первобытного человеческого стада. Однако закрепленность и регламентированность взаимоотношений среди членов такого общества не дает возможности развития, закрепления новаций и распространения их по всем социальным слоям. Поэтому маловероятно, что отношения среди древнейших людей были похожи на отношения среди павианов.
Кстати, о светофорах и доброте…
Иерархия бывает разной – совсем жесткой или же с умом, зависимой от ситуации. Бродячие собаки имеют вожака, но замечено, что при переходе через улицу руководство переходит к другой псине – особо интеллектуальной, умеющей наиболее адекватно отслеживать светофоры и поведение людей. У людей эта способность переключать доминирование в определенных ситуациях развита еще лучше. Классическая иллюстрация – фраза водителя Копытина в сцене погони в фильме “Место встречи изменить нельзя”: “В кабинете у себя командуй, Глеб Егорыч. А тут я…” Люди делают это легко и непринужденно и обычно даже не замечают этого. Например, во время лекции доминант – лектор, в его аудитории могут сидеть самые разные люди – врачи, милиционеры, слесари или чиновники, но все они молча слушают и послушно записывают сказанное. На дороге доминант – инспектор ГАИ, тут он получает власть над врачами, лекторами и слесарями, иногда (а по-хорошему всегда) даже над чиновниками. В школе доминант – учитель, в больнице – врач. Когда там протекает труба, безоговорочным доминантом становится сантехник, временно он получает власть отменить урок или перенести операцию. Более того, когда такое переключение нарушается, общество перестает нормально функционировать. Если в больнице или школе доминантом становится чиновник, охранник или уборщица, то начинается бардак. Сосредоточение власти в одних руках позволяет решать определенные задачи в некоторых ситуациях, но не должно быть излишним. Благодаря разделению ролей и смене доминирования человечество совершило все свои великие достижения.
Удивительные изменения социальной структуры произошли в одной из групп павианов, живущей в густо населенной людьми местности. Обезьяны не могут удержаться и грабят плантации; владельцам полей это не нравится, и они берутся за оружие. Конечно, первыми под раздачу попадают самые агрессивные и самые наглые самцы павианов. И вот в результате систематического уничтожения наиболее злобных доминантов резко изменилось соотношение полов – самок оказалось намного больше, чем самцов, обезьяны стали несравненно добрее, уровень агрессии заметно снизился. В этой группе появилось даже такое невиданное среди павианов явление, как груминг – чистка шерсти – самцов самцами. Так вот он – путь к всеобщему счастью, доброте и взаимопониманию!
Особый интерес представляет систематика павианов – проклятье любителей однозначных схем. В зависимости от подхода можно выделить от одного до пяти или даже семи современных видов. Дело в том, что крайние географически разнесенные друг от друга варианты достаточно отчетливо отличаются на глаз. Но в промежутках есть смешанные популяции, в которых идет гибридизация, так что границы между видами оказываются весьма туманными. Получаются цепочки не то видов, не то подвидов, ломающие школьные представления о систематике.
Рис. 38. Черепа проконсула (а) и афропитека (б); реконструкция проконсула.
Уголок занудства
Картина расселения и гибридизации павианов всегда привлекала исследователей (например: Newman et al., 2004).
Гвинейские павианы P. papio живут на крайнем западе Западной Африки. Их ареал без малейшего перерыва продолжается в ареал анубиса. Они самые мелкие – вдвое меньше южноафриканских чакм. Гвинейские павианы имеют красновато-бурый цвет и маленькую гриву.
Павиан анубис, или оливковый, P. anubis расселен широкой полосой по Сахелю от южных рубежей Сахары до тропических лесов Центральной Африки и от Западной Африки до Восточной, где его ареал соприкасается с ареалами гамадрила (с которым анубис гибридизуется в Эфиопии) и желтым павианом. Анубис имеет массивное сложение, серовато-буровато-зеленоватый цвет и густую, но короткую гриву.
Гамадрил, плащеносный или священный павиан, P. hamadryas населяет Аравию и Африканский Рог, похож на P. anubis, с коим регулярно скрещивается, и P. papio. Этот вид отличается также мощной конституцией, серым цветом и богатой гривой.
Желтый павиан, или бабуин, P. cynocephalus освоил Африку южнее и восточнее от зоны лесов, на севере соприкасаясь с ареалом анубиса, а на юге – чакмы. Хотя его зона распространения не пересекается с ареалом гвинейского павиана, они прекрасно скрещиваются между собой в зоопарке. Бабуины желтовато-бурые, с вытянутым телом, длинными ногами и хвостом, хотя не столь удлинены и крупны, как чакмы; у бабуинов есть бакенбарды, но нет гривы. Из желтых павианов предлагается выделить в качестве самостоятельного вида бабуина Кинда P. kindae, отличающегося вдвое меньшими размерами и укороченной мордой.
Медвежий павиан, или чакма, P. ursinus занял Южную Африку. Северные группы, пограничные с бабуинами, предлагается выделить в отдельный вид сероногого павиана P. griseipes. Чакма – самый крупный вид, с очень вытянутыми пропорциями, серого или темно-бурого окраса, совсем без бакенбард и гривы.
Гелады Theropithecus gelada – эфиопские павианы – внешне очень похожи на обыкновенных павианов, но в реальности отстоят от них больше, чем мангабеи, и выделяются в отдельную подтрибу. Современные гелады населяют исключительно горы Эфиопии, где бывает довольно холодно, почему имеют густую шерсть в виде огромной гривы, переходящей в богатую мантию на плечах и спине. Постоянное карабканье по крутым скалистым горам развило в геладах невероятную цепкость, а по деревьям они никогда не лазают за неимением деревьев. Кстати, образ их жизни навел некоторых исследователей первой половины XX века – например, А. П. Быстрова – на мысль о происхождении прямохождения в горной местности.
Очень много времени гелады проводят сидя на заду, подняв тело вертикально. Это приводит к неожиданной проблеме: ведь у павианов самки демонстрируют готовность к размножению набухающей половой кожей, расположенной вокруг половых органов. А у сидящих самок гелад ее просто не видно. Задача решилась развитием голого участка ярко-красной кожи в виде ошейника, переходящего в треугольник на груди. У самок она набухает кровью и сильно увеличивается во время готовности к размножению, так что у сидящей обезьяны ее видно издалека. У самцов такое же красное пятно имеет также сигнальную функцию, но подтекст меняется – им они сигнализируют о своей доминантности, ведь группы гелад представляют собой гаремы. Впрочем, отдельные гаремы могут собираться в стада вплоть до 670 особей.
По экологической необходимости гелады – почти исключительно травоядные существа, в зависимости от сезона собирающие вершки или корешки, но предпочитающие семена. По этой причине у них отлично развиты противопоставление большого пальца кисти и точечный захват; только человек превосходит их в этом искусстве.
Нельзя не заметить, что в плиоцене и плейстоцене гораздо более многочисленные и широко распространенные гелады были основными конкурентами австралопитеков и первых людей, причем обезьяны имели, казалось бы, очевидное преимущество в размерах и силе. Однако на большей части Африки гелады в итоге вымерли, сохранившись лишь в самых труднодоступных и малонаселенных районах. Очевидно, гоминиды одержали сокрушительную победу в напряженной войне, длившейся пару миллионов лет. Что стало залогом успеха наших предков? Хотелось бы верить, что способность быстро соображать и приспосабливаться к новым условиям, использовать больший спектр ресурсов и воспитывать детей. Но не исключено, победила слабость австралопитеков, тогда как мощь гелад сработала против них, но на наших предков: от 3,3 до 2 млн лет разнообразие и размеры гелад росли, они успешно вытесняли австралопитеков из экологической ниши бродячих собирателей семян, двуногим бедолагам было некуда податься от клыкастых и гривастых супротивников. С горя и безысходности они подались в падальщики и мелкие хищники – уж лучше соревноваться с десятикилограммовым шакалом, чем со стокилограммовой обезьяной. Но поев мяса и закалившись в боях с гиенами и львами, гоминиды набрались ума-разума, взяли в руки копья и вернулись к былым обидчикам уже не как бедные родственники, а с гастрономическим интересом. Тут-то и кончились светлые деньки гелад, да и сами гелады…
Тонкотелые отличаются от мартышковых в узком смысле исключительной древесностью, что привело к грацилизации тела и изменению формы кисти и стопы, а также узкой специализацией к питанию только листьями, что отразилось как на строении зубов (моляры с очень высокими бугорками), ротовой полости (защечные мешки развиты слабо или даже отсутствуют), так и пищеварительного тракта (желудок состоит из трех или даже четырех отделов, в одном из коих живут симбиотические бактерии, а в нижнем выделяется соляная кислота; кроме того, бактерии сидят в увеличенной слепой кишке и специальном отрезке толстой кишки – проксимальной ободочной). Малопитательность листьев и трудности их усвоения приводят к тому, что до трети веса обезьяны может приходиться на недопереваренные листья в ее желудке. Впрочем, как любые приматы, при случае большинство тонкотелых едят и фрукты, и насекомых, и других мелких животных.
Тонкотелые делятся на африканских колобусов и азиатских лангуров. Приятно, что морфологическая логика идеально совпадает с географической.
Африканские колобусы (они же гверецы или толстотелы) менее разнообразны, чем мартышки или азиатские тонкотелые, но не менее красивы. Они делятся на черно-белых Colobus (Colobus), черно-красных C. (Piliocolobus) и зеленых, или оливковых, C. (Procolobus); иногда всем им придается ранг самостоятельных родов. Особенно эффектны черно-белые гверецы, имеющие при общем черном фоне длинную белую шерсть в виде мантии на плечах и огромной кисти на хвосте; виды отличаются пропорциями черного и белого; впрочем, черная гвереца сатана C. satanas абсолютно угольная. Детеныши чисто белые. К сожалению, красота требует жертв: на гверец усиленно охотятся из-за шкур, идущих на статусные наряды и украшения. Древесность гверец почти абсолютная, поэтому их пальцы руки работают как единый крючок, а большой палец редуцируется до маленького бугорка.
Некоторые колобусы чрезвычайно специализированы к питанию листьями даже на фоне других тонкотелых; например, занзибарские красные колобусы Кирка Colobus (Piliocolobus) pennantii kirkii (или Piliocolobus kirkii) вообще неспособны усваивать сахар из спелых фруктов, зато имеют четырехкамерный желудок. Они любят есть уголь, видимо для нейтрализации токсинов, содержащихся в листьях.
Уголок занудства
Многокамерный желудок тонкотелых имеет в предельном варианте четыре камеры (Chivers, 1994; Kay et Davies, 1994).
Первая – saccus gastricus – главная часть желудка, в которую впадает пищевод. Ее слизистая содержит желудочные железы, выделяющие слизь с ферментами, и лимфатические узлы.
Вторая – pre-saccus gastricus – преджелудок, расположен сбоку параллельно главной части и частично сегментирован. Это дополнительный ферментативный отдел с различными типами слизистой. Он имеется у представителей Procolobus, Piliocolobus, Rhinopithecus, Pygathrix и Nasalis, но отсутствует у Colobus, Semnopithecus, Trachypithecus и Presbytis.
Третья – tubus gastricus – трубка наподобие толстой кишки, подразделенная на вздутые сегменты-гаустры, содержащие симбиотических бактерий. В ее нижней части железы продуцируют соляную кислоту и разные ферменты.
Четвертая – pars pylorica – пилорическая или привратниковая часть; ее железы выделяют только слизь.
Азиатские тонкотелые невероятно разнообразны. Юго-Восточная Азия и Индонезия – чрезвычайно географически расчлененная территория, на материке много гор с долинами, а острова – вообще лучшая эволюционная лаборатория. Варианты тонкотелых возникали, судя по всему, очень быстро, в течение последних нескольких миллионов лет, а на островах наверняка – последних тысячелетий. Далеко не все формы четко отличимы друг от друга. Поэтому до сих пор среди приматологов нет согласия относительно числа не только видов, но и родов тонкотелых.
Самые “усредненные” азиатские тонкотелые – лангуры хануман Semnopithecus, живущие на Индостане и Шри-Ланке. Лангуры удивительно экологически пластичны: они способны жить в засушливых открытых пространствах и тропических лесах, на побережье и в Гималаях на высоте в 4000 метров над уровнем моря. Это самые обычные животные в Индии, благо лангуры священны и их никто не трогает. Зная свою безнаказанность, эти стройные серые обезьяны наглеют до крайности – не один турист пострадал от их бесцеремонности. Именно лангуры, скорее всего самый обычный их вид S. entellus, послужили прототипом бандерлогов Р. Киплинга.
Намного более красочны зондские лангуры Presbytis: разных цветов, с ирокезами и бакенбардами, эти бойкие обезьяны очень оживляют тропические леса островов Индонезии. Каштановый лангур Presbytis rubicunda с Калимантана имеет приятный красноватый цвет, тогда как лангуры Хосе P. hosei и Томаса P. thomasi – серые, со стоячей на макушке шерстью, точно как у чертей с шишом на средневековых русских иконах (какое раздолье тут открывается для графоманских измышлений на тему индийско-русских связей в незапамятные времена!). Родственные хохлатые лангуры Trachypithecus тоже имеют высокий острый хохол на голове, отчего несколько напоминают хохлатых мангабеев, тем более что и телосложение у них в целом схоже. Видов и подвидов этих обезьян величайшее множество, их систематику впору выделять в особый олимпийский вид спорта. Особенно красив золотоголовый лангур T. poliocephalus. Очковые T. obscurus и серебристые лангуры T. cristatus сами серенькие, зато детеныши у них ярко-желтые.
Особняком стоит немейский тонкотел Pygathrix nemaeus из Индокитая. Это едва ли не самая разноцветная обезьяна из всех: белый, оранжевый, желтый, черный с бурыми подпалинами, серый цвета составляют неповторимый наряд этого примата, причем три подвида еще отличаются друг от друга.
Ринопитеки Rhinopithecus в отечественной литературе часто называются “носатыми обезьянами”, но это неверный – ошибочно укороченный – перевод с английского. В действительности они snub-nosed – коротконосые, так как у них действительно нос укорочен до полного отсутствия, снаружи видны только ноздри. Рокселланов золотой ринопитек Rh. roxellana из Тибета имеет незабываемый золотой цвет густой шерсти и голубую мордочку.
Прямая противоположность ринопитекам – калимантанские обезьяны носачи Nasalis larvatus. Они запоминаются с первого взгляда: у самцов огромный, свисающий вниз нос, придающий им вид пожилого серьезного клоуна на пенсии; у самок он остренький и курносый, делающий их легкомысленными кикиморками. Любопытно, что близкородственный одноцветный носач N. concolor с Ментавайских островов имеет вполне стандартный нос (зато он уникален среди тонкотелых очень коротким хвостом – всего около 15 см). Носачи, кроме своего носа, замечательны размерами: при среднем весе самцов 20,4 кг они являются самыми тяжелыми сугубо древесными приматами, кроме орангутанов.
Заря в преддверии заката: первые человекообразные
Наш путь через дебри эволюции приматов подошел к последнему кустистому ответвлению, от коего доныне сохранилась лишь одна зеленеющая ветка и две откровенно засыхающие. Прочитав про зелень, кое-кто наверняка подумал о себе любимом, но увы – вряд ли среди читателей сей книги есть гиббоны, а в виду имелись именно они. Засыхающие же сучья – это орангутаны и африканские гоминоиды: гориллы, шимпанзе и люди. В прошлом гоминоиды цвели куда как пышнее.
Человекообразные Hominoidea (они же Anthropoidea или Anthropomorpha) отличаются от мартышкообразных в среднем более крупными размерами, большим мозгом, отсутствием защечных мешков и наружного хвоста, а также деталями строения зубов.
Гоминоиды появились в позднем олигоцене и пережили свой расцвет в миоцене. Известно огромное множество ископаемых видов, из которых подавляющее большинство являются тупиковыми формами. Разобраться в них не так-то легко, ведь самый ходовой элемент тут – отдельные зубы или даже их обломки, а у родственных видов они могут быть весьма схожи. Тем не менее ясно, что самыми древними и архаичными являются проконсулиды Proconsulidae и дендропитециды Dendropithecidae. Тех и других из-за их примитивности иногда возводят до ранга собственных надсемейств Proconsuloidea и Dendropithecoidea – шаг, оправданный скорее филогенетически, чем морфологически. Проконсулиды и дендропитециды – почти полностью африканские приматы (единственное исключение – одна находка в Саудовской Аравии), так что возникновение человекообразных в Африке практически несомненно.
Центры происхождения и происхождение мыслей о центрах происхождения мысли
Долгие десятилетия в антропологической литературе бурно обсуждался вопрос о центрах происхождения человекообразных обезьян и человека, причем эти две проблемы обычно никак не разделялись. Вплоть до конца XX века в учебниках обязательным был раздел о “географической прародине человека”.
С XIX века рассматривалась вероятность появления человекообразных обезьян и человека в Южной Европе, так как именно тут впервые были найдены останки дриопитеков. Эти воззрения в нетронутом виде дожили до современности в заповедных отечественных школьных учебниках, как испорченный граммофон, воспроизводящий заевшую пластинку времен зари науки.
В первой половине XX века многие антропологи считали прямыми предками человека рамапитеков и сивапитеков, многочисленные останки коих сохранились в миоценовых отложениях Пакистана и Индии. Основным аргументом было строение их зубной системы, в частности сравнительно небольшие клыки. К тому же до первой трети XX века находки ископаемых человекообразных обезьян из Африки не были известны, да и долго после эти находки были слишком фрагментарными и немногочисленными. Из Азии же происходили и черепа питекантропов и синантропов – древнейших прямоходящих, известных до открытия австралопитеков (которые к тому же долгое время после первоописания рассматривались многими антропологами как тупиковая ветвь эволюции). В итоге так называемая “гипотеза азиатской прародины” считалась одной из ведущих до 1960-х годов. В настоящее время, с открытием практически непрерывной линии эволюции гоминид в Африке и неоткрытием такой линии в Азии, “азиатская концепция” вспоминается только как элемент истории антропологии.
Позже находок в Азии были сделаны богатейшие сборы в Африке. Сейчас описана целая плеяда видов высших африканских приматов, живших с конца олигоцена до современности. Их морфология преемственна от более древних африканских “ранних узконосых” к австралопитекам и современным человекообразным обезьянам. Посему из трех возможных центров происхождения исходного предка человека Африка, бесспорно, побеждает.
Проконсулиды Proconsulidae включают самых древних из известных человекообразных. Внутреннее подразделение проконсулид остается предметом бурных споров, но кажется удобным разделить их на подсемейства проконсулин Proconsulinae, ньянзапитецин Nyanzapithecinae и афропитецин Afropithecinae. Самый примитивный из всех – камойяпитек Kamoyapithecus hamiltoni, живший в конце олигоцена, в интервале от 27,5±0,3 до 24,2±0,3 млн лет назад в Кении. Многими своими чертами камойяпитек схож с сааданиусом, так что его можно считать еще одним достающим звеном – между примитивнейшими узконосыми и человекообразными. Однако удобно включать его уже в проконсулин.
Прочие проконсулины Proconsulinae: Proconsul, Kalepithecus, Limnopithecus, Nacholapithecus – бегали по восточноафриканским лесам 20–15 млн лет назад. Они известны по огромному количеству остатков, в том числе почти целым черепам и скелетам. Больше всех разрекламированы собственно проконсулы, в частности Proconsul heseloni, так как именно к этому виду принадлежит известнейший череп и скелет самки KNM-RU 7290, чей кривоватый анфас чаще, впрочем, фигурирует в популярных книгах под обозначением P. africanus. Большинство проконсулов были размером меньше шимпанзе: P. heseloni – самки 9–11 и самцы 20 кг, P. nyanzae – 35–38 и 26–28 кг, но огромные P. africanus достигали аж 63–87 кг.
Хотя часто проконсулов воспроизводят похожими на шимпанзе, они отличались массой примитивных черт. Проконсулы имели очень слабое надбровье, сравнительно небольшие размеры морды и клыков, узкое носовое отверстие, мелкое небо; мозг у самки KNM-RU 7290 достигал 130,3 см³ (то есть как у крупных самцов сиамангов и вдвое с лишком меньше, нежели у самых захудалых шимпанзе), а его форма больше похожа на мозг широконосых обезьян. Строение зубов проконсулов замечательно генерализованное, то есть годящееся в предки кому угодно: на молярах эмаль сравнительно толстая, но не слишком, цингулюм – утолщение эмали в виде пояска у шейки зуба – бывает развит, а бывает и ослаблен. Кстати, к толщине эмали зубов и цингулюму учеными проявляется повышенный интерес, эти признаки используются в числе основных диагностирующих при систематике древних гоминоидов.
Тело и конечности первых человекообразных совсем не были похожи на шимпанзиные. Бегали все проконсулиды – и проконсулины в частности – примитивно: на четвереньках, с опорой на ладонь; при этом длина рук и ног была примерно одинаковой. Морфологических приспособлений к вертикальному лазанию и подвешиванию на ветвях они либо вовсе не имели, либо только начинали их развивать. Благодаря находкам нескольких скелетов мы знаем, что Proconsul heseloni (17–18,5 млн лет назад) был совсем-совсем четвероногий и горизонтальный, а более поздний (15–16 млн лет назад) нахолапитек Nacholapithecus kerioi из Кении уже начал приобретать способности к вертикальному лазанию и, соответственно, вертикальному положению тела и головы (в частности, у него были чуть длиннее руки) – это были первые робкие подвижки в сторону нашего нынешнего состояния. Оба вида уже были бесхвостыми, так что сия черта, многими воспринимающаяся как сугубо человеческая, как минимум всемеро старше нашего рода.
Уголок занудства
Лопатка Proconsul heseloni больше похожа на таковую колобусов и прочих не подвешивающихся на руках приматов. Грудная клетка сравнительная длинная и узкая. Длинные кости массивные. Шиловидный отросток локтевой очень большой, образующий сустав как с трехгранной, так и с гороховидной костью; кисть длинная и узкая, но ее фаланги сравнительно короткие и слабо изогнутые. В запястье сохраняется самостоятельная центральная кость; таковая имеется у широконосых и мартышкообразных обезьян, тогда как у молодых гиббонов и орангутанов она тоже свободна, но не двигается отдельно от ладьевидной, а у старых может срастаться с последней; у горилл, шимпанзе и человека центральная кость срастается с ладьевидной еще в эмбриональном состоянии.
Подвздошная кость проконсула узкая, по форме и ориентации больше похожая на кость мартышкообразных; на седалищной нет седалищной бугристости, так что сидел и спал проконсул в позах, типичных для широконосых, а не узконосых обезьян. Стопа больше всего напоминает стопу древесных, но нечеловекообразных приматов. Проконсул имел особую кость прехаллюкс, соединявшуюся с основанием первой плюсневой; такая же встречается у некоторых широконосых, египтопитеков и гиббонов, но отсутствует у мартышкообразных и высших человекообразных (Lewis, 1972).
Добро пожаловать, экембо! или Новый образ проконсула?
Систематика первых обезьян – хитрая наука на грани искусства. В ход идут как объективные параметры вроде размеров зубов, так и показатели формы, определяемые на глаз. Только пересмотрев сотни зубов, можно научиться различать хитрые одонтологические признаки вроде развития дистолингвального цингулюма, степени изгиба дистального края коронки и формы буккального профиля. Проблема в том, что, во-первых, разные антропологи смотрят на разные зубы, а во-вторых, придают признакам неодинаковый смысл. И конечно, никуда не девается индивидуальная, половая и возрастная изменчивость.
Посему не странно, что среди человекообразных палеоприматологи выделяют сильно разное число не только видов и родов, но даже семейств! Особенно лихорадит систематику древнейших представителей – проконсуловых. Хорошо жилось систематикам конца XIX – начала XX века. Сначала всех первобытных человекообразных до кучи валили в единый род Dryopithecus, потом начали выносить азиатских представителей в свои роды (каковых навыделяли больше десятка, из которых валидными оказались… примерно два), наконец, дошли руки и до африканских зверей. Их стали называть проконсулами – Proconsul.
Когда критическая масса находок выросла и стали очевидны существенные отличия разных “проконсулов”, опять пошла закономерная волна дробительства: названия родов африканских антропоидов посыпались как из рога изобилия, а свежеиспеченные таксоны стали расползаться по своим подсемействам и семействам.
Однако некое ядро оставалось неприкосновенным: несколько видов считались “образцовыми проконсулами”, на которых никто не покушался. Но можно ли устоять перед соблазном выделить еще один род? Никак нельзя! И потому группа палеоприматологов сделала это – описала род Ekembo (McNulty et al., 2015).
В роде Proconsul остались виды P. africanus, P. major и P. meswae из кенийских местонахождений Тиндерет, а также P. major из Уганды (этот последний – весьма спорный, другими исследователями он описывался как Ugandapithecus major, Ugandapithecus gitongai и Morotopithecus bishopi; равным образом P. meswae часто рассматривается как Ugandapithecus meswae). Те же останки, что были найдены на берегу озера Виктория в кенийских местонахождениях Кисингири, выделены ныне в новый род Ekembo. В нем оказались виды E. heseloni и E. nyanzae.
Уже говорилось, что к виду heseloni принадлежит известнейший череп KNM-RU 7290. Так что же – переписываем учебники? Ставим под картинками новые подписи?
Но. Стоит ли спешить? Насколько такая система лучше прежней – покажут новые исследования. Хотя отличия Proconsul и Ekembo показаны достаточно надежно – новоявленный род заметно мельче и грацильнее, – остается неочевидным: достойны ли они родового статуса? Существование разных видов не было секретом и раньше, виды в новом исследовании не подвергаются сомнению. А надежного критерия рода покамест никто из систематиков не предложил. Так что экзотическое “экембо” должно еще подтвердить право на существование. Желательно – практикой: если парадигма двух родов позволит лучше классифицировать новые находки и позволит уточнить родословную первых человекообразных – добро пожаловать, экембо!
Примерно синхронен камойяпитеку руквапитек Rukwapithecus fleaglei, обитавший 25,2 млн лет назад в Танзании. Он близок ньянзапитецинам Nyanzapithecinae: Mabokopithecus, Nyanzapithecus, Rangwapithecus, Turkanapithecus, чьи зубы находят в кенийских и танзанийских отложениях с датировками от 19 до 13 млн лет назад. От прочих проконсулид ньянзапитецины отличаются широкими и короткими резцами, а также другими частностями строения зубов. Лучше прочих изучен турканапитек Turkanapithecus kalakolensis – от него сохранился почти целый череп и значительная часть скелета. Турканапитек был отдаленно похож на шимпанзе, но имел намного меньшие размеры – около 10 кг, гораздо более короткую морду со сравнительно короткими клыками, довольно слабое надбровье даже у самцов, очень широкое межглазничное пространство, сильно расширенные скуловые дуги при суженной мозговой коробке, мозг всего 84,3 см³ – как у макаки, заметно меньше, чем у гиббона, и почти в пять раз меньше, чем у шимпанзе. Ньянзапитецины были вообще не слишком крупными: ньянзапитеки Nyanzapithecus имели размер макаки – 8–11 кг, а рангвапитек Rangwapithecus gordoni весил примерно 15 кг. Короткомордый ньянзапитек назывался в числе возможных предков ореопитека (Harrison, 1986), а листоядный рангвапитек – орангутана, но трудно судить об этом уверенно из-за их фрагментарности.
Третье подсемейство проконсулид – афропитецины Afropithecinae. Его представители: Afropithecus, Equatorius и Morotopithecus – обитали в ранне– и среднемиоценовых лесах Восточной Африки 21,5–14 млн лет назад, а гелиопитек Heliopithecus leakeyi жил в Саудовской Аравии 17–18 млн лет назад. Таким образом, гелиопитек оказывается первым внеафриканским гоминоидом, с него можно вести отсчет выходов из Африки, закончившийся в конце концов расселением сапиенсов. Особо интересно, что гелиопитек примитивнее африканских родственников: этот факт мог определить пути эволюции всех последующих европейских и азиатских гоминоидов.
Моротопитек Morotopithecus bishopi – самый древний из афропитецин и один из самых древних гоминоидов, по части признаков он даже примитивнее гиббонов. По строению верхней части бедренной кости он уникален, а если на кого и похож, то на мартышкообразных. Зато моротопитек имел довольно крупные размеры – 40–50 кг – и общий план строения крупной человекообразной обезьяны. В отличие от многих родственников, он достаточно часто лазал в вертикальном положении, цепляясь за ветви преимущественно руками, и даже мог неспешно брахиировать. С некоторой вероятностью он является предком более поздних человекообразных обезьян.
Кстати, о вертикалях и горизонталях…
Вертикальное лазание стало одним из важнейших условий появления прямохождения. Утяжелившиеся человекообразные в некоторый момент перестали много прыгать и перешли к хождению по горизонтальным ветвям. Но ходить на четвереньках по ветвям крупному животному тоже не очень удобно. К тому же замедлившееся и передвигающееся по довольно толстым сучьям животное рискует попасться на обед хищнику. Доселе эта проблема решалась подвижностью, но как раз ее-то гоминоиды и растеряли. Из этого есть оригинальный выход – стать крупнее и сильнее, чтобы уже никакой леопард не посмел напасть (есть другой способ – стать мелким, чтобы хищнику было энергетически невыгодно гоняться за лилипутом, но это путь в интеллектуальный тупик, почти невозможный для высоко социальных человекообразных). Однако тяжелому зверю еще труднее ходить по веткам. Так развивается вертикальное лазание. Но и оно спасает не полностью, так что тенденция спускания на землю будет в такой эволюционной линии просто неизбежной. Что мы и видим в палеонтологической линии приматов. На земле, конечно, опасностей добавляется, но еще частично древесный зверь, который должен уметь подтягивать свое мощное тело на ветвях, имеет такую мускулатуру, что может дать затрещину любому хищнику. Гориллы тому примером.
Из-за вертикального лазания тело приобретает новое положение, перпендикулярное тому, что было привычным от ланцетника доселе. Органы, до сих пор мирно подвешенные на арке позвоночника, начинают давить друг друга: сверху без конца стучит беспокойное сердце, ходят ходуном легкие, диафрагма давит на печень и желудок, а кишечнику и мочевому пузырю достается больше всего. А уж что делается с маткой… Ужас просто! Конечно, внутренние органы у приматов с вертикальным положением тела не смещаются слишком уж радикально, печень с сердцем не меняются местами, но определенные изменения, безусловно, происходят. Например, сердце теперь должно качать кровь вверх, а не вперед, особенно сложно вернуть венозную кровь обратно.
Таким образом, положение тела при вертикальном лазании стало важнейшим залогом, частично поводом и даже гарантией развития прямохождения. Кстати, не в этом ли причина сохранения четвероногости у павианов, тоже вышедших в саванну? У них не было крупных вертикально лазавших предков, так что и появление в павианьей линии прямохождения было бы чудом. Некоторым суррогатом является типичная для павианов поза отдыха – сидя, с выпрямленной спиной, – но из статичной позы активного хождения на двух ногах не создашь.
Часть похожих находок из Кении и Уганды описана как угандапитеки Ugandapithecus – U. meswae, U. legetetensis, U. major и U. gitongai, в последовательном ряду которых размеры все время увеличивались (Pickford et al., 2009). Ugandapithecus major раньше назывался Proconsul major, но резко отличается от проконсулов строением скелета – не только размерами 60–90 кг, но и более существенными чертами. Однако самостоятельный статус угандапитеков признается не всеми исследователями.
Лучше всех из афропитецин изучен афропитек Afropithecus turkanensis, от которого сохранился почти целый череп и много более фрагментарных частей. Уникальность афропитека в резко сниженном половом диморфизме по размерам клыков, притом что сами клыки очень большие и очень толстые. Обычно у приматов, да и вообще любых млекопитающих, особенно нехищных, крупные размеры клыков однозначно указывают на мужской пол их обладателя (достаточно посмотреть на мандрилов). Если же самцы с самками отличаются не очень резко, то и клыки у них небольшие (чему примером может служить человек). Афропитек же являет собой разительное исключение: самцы и самки этого вида надежнее различались по строению премоляров, но не клыков. Судя по всему, такая особенность была следствием питания какими-то твердыми семенами или орехами, которые афропитеки грызли как раз клыками (Rossie et MacLatchy, 2013). Из-за этого же афропитеки имели характерную внешность: сильно выступающую вперед морду, широченные резцы, огромные височные мышцы и, соответственно, сагиттальный гребень на своде черепа, уменьшенные гайморовы пазухи, высокую нижнюю челюсть. Кстати, в меньшей степени то же было характерно для нахолапитека, а среди современных обезьян – для мохнатых саки Chiropotes и уакари Cacajao (нелишне вспомнить и ганлею), так что тут мы имеем очередной пример конвергенции.
Экваториус Equatorius africanus, живший 15,4–15,6 млн лет назад в Кении, судя по строению костей, вел полуназемный образ жизни (Patel et al., 2009). Конечно, он не достиг даже степени наземности павианов, но это был первый заход гоминоидов на сушу – маленький шаг для экваториусов, но огромный скачок для гоминоидов! Не пройдет и 10 млн лет, как потомки проконсулид полностью освоят африканскую саванну.
Уголок занудства
Чтобы Читатель проникся не только антропологическими байками, но нюхнул и настоящей науки, полезно привести без перевода на человеческий язык список признаков наземности и древесности экваториуса, позаимствованный из статьи, посвященной этому вопросу (Patel et al., 2009).
Признаки, свидетельствующие о полуназемности: большой бугорок выступает выше головки плечевой кости; на дистальной части плечевой медиальный надмыщелок в состоянии ретрофлексии; проксимальная часть локтевой с выдающимся дорзально локтевым отростком, блоковидная вырезка глубокая, венечный отросток хорошо развит; головки метакарпалий с хорошо развитыми поперечными дорзальными гребнями и пальмарно широкой суставной поверхностью; фаланги кисти короткие, массивные и прямые; проксимальные фаланги кисти укорочены относительно метакарпалий сравнительно с большинством наземных мартышкообразных.
Древесные или примитивные Proconsul-подобные черты: диафиз плечевой в состоянии ретрофлексии, выражен отдельный латеральный надмыщелковый гребень; лучевая кость прямая и грацильная; головка лучевой циркулярная; метакарпалии короткие, с дорзально суженными проксимальными суставными поверхностями; проксимальные фаланги кисти относительно метакарпалий длиннее, чем у постоянно наземных мартышкообразных типа Theropithecus и Papio.
Для восприятия этой и прочей подобной тарабарщины надо бы для начала знать анатомические плоскости и направления. Сагиттальная плоскость проходит спереди назад и сверху вниз и делит тело на правую и левую стороны, парасагиттальная параллельна ей, но идет не строго посередине; фронтальная плоскость проходит сверху вниз и поперек, отделяет перед от зада; трансверзальная, она же поперечная плоскость делит тело поперек, для человека она же горизонтальная и будет проходить параллельно земле. Медиально – близко к середине, к центру тяжести (позвоночник в теле); мезиально – близкий термин, используется либо как синоним, либо как обозначение середины на некой протяженности (локоть на руке); латерально – сбоку (ухо на голове); дорзально – на спинной стороне (лопатка на туловище; в том числе на тыльной стороне кисти); вентрально – на брюшной стороне (грудина на туловище); краниально – в направлении переднего конца тела и головы; каудально – в направлении заднего конца тела и хвоста; проксимально – ближе к началу, телу и центру тяжести (плечо на руке, локоть на предплечье, запястье на кисти); дистально – ближе к концу, дальше от тела и центра тяжести (пальцы на руке, запястье относительно предплечья, локоть относительно плеча); волярно или пальмарно – на ладонной стороне кисти; плантарно – со стороны стопы; ульнарно – на предплечье или кисти со стороны локтевой кости и мизинца; радиально – на предплечье или кисти со стороны лучевой кости и большого пальца; лябиально или буккально – на зубе или челюсти со стороны губ или щеки; лингвально – на зубе или челюсти со стороны языка.
Otavipithecus namibiensis уникален своим географическим положением, ибо его челюсть найдена в Намибии, в местности, ныне явно не приспособленной для человекообразных обезьян. С некоторой вероятностью отавипитек родственен афропитецинам, но при сравнительно поздней датировке – 13 млн лет назад – он крайне примитивен и по части признаков сближается вообще с плиопитековыми и дендропитецидами. Возможно, Южная Африка была своего рода заповедником архаичных форм.
До сих пор я подчеркивал примитивные и негоминоидные черты проконсулид, так что Читатель вправе спросить: “Так почему же, собственно, они считаются первыми человекообразными?” Конечно, несколько больше признаков проконсулид сближают их именно с антропоидами. Например, сроки прорезывания постоянного первого нижнего моляра у афропитека были существенно большими, нежели у мартышкообразных, зато в точности как у шимпанзе (Kelley et Smith, 2003). Значит, детство было удлинено, а это – один из многочисленных шагов к разуму.
Дендропитециды (Dendropithecidae): Dendropithecus, Micropithecus и Simiolus – жили в начале и середине миоцена (20–14,5 млн лет назад) в Кении и Уганде. Одна из особенностей этих странных обезьян – мощные, недлинные, но толстые конические клыки у самцов. От микропитека Micropithecus clarki сохранились части черепа, так что мы знаем, что эти животные имели большие глазницы, широкое межглазничное пространство, сравнительно маленькую морду и грацильную нижнюю челюсть. Поэтому они, равно как и дендропитеки Dendropithecus macinnesi, назывались в качестве возможных предков гиббонов. Географически это выглядит странно, ибо дендропитециды неизвестны в Азии, а гиббоны – в Африке. К тому же дендропитециды бегали по веткам на четвереньках и не имели каких-либо приспособлений к брахиации.
От скелетов дендропитецид сохранилось не так мало костей, особенно от симиолуса Simiolus enjiessi, благодаря чему нам известно, что они обладали вытянутыми грацильными конечностями примитивного строения, напоминающими скорее вариант широконосых, нежели мартышкообразных или человекообразных обезьян (Rose et al., 1992). Таким образом, множество очень примитивных черт дендропитецид позволяют считать их параллельной остальным человекообразным линией эволюции, сохранявшей массу пережитков едва ли не эоценовых времен.
Некоторые древние человекообразные имеют своеобразную морфологию, позволяющую выделить их в отдельные группы. Например, несколько спорным статусом обладают грифопитециды Griphopithecidae – первые в основном неафриканские гоминоиды. Их номинативное подсемейство Griphopithecinae представлено единственным родом грифопитек Griphopithecus. Этот или очень похожий примат жил 17 млн лет назад на юге Германии (Böhme et al., 2011; Heizmann et Begun, 2001). От него сохранился лишь один поломанный зуб, но это первый европейский гоминоид. Другие виды грифопитеков: G. alpani, G. darwini и G. suessi – обитали около 14–15 млн лет назад в Турции, Австрии и Швейцарии. Это были довольно крупные древесные четвероногие поедатели фруктов, твердых плодов и орехов, жившие во влажных субтропических лесах. О них известно крайне мало, но грифопитеки были, вероятно, общими предками всех следующих неафриканских гоминоидов.
В целом похожие кениапитецины Kenyapithecinae жили 13,4–14 млн лет назад в Кении (Kenyapithecus wickeri) и Турции (K. kizili). Они тоже могли есть какие-то твердые семена, хотя точно это утверждать трудно.
Человекообразные в рыжих тонах: Азия и Европа
Расселившиеся за пределы Африки гоминоиды дали новый всплеск разнообразия. Местами оно приобретало довольно экзотичные формы, как, например, на острове Гаргано в Средиземном море, где жил ореопитек Oreopithecus bambolii, выделяемый в самостоятельное семейство ореопитецид Oreopithecidae. Эта небольшая обезьяна отличалась массой специфических черт, в числе коих резко уменьшенные резцы, сравнительно маленькие клыки у самцов – свидетельство пониженной агрессивности и слабой иерархичности, необычайное сходство верхних и нижних моляров, центроконид – особый бугорок на молярах. Специфику скелета, полупрямохождение и умелые ручки ореопитека мы уже достаточно подробно разобрали выше, тут же повторимся лишь, что наиболее вероятные предки сего таинственного зверя обнаруживаются в Африке, где ньянзапитек и мабокопитек демонстрируют с ним замечательное сходство. Какими извилистыми путями кенийских обезьян занесло на сказочный северный остров – загадка зоогеографии.
Другая тайна – происхождение гиббонов.
Долой гипотезу гигантского гиббона!
Даешь гипотезу карликового гиббона!
Плиобатес из Испании – новый предок?
Известно великое множество ископаемых обезьян. Но сотни уже известных видов – явно капля в море реально существовавших разновидностей. Чем больше мы знаем, тем лучше мы понимаем, чего мы не знаем. И при этом известно, в каких слоях и каких местах лучше всего искать то, чего больше всего хотелось бы найти. Поэтому палеоприматологи рыщут по карьерам и оврагам всего мира в поисках чего-то новенького. И поэтому закономерно открытие не только новых видов, но и более крупных систематических единиц.
А посему великое дело – описание плиобатеса Pliobates cataloniae, выделенного в самостоятельное семейство Pliobatidae (Alba et al., 2015). Его останки найдены в Северо-Западной Испании и имеют возраст 11,6 млн лет. Сохранность уникальна: палеонтологам редко достаются скелеты, включая череп, конечности и даже кости запястья и стопы.
Череп плиобатеса выглядит очень странно: мозговая коробка относительно большая, хотя и приплюснутая, мордочка крохотная, глазницы огромные и совершенно круглые. При этом мозгов было не так уж богато – 69–75 см³, как не у самой крупной мартышки. Даже у гораздо более древних проконсулов мозга было в два с лишним раза больше, да и современные гиббоны обгоняют испанскую обезьяну в полтора раза. Особое внимание привлекают махонькие клыки, едва выступающие за уровень соседних зубов, отчего череп плиобатеса смахивает на остов вампира-недокормыша. Питался плиобатес в основном фруктами.
Руки плиобатеса очень длинные и вытянутые. Судя по строению запястья, в основном он бегал по горизонтальным ветвям, хотя уже мог подвешиваться к веткам снизу. Однако он не умел лихо брахиировать подобно нынешним гиббонам, в этом смысле плиобатеса нельзя назвать слишком специализированным – хорошая черта для потенциального Великого Предка.
Открытие плиобатеса проливает свет на эволюцию всех человекообразных. Дело в том, что мелкие обезьяны вообще редко и плохо сохраняются в ископаемой летописи. Из-за этого создается впечатление, что первые человекообразные – проконсулиды – были крупными, а лишь потом часть из них измельчала. Но так ли это? Размер тела плиобатеса был очень маленький – всего 4–5 кг, то есть с хорошую кошку.
Отдельные черты плиобатеса выглядят очень примитивно и сближают его с загадочными дендропитеками, другие же весьма похожи на гиббоньи. Вместе с тем по совокупности признаков плиобатес лишь едва прогрессивнее проконсулид и примитивнее всех прочих человекообразных. Получается, что такими – мелкими древесными древолазами-недобрахиаторами – должны были быть общие предки гиббонов и крупных человекообразных, да и нас тоже. Стало быть, плиобатес – очередное достающее звено, Великий Предок?
Авторы первоописания именно на этой пафосной ноте и заканчивают свое исследование: возможно, единый прародитель всех человекообразных был более гиббоноподобным, чем орангутано-шимпанзе-гориллоподобным.
Что ж, байка про “питекантропа – гигантского гиббона” давно отправлена в разряд забавных выкрутасов истории палеоантропологии. Пришла пора “концепции карликового гиббона”?
Впрочем, есть парочка зловредных но.
Самое обидное, датировка плиобатеса не такая уж запредельная. В это же время в Африке некие обезьяны уже начали выглядывать из джунглей в саванну. Задолго до испанского зверя по Африке и Азии уже скакали весьма разнообразные человекообразные, и почти никто из них не был специфически схож с гиббонами.
В частности, длинные кости рук плиобатеса выглядят все же чересчур вытянутыми. Конечно, они еще не были явно брахиаторными, но находились явно на пути к этому состоянию. Странно, если бы сравнительно короткие руки проконсулов сначала удлинились до состояния плиобатеса, а потом снова укоротились в большинстве линий, кроме гиббоньей. Некогда бурно обсуждавшаяся “брахиаторная гипотеза”, согласно которой предки человека были брахиаторами, в чистом виде давно признана несостоятельной, хотя, конечно, никто не отрицает, что элементы брахиации в локомоторном репертуаре древнейших человекообразных присутствовали.
Как уже говорилось выше, и с мозгами у плиобатеса не фонтан. Неужели со времен проконсулов они сначала уменьшились, чтобы потом снова увеличиться?
Кроме того, как часто бывает, подводит география. Конечно, не слишком вероятно, что предки гиббонов возникли на крайнем западе Европы, а потом расселились до Тихого океана и сохранились лишь в Юго-Восточной Азии и Индонезии. Вряд ли плиобатес был прямым предком гиббонов. Но из всех наличных ископаемых он ближе всего к ним.
Сочетание неподходящей датировки и локализации с мозаикой генерализованно-специализированных черт может говорить о том, что плиобатес, скорее всего, являлся реликтовым потомком примитивных человекообразных, сохранившимся на краю Земли, тогда как в Африке и Азии эволюция уже дала гораздо более продвинутых обезьян. Кто-то очень похожий на плиобатеса, но еще более примитивный, живший раньше на полтора десятка миллионов лет и в Африке, действительно мог быть Великим Предком. Тогда проконсулиды – далеко не самые примитивные человекообразные, тогда многое сходится, но возникают и новые вопросы.
Дело за малым: найти аналог плиобатеса, но в Африке и с датировкой 25–30 млн лет.
Подходящий кандидат на звание предка гиббона – юаньмоупитек Yuanmoupithecus xiaoyuan из Южного Китая (7,1–9 млн лет назад), однако до крайности плохо известный – всего лишь по нескольким зубам.
Гиббоновые Hylobatidae населяют с плиоцена поныне Юго-Восточную Азию и Индонезию. Резкая специализация, очевидно, ставит их особняком среди прочих человекообразных. Прямые предки гиббоновых точно не известны, на их роль выдвигались разные ископаемые приматы – Propliopithecus из олигоцена Египта, Pliopithecus и Crouzelia из миоцена Европы, Laccopithecus и Yuanmoupithecus из миоцена Китая, Dionysopithecus из миоцена Китая, Пакистана и Таиланда, Krishnapithecus из миоцена Индии, Dendropithecus, Limnopithecus и Micropithecus из миоцена Восточной Африки. Низведение корней гиббоновых аж к нижнему олигоцену создало мнение о более раннем их отделении от прочих гоминоидов, чем даже проконсулид, а резкие отличия от человека – о примитивности в сравнении с крупными человекообразными. Этому немало способствовали устоявшиеся стереотипные представления о человеке как венце эволюции, шимпанзе – как почти-человеке, дриопитеках – как почти-шимпанзе, а проконсулах – как почти-дриопитеках. В реальности же проконсулиды заметно примитивнее, специализации гиббоновых не примитивны, а, напротив, очень и очень продвинуты, а сама филогенетическая линия может быть далеко не столь древней. Гиббоны запросто могли появиться в самом конце миоцена или даже в плиоцене; древнейший достоверный обнаружен Эженом Дюбуа в Триниле вместе с питекантропом. Известные ископаемые гиббоны принадлежат уже к современным родам и даже современным видам, так что почти не отличаются от них. Таким образом, фактически гиббоны являются высшим и самым продвинутым вариантом эволюции человекообразных.
Гиббоновые – животные не очень большие, весом от 5 до 12 кг; самые отъетые сиаманги могут достигать 23 кг. Они имеют грацильный череп с ослабленным рельефом, маленькую морду с небольшими зубами, но длинными тонкими клыками, относительно тела крупный, а на самом деле маленький головной мозг – около 100 г, примерно как у среднеразмерных мартышкообразных. Руки гиббонов чрезвычайно удлинены и намного больше длины ног и тела. Такие пропорции обусловлены замечательным способом локомоции – брахиацией, то есть передвижением только с помощью рук. Гиббон раскачивается на ветке на одной руке, перебрасывается на другую ветку другой, а ноги в этом никак не участвуют. Специализация к брахиации у гиббонов так велика, что они не могут передвигаться по земле на четырех ногах и при необходимости спуститься на землю ходят на двух, поднимая руки вверх. Пальцы кисти образуют крючок, удобный для цепляния за ветви. Большой палец на руке замечательно длинный – вдвое больше, чем у человека, но практически не противопоставляющийся остальным, тем более что из-за крайней удлиненности пясти кончик большого пальца достает только до основания остальных. Из-за этого гиббонам крайне трудно что-либо брать рукой, они очень неуклюже сгребают предметы всей кистью. Она у гиббонов рассчитана на растяжение, а не сжатие: в частности, в запястье есть особая кость os Daubentonii, расположенная в толстом мениске, который укрепляет соединение шиловидного отростка локтевой кости с гороховидной костью.
Кстати, о скалолазах…
Измерения профессиональных скалолазов показали, что у них сравнительно с обычными людьми весьма короткие ноги. Длинные ноги много весят, а это очень мешает при карабканье по вертикальным стенам. Так что у эволюции всегда есть возможности для неожиданных поворотов: возникни необходимость, из человека запросто может получиться брахиирующее чудо с мощными длинными руками и коротенькими, но тоже цепкими ножками.
Специализированной чертой гиббонов являются маленькие седалищные мозоли, иногда подчеркнутые длинной шерстью выделяющегося цвета; на седалищных костях для их крепления имеются большие плоские поверхности. Скорее всего, седалищные мозоли гиббонов возникли конвергентно с мозолями мартышкообразных, а не являются общим древним наследием, за это говорят особенности их строения, прикрепления и развития (McCrossin et Benefit, 1992). Тут же можно упомянуть, что седалищные подушки шимпанзе устроены совсем иначе (состоят в основном из жира, а не утолщенной кожи). С изобретением стульев человек тоже вступил на скользкую дорожку, ведущую к развитию седалищных мозолей; коли у родственников они появлялись, то куда и нам деваться.
Гиббоны многочисленны по меркам современных человекообразных – специалисты выделяют от пяти до шестнадцати видов, объединяемых иногда в один род Hylobates, а иногда разделяемых на Hylobates, Bunopithecus, Nomascus и Symphalangus, которым не менее часто придается подродовой статус. Впрочем, принадлежность к разным родам или подродам не мешает гиббонам давать гибридов. Все это свидетельствует о значительном сходстве разных гиббонов и наверняка об их совсем недавнем эволюционном происхождении. Самые известные – белорукий гиббон H. lar, белощекий H. concolor, серебристый H. moloch и белобровый H. hoolock.
Белорукие H. lar и чернорукие гиббоны H. agilis имеют несколько контрастных вариантов окраски – черный, красно-коричневый и белый, а у китайского белощекого H. leucogenys, белощекого H. concolor и белобрового H. hoolock самцы черные, а самки белые или золотистые.
Самый большой гиббон – сиаманг Hylobates (Symphalangus) syndactylus или Symphalangus syndactylus – отличается срастанием указательного и среднего пальцев на стопе (часто ошибочно пишут, что у них сращены пальцы на кисти); за такое строение сиамангов называют еще симфалангами. Вторая особенность сиамангов – огромный горловой мешок у самцов и самок, позволяющий им петь громче всех прочих человекообразных, кроме разве что тирольцев и оперных примадонн. Также сиаманги – самые длиннорукие приматы из всех: их руки в полтора раза длиннее ног.
Живут гиббоны семейными группами – папа, мама и детеныш. Эти обезьяны уникальны своими вокальными способностями – они поют по утрам на вершинах деревьев всей семьей, чтобы соседи знали, чья тут территория.
Кстати, о птичках…
Гиббоны, как известно, поют. Но этим занимаются не только они: во-первых, иногда поют и люди (хотя гораздо реже гиббонов, которые делают это ежедневно), во-вторых, многие птицы. При этом часть птиц поет вполне творчески, им надо долго этому учиться, у них бывают диалекты и индивидуальные уровни мастерства, бездари и таланты (это не касается некоторых халтурщиков типа петухов и кукушек, чьи вокализации на сто процентов врожденны и ни от чего не зависят). Люди еще и говорят и, что характерно, тоже этому долго учатся. Удивительно, но у птиц, поющих с обучением, генетика и нейрофизиология пения оказались необычайно похожи на генетику и нейрофизиологию речи у людей (Pfenning et al., 2014). За то и другое отвечают очень похожие комплексы генов и близкие по происхождению и функциям участки мозга. Ясно, что способности эти развились совершенно независимо, так что тут мы имеем замечательный пример генетической конвергенции. Более того, разные поющие птицы приобрели свои замечательные способности независимо друг от друга, ведь единого предка-певца никогда не существовало.
Было бы чрезвычайно интересно сравнить в том же аспекте гиббона и человека: думается, наши дарования тоже имеют независимое происхождение. Судя по всему, некоторые сложные признаки можно реализовать не столь уж большим количеством генетических путей: сколь ни богата природа на выдумки, все же и она имеет ограничения.
Следующие гоминоиды отличаются друг от друга уже совсем незначительно, а потому обычно объединяются в рамках одного семейства. Тут появляются варианты, как это семейство называть. Традиционно крупных человекообразных разделяли на понгид и гоминид. Отличия человека от орангутанов, горилл и шимпанзе вроде бы слишком очевидны, чтобы сваливать их в кучу. Однако филогения позволяет классифицировать их иначе. Ведь по пути к человеку раньше всех отделилась линия орангутанов, намного позже среди африканских человекообразных – линия горилл, затем шимпанзиная разошлась от человеческой, а уж в самом конце появились два вида шимпанзе и разные виды людей, из которых все, кроме одного, исчезли. Таким образом, филогенетически получается, что человек ближе к шимпанзе, чем шимпанзе к горилле, а к горилле ближе, чем горилла к орангутану.
Уголок занудства
Кладистика – способ построения систематики на основе исключительно порядка ветвления филогенетического древа. Все потомки одного предка считаются принадлежащими к одной таксономической группе. В кладистике используются свои термины, придающие ей дополнительную внешнюю беспристрастность, политкорректность и наукоподобие. Плезиоморфный признак – присущий предкам и общий для всех потомков, по-простому – примитивный; симплезиоморфия – родство по такому признаку – считается незначимым и не учитывается при построении схемы. Апоморфный признак характеризует только какую-то конкретную группу живых существ, по-человечески такой называется специализированным или продвинутым; синапоморфия – родство по такому признаку – признается единственно значимым для установления близости групп. Гомоплазия – сходство признаков в разных группах, возникшее независимо, – то же самое, что результат конвергенции.
В кладистике фактически игнорируются идеи об ароморфозах и идиоадаптациях, уровнях и значениях эволюционных преобразований. Это сделано с целью объективизировать систему, избавить ее от оценочных суждений. Построение филогенетических деревьев по возможности автоматизировано и формализовано. Это удобно, особенно для не слишком опытных морфологов, к тому же ограниченных во времени грантами и сроками сдачи статей в печать. Однако выбор анализируемых признаков по-прежнему остается за человеком, а применяемый при их обсчете кластерный анализ дает не столь однозначные результаты, как хотелось бы, так что мнение исследователя исключить все же не удается. Посему кладистический подход в систематике, с одной стороны, завоевал почти абсолютное господство в современной биологии, с другой – постоянно критикуется.
Наиболее крайний вариант систематики предложили молекулярные биологи (Goodman et al., 1998). Согласно им, семейство Hominidae состоит из одного подсемейства Homininae (неясно, зачем его тогда вообще выделять, но так сделано в первоисточнике), в котором выделяются три трибы. Первая триба – Oreopithecini. Вторая – Hylobatini – с единственной подтрибой Hylobatina включает два монотипичных рода: Symphalangus syndactylus и Hylobates lar. Вторая триба – Hominini – включает две подтрибы. Первая – Pongina с сивапитеком Sivapithecus и орангутаном Pongo. Вторая – Hominina с четырьмя родами: Samburupithecus, Graecopithecus, Gorilla и Homo. Род Homo подразделяется на два подрода: шимпанзе H. (Pan) (с видами H. (P.) troglodytes и H. (P.) paniscus) и H. (Homo) sapiens, сюда же вклиниваются австралопитеки (Goodman et al., 1998). В принципе, если попытаться привести систематику водорослей, жуков и приматов к общему знаменателю, такая схема вполне оправдана. Жаль только, в ней напрочь растворяются почти все ископаемые формы – им просто не хватает места; на практике такой схемой невозможно пользоваться. Посему она не нашла доброго отклика в сердцах антропологов, а лишь осталась навеки в истории науки как величайшая попытка низвести человека с высот исключительности.
Существует огромное количество других вариантов классификации крупных человекообразных, в подавляющем их числе признается лишь одно семейство гоминид Hominidae, но мы используем более консервативную версию, дабы подчеркнуть различия и специализации разных групп. О неисключительности человека и так было довольно сказано выше, пора обратить взор на специфику.
Понгиды Pongidae (или Anthropomorphidae) – крупные человекообразные обезьяны, населявшие со среднего миоцена экваториальные и тропические леса Африки, Европы и Азии. Четыре вида сохранились по наши дни, но ископаемых форм гораздо больше, и они гораздо разнообразнее.
Азиатская часть филогенетического куста представлена рамапитецинами Ramapithecinae, гигантопитецинами Giganthopithecinae, дриопитецинами Dryopithecinae и понгинами Ponginae.
Рамапитецины Ramapithecinae – Sivapithecus и Ankarapithecus – жили от 12,5 до 8 млн лет назад. Подавляющая часть останков найдена в Сиваликских холмах на стыке Пакистана, Индии и Непала. В первой половине XX века была описана целая куча родов и видов сиваликских приматов, в ход шли почти все, даже самые фрагментарные находки. Сейчас признается от трех до пяти видов сивапитеков Sivapithecus: самый древний и некрупный S. indicus (10,5–12,5 млн лет назад, самцы 30–45 кг, самки 20–25 кг); крупнейший S. parvada (10,1 млн лет назад, самцы 60–75 кг, самки 30–45 кг), их потомок S. sivalensis (8,5–9,5 млн лет назад, промежуточного между предыдущими размера), а также его возможные синонимы S. punjabicus и S. simonsi. Разница между всеми ними не такая уж большая, что наглядно видно по диагностике самого целого черепа, определявшегося и как S. indicus, и как S. punjabicus, и S. sivalensis.
Кстати, о чехарде…
Как известно, ученые, занимающиеся классификацией, делятся на “дробителей” и “объединителей”. Так было всегда и пребудет вовек. Первые склонны давать новое название каждому древнему огрызку, вторые готовы слить воедино и слона с тенреком. Посему систематика ископаемых гоминоидов чрезвычайно запутанна. Исторически так сложилось, что первыми стали известны европейские дриопитеки, затем азиатские сивапитеки, а после – африканские проконсулы. Чаще всего одни и те же находки обозначались разными авторами под несколькими названиями, которые потом могли оказаться разнесенными даже в разные семейства. Потому одни и те же слова встречаются в самых разных сочетаниях: Proconsul africanus назывался Dryopithecus africanus, Sivapithecus africanus и Kenyapithecus africanus; Equatorius africanus имеет частичные синонимы Kenyapithecus africanus, Griphopithecus africanus, Proconsul nyanzae и Sivapithecus africanus; Nyanzapithecus vancouveringorum в литературе может быть помянут как Dryopithecus (Rangwapithecus) vancouveringi, Proconsul vancouveringi или Rangwapithecus vancouveringi; Ugandapithecus major – как Proconsul major, Dryopithecus (Proconsul) major или Morotopithecus bishopi. Род Sivapithecus – это то же, что Ramapithecus, Bramapithecus, Palaeopithecus, Anthropopithecus, Sugrivapithecus и Dryopithecus (Sivapithecus), тогда как Dryopithecus – Adaetontherium, Anthropodus, Neopithecus, Hispanopithecus и Hungaropithecus. Очень не повезло роду кениапитеков, ведь под названием Kenyapithecus africanus кроются останки и Proconsul africanus, и Equatorius africanus, и Mabokopithecus clarki, и Kenyapithecus wickeri. Разобраться в этом балагане крайне трудно даже узким специалистам, особенно учитывая крайнюю фрагментарность большинства находок.
От сивапитеков сохранилось огромное количество челюстей и зубов, а также часть черепа. Череп замечательно похож на орангутаний: с высокой вогнутой мордой, резко выступающими челюстями, вытянутыми вертикально овальными глазницами, высоко поднятыми над носовым отверстием, резко суженным межглазничным пространством. Нижняя челюсть весьма тяжелая. Верхние центральные резцы очень широкие, а боковые маленькие, клыки умеренно крупные, моляры с толстой эмалью и без цингулюма.
Рис. 39. Черепа Sivapithecus (а), Ankarapithecus (б) и Dryopithecus (в).
Найдены и кости посткраниального скелета сивапитеков, хотя сравнительно немногочисленные. Они замечательно отличаются от соответствующих костей современных человекообразных. Например, верхняя часть плечевой больше напоминает вариант павианов, а нижняя – африканских человекообразных; нижняя часть большой берцовой формой суставной поверхности похожа на таковую у мартышкообразных, но показателем сечения и внутренней лодыжкой – человекообразных, прежде всего шимпанзе; крючковидная кость не имеет крючка. Кости запястья приспособлены к костяшкохождению – с опорой на согнутые пальцы (Begun et Kivell, 2011); этот способ, видимо, возникал среди человекообразных независимо как минимум трижды: в линиях, ведущих к орангутанам, гориллам и шимпанзе. Однако строение фаланг указывает, что сивапитек ходил с опорой на ладонь (Rose, 1986). Не очень ясно, что значат все эти противоречия. Видимо, сивапитеки были очень своеобразными животными: на лицо орангутанами, руками и ногами – частично павианами, частично шимпанзе. Понятно только, что прямого аналога им сейчас нет.
Таз сивапитека
Люди встали на две ноги примерно 7–6 млн лет назад. Часто по умолчанию считается, что предки были в принципе похожи на современных человекообразных обезьян – орангутанов, горилл и шимпанзе, а то и гиббонов. Дескать, скакали по веткам этакие “протошимпанзе”, потом слезли с дерева и стали ходить на двух ногах. А кто не слез, тот так и прыгает до сих пор по лесам. Обезьяны сохранили примитивные черты, мы изменились.
Но так ли это?
На самом деле, много ли мы знаем о способе передвижения древних приматов? Как это вообще узнать? Ведь чаще всего от них находят зубы и обломки челюстей, кости скелета сохраняются редко и плохо. Если в Африке еще найдены несколько скелетов проконсулов, то в Азии с этим совсем беда. До сих пор бесчисленные сивапитеки и их родичи известны почти исключительно по зубам, мы более-менее представляем, что они ели, но как они добирались до плодов – пока оставалось загадкой.
Но все тайное когда-нибудь становится явным. В 1990 году в Пакистане, на плато Потвар, была найдена тазовая кость. Через двадцать лет – в 2010 году – она была определена как кость примата. А в 2015 году вышла статья с ее описанием (Morgan et al., 2015). Судя по месту обнаружения и датировке – 12,3 млн лет назад, кость принадлежала Sivapithecus indicus, потому что ранее тут нашли верхнюю челюсть и три зуба именно этого вида. Размеры кости позволили предположить, что это была самка весом около 20–25 кг – как раз подходящий размер, ранее предполагавшийся на основании размеров зубов.
Исследователи сравнили таз сивапитека с костями множества прочих обезьян. Выводы были довольно неожиданными.
Судя по совокупности признаков таза, сивапитеки были неторопливыми четвероногими приматами, предпочитавшими осторожно и даже вдумчиво ходить по ветвям, как более-менее горизонтальным, так и по вертикальным и расположенным наискосок – в любых направлениях, способными далеко отводить конечности в сторону и даже подвешиваться на трех или четырех лапках, главное – без экстремальных прыжков и легкомысленных подвешиваний и раскачиваний на руках. Впрочем, строение рук говорит все же о некоторых способностях к подвешиванию на ветках; очевидно, разные части скелета эволюционировали с разной скоростью.
Таз сивапитека был ориентирован вдоль позвоночника, как у мартышкообразных. У современных человекообразных крылья подвздошной кости все же несколько расходятся в стороны; человек же являет крайний вариант в этом ряду. “Поясничный индекс” – соотношение ширины поясницы к ее передне-заднему диаметру – у человекообразных обезьян больше 120, то есть “талия” очень широкая. У широконосых обезьян Южной Америки это же соотношение примерно равно 100, то есть они круглые в сечении. Мартышкообразные имеют индекс меньше сотни, как и сивапитек, у которого указатель равен 90–100.
Таз сивапитека очень массивен. Учитывая не слишком большие размеры тела, такое усиление говорит о значительных нагрузках, передающихся от опоры, и – в совокупности с другими параметрами (например, усилением подвздошной бугристости) – о четвероногом передвижении.
Ширина седалищного бугра у приматов здорово коррелирует с наличием или отсутствием седалищных мозолей. Сивапитек, что приятно, попадает все же в группу без мозолей, то есть ближайших человеческих родственников.
Вертлужная впадина сивапитека очень глубокая, что означает усиление тазобедренного сустава, чем сивапитек напоминает мартышковых. Однако по площади полулунной поверхности (суставной поверхности вертлужной впадины) он ближе к паукообразным широконосым и крупным человекообразным обезьянам. От другого вида – Sivapithecus sivalensis – известна бедренная кость, ее головка круглая, почти полностью погруженная в вертлужную впадину. Сочетание получается необычное: с одной стороны, сустав очень прочный, с другой – весьма подвижный, способный к вращательным движениям. Обычно это вещи не то чтобы взаимоисключающие, но, скажем осторожно, плохо сочетающиеся. Вероятно, это связано с четвероногим хождением по ветвям в сочетании с отсутствием хвоста. Хорошо мартышкам бегать по ветвям – они балансируют длинным хвостом. А попробуйте удержаться на суку, будучи довольно крупным зверем и без никакого уравновешивателя. Придется активнее двигать поясницей, а это дает повышенные нагрузки на суставы, что и вызывает тот странный комплекс, который мы видим у сивапитека.
Кстати, можно вспомнить, что и плечевые кости сивапитеков больше схожи с мартышковыми, а не орангутаньими. То же можно сказать и о других известных посткраниальных костях сивапитеков.
Кстати, по всем основным параметрам новообретенный таз мало отличается от таза проконсула Proconsul nyanzae. По многим частным параметрам и общему комплексу проконсул оказывается закономерно более мартышкообразным, чем сивапитек. Впрочем, у сивапитека больше черт вообще широконосых обезьян. Сивапитек отличался от проконсула одновременно большей подвижностью суставов ноги и большей же их прочностью.
Но челюсти с зубами никто не отменял. А по ним сивапитеки – ближайшие родственники орангутанов. Исследователи честно признаются, что пока не знают, как объяснить такое расхождение (тут самое место появиться креационистам и радостно закричать: “АГА!!!” – но мы не дадим им этого шанса). Есть две гипотезы. Согласно первой, сходство сивапитеков и орангутанов по зубам является конвергентным, случайным, возникшим в силу близкой диеты. Конвергенция – обычнейшее явление в живом мире. Среди приматов тому тоже немало примеров. Можно, скажем, вспомнить челюсти колобусов и ореопитеков или плезиадаписов и руконожек. Ясно, это не отменяет факта, что сивапитеки – человекообразные приматы, но они могут представлять особую тупиковую линию развития.
Второй вариант: сивапитеки действительно родственны орангутанам, но отличались способом передвижения. В строении конечностей конвергенция распространена не реже, если не чаще, чем в зубах. Скажем, кисти паукообразных, колобусов и гиббонов близки по целому ряду показателей; если задача – зацепиться за ветку и быстро ее отпустить, то решение будет одинаковым, тем более что исходник-то общий, все же так или иначе родственники. Теоретически эволюция конечностей может совершаться очень быстро, так что не исключено, что вплоть до 10 млн лет назад или даже дольше способ передвижения человекообразных был совсем не таким, как сейчас. В этом случае нынешнее состояние орангутанов, горилл и шимпанзе – столь же новомодное эволюционное изобретение, как и прямохождение человека.
Интуитивно антропологи часто склонны отдавать первенство важности черепу, но нет ли в этом “культа черепа”? Поэтому исследователи таза сивапитека корректно не дают преимущества ни одной из двух версий. Будет больше костей – будет больше знаний.
Ближайший и синхронный родственник гималайских сивапитеков – анкарапитек Ankarapithecus meteai – найден в Центральной Турции. От него сохранилась часть лица, в целом аналогичная сивапитечьей и орангутаньей, хотя не такая плоская. Нижняя челюсть тоже похожа на таковую сивапитеков – высокая и очень массивная.
Гигантопитеки Giganthopithecinae были поздними потомками азиатских сивапитеков. Возможное достающее звено между ними символизируют два моляра из Сивалика в Пакистане с древностью 9–11,6 млн лет назад, описанные как Chinjipithecus atavus, но выглядящие как уменьшенные копии зубов гигантопитека (Koenigswald, 1981).
Надежно выделяются два вида гигантопитеков: более древний и мелкий североиндостанский Gigantopithecus giganteus (он же G. bilaspurensis и Indopithecus giganteus; 10,1–6 млн лет назад) и молодой крупный южнокитайско-вьетнамско-яванский G. blacki (известный также как Giganthropus; 1,96–0,38 млн лет назад). Гигантопитеки – феноменальные животные – известны из большого числа местонахождений и в огромном интервале времени. Однако, как уже упоминалось, от них сохранились сотни зубов и ни одного черепа, лишь пять нижних челюстей позволяют хоть как-то представить внешний вид этих колоссальных зверей.
Обычно гигантопитеков воспроизводят как неких кинг-конгов немереного роста. В действительности аллометрические закономерности могли выразиться в быстрейшем росте челюстей сравнительно с габаритами тела, так что в реальности гигантопитеки, вероятно, были всего на пятую часть или четверть длиннее, но в полтора-два раза тяжелее горилл (Johnson, 1979).
Нижние челюсти гигантопитеков поражают масштабами – в полтора раза больше, чем у гориллы, у которой морда вообще-то тоже не кукольная. Зубная система уникальна для приматов: моляры, премоляры и даже клыки схожей формы, огромных размеров, с бугристой и складчатой эмалью, чуть ли не как на зубах копытных травоядных. Особенное же сходство моляры гигантопитеков имеют с зубами панд – удивительная конвергенция приматов и медведеенотов. Нижние резцы этих странных обезьян относительно уменьшены, а клыки толстые, но короткие. Судя по всему, гигантопитеки были огромными фрукто– и листоедами, практически гарантированно наземными – под огромным весом деревья просто ломались бы.
Кстати, о натюрмортах…
Бамбук превосходен тем, что его мало не бывает, а растет он очень быстро, это сорняк, который захочешь – не изведешь. Но он же имеет тот огромный минус, что после цветения, которое захватывает сразу все бескрайние заросли одновременно, эта деревянистая трава сохнет и гибнет. Цветение бамбука случается едва ли не раз в сто лет, но это критическое время, когда все зависимые от него животные попадают под лезвие естественного отбора. Трагична не только гибель от голода, но и резкое сокращение генетического разнообразия; возникает так называемое “бутылочное горлышко” – выживают единицы, и в следующее поколение переходит очень малая часть вариантов генов. А суженная изменчивость чревата уязвимостью при последующих вызовах природы. Когда же “бутылочные горлышки” повторяются регулярно (а в случае с бамбукоедами это практически неизбежное проклятие), то все представители вида становятся фактически клонами. Любая недобрая мутация или существенное изменение окружающей среды – колебание климата, эпидемия, новый хищник – запросто может сгубить всю популяцию в одно мгновение. Если гигантопитеки действительно были специализированными пожирателями бамбука, остается удивляться, как они вообще протянули столько времени.
Цветение бамбука приводит к бутылочному горлышку – такой вот смертельный эволюционный натюрморт мог свести гигантопитеков в могилу…
Впрочем, новейшие исследования показывают, что гигантопитеки не были слишком специализированы и питались самой разнообразной лесной растительностью. Их исчезновение было вызвано, видимо, банальным сокращением тропических лесов во время похолоданий.
Дриопитецины Dryopithecinae: Anoiapithecus, Dryopithecus и Lufengpithecus – своеобразные приматы, жившие от 12,3 до 8,5 млн лет назад в Европе и от 11 до 1,9 млн лет назад или даже позже в Китае.
Специфический и самый древний представитель – анойяпитек Anoiapithecus brevirostris – известен из отложений в Каталонии с возрастом 12,3–11,9 млн лет. Название – “короткомордый” – лучше всего характеризует его главную особенность.
Наиболее известны и лучше всех изучены собственно дриопитеки Dryopithecus. Их многочисленные останки описывались из самых разных европейских стран с середины XIX века. Попервоначалу и сгоряча, за неимением более подходящих кандидатов, дриопитеки были зачислены в предки человека; эта версия до сих пор тлеет в школьных учебниках, хотя уже сто лет назад была отвергнута в науке. Сейчас ясно, что дриопитеки были в некотором роде аналогом европейских орангутанов.
Уголок занудства
За полтора столетия было придумано много альтернативных названий для дриопитеков, но сейчас большинство исследователей выделяют всего от трех до пяти видов. D. fontani – самый древний вид, обитавший во Франции, Австрии и, видимо, Северной Испании 11–12 млн лет назад; D. crusafonti – испанский дриопитек (возможно, синоним D. laietanus), 10,5 млн лет назад; D. brancoi – его многочисленные останки найдены в Венгрии, а один зуб – в Германии, 9,7 млн лет назад; D. laietanus – самый поздний испанский вид, 9,6–9,7 млн лет назад. Иногда испанские D. crusafonti и D. laietanus выделяются в особый род Hispanopithecus. К нему может присоединяться D. brancoi, но он же часто определяется как Rudapithecus hungaricus, так как голотипом (образцом при первоописании) для D. brancoi послужил третий моляр из Германии, который, строго говоря, мог принадлежать кому угодно, а большинство находок Rudapithecus сделано в Венгрии. Венгерские находки стали также основой для описания видов Ataxopithecus serus и Bodvapithecus altipalatus, никем ныне не признающихся за самостоятельные. В Грузии найден кусок верхней челюсти с двумя зубами, названный Udabnopithecus garedziensis, но с наибольшей вероятностью принадлежащий все к тому же виду D. brancoi.
Кроме того, в Китае раскопана нижняя челюсть с возрастом 6–8 млн лет назад, получившая название D. wuduensis; она вполне похожа на челюсти дриопитеков, сомнение вызывает в основном географическое положение – больно уж далеко от Европы.
Дриопитеки были животными размером несколько меньше современных карликовых шимпанзе – 15–45 кг, в целом похожими на сивапитеков и орангутанов: с резко покатым лбом и умеренным надбровьем, округлыми глазницами, весьма широким носовым отверстием, не слишком вытянутой мордой с высоким альвеолярным отростком и скошенными скулами (чем заметно отличаются от сивапитеков и анкаропитека), очень мощной нижней челюстью, большими клыками, узкими и длинными центральными верхними резцами. Наглядным отличием от сивапитеков является тонкая эмаль моляров, сходством – отсутствие цингулюма.
Скелет дриопитеков известен достаточно хорошо, особенно благодаря находкам в Рудабанье в Венгрии и Кан-Йобатерес в Испании. Тело их было приспособлено как к четвероногому хождению по ветвям, так и – даже в большей степени – к вертикальному лазанию и подвешиванию на ветвях; такого сочетания типов передвижения нет среди современных человекообразных. Достижением дриопитеков стало удлинение рук – наконец-то эта специфическая черта современных человекообразных впервые проявилась у явных ископаемых родственников. У более древних проконсулид руки были короткие; ореопитеки оказались еще более длиннорукие, но они жили в среднем чуть позже дриопитеков. Пальцы на руках дриопитеков были тоже длинные и сильно изогнутые, явно приспособленные для цепляния за ветви. В целом строение рук больше всего похоже на вариант орангутанов, что, в общем-то, закономерно. Вместе с тем позвоночник больше похож на вариант широконосых и гиббонов, а большая берцовая – макак и гиббонов, чем современных крупных человекообразных обезьян.
Половой диморфизм у дриопитеков был достаточно сильным, что, впрочем, типично почти для всех мало-мальски крупных обезьян.
Кстати, о Рудабанье…
В Венгрии, в замечательном местонахождении Рудабанья, обнаружены останки двух видов приматов – плиопитецид Anapithecus hernyaki и дриопитеков Dryopithecus brancoi. Замечательно, что они были схожих размеров и образа жизни. Возникает закономерный вопрос: как же они решали проблему конкуренции? Исследование тонкостей строения моляров и микростертости эмали показало, что, хотя и анапитеки, и дриопитеки ели в основном сочные фрукты, первые разбавляли их листьями, а вторые – твердыми плодами или орехами (Deane et al., 2013).
На основании половозрастного распределения останков в Рудабанье было сделано предположение, что дриопитеки D. brancoi охотились за детенышами анапитеков A. hernyaki: среди первых встречены почти только взрослые особи, а среди последних много детенышей (Kordos et Begun, 2001). Однако более тщательные исследования показали, что, во-первых, разница частот не столь уж очевидна, а самое главное – останки двух видов залегают в несколько разных отложениях, так что они, видимо, предпочитали различные условия жизни (Armour-Chelu et al., 2005). Так что картина охоты “почти-шимпанзе” за “почти-гиббоном”, видимо, останется не воплощенной в красках…
Позднейшие и географически обособленные дриопитецины люфенгпитеки Lufengpithecus найдены в Юго-Западном Китае. Как обычно бывает, исследователи разродились фонтаном имен: L. keiyuanensis, 8,3–10,5 млн лет назад (он же S. xiaolongtanensis, S. yunnanensis и Dianopithecus progressus, не говоря о комбинациях с родовыми названиями Laccopithecus, Dryopithecus, Sivapithecus и Ramapithecus), L. hudienensis, 7,1–8,2 млн лет назад (он с большой вероятностью может быть синонимом L. keiyuanensis и точно синоним Lufengpithecus yuanmouensis, Sinopithecus xiaoheiensis, Homo erectus zhupengensis или H. habilis zhupengensis, а также H. orientalis – просто праздник какой-то!), и L. lufengensis, 6,2–6,9 млн лет назад (который тоже фигурирует в литературе как минимум под 13 названиями!).
Люфенгпитеки известны по четырем черепам, распределенным по-даосски гармонично: два детских и два взрослых, из коих один – самца и один – самки. Правда, все эти черепа не слишком гармонично расплющены в лепешки, но и в этом можно найти свое дао. Реконструированные черепа в чем-то схожи с дриопитеками – верхние центральные резцы узкие и длинные, а в чем-то отличны – глазницы прямоугольные, верхний край носового отверстия расположен выше нижнего края глазницы, клыки у самцов тонкие и очень длинные, эмаль зубов толстая.
Три сказа о люфенгпитеках
Сказ первый: о том, как мудрецы взглянули на лик Люфенгпитека и как Люфенгпитек Китай и Европу сроднил
Хорошей сказке полагается начинаться примерно так: давным-давно, в незапамятные времена (1988 г.), в далеком-предалеком Южном Китае, в цветущей долине Юаньмоу, один трудолюбивый китаец рубил бамбук / копал канаву / искал козу, да и нашел череп. Удивился китаец премного и отнес череп Великим Мудрецам, жившим в Университете. А был то череп детеныша обезьянки. Он был маленький, на левый глаз кривенький, но все ж красивый. И за это назвали его YV0999, что в переводе значит Lufengpithecus hudienensis. Все любовались черепом, и многие мудрецы писали про него ученые статьи. Однако ж нелегко сложилась судьба YV0999: лишь одна черно-белая зернистая фотография его гуляла по бескрайним просторам интернета, и несмотря на то, что часто поминали его, существовал он в полном одиночестве. Никто не хотел сравнивать его с детенышами других обезьян, и полноценного анализа за последующие 24 года (конечно, эпичнее было бы тридцать лет и три года, но, видать, мудрецы поторопились) ни один мудрец так и не сделал. Но всякому сроку приходит свой конец. Два мудреца, жившие по разные стороны Великого Океана, – Джей Келли из пыльной Аризоны и Фенг Гао из дождливой Юньнани – удивительной силой интернета соединили свои невероятные усилия и сняли проклятье одиночества с YV0999 (Kelley et Gao, 2012). Навострили они волшебные Циркули Скользящие, пошли в хранилища заветные и разом измерили 10 черепов детенышей шимпанзе, 9 – горилл и 11 – орангутанов (лучше б, конечно, сорок сороков, но столько не нашлось, а как по сусекам поскребли, по амбарам помели – вот и набралось 30 черепов, это вам не две горсти все ж!) ажно по 17 признакам (лучше б, конечно, по тьме тьмущей и чтоб без счета, но, как говорилось, череп кривенький был, махонький). Составили они потом Матрицу Многостолбовую Малострочную, расчехлили Великую Машину Счетную, вложили в нее циферки полученные, да такой завели в ней Анализ Кластерный да Дискриминантный, что аж стон по земле пошел! И выдала им Машина картинку дивную да цветную притом. Глянули на нее Джей и Фенг и аж заколдобились. Да и было отчего! Ибо выходило из той картинки цветной две вещи: одна явная, а другая – тайная. Явная была такова, что YV0999 вовсе не схож с рыжим зверем-орангутаном индонезийским, что казалось очевидным мудрецам древности, кои в былые времена говаривали (а то и пописывали): “Ай до чего ж похож наш люфенгушка на предка орангутанушки! – вылитые дед да внучок!”, да длинные седые бороды при том поглаживали. А зато выходило из той картинки кластерной, что схож YV0999 с обезьяном-шимпанзе африканским. Зело чудно показалось это Джей и Фенгу, ибо обезьян-шимпанзе живет в далекой Африке, а до Царства Орангутанов от Юаньмоу – рукой подать.
Впрочем, у картинки и оборотная сторона была, потаенная, – в средней части ее смешались в кучу (хочется ляпнуть “кони, люди”, но это совсем из другой сказки, про удивительную Вента-Мицену Гишпанскую) гориллы, шимпанзе и орангутаны. Так-то часто бывает, что самое дивное на виду лежит, но глаз мимо ходит да дивноты той не замечает. А сталось то оттого, что Алгоритм все выбранный решает в Анализе Кластерном, а всех тех Алгоритмов – тьма тьмущая да еще один с привесочком.
Не только измерили Джей и Фенг черепа, но и описали таинственные дискретные признаки, тайное генетическое значение коих никому доселе неведомо, но всегда всех интригует безмерно. И вышла у них табличка предивная, ибо в ней-то почти все признаки, окромя двух с половиною, сошлись у YV0999 и зверя-орангутана, а не сошлись с обезьянами африканскими, что не в лад пошло с картинкою кластерной.
Но не остановились на том Джей и Фенг, провели они еще и фаун сравнение. И обнаружили они, что фауны, в коих находили доселе люфенгпитеков, вовсе не схожи по составу своему с фаунами, в коих сивапитеки да хоратпитеки обнаружены. Хоть и мало о чем говорит сие, но как бы намек тут некий мудрецам приоткрылся.
И задумались тогда крепко Джей и Фенг: кому ж родня тогда YV0999? И открылось им, что близок он к стволовой линии гоминид, кои, окромя горилл, и шимпанзей, и человеков в себя включают сродственно. Все ж никак не может стоять Поднебесная без того, чтобы и в ней стволовой Великий Предок не нашелся. А чтоб явнее та истина всем казалася, сравнили Джей и Фенг YV0999 с Rudapithecus из страшной, дикой и вечно холодной Восточной Европы (хоть и найден Rudapithecus в Европе Центральной, однако ж глобусы в Аризоне и Юньнани, видимо, малость перекошенные, али долго на боку лежали-сплющились, али карту еще Клавдий Птолемей рисовал – то нам неведомо). И, конечно, нашли они сходства необычайные, удивления достойные, в зубах заключающиеся. Впрочем, сравнение то было предварительное и целью имело интригу вызвать и зуд мозговой у приматологов.
Смелы были Джей и Фенг: задумали они поразить прочих мудрецов смелою догадкою, что шли Люфенгпитеки до Китая не по берегу морскому, как примитивные косматые Pongo делали, а по пути Северному, через горы высокие Тибетские, через степи широкие Ордосские, через пески зыбучие Монгольские да до самых до лесов дремучих Южнокитайских. Долог и труден был путь Великого Предка, да на то он и Великий, чтоб все препоны преодолеть да окольною дорогою диких понгов обогнать. И неважно показалось Джей и Фенгу, что на Северном Пути о гоминоидах и слыхом не слыхивали, и нюхом не нюхивали: на то она и Догадка Ученая, чтоб затем в находках воплотиться и всех своею глубиною и прозорливостью поразить.
А после сели Джей и Фенг за свои компьютеры многоклавишные да разноязыкие, да и написали статью о четырех страничках, да и опубликовали ее врагам на зависть, а нам на удивление. Тут и сказке конец, а кто прочел, тот молодец.
Сказ второй: о том, как лик Люфенгпитека взглянул на мудрецов и как Люфенгпитек Китай обособил
Велика страна Китай, бесчисленны ее жители, беспредельны рисовые поля, и недра ее бездонны. Редкий шахтер потревожит своей мотыгой лигниты Жоатонга. Миллионы лет лежат под бамбуковой сенью нетронутые богатства – бивни слонов-стегодонов, зубы зайцев-атилепусов, черепа обезьян-люфенгпитеков. Но даже в Поднебесной время неумолимо течет. Вот уж изобретены порох и компас, построена и уже развалилась Великая Стена, основана Вечная Империя и сметена Пламенной Революцией. Доходит черед и до древних костей. Но тяжек труд палеонтолога: прочны камни, трухлявы кости, жарко печет солнце Юньнани, катится пот по спине землекопа. Но трудолюбие китайцев не зря вошло в поговорку. И вот из земли Шуйтангба впервые за 6 млн лет (6,0–6,5) появляется невиданное лицо. Плоско оно, круглы его глазницы, широки его скулы, и радует это китайский взгляд. Счастливы И Супин, Ден Ченлун и Ю Юшан. Скорее чистят они треснувший лоб и крохотную челюсть, с удивлением стряхивают вековую пыль с молочных зубов. Кто перед ними? Неужели и это – предок китайцев? Лунгупо и Лунгудун, Нанкин и Чжоукоудянь, Дали и Цзиньнюшань, Мапа и Жижендун, Малудун и Лунлин – не счесть кандидатов на эту почетную должность.
И вот уже созвана международная команда исследователей, трещат клавиши, гудят томографы, горят процессоры: кипит работа. Шесть-семь миллионов лет – важное время. В те времена в Африке ранние австралопитеки, робко озираясь, выходили из джунглей на простор саванн, в Европе доживали свой век последние дриопитеки, на средиземноморских островах гибли в зубах злых кошек беспечные ореопитеки, в Азии могучие гигантопитеки соревновались с пандами в пожирании бамбука, а по ветвям будущей Юньнани скакали неведомые обезьяны.
Много придумано названий этим обезьянам, да трудно в них разобраться. Самые древние человекообразные Юньнани найдены около Кайюани и названы Lufengpithecus keiyuanensis (8,3–10,5 млн лет назад), более поздних из Юаньмоу прозвали Lufengpithecus hudienensis (7,1–8,2 млн лет назад), а самых последних из Шихуйба в Люфенге – Lufengpithecus lufengensis (6,2–6,9 млн лет назад). Но любят ученые люди латинский язык, а потому обогатились списки такими сказочными словосочетаниями, как Homo erectus wushanensis и Homo erectus zhupengensis, Sinopithecus xiaolongtanensis и Sinopithecus xiaoheiensis, Sivapithecus yunnanensis и Dianopithecus progressus, а также многими иными, дивными в своем благозвучии. А все потому, что обычно в руки исследователей попадают лишь зубов обломки да челюстей куски, и лишь мудрейший может разведать их истинную суть, да и то с трудом и не сразу. Бывали, конечно, и лучшие дни, найдены были и черепа люфенгпитеков, но не на радость, ибо так были сплющены и раздавлены толщами земляными, что даже китайские мастера доселе расправить лишь один смогли. Был, впрочем, и светлый луч во тьме прошедших эпох: милое лицо детеныша малого найдено было в незапамятном 1988 году, а спустя всего 24 года, в году 2012-м, описано как необычайно особенное, для всех гоминоидов изначальное.
И вот ныне второй луч осветил тайны минувшего: второе лицо, тоже дитяти несмышленого и столь же милое. Антропологи китайские соединили усилия свои с антропологами американскими и описали череп сей (Ji et al., 2013). И ведь что дивно: нет в мире находок черепов детенышей человекообразных, а в Юньнани два уж таких. Новоявленный детеныш был отнесен к виду Lufengpithecus lufengensis. Хоть и мал тот детеныш, да пришлось его сравнивать с другими находками, ранее сделанными: с черепом детским первым и реконструированным взрослым. Да с обезьянами иными – орангутанами бородатыми. И вроде как похож люфенгпитек на орангутана, да вроде и не похож. Из чего вывод сделан был закономерный об особливой эволюции эндемичной в Южном Китае обезьян человекообразных, не имеющей ничего общего с путями орангов ли, горилл ли или шимпанзе каких. Ибо в Китае все вообще особенное и не может там быть банальностей заурядных и обычностей обыденных.
Велика страна Китай, и недра ее бездонны. Много еще хранят они черепов, зубов и отпечатков. И многое еще узнаем мы о прошлом. А пока шелестит бамбук под дождем, панда листья жует, да рис колосится…
Сказ третий: о том, как безликий Люфенгпитек запутал мудрецов, о первом китайце и последнем люфенгпитеке
В далекие-предалекие времена (1985–1988 гг.) в туманных горах китайской Сычуани, покрытых бамбуковыми лесами и славных плюшевыми пандами, отважные китайские палеонтологи копали пещеру Лунгупо. Глубок был раскоп, многочисленны находки. Чего только не нашли доблестные ловцы знаний: и огромные мослы китайских мастодонтов, и крошечные китайских хомяков, и истлевшие мощи макак с проциноцефалами, и складчатые зубы гигантопитеков с лошадями. Все глубже рыли упорные искатели, и все больше чудес им открывалось. На пятом уровне наградой им был булыжник со сколом, на седьмом они наткнулись на верхний резец, а на восьмом ждала их сенсация – еще один обработанный булыжник да часть нижней челюсти с двумя зубами! Тут-то и разыгралась китайская антропология, да вместе с археологией. Ведь слои те были не простые, а очень древние, аж 1,96 млн лет датированные. Не было доселе видано таких древних зубов в Китае, да и во всей Азии. То есть зубов-то в Китае хватает, даже весьма славна Поднебесная драконьими зубами, которые исстари лекари перетирали на лекарства (страшно подумать, сколько уникальных окаменелостей сгинуло в их ступках!), однако же таких, чтобы как бы человеческими были, да двумя миллионами бы датировались, – это невиданно было и неслыханно. Потому-то и возликовали мудрецы китайские и назвали те находки Homo erectus wushanensis, а для непонятливых пояснили, что этот древнейший китаец был даже больше похож на H. habilis, только Конфуций учил скромными быть, отчего и назвали эректусом (Wanpo et al., 1995). И много после полицентристы торжествующе поминали его как первого человека в Китае, да и в Азии, да уж и в мире, чего уж мелочиться-то.
Но не только в Китае мудрецы мудрят. Нашлись смутьяны и среди рыжих мохнатых варваров запада лаовай, кои все с ног на голову поставили: якобы коли H. erectus возник в Азии так уж слишком рано, то не мог он в сложении современного человека участвовать. Появились и такие знатоки, даобицзы “большеносые”, которые усомнились в том, что челюсть человечья (Schwartz et Tattersall, 1996). А потом и вовсе распоясались янгуйцы, “заморские черти”: взяли да написали статью, где по полочкам разложили, что резец, конечно, человечий, но даже слишком уж современный и запросто мог завалиться из вышележащего слоя, камни вообще ничем не похожи на орудия, а челюстью Лунгупо жевал не человек, а обезьяна вроде люфенгпитека (Etler et al., 2001).
Сказка о двухмиллионолетнем китайце растворилась в туманах Сычуани, зато появилась новая интрига: выходит, реликтовые дриопитецины дожили до гораздо более поздних времен, чем доселе считалось. А дао-то все едино – что первый человек, что последний люфенгпитек, всяко Поднебесная в центре мира стоит, а находки в ней уникальнее, чем где-либо за ее пределами.
Понгины Ponginae (они же Simiinae) в современности представлены всего одним видом – орангутан Pongo pygmaeus.
Происхождение орангутанов изучено неожиданно хорошо. В качестве отдаленных предков предполагались сивапитеки и люфенгпитеки, но в последнее время были найдены, видимо, совсем прямые пращуры. В Индокитае обнаружены зубы и челюсти трех видов хоратпитеков: Khoratpithecus chiangmuanensis жил в Таиланде 10–13,5 млн лет назад, Kh. ayeyarwadyensis – в Бирме 8,8–10,4 млн лет назад, а Kh. piriyai – опять в Таиланде 7–9 млн лет назад. Ясно, что ареал был наверняка шире, но, как обычно, что и где найдено, то и найдено.
Хоратпитеки отличаются от орангутанов ровно настолько, насколько должны бы отличаться далекие предки. Интересно, что флора в местонахождении древнейшего хоратпитека обнаруживает явные африканские корни; теоретически приматы могли в это время перемещаться от Африки до Индокитая. К сожалению, у нас слишком недостаточно останков африканских гоминоидов этого времени.
Собственно род Pongo достаточно хорошо представлен в палеонтологической летописи. Найдено множество зубов и даже два скелета – целый взрослого и фрагментарный детеныша – во вьетнамской провинции Хоа-Бин (Bacon et Long, 2001). По останкам из разных мест возрастом от среднего плейстоцена до голоцена описаны как минимум шесть подвидов ископаемых орангутанов, в том числе из Вьетнама, Южного Китая, Бирмы и с Явы. Некоторые китайские находки были определены как самостоятельный вид P. fossilis, а вьетнамские – P. hooijeri. Большинство этих вариантов морфологически слабо отличаются от нынешних “лесных людей”, но были более крупными. Думается, уменьшение размеров от плейстоцена до современности явилось прямым следствием преследования людьми и вытеснения орангутанов в наихудшие закоулки джунглей. На Яве орангутаны дожили до вполне исторических времен, вероятно вплоть до XVII века.
Ныне сохранился лишь один вид. Иногда его, правда, делят на калимантанский P. pygmaeus и суматранский P. abelii виды, но разница между ними весьма несущественна: суматранский покрупнее, поярче, чаще ест фрукты, насекомых и прочих животных, больше времени проводит на деревьях и использует орудия труда. В литературе часто упоминается, что два вида просуществовали более чем 1,5 млн лет в изоляции друг от друга, но в реальности Ява с Калимантаном соединялись и намного позже, а расшифровка полного генома позволила оценить время дивергенции в 400 тыс. лет (Locke et al., 2011; впрочем, позже оно было рассчитано опять в 1 млн лет: Prado-Martinez et al., 2013). В некоторой степени разделение орангутанов на два вида обусловлено нуждами их сохранения: чем уникальнее популяция, тем легче убедить людей ее беречь. Любопытно – генетики утверждают, что генетическое разнообразие суматранских орангутанов больше, чем калимантанских, тогда как морфологи среди последних выделяют три подвида, а среди суматранских – ни одного.
Современные орангутаны – рыжие косматые длиннорукие обезьяны. Лицо орангутанов легко узнаваемо уплощенностью и даже вдавленностью, близко посаженными глазами, очень сильно выступающими челюстями. У взрослых самцов имеются незабываемые пупырчатые кожистые выросты вокруг лица и на груди, длинные усы, борода и выражение а-ля “восточный мудрец”. Уши такие маленькие, что их видно только у детенышей и иногда самок, самцы же кажутся совсем безухими. Орангутаны предпочитают жить на деревьях, но из-за большого веса вынуждены передвигаться очень неторопливо и осторожно. Длинные руки приспособлены к брахиации, но не быстрой, как у гиббонов, а медленной. Крупные самцы, вес которых в среднем 45–90 кг, но может достигать 190 кг, часто ходят по земле, опираясь при этом на согнутые фаланги пальцев, однако не совсем так, как это делают гориллы и шимпанзе. Самки заметно меньше – 40–45 кг, они почти все время проводят на деревьях с детенышами. Суматранские орангутаны реже спускаются на землю, так как там их ждут тигры; на Калимантане полосатые хищники тоже водились, но были выбиты людьми не то еще в плейстоцене, не то лет двести назад. Так или иначе, из крупных человекообразных орангутаны – самые древесные. Из-за этого их руки чрезвычайной длины, большой палец кисти крайне укорочен и почти нефункционален, зато пястные кости крайне вытянуты и изогнуты. Нога тоже изменена соответствующе: большой палец стопы почти полностью редуцирован – у 60 % орангутанов концевой фаланги и ногтя вообще нет, особенно в этом преуспевают самки, что наводит на мысль о сцепленном с полом наследовании признака (Tuttle et Rogers, 1966).
Орангутаны заслужили славу очень спокойных и мирных животных, но не так давно выяснилось, что на Суматре самки регулярно охотятся на медленных лори (Hardus et al., 2012), а на Калимантане детеныши и подростки иногда ловят сомиков в подсохших водоемах (Russon et al., 2014; кстати, какой подарок ученых сторонникам “гипотезы водной обезьяны”! Правда, те все равно не читают научных журналов…). Едят они и других животных, когда те подворачиваются под руку, но предпочитают все же дурианы – очень колючие, очень вонючие, но очень вкусные плоды. Орангутаны довольно часто используют орудия труда, хотя и самые простецкие – разного рода палки-ковырялки для добывания термитов, меда из пчелиных гнезд и очистки родственных дурианам плодов Neesia от шерстовидных волокон; широкими листьями они трогательно укрываются от дождя как зонтиками или используют их как прихватки, чтобы брать колючие ветки. Однако образ жизни орангутанов мало способствует развитию трудовых навыков, тут у них маловато перспектив.
Социальная структура современных орангутанов сильно нарушена, так как люди слишком много преследуют их и вытесняют в неудобные местности. Раньше, по-видимому, орангутаны были куда как более общительными существами, жизнь группами и обучение детенышей должны были существенно развивать их интеллект (Schaik, 2002). Однако в настоящее время на Калимантане они живут поодиночке – многому ли научишься в таких условиях? На Суматре их первоначальный образ жизни сохранился чуть лучше: самец контролирует большую территорию, которая включает участки нескольких самок с детенышами, хотя и тут пары образуются только на период размножения. Поэтому и здесь у деток возможности для развития не лучше калимантанских. Лишь в резерватах и зоопарках они могут проявить свои потенциальные дарования. Какая судьба ждет рыжих “лесных людей”?..
Кстати, о тайнах…
Часть ископаемых человекообразных пока не находит себе места в классификации. Kogolepithecus morotoensis из Уганды, живший 17,5 млн лет назад, известен по четырем зубам, Helladopithecus semierectus из Греции (17 млн лет назад) – по обломку бедренной кости, Langsonia liquidness из Вьетнама (475 тыс. лет назад) – по пяти зубам из единственной пещеры Там-Хуен. В отложениях формации Нгорора в Туген-Хиллс в Кении (12,4–12,5 млн лет назад) обнаружены зубы как минимум одной крупной (схожей с проконсулом – но поздновато для этого рода!) и двух мелких человекообразных обезьян, а также “не мартышкообразного узконосого” примата. Обломок нижней челюсти из Нигера с датировкой 5–11 млн лет назад – единственная находка человекообразного примата из Западной Африки. Фрагмент более всего похож на челюсть шимпанзе, но обнаружен далеко за пределами современного ареала шимпанзе и горилл, зато сравнительно недалеко от чадского местонахождения сахелянтропа. Samburupithecus kiptalami из Кении (8,5–9,5 млн лет назад) имел размер современной гориллы; он образует хронологический мостик от хорошо изученных ранне– и среднемиоценовых гоминоидов к современным. Еще один – пока безымянный – вид крупных человекообразных известен по единственному премоляру из Накали в Кении с датировкой 9,8–9,88 млн лет назад; там же найдены останки еще двух видов “мелких не мартышкообразных узконосых”. Исчезновение тропических лесов в Восточной и Южной Африке лишило нас находок; предки шимпанзе и горилл, судя по всему, жили где-то в Центральной Африке, но там их останки пока не обнаружены.
Человекообразные в черных тонах: африканские человекообразные – почти люди и люди
Подсемейство Gorillinae (оно же Anthropopithecinae или Anthropithecinae) практически никем не признается за валидное в современной систематике. Отличия горилл и шимпанзе от людей в масштабе всех приматов слишком незначительны, да к тому же гориллы отделились от шимпанзино-человеческой линии заметно раньше разделения шимпанзе и людей, а потому обычно всех африканских человекообразных объединяют в гоминид Hominidae и гоминин Homininae. Такой подход совершенно логичен филогенетически и узаконен таксономически. Но: если объединять шимпанзе с человеком в одном подсемействе или даже роде, то как подчеркнуть специфику человеческой линии? Будь бы еще только один вид современного человека, можно было бы обойтись безо всякого подчеркивания. Так ведь ископаемых двуногих предков очень много, они достаточно разные и все отличаются от шимпанзе. Можно бы, конечно, обойтись трибами и подтрибами, но зачем мелочиться? Может антрополог раз в жизни спокойно предаться антропоцентризму? Это всяко проще, чем городить странные конструкции типа “крупные африканские нечеловеческие человекообразные обезьяны” и “крупные африканские человеческие человекообразные обезьяны” – в разделении гориллин и гоминин смысл тот же, но воплощение более простое.
Происхождение горилл и шимпанзе покрыто мраком неизвестности. Впрочем, в последние годы в нем появились первые робкие лучики света: из Эфиопии был описан хорорапитек Chororapithecus abyssinicus, обитавший тут в конце миоцена 8 млн лет назад (Suwa et al., 2007), а из Кении – накалипитек Nakalipithecus nakayamai, живший 9,8–9,88 млн лет назад (Kunimatsu et al., 2007).
Хорорапитек Chororapithecus abyssinicus известен из местонахождения Бетиха по девяти зубам размером с горилльи и очень на горилльи похожим. Отличия заключаются почти только в более низких бугорках моляров и толстой эмали. Посему он из всех известных ископаемых приматов больше всех похож на предка гориллы. Впрочем, распределение толщины эмали у хорорапитека довольно специфическое, так что совсем прямым предком он, вероятно, все же не был. Да и географически хорорапитек расположился не слишком удачно для того, чтобы быть пращуром горилл, – Эфиопия не Уганда и не Конго. Палеоэкологические реконструкции указывают на обитание хорорапитека в прибрежных зарослях вокруг рек и озер, не так далеко от открытых саванн – окончание миоцена и обезлесение Африки были не за горами.
Накалипитек Nakalipithecus nakayamai известен по обломку нижней челюсти с тремя зубами и еще одиннадцати изолированным зубам. Не столь богато, как хотелось бы, но, по крайней мере, теперь исследователи точно знают, где лежат сокровища, так что новые открытия нам гарантированы. Накалипитек имел размеры примерно как у самок орангутанов и горилл. Его клыки весьма короткие, хотя и массивные, похожие на заостренные премоляры, а эмаль моляров толстая. Зубы накалипитека здорово похожи на зубы Ouranopithecus macedoniensis, горилл и шимпанзе, так что из всех прочих обезьян он идеально подходит на роль последнего общего предка современных африканских человекообразных и человека. Вот оно – очередное “достающее звено”, Великий Предок, столь долго искомый. И пусть пока в наших руках лишь горсть зубов, зато нам известно, где искать и что искать.
Существование в Туген-Хиллс, Бетихе и Накали нескольких видов мелких и крупных человекообразных в интервале от 12,5 до 9,8 млн лет назад ставит крест на гипотезе вымирания африканских человекообразных в конце миоцена и реконкисте их из Европы. А ведь в некоторый момент такая концепция была довольно хорошо разработана: согласно ей, средне-позднемиоценовые пертурбации климата сгубили гоминоидов Африки, а прямыми предками современных горилл, шимпанзе и человека являются европейские уранопитеки, грекопитеки и пиеролапитеки, вторично вернувшиеся на исходную прародину.
Действительно, картина достаточно странна: Европа времени около 10 млн лет назад оказывается едва ли не богаче человекообразными, чем Африка. Впрочем, такая ситуация – в большей степени итог недостатка подходящих местонахождений в Африке, плохой сохранности окаменелостей и их недостаточной изученности.
Но европейские “африканские” гоминоиды сами по себе интересны. Древнейший из них – пиеролапитек Pierolapithecus catalaunicus – жил в Испании 11,9 млн лет назад. От него сохранился почти целый скелет с черепом, хотя и основательно погрызенный каким-то хищником.
Череп пиеролапитека своеобразен: с низким, широким и чрезвычайно сильно выступающим лицом, умеренным надбровьем, низкими широкими глазницами, широким межглазничным пространством и очень широким носом, почти квадратным глубоким небом, огромными узкими клыками, широкими верхними центральными резцами. В этом комплексе сочетаются как примитивные, так и продвинутые черты: в анфас пиеролапитек похож на гориллу, а вот в профиль – скорее на сааданиуса или афропитека. В целом он вполне подходит на роль предка современных африканских человекообразных, только вот география подводит – Северная Испания все же не граничит с Африкой. Теоретически приматы могли бы перебираться через Гибралтар, но в реальности это трудновато, скорее уж они мигрировали вдоль берегов Средиземного моря через Ближний Восток.
Строение тела пиеролапитека наконец-то похоже на современных крупных человекообразных: грудная клетка широкая и уплощенная спереди назад, поясница укорочена и расширена; исчез сустав между локтевой костью и запястьем; таз имеет промежуточное строение между мартышкообразными и проконсулами с одной стороны и современными человекообразными – с другой, что примерно соответствует варианту гиббонов; коленная чашечка низкая, широкая и толстая (отличается от узкой и тонкой широконосых, мартышкообразных, Proconsul, Nacholapithecus и гиббонов, но аналогична надколеннику современных крупных человекообразных и человека). Впрочем, еще не все признаки пришли в современное состояние. Судя по строению фаланг, пиеролапитек ходил на четвереньках с опорой на ладонь, а не согнутые фаланги. Очевидно, пиеролапитеки совершили переход от четвероногого бегания по ветвям к вертикальному лазанию по деревьям, хотя еще не были способны подвешиваться на руках, как современные человекообразные.
Уголок занудства
Ладоне– и костяшкохождение отражается на разных костях скелета, сильнее всего, очевидно, на пястных и фалангах кисти. На головках пястных костей и основаниях проксимальных фаланг суставные поверхности у ладонеходящих приматов ориентированы дорзально и сглажены для облегчения отгибания пальцев вверх, а у костяшкоходящих – на головках пястных тоже дорзально, но с ограничителем разгибания в виде поперечного костного гребня, а на проксимальных фалангах – проксимально, то есть с торца. У ладонеходящих на пальмарной стороне основания проксимальной фаланги имеются два мощных бугорка для укрепления крупных сесамоидов, ограничивающих канал для сухожилия длинного сгибателя, весьма напрягающегося при чрезмерном разгибании пальца, а у костяшкоходящих этих бугорков нет. Головки проксимальных фаланг у ладонеходящих вытянуты спереди назад, а у костяшкоходящих – дорзо-пальмарно, а сама фаланга из-за этого сильнее изогнута, чтобы следующая – медиальная – оказалась опорой, лежащей дорзальной поверхностью горизонтально на земле.
Рис. 40. Черепа Pierolapithecus catalaunicus (а), Ouranopithecus macedoniensis (б) и челюсть Nakalipithecus nakayamai (в).
Пиеролапитеки жили в теплых влажных лесах и питались преимущественно фруктами.
Любопытно, что пиеролапитеки обитали одновременно и в тех же местах, что и дриопитеки. Посему некоторые палеоприматологи не желают пускать их в тесный кружок африканской родни и прямо относят испанских “недогорилл” к Dryopithecus fontani или, более осторожно, к трибе Dryopithecini. Однако отличия пиеролапитеков от дриопитеков все же достаточно заметны, а прогрессивные черты и сходство с современными человекообразными несомненны.
На противоположном конце Европы и в Малой Азии жили родственные уранопитеки и грекопитеки. В Греции найдены череп и несколько нижних челюстей уранопитека Ouranopithecus macedoniensis (9,2–9,6 млн лет назад), а также одна описанная как Graecopithecus freybergi (6,6–8 или, менее вероятно, 9–9,5 млн лет назад). Трудно понять, представляют ли уранопитек и грекопитек один вид или два рода. Сложность в том, что грекопитек описан по плохо сохранившейся нижней челюсти с разрушенными зубами. Все же между ними есть некоторые отличия, тем более они с большой вероятностью жили в разное время.
Уранопитеки изучены гораздо лучше. Они были крупнее всех прочих европейских приматов – размером с самку гориллы, около 50–70 кг. Череп греческого уранопитека отличается от черепа прочих человекообразных очень низким расположением и массивностью скуловых костей, отчего лицо приобретает крайне тяжелый вид. Лицо несколько вдавлено. Верхняя челюсть умеренно выступает вперед, примерно как у дриопитеков и горилл – сильнее, чем у проконсулид и гиббонов, но слабее, нежели у орангутанов, шимпанзе и даже австралопитеков. Глазницы почти прямоугольные, межглазничное расстояние и носовое отверстие широкие, небо глубокое. Верхние резцы очень широкие, клыки толстые и не слишком длинные, моляры большие и имеют крайне толстую эмаль, что предполагает питание какой-то очень твердой пищей.
Не так давно был описан особый вид турецкого уранопитека Ouranopithecus turkae, жившего позже греческого, 7,4–8,7 млн лет назад. Турецкий отличается бóльшими размерами, менее выступающей челюстью и более короткими клыками.
Уранопитеки жили в более открытых местообитаниях, чем большинство человекообразных, так как в это время в Европе леса постепенно исчезали и сменялись саваннами. Некоторые исследователи считают, что уранопитеки могли быть предками австралопитеков, однако у тех и других есть свои специализации, не позволяющие им выстроиться в стройный ряд “отцы и дети”. Все же некоторый параллелизм, особенно с Australopithecus africanus, не может не радовать. Если бы не оледенения, окончательно сгубившие европейскую тропическую флору и фауну, как знать – возможно, человечество появилось бы из уранопитеков?..
Последний из обезьян
В наши дни Европа не может похвастаться разнообразием приматов. Один вид макак на одной скале в Гибралтаре, еще один двуногий безволосый (правда, он – повсюду) – вот, собственно, и всё. Обезьяны в зоопарках, конечно, не в счет. Но так было не всегда. Когда-то Европу населяли довольно многочисленные приматы. В эоцене и олигоцене тут резвились адаписовые и омомисовые полуобезьяны, в миоцене – плиопитеки, мезопитеки, ореопитеки, анойяпитеки, дриопитеки, уранопитеки, грекопитеки и пиеролапитеки, в плейстоцене – макаки и теропитеки. Но климат становился все холоднее, и обезьяны исчезали…
Когда же Европа лишилась последних представителей человекообразных? В первом номере Journal of Human Evolution 2012 года международная группа исследователей опубликовала описание находки, которая может пролить свет на этот вопрос (Spassov et al., 2012). В Болгарии в карьере Азмака около Чирпана были найдены остатки ископаемой фауны, включающей позднемиоценовых представителей слонов, саблезубых тигров, газелей, примитивных носорогов, гиппарионов и других животных. Сочетание видов млекопитающих позволило оценить время отложения слоев в 7 млн лет.
Среди костей обнаружен и один зуб – левый второй верхний премоляр – человекообразной обезьяны. Зуб целый, хотя и очень стертый. Морфологию его жевательной поверхности оценить практически невозможно, однако форма и размеры коронки оказались в наибольшей степени соответствующими Ouranopithecus macedoniensis, а малые размеры корней могут свидетельствовать о родстве с Graecopithecus freybergi. Эти два близких вида гоминоидов жили в Греции в позднем миоцене, около 8,7–9,6 млн лет назад. В то же время болгарский зуб отличается от грузинского удабнопитека и турецкого уранопитека, имеющих примерно те же датировки, что у греческих обезьян. Очевидно, виды гоминоидов закономерно распределялись географически: в Европе – на запад от Черного моря – жили одни обезьяны, а в Азии – на юг и восток – другие.
Видимо, зуб из Болгарии принадлежал одной из последних человекообразных обезьян Европы. Примерно в то же время – чуть раньше или чуть позже – вымерли и ореопитеки в Италии. Их сгубило то же похолодание, что раздвинуло саванны в Африке и выгнало на их просторы предков австралопитеков. Европейские гоминоиды не смогли или не успели адаптироваться к новым условиям. Северное расположение не оставило им шансов на развитие.
Человекообразные исчезли из Европы, и на долгих 6 млн лет она осталась вотчиной только мартышкообразных. Чуть более 1 млн лет назад человекообразные в лице человека взяли реванш, но это уже совсем другая история…
Итак, после всех вымираний крупные африканские человекообразные представлены ныне двумя родами с тремя видами. Гориллы Gorilla gorilla населяют Западную и Центральную Африку (иногда горная горилла выделяется в особый вид Gorilla beringei, но это, как и в случае с орангутанами, аргументировано лишь генетически и обусловлено в немалой степени нуждами охраны и спасения горилл). Шимпанзе делятся на два вида: обыкновенные Pan troglodytes живут также в Западной и Центральной Африке севернее от Конго, а карликовые, или бонобо, Pan paniscus – южнее этой реки в Заире.
Гориллы – самые крупные современные обезьяны. Конечно, измерять приматов можно по-разному. Рост горилл не такой уж запредельный, как многим может показаться, – в среднем у самцов 1,65–1,75, а у самок так и вовсе 1,4–1,5 м – ниже большинства европейцев. Самый высокий горилл был ростом 1,94 м – всяко меньше большинства баскетболистов. Другое дело – вес. Тут гориллам действительно нет равных: в среднем самки весят 60–100 кг, а самцы – 140–200 кг, с рекордом в природе 266 кг, а в неволе так и вовсе до 388 кг! Благодаря огромнейшим мышцам и здоровенной морде гориллы человек рядом с гориллой выглядит маленьким.
Гориллы настолько могучи, что не имеют в природе врагов, кроме людей. Лишь изредка леопард может напасть на детеныша. Излишняя безопасность привела к уменьшению стимулов к эволюции и развитию интеллекта, хотя потенциально гориллы крайне умны, что наглядно демонстрируют в экспериментах.
Череп горилл легко узнаваем по огромным общим размерам и мощнейшему развитию рельефа – надбровного валика, сагиттального и затылочного гребней. Богатырские жевательные мышцы сходятся у них на макушке, так что, когда мы смотрим на здоровенную башку гориллы, мы на самом деле видим немало шерсти, большие мышцы, толстый череп и не так уж много мозгов (в отличие от человека, размер мозга которого не слишком замаскирован всем, что покрывает его). Впрочем, “не так уж много мозгов” гориллы – это только в сравнении с нами, шибко умными, а на самом деле все равно рекорд для приматов: 535 см³ в среднем у самцов, с индивидуальным рекордом 752 см³. У горилл могучая нижняя челюсть, иногда довольно сильно выступающая вперед, для обозначения чего даже предложен специальный термин “нижнечелюстной прогнатизм”, впрочем неупотребительный.
Огромный вес делает горилл почти полностью наземными животными. Однако вся их морфология вопиет, что спуск на землю произошел эволюционно совсем недавно; строго говоря, неизвестно когда, но достаточно уверенно можно предположить, что позже появления австралопитеков. По земле гориллы передвигаются, как и шимпанзе, на четвереньках с опорой на согнутые фаланги пальцев. Из-за этого для противостояния тяжести туши головки пястных костей и проксимальные фаланги кисти резко расширены, гороховидная кость огромная, сложно устроенная, укрепляющая запястье. Тыльные стороны средней и концевой фаланг пальцев кисти не только голые, но и имеют пупырчатую поверхность – почти папиллярные узоры.
Как и у орангутанов, половой диморфизм – различие самцов и самок – у горилл выражен очень резко: самцы почти вдвое крупнее. Старые доминантные самцы отличаются серебристым цветом спины, они пасут гарем из нескольких самок с детенышами, а также молодых самцов. Когда эти молодые самцы подрастают, они образуют свою группу, уводя самок у патриархов.
Шимпанзе – самые близкие наши родичи.
Шимпанзе в ископаемом виде представлены чрезвычайно скудно: найдены лишь три зуба в кенийской местности Туген-Хиллс с датировкой около 545 тыс. лет назад (McBrearty et Jablonski, 2005). Они ничем принципиально не отличаются от современных и ничем не могут помочь в решении вопроса о происхождении этого рода. Однако сопоставление данных генетики и палеонтологии позволяет оценить время расхождения шимпанзиной и человеческой линий в 7–11 млн лет, причем большинство ученых склоняется к наименьшей цифре.
Обыкновенные шимпанзе отличаются от карликовых шимпанзе бонобо размерами и поведением. Обыкновенные имеют рост около 1,4 м у самок и 1,5 м у самцов и вес 40 и 50 кг соответственно, хотя отборные особи могут достигать и 80 кг. Бонобо гораздо мельче и грацильнее: 1,2 м ростом и весом самок и самцов 33 и 43 кг, максимум – до 60 кг. Морда и клыки обыкновенных гораздо внушительнее, лицо обычно желтое, а уши безволосы и лопоухи, у бонобо же лицо более интеллигентное и черное, а уши сравнительно маленькие и пушистые. У обыкновенного шимпанзе объем мозга в среднем 394 см³, у бонобо – 349 см³ (вот она, магия чисел!).
Примечательно, что различия обыкновенных шимпанзе и бонобо по размерам челюстей и зубов, а также по уровню полового диморфизма вызваны не какой-то спецификой питания, а разницей в уровнях межсамцовой и внутригрупповой агрессии и возбудимости. Бонобо гораздо спокойнее, более уравновешенны и дружелюбны. Кстати, они довольно часто в природе ходят на двух ногах, причем иногда не для дела, а просто потому что им так нравится. Бонобо регулярно переносят в руках разнообразные предметы или детенышей.
Группы шимпанзе владеют определенными участками леса, однако состав самой группы не так стабилен, как у горилл. Отдельные особи – особенно самки – могут достаточно свободно переходить из стада в стадо. Внутри группы имеется иерархия, но она далеко не столь жесткая, как у павианов. Каждый индивид может завоевать авторитет сородичей не только силой и агрессией, но благодаря уму и сообразительности. Широко известен случай, когда самец шимпанзе, стоявший на низшей ступени социальной лестницы, добился места вожака, догадавшись напугать соплеменников громыханием пустых канистр из-под керосина, украденных у исследователей.
Кстати, о гнездах…
Шимпанзе каждый вечер, укладываясь спать, делают себе гнездо, обычно на дереве. Это не слишком масштабное сооружение из заверченных веток, мало спасающее от чего-либо, но дающее ощущение комфорта и уюта. Однако показательно, что шимпанзе никогда не пользуются гнездами дважды. Кочевая жизнь приводит их каждый вечер на новое место, хотя перемещения и происходят в границах определенной территории. Думается, австралопитеки вели себя примерно так же. В этом смысле изобретение людьми дома, постоянного места жительства и уж подавно прописки с регистрацией – странная новация, вызванная ненормальной численностью. Пока было куда брести, а границы, таможни, визы и паспортный контроль не превратили планету в тюрьму строгого режима, гоминиды перемещались сколько хотели. Человек – прирожденный путешественник, страннические наклонности прошиты в его обезьяньей сути как минимум с палеоцена. Потому-то людям так нравится открывать что-то, даже если они знают, что это уже прекрасно известно другим. Скажем, в большом городе открывается новая станция метро – многие люди едут “открывать” ее и потом рассказывают об этом знакомым-родственникам так, как будто на станции до них не ступала нога человека и вообще они съездили на доселе неведомый континент. Нам интересно бывать в новых местах, хотя и про родную территорию мы, конечно, не забываем. Так в людях уживаются сбалансированные патриотизм-территориальность с первооткрывательством-бродяжничеством.
Шимпанзе во многих деталях поведения похожи на человека. И чем дольше изучают их этологи, тем больше выявляется это сходство. Шимпанзе иногда кооперируются для охоты на мелких животных. Они используют палочки для выуживания термитов из ходов термитников. При этом в некоторых группах принято специально обкусывать такие палочки. Иногда термиты выкапываются с помощью палки, используемой как лопата, даже с упором ногой в торчащие вбок ветки. Другие шимпанзе раскалывают орехи камнями. Примечательно, что камни для этого специально никогда не обрабатываются, но подыскиваются определенной формы. Поскольку в тропическом лесу подходящие булыжники могут быть в дефиците, шимпанзе иногда хранят их и, возвращаясь на место после отсутствия, отыскивают старые орудия, а не находят новые. Третьи шимпанзе изготовляют из широких листьев “кружки” для воды или делают из жеваных листьев губки для собирания воды из пней. Недавно описано изготовление шимпанзе “копий”, заостренных с помощью зубов и используемых для охоты на галаго. Шимпанзе могут отлично жить и без орудий – многие и живут, но с ними жизнь облегчается и разнообразится. Существуют особые традиции использования орудий, свойственные отдельным популяциям обезьян. Традиции существуют и в области общения. Например, отличаются способы приветствия. Есть даже группы шимпанзе, в которых принято “рукопожатие” – касание рукой к руке. Пристальный взгляд и оскал у обезьян, как и у человека, означают угрозу, а ласковое прикосновение и поглаживание – дружелюбие. Они могут дружить и враждовать, любить и ненавидеть, обманывать и ругаться. Наконец, они смеются, у них есть юмор.
Интеллект шимпанзе, по мнению тех, кто с ними работает, приблизительно соответствует таковому трех-четырехлетнего ребенка. Впрочем, нельзя и переоценивать способности обезьян. Так, настоящей орудийной деятельности у них не существует: преобладает деструктивное поведение, а конструктивное находится лишь в зачаточном состоянии. Шимпанзе неспособны долго и целенаправленно обучаться, передача культурных навыков и закрепление нововведений происходит во многом случайно, часто полезные знания утрачиваются. Уровень кооперации весьма низок – шимпанзе не так часто делают что-то сообща, с единой целью.
Минутка фантазии
В 2004 г. новостные агентства и даже научные журналы всколыхнула новость о том, что на севере Конго, в лесу около города Били, исследователи наблюдали неких странных обезьян – двухметрового роста, с черными лицами и огромными сагиттальными гребнями, ходящих на двух ногах, живущих в болотистой местности, строящих гнезда на земле, как гориллы, но питающихся фруктами подобно шимпанзе, убегающих при приближении людей, оставляя фекалии в три раза больше шимпанзиных и огромные следы, превосходящие горилльи. Местные жители добавили к этому, что обезьяны бывают двух типов: тех, что лазают по деревьям, можно убивать отравленными стрелами, а вот тех, что побольше и живут на земле, отравленные стрелы не берут, зато сами эти чудища убивают даже львов. Моментально появились предположения, что это не то новый неведомый вид обезьян, не то гибриды шимпанзе и горилл. Появилось и красивое название: “обезьяны Бондо”. Какая сенсация!
Однако специальные экспедиции, отправившиеся в лес Били, показали, что все не так уж чудесно. Никаких следов горилл тут не нашлось, зато встретились шимпанзе самого обычного подвида Pan troglodytes schweinfurthii, хотя действительно весьма крупные и регулярно устраивающие гнезда на земле. Открытие нового вида и даже подвида не состоялось, зато исследователи сделали массу новых наблюдений за поведением наших ближайших родственников.
Африка вообще полна тайн. С XIX века до наших дней появляются упорные слухи о существовании гибридов между шимпанзе и гориллами, обычно их называют коолокамба, иногда соко, коула-нгуйя, н'гуи-мун или чего. Действительно описано довольно много живых особей и черепов с промежуточными признаками. Показательно, что таковые происходят только из областей, где водятся и гориллы, и шимпанзе. Причем подавляющая часть таких особей – самки, что наводит на мысли о неравной выживаемости гибридов, ведь замечено, что при отдаленной межвидовой гибридизации млекопитающих самки оказываются жизнеспособнее самцов. Теоретически в метисации шимпанзе и горилл нет чего-то невероятного, тем более что неоднократно отмечались смешанные группы двух видов, пасущихся вместе и даже играющих друг с другом. Одна беда: стопроцентных доказательств гибридизации за полтора столетия так и не было получено. Основная часть сообщений о коолокамба публиковалась в XIX и начале XX века, когда африканские приматы были вообще слабо изучены. Сейчас же, когда обезьян становится все меньше, а исследователи уже не стреляют их почем зря, вероятность наткнуться на настоящего гибрида стремительно падает. Возможно, вопрос решат ДНК-анализы из старых образцов, хотя пока такие попытки положительных результатов не дали.
Коли уж зашла речь о метисации, никак нельзя забыть опыты Ильи Ивановича Иванова – выдающегося отечественного биолога. В 1926 г. он пытался скрестить шимпанзе и человека, но безуспешно. Аналогичные эксперименты, кстати, планировались и в Италии, но там их запретил папа римский. По этому поводу существует множество домыслов и баек, но действительность банальна: гибриды не получаются. Очевидно, главной виной всему разница в количестве хромосом – у шимпанзе на одну пару больше. Правда, разным подвидам домовой мускусной землеройки Suncus murinus не мешает даже разница в пять пар хромосом (от 15 до 20), а бабочкам горошковым беляночкам Leptidea sinapis – и вовсе в пятьдесят (от 56 до 106)! Есть и другие примеры видов с разным числом хромосом. Да оно и понятно: если бы различие в числе хромосом было совершенно непреодолимым барьером, то у всех живых существ с половым размножением было бы одно и то же их количество – как у первопредка. Но человек отличается от шимпанзе не только числом хромосом, но и их строением. И. И. Иванов не мог знать этого в 1926 г., но без его работ червь сомнения – может ли быть метис? – поныне точил бы нас. Впрочем, он и так точит некоторых недоверчивых граждан (“ученые скрывают!!!”)…
Современные шимпанзе могут служить лишь общей моделью наиболее ранних ступеней эволюции предков человека. Этот уровень примерно соответствует выходу предков человека из тропических лесов в саванны и возникновению прямохождения. Кстати, есть группы шимпанзе, обитающие на границе леса и саванны. Характерно, что их поведение значительно отличается от поведения полностью лесных шимпанзе. Нельзя, однако, забывать, что и сами человекообразные обезьяны прошли длинный эволюционный путь: современные шимпанзе – это не копия наших предков и уж тем более не сами эти предки. Так, у них развилось костяшкохождение и огромные клыки, видимо несвойственные общему с человеком предку.
А что же наши предки? Где были они, как выглядели, что делали? Итак, люди…
Вкладка
Ichthyostega – промежуточная стадия между рыбой и амфибией. Гренландия, 360 млн лет назад.
Dvinia prima – одна из зверообразных рептилий пермского периода. Россия, 254 млн лет назад.
Purgatorius – древнейший предок всех приматов. США, 65 млн лет назад.
Archicebus achilles – общий предок долгопятов и обезьян. Китай, 55 млн лет назад.
Saadanius hijazensis – общий предок мартышкообразных и человеко– образных обезьян. Саудовская Аравия, 29 млн лет назад.
Proconsul heseloni – одна из древнейших человекообразных обезьян. Кения, 18 млн лет назад.
Горилла (Gorilla gorilla) – самый могучий примат современности и второй (после шимпанзе) наш ближайший родственник.
Шимпанзе (Pan troglodytes) – наш наиближайший родственник, самое умное существо на планете, не считая человека.
Литература
Сокращения:
AJPhA – American Journal of Physical Anthropology;
CRAS – Comptes Rendus des seances de l'Académie des Sciences de Paris;
JAS – Journal of Archaeological Science;
JHE – Journal of Human Evolution;
PNAS – Proceedings of the National Academy of Sciences, USA;
PRS – Proceedings the Royal Society, ser. B, Biological Science.
Березкин Ю. Е. Африка, миграции, мифология. Ареалы распространения фольклорных мотивов в исторической перспективе. СПб.: Наука, 2013. 320 с.
Бужилова А. П. Адаптивные процессы у древнего населения Восточной Европы (по данным палеопатологии). М., рук. докт. дисс., 2001. 451 с.
Вишняцкий Л. Б. Неандертальцы: история несостоявшегося человечества. СПб.: Нестор-История, 2010.
Власенко А. Н., Дробышевский С. В. Морфофункциональные адаптации статолокомоторного аппарата и двигательное поведение классического неандертальца // Вестник Московского университета. Серия XXIII. Антропология. 2010. № 4. С. 50–56.
Длусский Г. М. Некоторые соображения о начальных этапах антропогенеза // Вопросы антропологии. 1980. Вып. 66. С. 85–90.
Докинз Р. Расширенный фенотип: длинная рука гена. М.: Corpus, 2010. 512 с.
Докинз Р. Самое грандиозное шоу на Земле. Доказательства эволюции. М.: Corpus, 2012. 528 с.
Дробышевский С. В. Эволюция мозга человека (анализ эндокраниометрических признаков гоминид). М.: ЛКИ, 2012. 178 с.
Дробышевский С. В. Предшественники. Предки? Часть V: Палеоантропы. 3-е издание. М.: ЛКИ, 2014а. 312 с.
Дробышевский С. В. Происхождение человеческих рас. Закономерности расообразования. Африка. М.: URSS, 2014б. 404 с.
Еськов К. Ю. Удивительная палеонтология. История Земли и жизни на ней. М.: НЦ ЭНАС, 2007. 312 с.
Киттельсен Т. В стране троллей. Кто есть кто в норвежском фольклоре. М.: ОГИ, 2009. 272 с.
Кунин Е. Логика случая. О природе и происхождении биологической эволюции. М.: Центрполиграф, 2014.
Кэрролл Р. Палеонтология и эволюция позвоночных. Т. 2. М.: Мир, 1993а. 283 с.
Кэрролл Р. Палеонтология и эволюция позвоночных / Под ред. В. И. Громовой. Т. 3. М.: Мир, 1993б. 312 с.
Линдблад Я. Человек – ты, я и первозданный. М.: Прогресс, 1991. 264 с.
Лопатин А. В. Строение черепа Archaeoryctes euryalis sp. nov. (Didymoconidae, Mammalia) из палеоцена Монголии и систематическое положение семейства // Палеонтологический журнал. 2001. № 3. С. 97–107.
Лопатин А. В. Особенности развития фауны мелких млекопитающих Азии в раннем палеогене // Экосистемные перестройки и эволюция биосферы. М.: ПИН РАН, 2004. Вып. 6. С. 87–96.
Марков А. Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня. Неожиданные открытия и новые вопросы. М.: Corpus, 2010. 552 с.
Марков А. Эволюция человека. Книга первая. Обезьяны, кости и гены. М.: Corpus, 2012а. 496 с.
Марков А. Эволюция человека. Книга вторая. Обезьяны, нейроны и душа. М.: Corpus, 2012б. 512 с.
Марков А., Наймарк Е. Эволюция. Классические идеи в свете новых открытий. М.: Corpus, 2014. 656 с.
Основы палеонтологии. Т. 13. М.: Государственное научно-техническое издательство литературы по геологии и охране недр, 1962. 423 с.
Ражев Д. И. Комплекс остеологических признаков всадников // Новое в археологии Южного Урала. 1996. С. 251–259.
Рэнгем Р. Зажечь огонь. Как кулинария сделала нас людьми. М.: Corpus, 2012. 336 с.
Савельев С. В., Негашева М. А. Практикум по анатомии мозга человека. М.: Веди, 2005. 200 с.
Симпсон Дж. Великолепная изоляция. М.: Мир, 1983. 256 с.
Соколов А. Б. Мифы об эволюции человека. М.: Альпина нон-фикшн, 2015. 390 с.
Шишкин М. А. Эволюция шейных позвонков у темноспондильных амфибий и дифференциация ранних тетрапод // Палеонтологический журнал. 2000. Т. 34. № 5. С. 62–74.
Alba D. M., Moyà-Solà S. et Köhler M. Canine reduction in the Miocene hominoid Oreopithecus bambolii: behavioural and evolutionary implications // JHE, 2001, V. 40, № 1, pp. 1–16.
Alba D. M., Almécija S., DeMiguel D., Fortuny J., Ríos de los M. P., Pina M., Robles J. M. et Moyà-Solà S. Miocene small-bodied ape from Eurasia sheds light on hominoid evolution // Science, 2015, V. 350, № 6260, pp. aab2625–1 – aab2625–11.
Allsworth-Jones P., Harvati K. et Stringer C. The archaeological context of the Iwo Eleru cranium from Nigeria and preliminary results of new morphometric studies // West African archaeology: new developments, new perspectives. BAR, Archaeopress, 2010, pp. 29–42.
Almecija S., Shrewsbury M., Rook L. et Moyà-Solà S. The morphology of Oreopithecus bambolii pollical distal phalanx // AJPhA, 2014, V. 153, № 4, pp. 582–597.
Angst D., Lécuyer C., Amiot R., Buffetaut E., Fourel F., Martineau F., Legendre S., Abourachid A. et Herrel A. Isotopic and anatomical evidence of an herbivorous diet in the Early Tertiary giant bird Gastornis. Implications for the structure of Paleocene terrestrial ecosystems // Naturwissenschaften (advance online publication), 2014, doi: 10.1007/s00114-014-1158-2.
Archibald J. D. et Averianov A. Phylogenetic analysis, taxonomic revision, and dental ontogeny of the Cretaceous Zhelestidae (Mammalia: Eutheria) // Zoological Journal of the Linnean Society, 2012, V. 164, pp. 361–426.
Armour-Chelu M., Andrews P. et Bernor R. L. Further observations on the primate community at Rudabánya II (late Miocene, early Vallesian age), Hungary // JHE, 2005, V. 49, № 1, pp. 88–98.
Arsuaga J. L. El Collar del Neandertal. Ediciones Temas de Hoy, Col. Tanto por Saber, 1999.
Asfaw B., White T. D., Lovejoy O., Latimer B., Simpson S. et Suwa G. Australopithecus garhi: a new species of early hominid from Ethiopia // Science, 1999, V. 284, № 5414, pp. 629–635.
Backwell L. R. et d'Errico F. Evidence of termite foraging by Swartkrans early hominids // PNAS, 2001, V. 98, № 4, pp. 1358–1363.
Bacon A.-M. et Long V. Th. The first discovery of a complete skeleton of a fossil orang-utan in a cave of the Hoa Binh Province, Vietnam // JHE, 2001, V. 41, № 3, pp. 227–241.
Barham L. Some initial informal reactions to publication of the discovery of Homo floresiensis and replies from Brown & Morwood // Before Farming, 2004, V. 4, pp. 1–7.
Barker G., Badang D., Barton H., Beavitt P., Bird M., Daly P., Doherty C., Gilbertson D., Glover I., Hunt C., Manser J., McLaren S., Paz V., Pyatt B., Reynolds T., Rose J., Rushworth G. et Stephens M. The Niah Cave Project: the second (2001) season of fieldwork // Sarawak Museum Journal, 2001, V. 56, n.s. 77, pp. 37–119.
Barrow E., Seiffert E. R. et Simons E. L. A primitive hyracoid (Mammalia, Paenungulata) from the early Priabonian (Late Eocene) of Egypt // Journal of Systematic Palaeontology, 2010, V. 8, № 2, pp. 213–244.
Beard K. C. Gliding behavior and palaeoecology of the alleged primate family Paromomyidae (Mammalia, Dermoptera) // Nature, 1990, V. 345, № 6273, pp. 340–341.
Beard K. C. Origin and evolution of gliding in early Cenozoic Dermoptera (Mammalia, Primatomorpha) // Primates and their relatives in phylogenetic perspective. Ed.: R. D. E. MacPhee. New York: Plenum Press, 1993, pp. 63–90.
Beard K. Ch. et Wang J. The eosimiid primates (Anthropoidea) of the Heti Formation, Yuanqu Basin, Shanxi and Henan Provinces, People's Republic of China // JHE, 2004, 46, pp. 401–432.
Beard K. Ch., Jaeger J.-J., Chaimanee Y., Rossie J. B., Soe A. N., Tun S. Th., Marivaux L. et Marandat B. Taxonomic status of purported primate frontal bones from the Eocene Pondaung Formation of Myanmar // JHE, 2005, V. 49, № 4, pp. 468–481.
Beard K. Ch., Marivaux L., Tun S. Th., Soe A. N., Chaimanee Y., Htoon W., Marandat B., Aung H. H. et Jaeger J. New sivaladapid primates from the Eocene Pondaung Formation of Myanmar and the anthropoid status of Amphipithecidae // Bulletin of Carnegie Museum of Natural History, 2007, № 39, pp. 67–76.
Beard K. Ch., Marivaux L., Chaimanee Y., Jaeger J.-J., Marandat B., Tafforeau P., Soe A. N., Tun S. Th. et Kyaw A. A. A new primate from the Eocene Pondaung Formation of Myanmar and the monophyly of Burmese amphipithecids // PRS, 2009, pp. 1–10.
Begun D. R. et Kivell T. L. Knuckle-walking in Sivapithecus? The combined effects of homology and homoplasy with possible implications for pongine dispersals // JHE, 2011, V. 60, № 2, pp. 158–170.
Benefit B. R. Phylogenetic, paleodemographic, and taphonomic implications of Victoriapithecus deciduous teeth from Maboko, Kenya // AJPhA, 1994, V. 95, № 3, pp. 277–331.
Berger L. R., Churchill S. E., De Klerk B. et Quinn Rh. L. Small-bodied humans from Palau, Micronesia // PLoS ONE, 2008, V. 3, № 3, p. e1780.
Bergh van den G. D., Meijer H. J., Due R. A., Morwood M. J., Szabó K., Hoek Ostende van den L. W., Sutikna T., Saptomo E. W., Piper P. J. et Dobney K. M. The Liang Bua faunal remains: a 95 k.yr. sequence from Flores, East Indonesia // JHE, 2009, V. 57, № 5, pp. 527–537.
Bergh van den G. D., Kaifu Y., Kurniawan I., Kono R. T., Brumm A., Setiyabudi E., Aziz F. et Morwood M. J. Homo floresiensis-like fossils from the early Middle Pleistocene of Flores // Nature, 2016a, V. 534, № 7606, pp. 245–248.
Bergh van den G. D., Li B., Brumm A., Grün R., Yurnaldi D., Moore M. W., Kurniawan I., Setiawan R., Aziz F., Roberts R. G., Suyono, Storey M., Setiabudi E. et Morwood M. J. Earliest hominin occupation of Sulawesi, Indonesia // Nature, 2016b, V. 529, № 7585, pp. 208–211.
Berzi A. The Oreopithecus bambolii // JHE, 1973, V. 2, № 1, p. 25.
Bininda-Emonds O. R. P., Cardillo M., Jones K. E., MacPhee R. D. E., Beck R. M. D., Grenyer R., Price S. A., Vos R. A., Gittleman J. L. et Purvis A. The delayed rise of present-day mammals // Nature, 2007, V. 446, № 7135, pp. 507–512.
Bird M. I., Taylor D. et Hunt Ch. Palaeoenvironments of insular Southeast Asia during the last glacial period: a savanna corridor in Sundaland? // Quaternary Science Reviews, 2005, V. 24, pp. 2228–2242.
Bloch J. I. et Silcox M. T. New basicrania of Paleocene-Eocene Ignacius: re-evaluation of the Plesiadapiform-Dermopteran link // AJPhA, 2001, V. 116, № 3, pp. 184–198.
Bloch J. I., Silcox M. T., Boyer D. M. et Sargis E. J. New Paleocene skeletons and the relationship of plesiadapiforms to crown-clade primates // PNAS, 2007, V. 104, № 4, pp. 1159–1164.
Bocherens H., Schrenk F., Chaimanee Y., Kullmer O., Mörike D., Pushkina D. et Jaeger J.-J. Flexibility of diet and habitat in Pleistocene South Asian mammals: implications for the fate of the giant fossil ape Gigantopithecus // Quaternary International, 2016, pp. 1–8.
Böhme M., Aziz H. A., Prieto J., Bachtadse V. et Schweigert G. Bio-magnetostratigraphy and environment of the oldest Eurasian hominoid from the Early Miocene of Engelswies (Germany) // JHE, 2011, V. 61, № 3, pp. 332–339.
Bond M., Tejedor M. F., Campbell K. E., Chornogubsky L., Novo N. et Goin F. Eocene primates of South America and the African origins of New World monkeys // Nature, 2015, V. 520, № 7548, pp. 538–541.
Boyer D. M., Evans A. R. et Jernvall J. Evidence of dietary differentiation among late Paleocene – early Eocene plesiadapids (Mammalia, Primates) // AJPhA, 2010a, V. 142, № 2, pp. 194–210.
Boyer D. M., Prasad G. V. R., Krause D. W., Godinot M., Goswami A., Verma O. et Flynn J. J. New postcrania of Deccanolestes from the Late Cretaceous of India and their bearing on the evolutionary and biogeographic history of euarchontan mammals // Naturwissenschaften, 2010b, V. 97, pp. 365–377.
Brown P. et Maeda T. Liang Bua Homo floresiensis mandibles and mandibular teeth: a contribution to the comparative morphology of a new hominin species // JHE, 2009, V. 57, № 5, pp. 571–596.
Brown P., Sutikna T., Morwood M. J., Soejono R. P., Jatmiko, Saptomo W. E. et Due R. A new small-bodied hominin from the Late Pleistocene of Flores, Indonesia // Nature, 2004, V. 431, № 7012, pp. 1055–1061.
Brumm A., Jensen G. M., Bergh van den G. D., Morwood M. J., Kurniawan I., Aziz F. et Storey M. Hominins on Flores, Indonesia, by one million years ago // Nature, 2010, V. 464, № 7289, pp. 748–753.
Brumm A., Bergh van den G. D., Storey M., Kurniawan I., Alloway B. V., Setiawan R., Setiyabudi E., Grün R., Moore M. W., Yurnaldi D., Puspaningrum M. R., Wibowo U. P., Insani H., Sutisna I., Westgate J. A., Pearce N. J. G., Duval M., Meijer H. J. M., Aziz F., Sutikna Th., Kaars van der S., Flude S. et Morwood M. J. Age and context of the oldest known hominin fossils from Flores // Nature, 2016, V. 534, № 7606, pp. 249–253.
Bunn H., Pickering T. et Domínguez-Rodrigo M. Bovid mortality profiles and early hominin meat-foraging capabilities at Olduvai Gorge, Tanzania // Abstracts European Society for the study of Human Evolution. Bordeaux, 2012, September.
Bush E. Ch. Evolution and scaling in mammalian brains. Ph.D. thesis. California Institute of Technology, Pasadena, California, 2004, 55 p.
Bush E. C., Simons E. L. et Allman J. M. High-resolution computed tomography study of the cranium of a fossil anthropoid primate, Parapithecus grangeri: new insights into the evolutionary history of primate sensory systems // The Anatomical Record, Part A, 2004, V. 281A, pp. 1083–1087.
Calandra I., Schulz E., Pinnow M., Krohn S. et Kaiser Th. M. Teasing apart the contributions of hard dietary items on 3D dental microtextures in primates // JHE, 2012, V. 63, № 1, pp. 85–98.
Carrigan M. A., Uryasev O., Frye C. B., Eckman B. L., Myers C. R., Hurley Th. D. et Benner S. A. Hominids adapted to metabolize ethanol long before human-directed fermentation // PNAS, 2014, V. 112, № 2, pp. 458–463.
Cartmill M. Arboreal adaptations and the origin of the order Primates // The functional and evolutionary biology of primates / Ed. R. Tuttleed. Chicago, Aldine, 1972, pp. 97–122.
Casanovas-Vilar I., Dama van J. A., Moyà-Solà S. et Rook L. Late Miocene insular mice from the Tusco-Sardinian palaeobioprovince provide new insights on the palaeoecology of the Oreopithecus faunas // JHE, 2011, V. 61, № 1, pp. 42–49.
Cerling Th. E., Mbua E., Kirera F. M., Manthi F. K., Grine F. E., Leakey M. G., Sponheimer M. et Uno K. T. Diet of Paranthropus boisei in the early Pleistocene of East Africa // PNAS, 2011a, V. 108, № 23, pp. 9337–9341.
Cerling Th. E., Wynn J. G., Andanje S. A., Bird M. I., Korir D. K., Levin N. E., Mace W., Macharia A. N., Quade J. et Remien Ch. H. Woody cover and hominin environments in the past 6 million years // Nature, 2011b, V. 476, № 7358, pp. 51–56.
Cerling Th. E., Manthi F. K., Mbua E. N., Leakey L. N., Leakey M. G., Leakey R. E., Brown F. H., Grine F. E., Hart J. A., Kaleme P., Roche H., Uno K. T. et Wood B. A. Stable isotope-based diet reconstructions of Turkana Basin hominins // PNAS, 2013, V. 110, № 26, pp. 10501–10506.
Chaimanee Y., Chavasseau O., Beard K. Ch., Kyaw A. A., Soe A. N., Sein Ch., Lazzari V., Marivaux L., Marandat B., Swe M., Rugbumrung M., Lwin Th., Valentin X., Zin-Maung-Maung-Thein et Jaeger J.-J. Late Middle Eocene primate from Myanmar and the initial anthropoid colonization of Africa // PNAS, 2012, V. 109, № 26, pp. 10293–10297.
Chaimanee Y., Chavasseau O., Lazzari V., Euriat A. et Jaeger J.-J. A new Late Eocene primate from the Krabi Basin (Thailand) and the diversity of Palaeogene anthropoids in southeast Asia // PRS, 2013, V. 280, № 20132268, pp. 1–9.
Chapman C. A. Primate seed dispersal: coevolution and conservation implications // Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews, 1995, V. 4, № 3, pp. 74–82.
Chester S. G. B., Bloch J. I. et Clemens W. A. Tarsal morphology of the oldest plesiadapiform Purgatorius indicates arboreality in the earliest primates // Annual meeting of the Society of Vertebrate Paleontology, 2012, Oct. 19.
Chester S. G. B., Bloch J. I., Boyer D. M. et Clemens W. A. Oldest known euarchontan tarsals and affinities of Paleocene Purgatorius to Primates // PNAS, 2015, V. 112, № 5, pp. 1487–1492.
Chivers D. J. Functional anatomy of the gastrointestinal tract // Colobine monkeys, their ecology, behavior and evolution. Eds. A. G. Davies et J. F. Oates. Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 205–228.
Chou H.-H., Hayakawa T., Diaz S., Krings M., Indriati E., Leakey M., Pääbo S., Satta Y., Takahata N. et Varki A. Inactivation of CMP-N-acetylneuraminic acid hydroxylase occurred prior to brain expansion during human evolution // PNAS, 2002, V. 99, № 18, pp. 11736–11741.
Chrisomalis S. Social aspects of early hominid cannibalism claims. 1997, 34 p.
Ciochon R. L., Gingerich Ph. D., Gunnell G. F. et Simons E. L. Primate postcrania from the late middle Eocene of Myanmar // PNAS, 2001, V. 98, № 14, pp. 7672–7677.
Clarke R. J. et Tobias P. V. Sterkfontein Member 2 foot bones of the oldest South African hominid // Science, 1995, V. 269, № 5223, pp. 521–524.
Clemens W. et Wilson G. Pattern of immigration of Purgatorids and other eutherians into the northern North American western interior // Annual meeting of the Society of Vertebrate Paleontology, 2012, Oct. 19.
Conway Morris S. et Caron J.-B. Pikaia gracilens Walcott, a stem-group chordate from the Middle Cambrian of British Columbia // Biological Reviews, 2012, V. 87, № 2, pp. 480–512.
Coppens Y., Tseveendorj D., Demeter F., Turbat Ts. et Giscard P.-H. Discovery of an archaic Homo sapiens skullcap in Northeast Mongolia // Comptes Rendus Palevol, 2008, V. 7, № 1, pp. 51–60.
Corruccini R. S. et McHenry H. W. Knuckle-walking hominid ancestors // JHE, 2001, V. 40, № 6, pp. 507–511.
Coster P., Beard K. Ch., Soe A. N., Sein Ch., Chaimanee Y., Lazzari V., Valentin X. et Jaeger J.-J. Uniquely derived upper molar morphology of Eocene Amphipithecidae (Primates: Anthropoidea): homology and phylogeny // JHE, 2013, V. 65, № 2, pp. 143–155.
Court N. et Mahboubi M. Reassessment of Lower Eocene Seggeurius amourensis: aspects of primitive dental morphology in the mammalian order Hyracoidea // Journal of Paleontology, 1993, V. 67, № 5, pp. 889–893.
Crevecoeur I., Skinner M. M., Bailey Sh. E., Gunz Ph., Bortoluzzi S., Brooks A. S., Burlet Ch., Cornelissen E., De Clerck N., Maureille B., Semal P., Vanbrabant Y. et Wood B. First early hominin from Central Africa (Ishango, Democratic Republic of Congo) // PLoS ONE, 2014, V. 9, № 1, p. e84652.
Curnoe D. A review of early Homo in southern Africa focusing on cranial, mandibular and dental remains, with the description of a new species (Homo gautengensis sp. nov.) // HOMO – Journal of Comparative Human Biology, 2010, V. 61, pp.151–177.
Curnoe D., Xueping J., Herries A. I. R., Kanning B., Tacon P. S. C., Zhende B., Fink D., Yunsheng Z., Hellstrom J., Yun L., Cassis G., Bing S., Wroe S., Shi H., Parr W. C. H., Shengmin H. et Rogers N. Human remains from the Pleistocene-Holocene transition of southwest China suggest a complex evolutionary history for East Asians // PLoS ONE, 2012, V. 7, № 3, pp. e31918.
Curnoe D., Ji X., Liu W., Bao Zh., Taçon P. S. C. et Ren L. A hominin femur with archaic affinities from the Late Pleistocene of Southwest China // PLoS ONE, 2015, V. 10, № 12, p. e0143332.
D'Anastasio R., Wroe S., Tuniz C., Mancini L., Cesana D. T., Dreossi D., Ravichandiran M., Attard M., Parr W. C. H., Agur A. et Capasso L. Micro-biomechanics of the Kebara 2 hyoid and its implications for speech in Neanderthals // PLoS ONE, 2013, V. 8, № 12, p. e82261.
De Bast E., Sige B. et Smith Th. Diversity of the adapisoriculid mammals from the early Palaeocene of Hainin, Belgium // Acta Palaeontologica Polonica, 2012, V. 57, № 1, pp. 35–52.
Deane A. S., Nargolwalla M. C., Kordos L. et Begun D. R. New evidence for diet and niche partitioning in Rudapithecus and Anapithecus from Rudabánya, Hungary // JHE, 2013, V. 65, № 6, pp. 704–714.
Defleur A., Dutour O., Valladas H. et Vandermeersch B. Cannibals among the Neanderthals? // Nature, 1993, V. 362, № 6417, p. 214.
Defleur A., White T., Valensi P., Slimak L. et Cregut-Bonnoures E. Neanderthal cannibalism at Moula-Guercy, Ardeche, France // Science, 1999, V. 286, № 5437, pp. 128–131.
Delson E., Harvati K., Reddy D., Marcus L. F., Mowbray K., Sawyer G. J., Teuku J. et Marquez S. Sambungmacan 3 Homo erectus calvaria: a comparative morphometric and morphological analysis // Anatomical Record, 2001, V. 262, № 4, pp. 380–397.
DeMiguel D., Alba D. M. et Moyà-Solà S. European pliopithecid diets revised in the light of dental microwear in Pliopithecus canmatensis and Barberapithecus huerzeleri // AJPhA, 2013, V. 151, № 4, pp. 573–582.
D'Errico F. et Goni M. F. S. Neandertal extinction and the millennial scale climatic variability of OIS 3 // Quaternary Science Reviews, 2003, V. 22, pp. 769–788.
D'Errico F. et Villa P. Holes and grooves: the contribution of microscopy and taphonomy to the problem of art origins // JHE, 1997, V. 33, № 1, pp. 1–31.
Deshpande D. A., Wang W. C. H., McIlmoyle E. L., Robinett K. S., Schillinger R. M., An S. S., Sham J. S. K. et Liggett S. B. Bitter taste receptors on airway smooth muscle bronchodilate by localized calcium signaling and reverse obstruction // Nature Medicine, 2010, V. 16, № 11, pp. 1299–1304.
Diedrich C. G. 'Neanderthal bone flutes': simply products of Ice Age spotted hyena scavenging activities on cave bear cubs in European cave bear dens // Royal Society open science, 2015, V. 2, pp. 1–16.
Dulai K. S., Dornum von M., Mollon J. D. et Hunt D. M. The evolution of trichromatic color vision by opsin gene duplication in New World and Old World primates // Genome Research, 1999, V. 9, № 7, pp. 629–638.
Durband A. C. The view from down under: a test of the multiregional hypothesis of modern human origins using the basicranial evidence from Australasia // Collegium Antropologicum, 2007, V. 31, № 3, pp. 651–659.
Durband A. C. Mandibular fossa morphology in the Ngandong and Sambungmacan fossil hominids // The Anatomical Record, 2008, V. 291, № 10, pp. 1212–1220.
Efstratiou N., Biagi P., Angelucci D. E. et Nisbet R. Middle Palaeolithic chert exploitation in the Pindus Mountains of western Macedonia, Greece // Antiquity, 2011, V. 85, № 328.
Engel M. S., Grimaldi D. A. et Krishna K. Termites (Isoptera): their phylogeny, classification, and rise to ecological dominance // American Museum Novitates, 2009, № 3650, pp. 1–27.
Etler D. A., Crummett T. L. et Wolpoff M. H. Longgupo: early Homo colonizer or late pliocene Lufengpithecus survivor in south China? // Human Evolution, 2001, V. 16, № 1, pp. 1–12.
Ferraro J. V., Plummer Th. W., Pobiner B. L., Oliver J. S., Bishop L. C., Braun D. R., Ditchfield P. W., Seaman III J. W., Binetti K. M., Seaman J. W., Hertel F. et Potts R. Earliest archaeological evidence of persistent hominin carnivory // PLoS ONE, 2013, V. 8, № 4, p. e62174.
Fiacconi M. et Hunt Ch. O. Pollen taphonomy at Shanidar Cave (Kurdish Iraq): an initial evaluation // Review of Palaeobotany and Palynology, 2015, V. 223, pp. 87–93.
Fleagle J. G. Primate adaptation and evolution. New York, Academic Press, 1999.
Fleischer J., Breer H. et Strotmann J. Mammalian olfactory receptors // Frontiers in Cellular Neuroscience, 2009, V. 3, № 9, pp. 1–10.
Forth P. Disappearing wildmen: capture, extirpation, and exinction as regular components of representations of putative hairy, hominoids // The Аnthropology of Extinction. Essays on culture and species death. Ed. G. M. Sodikoff. Bloomington, 2012.
Gauthier J. A., Kearney M., Maisano J. A., Rieppel O. et Behlke A. D. B. Assembling the squamate tree of life: perspectives from the phenotype and the fossil record // Bulletin of the Peabody Museum of Natural History, 2012, V. 53, № 1, pp. 3–308.
Gebo D. L., Dagosto M., Beard K. Ch., Qi T. et Wang J. The oldest known anthropoid postcranial fossils and the early evolution of higher primates // Nature, 2000, V. 404, № 6775, pp. 276–278.
Gebo D. L., Dagosto M., Beard K. Ch. et Qi T. Middle Eocene primate tarsals from China: implications for haplorhine evolution // AJPhA, 2001, V. 116, № 2, pp. 83–107.
Gebo D. L., Gunnell G. F., Ciochon R. L., Takai M., Tsubamoto T. et Egi N. New eosimiid primate from Myanmar // JHE, 2002, V. 43, № 4, pp. 549–553.
Gebo D. L., Dagosto M., Beard K. Ch., Ni X. et Qi T. A haplorhine first metatarsal from the Middle Eocene of China // Elwyn Simons: A Search for Origins. Eds. J. G. Fleagle et C. C. Gilbert. Springer, 2008, pp. 229–242.
Gerrienne P., Meyer-Berthaud B., Fairon-Demaret M., Streel M. et Steemans P. Runcaria, a Middle Devonian seed plant precursor // Science, 2004, V. 306, № 5697, pp. 856–858.
Gheerbrant E. Paleocene emergence of elephant relatives and the rapid radiation of African ungulates // PNAS, 2009, V. 106, № 26, pp. 10717–10721.
Gheerbrant E., Sudre J. et Cappetta H. A Palaeocene proboscidean from Morocco // Nature, 1996, V. 383, № 6595, pp. 68–71.
Gilbert Ch. C. Dietary ecospace and the diversity of euprimates during the Early and Middle Eocene // AJPhA, 2005, V. 126, № 3, pp. 237–249.
Gingerich P. D. Cranial anatomy and evolution of early Tertiary Plesiadapidae (Mammalia, Primates) // Contributions from the Museum of Paleontology, The University of Michigan, 1976, V. 15, pp. 1–140.
Gingerich Ph. D. Cranial morphology and adaptations in Eocene Adapidae. I. Sexual dimorphism in Adapis magnus and Adapis parisiensis // AJPhA, 1981, V. 56, № 3, pp. 217–234.
Gingerich P. D. Primate evolution // Mammals. Notes for a short course. Eds. P. D. Gingerich et C. E. Badgley. Univ. Tennessee, Studies Geol., 1984, V. 8, pp. 167–181.
Gingerich P. Early Eocene bats (Mammalia: Chiroptera) and other vertebrates in freshwater limestones of the Willywood formation, Clark's Fork Basin, Wyoming // Contributions from the Museum of Paleontology, The University of Michigan, 1987, V. 27, pp. 275–320.
Gingerich Ph. D. et Martin R. D. Cranial morphology and adaptations in Eocene Adapidae. II. The Cambridge skull of Adapis parisiensis // AJPhA, 1981, V. 56, № 3, pp. 235–257.
Gladman J. T., Boyer D. M., Simons E. L. et Seiffert E. R. Calcaneus attributable to the primitive Late Eocene anthropoid Proteopithecus sylviae: phenetic affinities and phylogenetic implications // AJPhA, 2013, V. 151, № 3, pp. 372–397.
Godinot M. Lemuriform origins as viewed from the fossil record // Folia Primatologica, 2006, V. 77, № 6, pp. 446–464.
Gommery D., Ramanivosoa B., Faure M., Guérin C., Kerloc'h P., Sénégas F. et Randrianantenaina H. Les plus anciennes traces d'activités anthropiques de Madagascar sur des ossements d'hippopotames subfossiles d'Anjohibe (Province de Mahajanga) // Comptes Rendus Palevol, 2011, V. 10, № 4, pp. 271–278.
Gonzales L. A., Benefit B. R., McCrossin M. L. et Spoor F. Cerebral complexity preceded enlarged brain size and reduced olfactory bulbs in Old World monkeys // Nature Communications, 2015, V. 6, № 7580, pp. 1–9.
Goodman M., Porter C. A., Czelusniak J., Page S. L., Schneider H., Shoshani J., Gunnell G. et Groves C. P. Toward a phylogenetic classification of Primates based on DNA evidence complemented by fossil evidence // Molecular Phylogenetics and Evolution, 1998, V. 9, № 3, pp. 585–598.
Goswami A., Prasad G. V. R., Upchurch P., Boyer D. M., Seiffert E. R., Verma O., Gheerbrant E. et Flynn J. J. A radiation of arboreal basal eutherian mammals beginning in the Late Cretaceous of India // PNAS, 2011, V. 108, № 39, pp. 16333–16338.
Gowlett J., Gamble C. et Dunbar R. Human evolution and the archaeology of the social brain // Current Anthropology, 2012, V. 53, № 6, pp. 693–722.
Groves C. et Shekelle M. The genera and species of Tarsiidae // International Journal of Primatology, 2010, V. 31, № 6, pp. 1071–1082.
Gunnell G. F. et Ciochon R. L. Revisiting primate postcrania from the Pondaung Formation of Myanmar. The purported anthropoid astragalus // Elwyn Simons: А Search for Origins. Eds. J. G. Fleagle et C. C. Gilbert. Springer, 2008, pp. 211–228.
Haile-Selassie Y., Saylor B. Z., Deino A., Levin N. E., Alene M. et Latimer B. M. A new hominin foot from Ethiopia shows multiple Pliocene bipedal adaptations // Nature, 2012, V. 483, № 7391, pp. 565–570.
Halenar L. B. Reconstructing the locomotor repertoire of Protopithecus brasiliensis. I. Body size // The Anatomical Record, 2011, V. 294, № 12, pp. 2024–2047.
Hammer M. F., Woerner A. E., Mendez F. L., Watkins J. C. et Wall J. D. Genetic evidence for archaic admixture in Africa // PNAS, 2011, V. 108, № 37, pp. 15123–15128.
Hamrick M. W., Rosenma B. A. et Brush J. A. Phalangeal morphology of the Paromomyidae (?Primates, Plesiadapiformes): the evidence for gliding behavior reconsidered // AJPhA, 1999, V. 109, № 3, pp. 397–413.
Hand S. J., Novacek M., Godthelp H. et Archer M. First Eocene bat from Australia // Journal of Vertebrate Paleontology, 1994, V. 14, № 3, pp. 375–381.
Hardus M. E., Lameira A. R., Zulfa A., Atmoko S. S. U., Vries de H. et Wich S. A. Behavioral, ecological, and evolutionary aspects of meat-eating by Sumatran orangutans (Pongo abelii) // International Journal of Primatology, 2012, V. 33, № 2, pp. 287–304.
Hardy K., Buckley S., Collins M. J., Estalrrich A., Brothwell D., Copeland L., García-Tabernero A., García-Vargas S., Rasilla de la M., Lalueza-Fox C., Huguet R., Bastir M., Santamaría D., Madella M., Wilson J., Fernández Cortés Á. et Rosas A. Neanderthal medics? Evidence for food, cooking, and medicinal plants entrapped in dental calculus // Naturwissenschaften, 2012, V. 99, pp. 617–626.
Harrison T. New fossil anthropoids from the middle Miocene of East Africa and their bearing on the origin of the Oreopithecidae // AJPhA, 1986, V. 71, № 3, pp. 265–284.
Harrison T. et Yumin G. Taxonomy and phylogenetic relationships of early Miocene catarrhines from Sihong, China // JHE, 1999, V. 37, № 2, pp. 225–277.
Hartenberger J.-L. Hypothèse paléontologique sur l'origine des Macroscelidea (Mammalia) // CRAS, ser. II, 1986, V. 302, pp. 247–249.
Harvati K., Stringer Ch., Grün R., Aubert M., Allsworth-Jones Ph. et Folorunso C. A. The Later Stone Age calvaria from Iwo Eleru, Nigeria: morphology and chronology // PLoS ONE, 2011, V. 6, № 9, e24024, pp. 1–8.
Heizmann E. P. J. et Begun D. R. The oldest Eurasian hominoid // JHE, 2001, V. 41, № 5, pp. 463–481.
Henneberg M., Eckhardt R. B., Chavanaves S. et Hsü K. J. Evolved developmental homeostasis disturbed in LB1 from Flores, Indonesia, denotes Down syndrome and not diagnostic traits of the invalid species Homo floresiensis // PNAS, 2014, V. 111, № 33, pp. 11967–11972.
Henry A. G., Brooks A. S. et Piperno D. R. Microfossils in calculus demonstrate consumption of plants and cooked foods in Neanderthal diets (Shanidar III, Iraq; Spy I and II, Belgium) // PNAS, 2011, V. 108, № 2, pp. 486–491.
Hershkovitz I., Kornreich L. et Laron Z. Comparative skeletal features between Homo floresiensis and patients with primary growth hormone insensitivity (Laron syndrome) // AJPhA, 2007, V. 134, № 2, pp. 198–208.
Hochuli P. A. et Feist-Burkhardt S. Angiosperm-like pollen and Afropollis from the Middle Triassic (Anisian) of the Germanic Basin (Northern Switzerland) // Frontiers Plant Science, 2013, V. 4, p. 344.
Holland L. Z. Evolution of basal deuterostome nervous systems // The Journal of Experimental Biology, 2015, V. 218, № 4, pp. 637–645.
Holloway R. L., Brown P., Schoenemann P. T. et Monge J. The brain endocast of Homo floresiensis: microcephaly and other issues… // AJPhA, 2006, V. 129, Supplement 42, p. 105.
Hooker J. J. A primitive emballonurid bat (Chiroptera, Mammalia) from the earliest Eocene of England // Palaeovertebrata, 1996, V. 25, pp. 287–300.
Hooker J. J., Russell D. E. et Phélizon A. A new family of Plesiadapiformes (Mammalia) from the Old World Lower Paleogene // Palaeontology, 1999, V. 42, № 3, pp. 377–407.
Horovitz I. et MacPhee R. D. E. The quaternary Cuban platyrrhine Paralouatta varonai and the origin of Antillean monkeys // JHE, 1999, V. 36, № 1, pp. 33–68.
Hu Y., Meng J., Wang Y. et Li Ch. Large Mesozoic mammals fed on young dinosaurs // Nature, 2005, V. 433, № 7022, pp. 149–152.
Hublin J. J., Spoor F., Braun M., Zonneveld F. et Condemi S. A late Neanderthal associated with Upper Palaeolithic artefacts // Nature, 1996, V. 381, № 6579, pp. 224–226.
Hublin J.-J., Weston D., Gunz Ph., Richards M., Roebroeks W., Glimmerveen J. et Anthonis L. Out of the North Sea: the Zeeland Ridges neandertal // JHE, 2009, V. 57, № 6, pp. 777–785.
Hutcheon J. M., Kirsch J. A. et Pettigrew J. D. Base-compositional biases and the bat problem. III. The questions of microchiropteran monophyly // Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series B, Biological Sciences, 1998, V. 353, № 1368, pp. 607–617.
Hyodo M., Nakaya H., Urabe A., Saegusa H., Shunrong X., Jiyun Y. et Xuepin J. Paleomagnetic dates of hominid remains from Yuanmou, China, and other Asian sites // JHE, 2002, V. 43, № 1, pp. 27–41.
Jacob T. Some Problems Pertaining to the Racial History of the Indonesian Region. Utrecht, Drukkerij Neerlandia, 1967.
Jacob T., Indriati E., Soejono R. P., Hsu K., Frayer D. W., Eckhardt R. B., Kuperavage A. J., Thorne A. et Henneberg M. Pygmoid Australomelanesian Homo sapiens skeletal remains from Liang Bua, Flores: population affinities and pathological abnormalities // PNAS, 2006, V. 103, № 36, pp. 13421–13426.
Jaeger J.-J., Beard K. Ch., Chaimanee Y., Salem M., Benammi M., Hlal O., Coster P., Bilal A. A., Duringer Ph., Schuster M., Valentin X., Marandat B., Marivaux L., Metais E., Hammuda O. et Brunet M. Late middle Eocene epoch of Libya yields earliest known radiation of African anthropoids // Nature, 2010, V. 467, № 7319, pp. 1095–1099.
Jayatunga P. A. Nittaewo, the Hobbits of Sri Lanka: An Analysis of the Legend. Neptune Publications, 2010, 88 p.
Ji Q., Luo Zh.-X., Yuan Ch.-X., Wible J. R., Zhang J.-P. et Georgi J. A. The earliest known eutherian mammal // Nature, 2002, V. 416, № 6883, pp. 816–822.
Ji Q., Luo Zh.-X., Yuan Ch.-X. et Tabrum A. R. A swimming mammaliaform from the Middle Jurassic and ecomorphological diversification of early mammals // Science, 2006, V. 311, № 5764, pp. 1123–1127.
Ji X. P., Jablonski N. G., Su D. F., Deng Ch. L., Flynn L. J., You Y. Sh. et Kelley J. Juvenile hominoid cranium from the terminal Miocene of Yunnan, China // Chinese Science Bulletin, 2013, V. 58, № 31, pp. 3771–3779.
Johnson A. E. Skeletal estimates of Gigantopithecus based on a Gorilla analogy // JHE, 1979, V. 8, № 6, pp. 585–587.
Kay R. F. “Giant” tamarin from the Miocene of Colombia // AJPhA, 1994, V. 95, № 3, pp. 333–353.
Kay R. F. et Cartmill M. Cranial morphology and adaptations of Palaechthon nacimienti and other Paromomyidae (Plesiadapoidea,? Primates), with a description of a new genus and species // JHE, 1977, V. 6, № 1, pp. 19–53.
Kay R. F. et Covert H. H. Anatomy and behaviour of extinct primates // Food Acquisition and Processing in Primates. Eds. D. J. Chivers, B. A. Wood et A. Bilsborough. Plenum Press, New York, 1984, pp. 467–508.
Kay R. N. B. et Davies A. G. Digestive physiology // Colobine Monkeys: Their ecology, Behavior and Evolution. Eds. A. G. Davies et J. F. Oates. Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 229–249.
Kelley J. et Gao F. Juvenile hominoid cranium from the late Miocene of southern China and hominoid diversity in Asia // PNAS, 2012, V. 109, № 18, pp. 6882–6885.
Kelley J. et Smith T. M. Age at first molar emergence in early Miocene Afropithecus turkanensis and life-history evolution in the Hominoidea // JHE, 2003, V. 44, № 3, pp. 307–329.
Kirk E. Ch. et Simons E. L. Diets of fossil primates from the Fayum Depression of Egypt: a quantitative analysis of molar shearing // JHE, 2001, V. 40, № 3, pp. 203–229.
Kishida T. Pattern of the divergence of olfactory receptor genes during tetrapod evolution // PLoS ONE, 2008, V. 3, № 6, p. e2385.
Kjeldbjerg A. L., Villesen P., Aagaard L. et Pedersen F. S. Gene conversion and purifying selection of a placenta-specific ERV–V envelope gene during simian evolution // BMC Evolutionary Biology, 2008, V. 8, p. 266.
Knüsel Ch. J., Roberts Ch. A. et Boylston A. Brief communication: when Adam delved… an activity-related lesion in three human skeletal populations // AJPhA, 1996, V. 100, № 3, pp. 427–434.
Koenigswald von G. H. R. A possible ancestral form of Gigantopithecus (Mammalia, Hominoidea) from the Chinji layers of Pakistan // JHE, 1981, V. 10, № 6, pp. 511–515.
Koenigswald von W. et Schierning H.-P. The ecological niche of an extinct group of mammals, the early Tertiary apatemyids // Nature, 1987, V. 326, № 6113, pp. 595–597.
Köhler M. et Moyà-Solà S. Ape-like or hominid-like? The positional behavior of Oreopithecus bambolii reconsidered // PNAS, 1997, V. 94, № 21, pp. 11747–11750.
Köhler M., Alba D. M., Moyà-Solà S. et MacLatchy L. Taxonomic affinities of the Eppelsheim femur // AJPhA, 2002, V. 119, № 4, pp. 297–304.
Kopp G. H., Roos Ch., Butynski Th. M., Wildman D. E., Alagaili A. N., Groeneveld L. F. et Zinner D. Out of Africa, but how and when? The case of hamadryas baboons (Papio hamadryas) // JHE, 2014, 76, pp. 154–164.
Kordos L. et Begun D. R. Primates from Rudabanya: allocation of specimens to individuals, sex and age categories // JHE, 2001, V. 40, № 1, pp. 17–39.
Krause D. W. Were paromomyids gliders? Maybe, maybe not // JHE, 1991, V. 21, № 3, pp. 177–188.
Krause J., Fu Q., Good J. M., Viola B., Shunkov M. V., Derevianko A. P. et Pääbo S. The complete mitochondrial DNA genome of an unknown hominin from southern Siberia // Nature, 2010, V. 464, № 8976, pp. 894–897.
Kunimatsu Y., Nakatsukasa M., Sawada Y., Sakai T., Hyodo M., Hyodo H., Itaya T., Nakaya H., Saegusa H., Mazurier A., Saneyoshi M., Tsujikawa H., Yamamoto A. et Mbua E. A new Late Miocene great ape from Kenya and its implications for the origins of African great apes and humans // PNAS, 2007, V. 104, № 49, 19220–19225.
Lachance J., Vernot B., Elbers C. C., Ferwerda B., Froment A., Bodo J.-M., Lema G., Fu W., Nyambo Th. B., Rebbeck T. R., Zhang K., Akey J. M. et Tishkoff S. A. Evolutionary history and adaptation from high-coverage whole-genome sequences of diverse African hunter-gatherers // Cell, 2012, V. 150, № 3, pp. 1–13.
Ladevèze S., Muizon de Ch., Beck R. M. D., Germain D. et Cespedes-Paz R. Earliest evidence of mammalian social behaviour in the basal Tertiary of Bolivia // Nature, 2011, V. 474, № 7349, pp. 83–86.
Lalueza-Fox C., Römpler H., Caramelli D., Stäubert C., Catalano G., Hughes D., Rohland N., Pilli E., Longo L., Condemi S., Rasilla de la M., Fortea J., Rosas A., Stoneking M., Schöneberg T., Bertranpetit J. et Hofreiter M. A melanocortin 1 receptor allele suggests varying pigmentation among Neanderthals // Science, 2007, V. 318, № 5855, pp. 1453–1455.
Lalueza-Fox C., Rosas A., Estalrrich A., Gigli E., Campos P. F., García-Tabernero A., García-Vargas S., Sánchez-Quinto F., Ramírez O., Civit S., Bastir M., Huguet R., Santamaría D., Gilbert M. Th. P., Willerslev E. et Rasilla de la M. Genetic evidence for patrilocal mating behavior among Neandertal groups // PNAS, 2011, V. 108, № 1, pp. 250–253.
Langdon J. H. Umbrella hypotheses and parsimony in human evolution: a critique of the Aquatic Ape Hypothesis // JHE, 1997, V. 33, № 4, pp. 479–494.
Larick R., Ciochon R. L., Zaim Y., Sudijono, Suminto, Rizal Y., Aziz F., Reagan M. et Heizler M. Early Pleistocene 40Ar/39Ar ages for Bapang Formation hominins, Central Jawa, Indonesia // PNAS, 2001, V. 98, № 9, pp. 4866–4871.
Lauri A., Brunet Th., Handberg-Thorsager M., Fischer A. H. L., Simakov O., Steinmetz P. R. H., Tomer R., Keller Ph. J. et Arendt D. Development of the annelid axochord: insights into notochord evolution // Science, 2014, V. 345, № 6202, pp. 1365–1368.
Leakey M. D. Artefacts from Kabua, Kenya // The South African Archaeological Bulletin, 1966, V. 21, p. 57.
Leroi-Gurhan A. The flowers found with Shanidar IV, a neanderthal burial in Iraq // Science, 1975, V. 190, № 4214, pp. 562–564.
Lewis O. J. The evolution of the hallucial tarsometatarsal joint in the anthropoidea // AJPhA, 1972, V. 37, № 1, pp. 13–33.
Lietava J. Medicinal plants in a Middle Paleolithic grave Shanidar IV? // Journal of Ethnopharmacology, 1992, V. 35, № 3, pp. 263–266.
Lilly J. C. The cetacean brain // Oceans, 1977, V. 10, pp. 4–7.
Locke D. P., Hillier L. D. W., Warren W. C., Worley K. C., Nazareth L. V., Muzny D. M., Yang Sh.-P., Wang Zh., Chinwalla A. T., Minx P., Mitreva M., Cook L., Delehaunty K. D., Fronick C., Schmidt H., Fulton L. A., Fulton R. S., Nelson J. O., Magrini V., Pohl C., Graves T. A., Markovic Ch., Cree A., Dinh H. H., Hume J., Kovar Ch. L., Fowler G. R., Lunter G., Meader S., Heger A., Ponting Ch. P., Marques-Bonet T., Alkan C., Chen L., Cheng Z., Kidd J. M., Eichler E. E., White S., Searle S., Vilella A. J., Chen Y., Flicek P., Ma J., Raney B., Suh B., Burhans R., Herrero J., Haussler D., Faria R., Fernando O., Darre F., Farre D., Gazave E., Oliva M., Navarro A., Roberto R., Capozzi O., Archidiacono N., Valle G. D., Purgato S., Rocchi M., Konkel M. K., Walker J. A., Ullmer B., Batzer M. A., Smit A. F. A., Hubley R., Casola C., Schrider D. R., Hahn M. W., Quesada V., Puente X. S., Ordonez G. R., Lopez-Otin C., Vinar T., Brejova B., Ratan A., Harris R. S., Miller W., Kosiol C., Lawson H. A., Taliwal V., Martins A. L., Siepel A., RoyChoudhury A., XinMa, Degenhardt J., Bustamante C. D., Gutenkunst R. N., Mailund Th., Dutheil J. Y., Hobolth A., Schierup M. H., Ryder O. A., Yoshinaga Y., Jong de P. J., Weinstock G. M., Rogers J., Mardis E. R., Gibbs R. A. et Wilson R. K. Comparative and demographic analysis of orang-utan genomes // Nature, 2011, V. 469, № 7331, pp. 529–533.
Lofgren D. L. The Bug Creek problem and the Cretaceous-Tertiary transition at McGuire Creek, Montana // University of California publications in geological sciences, 1995, V. 140, pp. 1–185.
Lovejoy C. O. Reexamining human origins in light of Ardipithecus ramidus // Science, 2009, V. 326, № 5949, pp. 74e1–74e8.
Lovejoy C. O., Latimer B., Suwa G., Asfaw B. et White T. D. Combining prehension and propulsion: the foot of Ardipithecus ramidus // Science, 2009, V. 326, № 5949, pp. 72e1–72e8.
Luo Zh.-X. et Wible J. R. A Late Jurassic digging mammal and early mammal diversification // Science, 2005, V. 308, № 5718, pp. 103–107.
Luo Zh.-X., Crompton A. W. et Sun A.-L. A new mammaliaform from the Early Jurassic and evolution of mammalian characteristics // Science, 2001, V. 292, № 5521, pp. 1535–1540.
Luo Z.-X., Yuan Ch.-X., Meng Q.-J. et Ji Q. A Jurassic eutherian mammal and divergence of marsupials and placentals // Nature, 2011, V. 476, № 7361, pp. 442–445.
Luo Zh.-X., Meng Q.-J., Ji Q., Liu D., Zhang Y.-G. et Neander A. I. Evolutionary development in basal mammaliaforms as revealed by a docodontan // Science, 2015, V. 347, № 6223, pp. 760–764.
MacPhee R. D. E., Cartmill M. et Rose K. D. Craniodental morphology and relationships of the supposed Eocene dermopteran Plagiomene (Mammalia) // Journal of Vertebrate Paleontology, 1989, V. 9, № 3, pp. 329–349.
Marivaux L., Beard K. Ch., Chaimanee Y., Jaeger J.-J., Marandat B., Soe A. N., Tun S. Th., Aung H. H. et Htoon W. Anatomy of the bony pelvis of a relatively large-bodied strepsirrhine primate from the late middle Eocene Pondaung Formation (central Myanmar) // JHE, 2008, V. 54, № 3, pp. 391–404.
Marivaux L., Essid E. M., Marzougui W., Ammar H. Kh., Adnet S., Marandat B., Merzeraud G., Ramdarshan A., Tabuce R., Vianey-Liaud M. et Yans J. A morphological intermediate between eosimiiform and simiiform primates from the Late Middle Eocene of Tunisia: macroevolutionary and paleobiogeographic implications of early anthropoids // AJPhA, 2014, V. 154, № 3, pp. 387–401.
Marquer P. Note sur deux empreintes de pieds humains trouvées dans la République Centre-Africaine // Journal de la Société des Africanistes, 1960, T. 30, № 1, pp. 7–14.
Marshack A. Implications of the palaeolithic symbolic evidence for the origin of language // American Scientist, 1976, V. 64, № 2, p. 139.
Marshack A. On palaeolithic ochre and the early uses of color and symbol // Current Anthropology, 1981, V. 22, № 2, p. 188.
Marshack A. Evolution of the human capacity: the symbolic evidence // Yearbook of Physical Anthropology, 1989, V. 32, pp. 1–34.
Marshall L. G. et Muizon de C. The dawn of the age of mammals in South America // National Geographic Research, 1988, V. 4, № 1, pp. 23–55.
Martin Th. Postcranial anatomy of Haldanodon exspectatus (Mammalia, Docodonta) from the Late Jurassic (Kimmeridgian) of Portugal and its bearing for mammalian evolution // Zoological Journal of the Linnean Society, 2005, V. 145, pp. 219–248.
Martin J. E., Case J. A., Jagt J. W. M., Schulp A. S. et Mulder E. W. A. A New European marsupial indicates a Late Cretaceous high-latitude transatlantic dispersal route // Journal of Mammalian Evolution, 2005, V. 12, № 3/4, pp. 495–511.
Martínez I., Rosa M., Arsuaga J.-L., Jarabo P., Quam R., Lorenzo C., Gracia A., Carretero J.-M., Bermúdez de Castro J.-M. et Carbonell E. Auditory capacities in Middle Pleistocene humans from the Sierra de Atapuerca in Spain // PNAS, 2004, V. 101, № 27, pp. 9976–9981.
Marzke M. W. et Shrewsbury M. M. The Oreopithecus thumb: pitfalls in reconstructing muscle and ligament attachments from fossil bones // JHE, 2006, V. 51, № 2, pp. 213–215.
McBrearty S. et Jablonski N. G. First fossil chimpanzee // Nature, 2005, V. 437, № 7055, pp. 105–108.
McCrossin M. L. et Benefit B. R. Comparative assessment of the ischial morphology of Victoriapithecus macinnesi // AJPhA, 1992, V. 87, № 3, pp. 277–290.
McLean C. Y., Reno Ph. L., Pollen A. A., Bassan A. I., Capellini T. D., Guenther C., Indjeian V. B., Lim X., Menke D. B., Schaar B. T., Wenger A. M., Bejerano G. et Kingsley D. M. Human-specific loss of regulatory DNA and the evolution of human-specific traits // Nature, 2011, V. 471, № 7337, pp. 216–219.
McNulty K. P., Begun D. R., Kelley J., Manthi F. K. et Mbua E. N. A systematic revision of Proconsul with the description of a new genus of early Miocene hominoid // JHE, 2015, V. 86, pp. 42–61.
Mednikova M. B. A proximal pedal phalanx of a Paleolithic hominin from Denisova Cave, Altai // Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia, 2011, V. 39, № 1, pp. 129–138.
Mednikova M. B. Distal phalanx of the hand of Homo from Denisova cave stratum 12: a tentative description // Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia, 2013, V. 41, № 2, pp. 146–155.
Mednikova M. B., Dobrovolskaya M. V., Viola B., Lavrenyuk A. V., Kazansky P. R., Shklover V. Y., Shunkov M. V. et Derevianko A. P. A micro computerized tomography (X-ray microscopy) of the hand phalanx of the Denisova girl // Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia, 2013, V. 41, № 3, pp. 120–125.
Meng J., Hu Y., Wang Y., Wang X. et Li Ch. A Mesozoic gliding mammal from northeastern China // Nature, 2006, V. 444, № 7121, pp. 889–893.
Meng Q.-J., Ji Q., Zhang Y.-G., Liu D., Grossnickle D. M. et Luo Zh.-X. An arboreal docodont from the Jurassic and mammaliaform ecological diversification // Science, 2015, V. 347, № 6223, pp. 760–764.
Meredith M. Human vomeronasal organ function: a critical review of best and worst cases // Chemical senses and flavor, 2001, V. 26, № 4, pp. 433–445.
Meredith R. W., Janecka J. E., Gatesy J., Ryder O. A., Fisher C. A., Teeling E. C., Goodbla A., Eizirik E., Simão T. L. L., Stadler T., Rabosky D. L., Honeycutt R. L., Flynn J. J., Ingram C. M., Steiner C., Williams T. L., Robinson T. J., Burk-Herrick A., Westerman M., Ayoub N. A., Springer M. S. et Murphy W. J. Impacts of the Cretaceous Terrestrial Revolution and KPg extinction on mammal diversification // Science, 2011, V. 334, № 6055, pp. 521–524.
Meyer M., Kircher M., Gansauge M.-Th., Li H., Racimo F., Mallick S., Schraiber J. G., Jay F., Prüfer K., Filippo de C., Sudmant P. H., Alkan C., Fu Q., Do R., Rohland N., Tandon A., Siebauer M., Green R. E., Bryc K., Briggs A. W., Stenzel U., Dabney J., Shendure J., Kitzman J., Hammer M. F., Shunkov M. V., Derevianko A. P., Patterson N., Andrés A. M., Eichler E. E., Slatkin M., Reich D., Kelso J. et Pääbo S. A high-coverage genome sequence from an archaic Denisovan individual // Science, 2012, V. 338, № 6104, pp. 222–226.
Meyer M., Fu Q., Aximu-Petri A., Glocke I., Nickel B., Arsuaga J. L., Martínez I., Gracia A., Bermudez de Castro J. M., Carbonell E. et Pääbo S. A mitochondrial genome sequence of a hominin from Sima de los Huesos // Nature, 2013, V. 505, № 7483, pp. 403–406.
Meyer M., Arsuaga J.-L., Filippo de C., Nagel S., Aximu-Petri A., Nickel B., Martínez I., Gracia A., Bermúdez de Castro J. M., Carbonell E., Viola B., Kelso J., Prüfer K. et Pääbo S. Nuclear DNA sequences from the Middle Pleistocene Sima de los Huesos hominins // Nature, 2016, V. 531, № 7595, pp. 504–507.
Mindell D. P., Dick Ch. W. et Baker R. J. Phylogenetic relationships among megabats, microbats, and primates // PNAS, 1991, V. 88, № 22, pp. 10322–10326.
Moffat A. S. New fossils and a glimpse of evolution // Science, 2002, V. 295, № 5555, pp. 613–615.
Monti-Bloch L., Jennings-White C. et Berliner D. L. The human vomeronasal system: a review // Annals of the New York Academy of Sciences, 1998, V. 855, Olfaction and taste, pp. 373–389.
Morgan M. E., Lewton K. L., Kelley J., Otárola-Castillo E., Barry J. C., Flynn L. J. et Pilbeam D. A partial hominoid innominate from the Miocene of Pakistan: description and preliminary analyses // PNAS, 2015, V. 112, № 1, pp. 82–87.
Morin E. et Laroulandie V. Presumed symbolic use of diurnal raptors by Neanderthals // PLoS ONE, 2012, V. 7, № 3, p. e32856.
Morwood M. J. et Jungers W. L. Conclusions: implications of the Liang Bua excavations for hominin evolution and biogeography // JHE, 2009, V. 57, № 5, pp. 640–648.
Morwood M. et Van Oosterzee P. The Discovery of the Hobbit. The Scientific Breakthrough That Changed the Face of Human History. New York, Random House, 2007, 326 p.
Morwood M. J., Brown P., Jatmiko, Sutikna T., Saptomo W. E., Westaway K. E., Due R. A., Roberts R. G., Maeda T., Wasisto S. et Djubiantono T. Further evidence for small-bodied hominins from the Late Pleistocene of Flores, Indonesia // Nature, 2005, V. 437, № 7061, pp. 1012–1017.
Moyà-Solà S., Köhler M. et Rook L. Evidence of hominid-like precision grip capability in the hand of the Miocene ape Oreopithecus // PNAS, 1999, V. 96, № 1, pp. 313–317.
Moyà-Solà S., Köhler M. et Rook L. The Oreopithecus thumb: a strange case in hominoid evolution // JHE, 2005, V. 49, № 3, pp. 395–404.
Muizon de C. et McDonald H. G. An aquatic sloth from the Pliocene of Peru // Nature, 1995, V. 375, № 6528, pp. 224–227.
Mustoe G. E., Tucker D. S. et Kemplin K. L. Giant Eocene bird footprints from northwest Washington, USA // Palaeontology, 2012, V. 55, № 6, pp. 1293–1305.
Nakatsukasa M. Acquisition of bipedalism: the Miocene hominoid record and modern analogues for bipedal protohominids // Journal of Anatomy, 2004, V. 204, № 5, pp. 385–402.
Nakatsukasa M., Tsujikawa H., Shimizu D., Takano T., Kunimatsu Y., Nakano Y. et Ishida H. Definitive evidence for tail loss in Nacholapithecus, an East African Miocene hominoid // JHE, 2003, V. 45, № 2, pp. 179–186.
Nakatsukasa M., Ward C. V., Walker A., Teaford M. F., Kunimatsu Y. et Ogihara N. Tail loss in Proconsul heseloni // JHE, 2004, V. 46, № 6, pp. 777–784.
Nargolwalla M. C., Begun D. R., Dean M. C., Reid D. J. et Kordos L. Dental development and life history in Anapithecus hernyaki // JHE, 2005, V. 49, № 1, pp. 99–121.
Nekaris K. A.-I., Moore R. S., Rode E. J. et Fry B. G. Mad, bad and dangerous to know: the biochemistry, ecology and evolution of slow loris venom // Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases, 2013, V. 19, p. 21.
Newman T. K., Jolly C. J. et Rogers J. Mitochondrial phylogeny and systematics of baboons (Papio) // AJPhA, 2004, V. 124, № 1, pp. 17–27.
Ni X., Gebo D. L., Dagosto M., Meng J., Tafforeau P., Flynn J. J. et Beard K. Ch. The oldest known primate skeleton and early haplorhine evolution // Nature, 2013, V. 498, № 7452, pp. 60–64.
Nishikimi M., Kawai T. et Yagi K. Guinea pigs possess a highly mutated gene for L-gulono-gamma-lactone oxidase, the key enzyme for L-ascorbic acid biosynthesis missing in the species // The Journal of Biological Chemistry, 1992, V. 267, № 30, pp. 21967–21972.
Nowell A. et Chase Ph. G. Taphonomy of a purported Mousterian bone flute from Divje Babe I, Slovenia // JHE, 1998, V. 34, № 3, p. A16.
Obendorf P. J., Oxnard C. E. et Kefford B. J. Are the small human-like fossils found on Flores human endemic cretins? // PRS, 2008, V. 275, № 1640, pp. 1287–1296.
O'Donnell S., Bulova S. J., DeLeon S., Khodak P., Miller S. et Sulger E. Distributed cognition and social brains: reductions in mushroom body investment accompanied the origins of sociality in wasps (Hymenoptera: Vespidae) // PRS, 2015, V. 282, № 20150791, pp. 1–6.
Ohta Y. et Nishikimi M. Random nucleotide substitutions in primate nonfunctional gene for L-gulono-gamma-lactone oxidase, the missing enzyme in L-ascorbic acid biosynthesis // Biochimica et Biophysica Acta, 1999, V. 1472, № 1–2, pp. 408–411.
Orban R., Semal P. et Twiesselmann F. Sur la biométrie des mandibules et des dents humaines d'Ishango (LSA, République démocratique du Congo) // Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, 2001, T. 13, № 1–2, pp. 1–13.
Orkin J. D. et Pontzer H. The narrow niche hypothesis: gray squirrels shed new light on primate origins // AJPhA, 2011, V. 144, № 4, pp. 617–624.
Orr C. M., Tocheri M. W., Burnett S. E., Due R. A., Saptomo E. W., Sutikna Th., Jatmiko, Wasisto S., Morwood M. J. et Jungers W. L. New wrist bones of Homo floresiensis from Liang Bua (Flores, Indonesia) // JHE, 2013, V. 64, № 2, pp. 109–129.
Patel B. A., Susman R. L., Rossie J. B. et Hill A. Terrestrial adaptations in the hands of Equatorius africanus revisited // JHE, 2009, V. 57, № 6, pp. 763–772.
Pearce E., Stringer Ch. et Dunbar R. I. M. New insights into differences in brain organization between Neanderthals and anatomically modern humans // PRS, 2013, V. 280, № 20130168, pp. 1–7.
Penkrot T. A., Zack Sh. P., Rose K. D. et Bloch J. I. Postcranial morphology of Apheliscus and Haplomylus (Condylarthra, Apheliscidae): evidence for a Paleocene Holarctic origin of Macroscelidea // Mammalian Evolutionary Morphology: A Tribute to Frederick S. Szalay. Eds. E. J. Sargis et M. Dagosto. 2008, pp. 73–106.
Peresani M., Fiore I., Gala M., Romandini M. et Tagliacozzo A. Late Neandertals and the intentional removal of feathers as evidenced from bird bone taphonomy at Fumane Cave 44 ky B. P., Italy // PNAS, 2011, V. 108, № 10, pp. 3888–3893.
Perry G. H., Foll M., Grenier J.-Ch., Patin E., Nédélec Y., Pacis A., Barakatt M., Gravel S., Zhou X., Nsobya S. L., Excoffier L., Quintana-Murci L., Dominy N. J. et Barreiro L. B. Adaptive, convergent origins of the pygmy phenotype in African rainforest hunter-gatherers // PNAS, 2014, V. 111, № 35, pp. E3596 – E3603.
Pettigrew J. D. Flying primates? Megabats have the advanced pathway from eye to midbrain // Science, 1986, V. 231, № 4743, pp. 1304–1346.
Pettigrew J. D., Jamieson B. G., Robson S. K., Hall L. S., McAnally K. I. et Cooper H. M. Phylogenetic relations between microbats, megabats and primates (Mammalia: Chiroptera and Primates) // Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series B, Biological Sciences, 1989, V. 325, № 1229, pp. 489–559.
Pettigrew J. D., Maseko B. C. et Manger P. R. Primate-like retinotectal decussation in an echolocating megabat, Rousettus aegyptiacus // Neuroscience, 2008, V. 153, № 1, pp. 226–231.
Pfenning A. R., Hara E., Whitney O., Rivas M. V., Wang R., Roulhac P. L., Howard J. T., Wirthlin M., Lovell P. V., Ganapathy G., Mouncastle J., Moseley M. A., Thompson J. W., Soderblom E. J., Iriki A., Kato M., Gilbert M. Th. P., Zhang G., Bakken T., Bongaarts A., Bernard A., Lein E., Mello C. V., Hartemink A. J. et Jarvis E. D. Convergent transcriptional specializations in the brains of humans and song-learning birds // Science, 2014, V. 346, № 6215, pp. 1256846–1–13.
Pickford M., Senut B., Gommery D. et Musiime E. Distinctiveness of Ugandapithecus from Proconsul. La distinción entre Ugandapithecus y Proconsul // Estudios Geológicos, 2009, V. 65, № 2, pp. 183–241.
Prado-Martinez J., Sudmant P. H., Kidd J. M., Li H., Kelley J. L., Lorente-Galdos B., Veeramah K. R., Woerner A. E., O'Connor T. D., Santpere G., Cagan A., Theunert Ch., Casals F., Laayouni H., Munch K., Hobolth A., Halager A. E., Malig M., Hernandez-Rodriguez J., Hernando-Herraez I., Prüfer K., Pybus M., Johnstone L., Lachmann M., Alkan C., Twigg D., Petit N., Baker C., Hormozdiari F., Fernandez-Callejo M., Dabad M., Wilson M. L., Stevison L., Camprubi C., Carvalho T., Ruiz-Herrera A., Vives L., Mele M., Abello T., Kondova I., Bontrop R. E., Pusey A., Lankester F., Kiyang J. A., Bergl R. A., Lonsdorf E., Myers S., Ventura M., Gagneux P., Comas D., Siegismund H., Blanc J., Agueda-Calpena L., Gut M., Fulton L., Tishkoff S. A., Mullikin J. C., Wilson R. K., Gut I. G., Gonder M. K., Ryder O. A., Hahn B. H., Navarro A., Akey J. M., Bertranpetit J., Reich D., Mailund Th., Schierup M. H., Hvilsom Ch., Andres A. M., Wall J. D., Bustamante C. D., Hammer M. F., Eichler E. E. et Marques-Bonet T. Great ape genetic diversity and population history // Nature, 2013, V. 499, № 7459, pp. 471–475.
Prasad G. V. R., Verma O., Sahni A., Parmar V. et Khosla A. A Cretaceous hoofed mammal from India // Science, 2007, V. 318, № 5852, p. 937.
Putnam N. H., Butts Th., Ferrier D. E. K., Furlong R. F., Hellsten U., Kawashima T., Robinson-Rechavi M., Shoguchi E., Terry A., Yu J.-K., Benito-Gutiérrez E., Dubchak I., Garcia-Fernàndez J., Gibson-Brown J. J., Grigoriev I. V., Horton A. C., Jong de P. J., Jurka J., Kapitonov V. V., Kohara Y., Kuroki Y., Lindquist E., Lucas S., Osoegawa K., Pennacchio L. A., Salamov A. A., Satou Y., Sauka-Spengler T., Schmutz J., Shin-I T., Toyoda A., Bronner-Fraser M., Fujiyama A., Holland L. Z., Holland P. W. H., Satoh N., et Rokhsar D. S. The Amphioxus genome and the evolution of the chordate karyotype // Nature, 2008, V. 453, № 7198, pp. 1064–1071.
Radinsky L. Aegyptopithecus endocasts: oldest record of a pongid brain // AJPhA, 1973, V. 39, № 2, pp. 239–247.
Radovčić D., Sršen A. O., Radovčić J. et Frayer D. W. Evidence for Neandertal jewelry: modified white-tailed eagle claws at Krapina // PLoS ONE, 2015, V. 10, № 3, p. e0119802, 14 p.
Ramdarshan A., Merceron G., Tafforeau P. et Marivaux L. Dietary reconstruction of the Amphipithecidae (Primates, Anthropoidea) from the Paleogene of South Asia and paleoecological implications // JHE, 2010, V. 59, № 1, pp. 96–108.
Reich D., Green R. E., Kircher M., Krause J., Patterson N., Durand E. Y., Viola B., Briggs A. W., Stenzel U., Johnson Ph. L. F., Maricic T., Good J. M., Marques-Bonet T., Alkan C., Fu Q., Mallick S., Li H., Meyer M., Eichler E. E., Stoneking M., Richards M., Talamo S., Shunkov M. V., Derevianko A. P., Hublin J.-J., Kelso J., Slatkin M. et Pääbo S. Genetic history of an archaic hominin group from Denisova Cave in Siberia // Nature, 2010, V. 468, № 7327, pp. 1053–1060.
Reich D., Patterson N., Kircher M., Delfin F., Nandineni M. R., Pugach I., Ko A. M.-Sh., Ko Y.-Ch., Jinam T. A., Phipps M. E., Saitou N., Wollstein A., Kayser M., Pääbo S. et Stoneking M. Denisova admixture and the first modern human dispersals into Southeast Asia and Oceania // The American Journal of Human Genetics, 2011, V. 89, № 4, pp. 516–528.
Rendu W., Beauval C., Crevecoeur I., Bayle P., Balzeau A., Bismuth Th., Bourguignon L., Delfour G., Faivre J.-Ph., Lacrampe-Cuyaubère F., Tavormina C., Todisco D., Turq A. et Maureille B. Evidence supporting an intentional Neandertal burial at La Chapelle-aux-Saints // PNAS, 2014, V. 111, № 1, pp. 81–86.
Rinderknecht A. et Blanco R. E. The largest fossil rodent // PRS, 2008, V. 275, № 1637, pp. 923–928.
Rodríguez-Vidal J., d'Errico F., Pacheco F. G., Blasco R., Rosell J., Jennings R. P., Queffelec A., Finlayson G., Fa D. A., López J. M. G., Carrión J. S., Negro J. J., Finlayson S., Cáceres L. M., Bernal M. A., Jiménez S. F. et Finlayson C. A rock engraving made by Neanderthals in Gibraltar // PNAS, 2014, V. 111, № 37, pp. 13301–13306.
Roebroeks W., Sier M. J., Nielsen T. K., De Loecker D., Parés J. M., Arps Ch. E. S. et Mücher H. J. Use of red ochre by early Neandertals // PNAS, 2012, V. 109, № 6, pp. 1889–1894.
Rook L., Bondioli L., Köhler M., Moyà-Solà S. et Macchiarelli R. Oreopithecus was a bipedal ape after all: evidence from the iliac cancellous architecture // PNAS, 1999, V. 96, № 15, pp. 8795–8799.
Rook L., Renne P., Benvenuti. M et Papini M. Geochronology of Oreopithecus-bearing succession at Baccinello (Italy) and the extinction pattern of European Miocene hominoids // JHE, 2000, V. 39, № 6, pp. 577–582.
Rook L., Bondioli L., Casali F., Rossi M., Köhler M., Moyà-Solà S. et Macchiarelli R. The bony labyrinth of Oreopithecus bambolii // JHE, 2004, V. 46, № 3, pp. 347–354.
Rook L., Oms O., Benvenuti M. G. et Papini M. Magnetostratigraphy of the Late Miocene Baccinello – Cinigiano basin (Tuscany, Italy) and the age of Oreopithecus bambolii faunal assemblages // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2011, V. 305, № 1–4, pp. 286–294.
Rose M. D. Further hominoid postcranial specimens from the Late Miocene Nagri Formation of Pakistan // JHE, 1986, V. 15, № 5, pp. 333–367.
Rose M. D., Leakey M. G., Leakey R. E. F. et Walker A. C.Postcranial specimens of Simiolus enjiessi and other primitive catarrhines from the early Miocene of Lake Turkana, Kenya // JHE, 1992, V. 22, № 3, pp. 171–237.
Rosenberger A. L. et Hogg R. On Bahinia pondaungensis, an alleged early anthropoid // PaleoAnthropology, 2007, pp. 26–30.
Rossie J. B. Anatomy of the nasal cavity and paranasal sinuses in Aegyptopithecus and Early Miocene African catarrhines // AJPhA, 2005, V. 126, № 3, pp. 250–267.
Rossie J. B. et MacLatchy L. Dentognathic remains of an Afropithecus individual from Kalodirr, Kenya // JHE, 2013, V. 65, № 2, pp. 199–208.
Russell D. A. et Séguin R. Reconstruction of the small Cretaceous theropod Stenonychosaurus inequalis and a hypothetical dinosauroid // Syllogeus, 1982, V. 37, pp.1–43.
Russo G. A. et Shapiro L. J. Reevaluation of the lumbosacral region of Oreopithecus bambolii // JHE, 2013, V. 65, № 3, pp. 253–265.
Russon A. E., Compost A., Kuncoro P. et Ferisa A. Orangutan fish eating, primate aquatic fauna eating, and their implications for the origins of ancestral hominin fish eating // JHE, 2014, V. 77, pp. 50–63.
Rydell J. et Speakman J. R. Evolution of nocturnality in bats – potential competitors and predators in their early history // Biological Journal of the Linnaean Society, 1995, V. 54, pp. 183–191.
Sagan C. The Dragons of Eden: Speculations on the Evolution of Human Intelligence. Random House, 1977, 263 p.
Samson D. R. et Nunn Ch. L. Sleep intensity and the evolution of human cognition // Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews, 2015, V. 24, № 6, pp. 225–237.
Sánchez-Villagra M. R., Aguilera O. et Horovitz I. The anatomy of the world's largest extinct rodent // Science, 2003, V. 301, № 5640, pp. 1708–1710.
Sankhyan A. R. Fossil clavicle of a Middle Pleistocene hominid from the Central Narmada Valley, India // JHE, 1997, V. 32, № 1, pp. 3–16.
Schaik van C. P. Fragility of traditions: the disturbance hypothesis for the loss of local traditions in orangutans // International Journal of Primatology, 2002, V. 23, № 3, pp. 527–538.
Schwartz J. H. et Tattersall I. Whose teeth? // Nature, 1996, V. 381, № 6579, pp. 201–202.
Scott R. S., Teaford M. F. et Ungar P. S. Dental microwear texture and anthropoid diets // AJPhA, 2012, V. 147, № 4, pp. 551–579.
Senut B., Pickford M., Braga J., Marais D. et Coppens Y. Découverte d'un Homo sapiens archaïque à Oranjemund, Namibie // CRAS, 2000, sér. IIa, V. 330, № 11, pp. 813–819.
Seiffert E. R. The oldest and youngest records of afrosoricid placentals from the Fayum Depression of northern Egypt // Acta Palaeontologica Polonica, 2010, V. 55, № 4, pp. 599–616.
Seiffert E. R. et Simons E. L. Last of the oligopithecids? A dwarf species from the youngest primate-bearing level of the Jebel Qatrani Formation, northern Egypt // JHE, 2013, V. 64, № 3, pp. 211–215.
Silcox M. T. New discoveries on the middle ear anatomy of Ignacius graybullianus (Paromomyidae, Primates) from ultra high resolution X-ray computed tomography // JHE, 2003, V. 44, № 1, pp. 73–86.
Simmons N. B., Seymour K. L., Habersetzer J. et Gunnell G. F. Primitive Early Eocene bat from Wyoming and the evolution of flight and echolocation // Nature, 2008, V. 451, № 7180, pp. 818–822.
Simons E. L. New faces of Aegyptopithecus from the Oligocene of Egypt // JHE, 1987, V. 16, № 3, pp. 273–289.
Simons E. L., Holroyd P. A. et Bown Th. M. Early tertiary elephant-shrews from Egypt and the origin of the Macroscelidea // PNAS, 1991, V. 88, № 21, pp. 9734–9737.
Simons E. L., Plavcan J. M. et Fleagle J. G. Canine sexual dimorphism in Egyptian Eocene anthropoid primates: Catopithecus and Proteopithecus // PNAS, 1999, V. 96, № 5, pp. 2559–2562.
Simons E. L., Seiffert E. R., Ryan T. M. et Attia Y. A remarkable female cranium of the early Oligocene anthropoid Aegyptopithecus zeuxis (Catarrhini, Propliopithecidae) // PNAS, 2007, V. 104, № 21, pp. 8731–8736.
Simpson G. G. The Tiffany fauna, Upper Paleocene. I. – Multituberculata, Marsupialia, Insectivora and?Chiroptera // American Museum Novitates, 1935, № 795, pp. 1–19.
Simpson G. G. The Tertiary lorisiform primates of Africa // Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, 1967, V. 136, pp. 39–62.
Smith Th., De Bast E. et Sigé B. Euarchontan affinity of Paleocene Afro-European adapisoriculid mammals and their origin in the late Cretaceous Deccan Traps of India // Naturwissenschaften, 2010, V. 97, pp. 417–422.
Solecki R. S. Shanidar. The First Flower People. New York, Knopf, 1971, 290 p.
Solecki R. S. Shanidar IV, a neanderthal flower burial in Northern Iraq // Science, 1975, V. 190, № 4217, pp. 880–881.
Sommer J. D. The Shanidar IV 'Flower Burial': a re-evaluation of Neanderthal burial ritual // Cambridge Archaeological Journal, 1999, V. 9, № 1, pp. 127–129.
Spassov N., Geraads D., Hristova L., Markov G. N., Merceron G., Tzankov T., Stoyanov K., Böhme M. et Dimitrova A. A hominid tooth from Bulgaria: the last pre-human hominid of continental Europe // JHE, 2012, V. 62, № 1, pp. 138–145.
Speakman J. R. The evolution of flight and echolocation in bats: another leap in the dark // Mammal Review, 2001, V. 31, № 2, pp. 111–130.
Sponheimer M., Alemseged Z., Cerling Th. E., Grine F. E., Kimbel W. H., Leakey M. G., Lee-Thorp J. A., Manthi F. K., Reed K. E., Wood B. A. et Wynn J. G. Isotopic evidence of early hominin diets // PNAS, 2013, V. 110, № 26, pp. 10513–10518.
Stein W. E., Mannolini F., Hernick L. V. A., Landing E. et Berry Ch. M. Giant cladoxylopsid trees resolve the enigma of the Earth's earliest forest stumps at Gilboa // Nature, 2007, V. 446, № 7138, pp. 904–907.
Stein W. E., Berry Ch. M., Hernick L. V. A. et Mannolini F. Surprisingly complex community discovered in the mid-Devonian fossil forest at Gilboa // Nature, 2012, V. 483, № 7387, pp. 78–81.
Stevens N. J., Seiffert E. R., O'Connor P. M., Roberts E. M., Schmitz M. D., Krause C., Gorscak E., Ngasala S., Hieronymus T. L. et Temu J. Palaeontological evidence for an Oligocene divergence between Old World monkeys and apes // Nature, 2013, V. 497, № 7451, pp. 611–614.
Stojanowski Ch. M. Iwo Eleru's place among Late Pleistocene and Early Holocene populations of North and East Africa // JHE, 2014, V. 75, pp. 80–89.
Susman R. L. Oreopithecus bambolii: an unlikely case of hominidlike grip capability in a Miocene ape // JHE, 2004, V. 46, № 1, pp. 105–117.
Susman R. L. Oreopithecus: still apelike after all these years // JHE, 2005, V. 49, № 3, pp. 405–411.
Sussman R. W. Primate origins and the evolution of Angiosperms // American Journal of Primatology, 1991, V. 23, № 4, pp. 209–223.
Sutikna Th., Tocheri M. W., Morwood M. J., Saptomo E. W., Jatmiko, Awe R. D., Wasisto S., Westaway K. E., Aubert M., Li B., Zhao J.-x., Storey M., Alloway B. V., Morley M. W., Meijer H. J. M., Bergh van den G. D., Grün R., Dosseto A., Brumm A., Jungers W. L. et Roberts R. G. Revised stratigraphy and chronology for Homo floresiensis at Liang Bua in Indonesia // Nature, 2016, V. 532, № 7599, pp. 366–369.
Suwa G., Kono R. T., Katoh Sh., Asfaw B. et Beyene Y. A new species of great ape from the late Miocene epoch in Ethiopia // Nature, 2007, V. 448, № 7156, pp. 921–924.
Szalay F. S. Mixodectidae, Microsyopidae, and the insectivore-primate transition // Bulletin of the American Museum of Natural History, New York, 1969, V. 140, article 4, pp. 193–330.
Szalay F. S. et Delson E. Evolutionary history of the Primates. New York, Academic Press, 1979.
Tabuce R., Coiffait B., Coiffait Ph.-E., Mahboubi M. et Jaeger J.-J. A new genus of Macroscelidea (Mammalia) from the Eocene of Algeria: a possible origin for elephant-shrews // Journal of Vertebrate Paleontology, 2001, V. 21, № 3, pp. 535–546.
Tabuce R., Marivaux L., Lebrun R., Adaci M., Bensalah M., Fabre P.-H., Fara E., Rodrigues H. G., Hautier L., Jaeger J.-J., Lazzari V., Mebrouk F., Peigné S., Sudre J., Tafforeau P., Valentin X. et Mahboubi M. Anthropoid versus strepsirhine status of the African Eocene primates Algeripithecus and Azibius: craniodental evidence // PRS, 2009, V. 276, № 1676, pp. 4087–4094.
The Minatogawa Man. The Upper Pleistocene Man From the Island of Okinawa. Eds. H. Suzuki et K. Hanihara. Tokyo, University of Tokyo Press, 1982.
Thoen H. H., How M. J., Chiou T.-H. et Marshall J. A different form of color vision in mantis shrimp // Science, 2014, V. 343, № 6169, pp. 411–413.
Thomas H., Şen Ş., Roger J. et Al-Sulaimani Z. The discovery of Moeripithecus markgrafi Schlosser (Propliopithecidae, Anthropoidea, Primates), in the Ashawq Formation (Early Oligocene of Dhofar Province, Sultanate of Oman) // JHE, 1991, V. 20, № 1, pp. 33–49.
Tocheri M. W., Orr C. M., Larson S. G., Sutikna T., Jatmiko, Saptomo E. W., Due R. A., Djubiantono T., Morwood M. J. et Jungers W. L. The primitive wrist of Homo floresiensis and its implications for hominin evolution // Science, 2007, V. 317, № 5845, pp. 1743–1745.
Trinkaus E. The Shanidar Neandertals. New York, Academic Press, London et Academic, 1983, 502 p.
Tuttle R. H. et Rogers Ch. M. Genetic and selective factors in reduction of the hallux in Pongo pygmaeus // AJPhA, 1966, V. 24, № 2, pp. 191–198.
Utrilla P., Mazo C., Sopena M. C., Martinez-Bea M. et Domingo R. A palaeolithic map from 13,660 calBP: engraved stone blocks from the Late Magdalenian in Abauntz Cave (Navarra, Spain) // JHE, 2009, 57, № 2, pp. 99–111.
Van Valen L. New Paleocene insectivores and insectivore classification // Bulletin of the American Museum of Natral History, New York, 1967, V. 135, article 5, pp. 217–284.
Varki A. et Gagneux P. Human-specific evolution of sialic acid targets: explaining the malignant malaria mystery? // PNAS, 2009, V. 106, № 35, pp. 14739–14740.
Vendramini D. Them and Us: Neanderthal Predation and the Bottleneck Speciation of Modern Humans. Armindale, 2009, 51 p.
Venkataraman V. V., Kraft Th. S. et Dominy N. J. Tree climbing and human evolution // PNAS, 2013, V. 110, № 4, pp. 1237–1242.
Vernet J. L. Les fragments ligneux wurmiens de la grotte de Shanidar (Iraq) // Paléorient, 1981, V. 7, № 1, pp. 141–144.
Verrelli B. C. et Tishkoff S. A. Signatures of selection and gene conversion associated with human color vision variation // The American Journal of Human Genetics, 2004, V. 75, № 3, pp. 363–375.
Veselka N., McErlain D. D., Holdsworth D. W., Eger J. L., Chhem R. K., Mason M. J., Brain K. L., Faure P. A. et Fenton M. B. A bony connection signals laryngeal echolocation in bats // Nature, 2010, V. 463, № 7283, pp. 939–942.
Walker A. C. True affinities of Propotto leakeyi Simpson, 1967 // Nature, 1969, V. 223, № 5206, pp. 647–648.
Wanpo H., Ciochon R., Yumin G., Larick R., Qiren F., Schwarcz H., Yonge C., Vos de J. et Rink W. Early Homo and associated artifacts from Asia // Nature, 1995, V. 378, № 6554, pp. 275–278.
Ward C. V., Walker A. et Teaford M. F. Proconsul did not have a tail // JHE, 1991, V. 21, № 3, pp. 215–220.
Ward C. V., Tocheri M. W., Plavcan J. M., Brown F. H. et Manthi F. K. Early Pleistocene third metacarpal from Kenya and the evolution of modern human-like hand morphology // PNAS, 2014, V. 111, № 1, pp. 121–124.
Wells N. A. et Gingerich P. D. Review of Eocene Anthracobunidae (Mammalia, Proboscidea) with a new genus and species, Jozaria palustris, from the Kuldana Formation of Kohat (Pakistan) // Contributions from the Museum of Paleontology, The University of Michigan, 1983, V. 26, № 7, pp. 117–139.
West R. M. et Dawson M. R. Vertebrale paleontology and the Cenozoic history of the North Atlantic region // Polarforschung, 1978, V. 48, № 1/2, pp. 103–119.
Westaway K. E. Reconstructing the Quaternary landscape evolution and climate history of western Flores: an environmental and chronological context for an archaeological site. GeoQUeST Research Center, School of Earth an Environmental Sciences, 2006, 415 p.
Weston E. M. et Lister A. M. Insular dwarfism in hippos and a model for brain size reduction in Homo floresiensis // Nature, 2009, V. 459, № 7243, pp. 85–88.
Whitworth R. T. A fossil hominid from Rudolf // The South African Archaeological Bulletin, 1966, V. 21, № 83, pp. 138–150.
Wible J. R., Rougier G. W., Novacek M. J. et Asher R. J. Cretaceous eutherians and Laurasian origin for placental mammals near the K/T boundary // Nature, 2007, V. 447, № 7147, pp. 1003–1006.
Wiens F., Zitzmann A., Lachance M.-A., Yegles M., Pragst F., Wurst F. M., Holst von D., Guan S. L. et Spanagel R. Chronic intake of fermented floral nectar by wild treeshrews // PNAS, 2008, V. 105, № 30, pp. 10426–10431.
Williams F. L'E. Enamel microwear texture properties of IGF 11778 (Oreopithecus bambolii) from the late Miocene of Baccinello, Italy // Journal of Anthropological Sciences, 2013, V. 91, pp. 201–217.
Zalmout I. S., Sanders W. J., MacLatchy L. M., Gunnell G. F., Al-Mufarreh Y. A., Ali M. A., Nasser A.-A. H., Al-Masari A. M., Al-Sobhi S. A., Nadhra A. O., Matari A. H., Wilson J. A. et Gingerich Ph. D. New Oligocene primate from Saudi Arabia and thedivergence of apes and Old World monkeys // Nature, 2010, V. 466, № 7304, pp. 360–364.
Zapfe H. Die primatenfunde aus der miozanen Spaltenfullung von Neudorf an der March (Devinska Nova Ves), Tschechoslovakei. Mit anhang: der Primaten fund aus dem Miozan von Klein Hadersdorf in Niederosterreich // Abhandlungen der schweizerische palaontologischen Gesellschaft, 1960, V. 78, pp. 1–293.
Zhang X. Y. et Li C. Fossil hominid discovered at Longlin, Guangxi // Acta Anthropologica Sinica, 1982, V. 1, p. 199.
Zhang X. Y., Zheng L., Yang L. et Bao L. Human fossil and cultural remains from Mengzi, Yunnan // Yunnan Soc., 1990, V. 2, pp. 60–64.
Zhang Y., Kono R. T., Jin Ch., Wang W. et Harrison T. Possible change in dental morphology in Gigantopithecus blacki just prior to its extinction: evidence from the upper premolar enamel-dentine junction // JHE, 2014, V. 75, pp. 166–171.
Список иллюстраций
Рисунки во вкладке – Роман Евсеев;
рис. 1, 2, 30 – Давид Хайдаров;
рис. 3, 4, 7, 8, 10–14, 16–19, 21–25, 29, 31–33, 37, 38 – Илья Мурашев;
рис. 5, 6, 9, 15, 20, 27, 28, 34, 35, 36, 39, 40 – Ольга Федорчук;
рис. 26 – Елена Мартыненко.
Сноски
1
Перевод И. Рачинского.
(обратно)2
Перевод Л. Жданова.
(обратно)




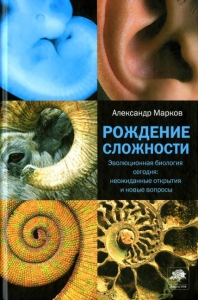
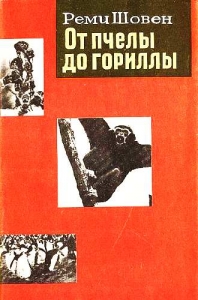





Комментарии к книге «Достающее звено. Книга 1. Обезьяны и все-все-все», Станислав Владимирович Дробышевский
Всего 0 комментариев