Николас Уэйд На заре человечества: Неизвестная история наших предков
Переводчик Николай Мезин
Научный редактор Сергей Ястребов
Редактор Юлия Быстрова
Руководитель проекта И. Серёгина
Корректоры С. Чупахина, М. Миловидова
Компьютерная верстка A. Фоминов
Дизайн обложки Ю. Буга
Фото на обложке iStock
© Nicholas Wade, 2006
This edition is published by arrangement with Sterling Lord Literistic and The Van Lear Agency LLC
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2016
Все права защищены. Произведение предназначено исключительно для частного использования. Никакая часть электронного экземпляра данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для публичного или коллективного использования без письменного разрешения владельца авторских прав. За нарушение авторских прав законодательством предусмотрена выплата компенсации правообладателя в размере до 5 млн. рублей (ст. 49 ЗОАП), а также уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет (ст. 146 УК РФ).
* * *
1. Генезис и генетика
Много раз высказывалось с уверенностью мнение, что происхождение человека никогда не будет узнано. Невежеству удается внушить доверие чаще, чем знанию, и обыкновенно не те, которые знают много, а те, которые знают мало, всего увереннее заявляют, что та или другая задача никогда не будет решена наукой.
Чарльз Дарвин. Происхождение человека и половой отбор[1]Двигаясь вспять по ленте времен, мы видим, что в первые век-два истории человечества в свидетельствах его существования недостатка нет. Но затем все резко меняется. На рубеже 5000 лет исчезают письменные памятники, уступая место бессловесным артефактам, вырытым из земли. В следующие 10 000 лет мы и их встречаем все реже, и через 150 веков, в момент возникновения первых человеческих поселений, артефакты практически исчезают. До этого момента люди вели кочевую жизнь, кормились охотой и собирательством. Ничего не строили и не оставили по себе почти никаких долговечных творений, кроме нескольких каменных орудий и удивительных наскальных росписей в пещерах Европы.
Отмотав назад еще 35 000 лет, мы достигнем момента, когда предки человека еще не покинули пределов своей родины на северо-востоке Африки, но уже демонстрировали первые признаки современного поведения. Если считать, что оттуда и начинается история современного человека, то получается, что письменные источники освещают лишь последние 10 % ее протяженности, остальная история как будто растворилась во тьме.
Пойдем дальше вглубь времен к первым дням существования нашего биологического вида, на 5 млн лет назад, когда первые обезьяноподобные существа, далекие предки человечества, отделились от вида, также давшего начало шимпанзе. Единственный материальный след той эпохи, в которую совершилась эволюция от обезьяны к человеку, – несколько каменных орудий.
Казалось бы, узнать это время сколько-нибудь глубже не удастся: 5 млн лет человеческой эволюции и 50 000 лет доисторической эпохи скрыты во тьме. Однако в последние годы ученым открылся абсолютно новый архив данных. Это хроника, записанная в ДНК человеческого генома, в ее разных версиях, разбросанных по планете. Генетика давно помогает в изучении прошлого, но особенно успешно – с 2003 г., когда ученые закончили определение последовательности ДНК в человеческом геноме.
Но каким образом геном так много сообщает нам о прошлом? Как хранилище наследственной информации, пребывающей в постоянном изменении, геном подобен документу, который без конца переписывают. Но геном, изменяясь, сохраняет сведения обо всех «черновиках», которые содержат в себе хронику миллионов лет. Таким образом, геном может многое рассказать нам о разных временны́х пластах. В нем есть свидетельства, уходящие более чем на 50 000 лет назад, к генетическому Адаму, человеку, чья Y-хромосома есть у каждого мужчины, живущего сегодня на земле. В то же время геном способен дать ключ к загадкам всего лишь двухвековой давности (например, ответить на вопрос: были ли у Томаса Джефферсона незаконные дети от любовницы-рабыни Салли Хемингс).
Геном помогает ученым увидеть новую, куда более отчетливую картину человеческой эволюции, природы и истории. Из кромешной тьмы выплывает ошеломляюще подробная картина.
Новое прочтение человеческой истории опирается на основание, заложенное палеоантропологией, археологией, антропологией и многими другими науками. Новым оно считается потому, что все эти традиционные области знания сегодня используют генетическую информацию и генетика постепенно собирает их воедино.
В этой книге описывается ряд аспектов человеческой эволюции, природы и древнейшей истории, высветившихся благодаря открытиям в генетике последних лет. Читателей, далеких от этой области знания, вероятно, удивит, сколько разнообразной информации содержит в себе новый исторический подход. Видеозаписи, на которой обезьяна постепенно превращается в человека, не существует, однако этот процесс можно реконструировать в виде последовательности знаковых событий. Нет карт, показывающих миграцию первых людей с их прародины, но ученые могут составить маршрут, которым наши предки вышли из Африки, и их дальнейшее движение по планете. Можно проследить даже зарождение каких-то общественных институтов, возникших у людей на переходе от кочевого образа жизни, основанного на охоте и собирательстве, к современным сложным социальным системам.
Информация из генома позволила палеоантропологам установить, когда человек лишился густого волосяного покрова на теле и когда обрел дар речи. Геном помог разрешить давнюю археологическую загадку сосуществования неандертальца и современного человека: жили ли они в мире и скрещивались или враждовали до полного уничтожения слабейшего? Генетика открыла антропологам данные о возникновении различных культурных практик, например стадного выпаса или каннибализма. И даже сравнительно-историческое языкознание обогатилось, хотя и косвенно, благодаря информации, которую дает нам ДНК: история языка сегодня реконструируется с применением методик построения родословного древа, разработанных биологами для картографирования генов.
В вопросе о популяции первобытных людей, существовавшей 50 000 лет назад и давшей начало всем народам, ныне населяющим Землю, методы палеоантропологии и археологии бессильны что-то открыть о наших предках, исчезнувших без следа. А вот генетики, исследуя человеческий геном, открывают самые удивительные факты. Они могут оценить численность этой группы первых людей. Могут сказать, где именно в Африке они, вероятнее всего, обитали. Могут назвать дату, хотя и весьма приблизительную, возникновения человеческого языка. И даже рано или поздно смогут восстановить звучание праязыка.
Первая рукотворная одежда
Немного найдется примеров, более наглядно показывающих способность генетики проникать в самые удивительные закоулки человеческого прошлого, чем недавнее открытие исторического периода, когда появилась первая сшитая одежда. Первобытные люди, вероятно, одевались в шкуры животных миллионы лет, покрываясь ими, как плащом, но рукотворная одежда – сравнительно недавнее изобретение. Археологи не могут установить, когда она возникла, поскольку и ткани, и костяные иглы, которыми она сшивалась, весьма недолговечны.
Осенью 1999 г. в Лейпциге сын антрополога Марка Стоункинга принес из школы записку, где сообщалось, что в классе один из учеников заразился вшами. Стоункинг, американский ученый, работавший в Институте эволюционной антропологии Общества Макса Планка, прочел записку со всем вниманием встревоженного родителя. Однако как генетик, давно интересующийся происхождением человека, он обратил внимание на то место в тексте, где говорилось, что вошь не может жить без тепла человеческого тела дольше 24 часов.
«Я подумал: если это так, то вши должны были распространяться по миру с человеческой миграцией», – говорит Стоункинг. Он решил, что если сумеет это доказать, то найдет способ независимо подтвердить данные о миграционных маршрутах, извлеченные из человеческой ДНК. Однако после нескольких часов работы в библиотеке, он понял, что вши могут хранить в своей ДНК кое-что поинтереснее – время, когда появились первые сшитые одежды.
Он выяснил, что биологи, изучающие вшей, давно рассуждают о том, что эволюция этих нежеланных спутников человека может прояснить историю появления шитой одежды. Человеку «повезло» быть хозяином не одного, а трех разных видов вшей: головной, платяной и лобковой. Лобковая вошь – это отдельный биологический вид со своей историей, а вот головная и платяная друг на друга похожи – правда, платяная крупнее, и у нее несколько иная форма коготков. В отличие от головной вши, которая цепляется за стержень волоса, платяная предпочитает селиться в одежде. Она эволюционировала из головной вши, и дата этого события, если ее установить, и должна показать, когда люди начали носить одежду, скроенную по фигуре.
Составителей Книги Бытия тема человеческой наготы волновала настолько, что они включили в текст не одну, а две версии того, как люди начали прикрывать некоторые части тела одеждой. Первая гласит, что Адам и Ева сшили себе набедренные повязки из фиговых листьев, осознав, что они нагие. Согласно второй версии, сам Создатель создал для заблудшей пары, изгоняя ее из Эдема, кожаные одежды{1}. Ни одна из версий не уделяет должного внимания еще одному участнику ситуации с одеванием человека – вши. В конце концов, когда предок человека был, как и прочие обезьяны, покрыт шерстью, вши могли свободно кочевать по нему от макушки до пят.
С утратой человеком шерстного покрова царство вши уменьшилось, ей достался только малый островок волос, нелепо топорщащийся на человеческой макушке. Однако вошь терпеливо выжидала своего часа, и спустя тысячелетия, когда люди стали носить одежду, головная вошь не упустила шанса вернуть былые завоевания, эволюционировав в новую разновидность, способную жить на платье. Стоункинг понял, что сможет датировать изобретение одежды, если ему удастся по вариациям ДНК вши установить момент, когда платяная вошь начала эволюцию от головной.
Стоункинг собрал образцы головных и платяных вшей у жителей 12 стран из разных концов мира: от Эфиопии до Эквадора и Новой Гвинеи. Он проанализировал небольшой сегмент генетического материала у всех собранных особей и, сопоставив все обнаруженные вариации, распределил вшей из разных стран на родословном древе. Зная, с какой скоростью накапливаются вариации в ДНК, Стоункинг сумел вычислить даты появления ответвлений на этом древе.
Ответвление, образованное в результате появления платяной вши на ветви головной, образовалось 72 000 лет назад плюс-минус несколько тысяч лет{2}. Предполагая, что платяная вошь возникла почти сразу после того, как для нее появилась экологическая ниша, заключаем, что собственной наготой люди озаботились только на позднейшем этапе своей эволюции. Примерно в то же время или несколькими тысячелетиями позже люди овладели языком и, выйдя за пределы Африки, стали заселять остальной мир. Похоже, ради такого случая они решили приодеться.
От Адама до Джефферсона
Генетика с ее последними прорывами в изучении прошлого проникает на территории многих других наук. Историю человечества изучают по меньшей мере семь традиционных дисциплин. Палеоантропология, анализирующая окаменелые человеческие останки, восстановила главные этапы формирования ветви человека разумного, отделившейся от обезьян 5 млн лет назад и примерно 100 000 лет назад эволюционировавшей в существо пока лишь анатомически схожее с нами. С этого момента за дело берется археология, составляющая фундамент из дат и ключевых фактов, опираясь на которые ученые пытаются реконструировать различные аспекты человеческой жизни в прошлом. Популяционная генетика проследила миграцию человеческих рас и народностей по земле. Прежде ее методы основывались на анализе различий в человеческих белках, но теперь фокус сместился на ДНК, более удобный и информативный источник.
Сравнительно-историческое языкознание восстанавливает общие корни человеческих языков, реконструируя исчезнувшие, такие как праиндоевропейский, гипотетический родоначальник множества языков, бытующих в Европе, Индии и Иране. Приматология после долгих лет терпеливых наблюдений обрела глубокое понимание того, как устроено общество у шимпанзе и бонобо. Знания, накопленные приматологами, позволяют сделать ряд выводов об общественной организации того вида приматов, от которого произошли человек и шимпанзе, поскольку шимпанзе, вероятно, мало отличаются от своих архаичных прародителей. Социальная антропология, изучая сохранившиеся доныне племена охотников и собирателей и другие примитивные сообщества, закладывает принципы, по которым реконструируется эволюция человеческих общественных структур. Эволюционная психология описывает задачи, к решению которых приспосабливает человеческий мозг эволюция. Две области, тесно примыкающие к эволюционной психологии, – это экология и эволюционная антропология – изучают возможности применения начал эволюционной биологии к человеческим обществам. Союз трех дисциплин помог многое узнать о том, как поиск репродуктивного преимущества влияет у людей на выбор брачного партнера, на воспитание потомства и распределение ресурсов.
Каждая из семи перечисленных дисциплин способствовала некоторому прояснению далекого прошлого человечества, зачастую за счет умелой интерпретации фрагментарных свидетельств. Этой традиционной семерке все больше помогает восьмой партнер – эволюционная биология – теоретическое знание, на которое стремится опираться эволюционная психология. Раньше многие ученые считали, что эволюционные изменения осуществляются медленно, и можно смело утверждать, что в недавнем прошлом никакой эволюции не происходило. Однако думать, будто рука эволюции бездействует, можно только от недостатка знаний. Сегодня анализ ДНК четко показывает: человеческие гены продолжают эволюционировать. Как и все в биологии, прошлое и настоящее человека разумного нельзя постичь иначе как в свете знаний об эволюции.
Человеческий геном – новый источник данных, обогативший все науки, в том или ином аспекте изучающие прошлое. Он предоставляет два вида информации: о генах и о генеалогии.
В процессе эволюции то и дело возникают новые разновидности существующих генов, и если они обеспечивают какое-то преимущество, то вытесняют прежние варианты генов в своей популяции. Эти новые разновидности обладают некоторыми свойствами, по которым генетики могут приблизительно установить их возраст. И когда обнаруживается ген, ответственный за тот или иной шаг человеческой эволюции (например, такой как FOXP2, причастный к появлению речи, или ген рецептора меланокортина, определяющий цвет кожи), ученым нередко удается определить хронологические рамки, в которые произошло это эволюционное достижение.
Информация второго типа позволяет прослеживать родословные линии: обычно по какой-то особой части генома вроде Y-хромосомы, которая практически без изменений передается от отца к сыну. Раз в несколько поколений в ней происходит мутация – случайное превращение единицы ДНК одного типа в другой, и эту мутацию будут наследовать все потомки мужчины, у которого она произошла. Всех мужчин на нашей планете можно распределить по генеалогическим линиям на основании уникального набора мутаций, записанного в Y-хромосомах. По этим наборам можно заключить многое о миграции людей по планете, потому что генетические линии, как правило, прослеживаются в границах замкнутых географических областей, где их носители изначально селились.
Таким образом, человеческий геном описывает обширный отрезок человеческого прошлого и проясняет информацию, собранную традиционными историческими дисциплинами. Ниже перечислены темы, углубить понимание которых ученым помогло открытие ДНК и о которых рассказывает эта книга.
Между миром обезьян, существовавшим 5 млн лет назад, и возникшим из него миром людей есть четкая преемственность. Связь между ними лучше всего видна на уровне ДНК: геномы человека и шимпанзе совпадают на 99 %. И это достаточно наглядно подтверждается физическим сходством двух этих видов. Но, возможно, самый интересный аспект преемственности – это общественные институты у обезьян и у людей.
У общего предка шимпанзе и людей особи, вероятно, объединялись в небольшие родственные группы и защищали территорию, вступая в схватки с соседями, зачастую смертельные. Существовали отдельные социальные иерархии для мужских и женских особей, а большинство детенышей рождалось от доминантного самца и его приближенных. Появившиеся на Земле люди тоже делили территорию, но со временем выработали иное социальное устройство, основанное на поиске постоянных половых партнеров, на прочном союзе мужчины с одной или несколькими женщинами. Эта кардинальная перемена дала всем мужчинам шансы на продолжение рода, а значит, усилила их заинтересованность в благополучии всей группы, что сделало человеческие сообщества более многочисленными и сплоченными.
Важнейшим фактором, влиявшим на характер эволюции человека, было общественное устройство первых людей. Отделившись от обезьян, наши предки освоили прямохождение и обзавелись темной кожей взамен обезьяньего шерстного покрова. Но более важная перемена – постепенное увеличение мозга, – видимо, стала ответом на главнейший фактор внешней среды: общество, в которое объединились отдельные человеческие особи. Решать, кому можно довериться, заключать союзы, вести подсчет оказанных и полученных услуг, – все это требовало новых когнитивных способностей. И вот примерно 50 000 лет назад социальные выгоды эффективной коммуникации обусловили появление новой способности, неведомой никаким другим общественным животным, – вербального общения.
Сначала человек обрел свою физическую форму, после чего эволюция продолжилась в поведенческой области. Анатомически современные люди, существа, чьи останки похожи на скелеты сегодняшних людей, уже были распространены 100 000 лет назад. Но у этих существ не было никаких признаков сложных форм поведения: они появятся лишь 50 000 лет спустя, предположительно, следом за появлением языка. С этой новой способностью и возросшей благодаря ей сплоченностью общества первые современные в поведенческом смысле люди смогли выбраться за пределы Африки и потеснить пралюдей вроде неандертальцев, покинувших Африку на много тысяч лет раньше.
Основной отрезок человеческой доистории приходится на последний ледниковый период и им определяется. Современные люди, первыми покинувшие Африку, вероятно, пересекли Красное море с юга и вышли в Аравию. Достигнув Индии, популяция разделилась. Часть двинулась вдоль побережья Юго-Восточной Азии и примерно 46 000 лет назад прибыла в Австралию. Другая часть выбрала путь из Индии на северо-запад по суше, дошла до Европы и постепенно вытеснила оттуда исконных ее обитателей. Экспансия в холодные северные широты требовала технических инноваций и, возможно, генетической адаптации. Затем климатическая катастрофа, возвращение ледников, случившееся 20 000 лет назад, выгнала людей из Европы и из Сибири. Потомки уцелевших вернулись на север несколькими тысячелетиями позже, с окончанием плейстоценового ледникового периода. Новые северяне из восточной части Евразии первыми одомашнили животных, а именно собак, и открыли перешеек, ведущий на Аляску, на Американский континент.
Три важнейших социальных института – войну, религию и торговлю – человек освоил 50 000 лет назад. Число первых современных людей, наделенных полностью членораздельной речью, возможно, не превышало 5000 особей; эти пралюди жили, никуда не мигрируя, на северо-востоке Африки. Не столь интеллектуально развитые, как современные люди, они уже обладали всеми определяющими чертами человеческой расы и создали, по крайней мере в рудиментарной форме, институты, обнаруживаемые в разных обществах по всему миру. К ним относятся военное дело, подчиненное защите территории, религиозные церемонии как средство сплочения группы и обычай взаимности, регулирующий отношения внутри группы и контакты с чужаками.
Но первым людям предстояло преодолеть существенное ограничение: для оседлой жизни они были слишком агрессивны. Ранние человеческие общества – это малочисленные родоплеменные группы охотников и собирателей, чья жизнь проходила в постоянной войне всех со всеми. Еще 35 000 лет после исхода из Африки первобытные кочевники не могли перейти к оседлости. Далеко не сразу людям удалось хоть немного умерить агрессию. Когда интенсивность вражды ослабла, в разных популяциях по всему обитаемому миру появились грацильные, т. е. более изящного сложения люди. Около 15 000 лет назад на Ближнем Востоке человек наконец совершил решающий поворот в образе жизни, основав первые постоянные поселения. Вместо эгалитаризма охотников-собирателей, не обремененных имуществом, в оседлых сообществах люди выработали сложные общественные структуры с элитами, различными ролями и функциями, а также с собственностью. Впервые в истории люди стали производить и заготавливать излишки продовольствия и других продуктов, что повело к усложнению социального устройства и активизации контактов между разными племенами.
Эволюция человека не остановилась в прошлом, но продолжается по сей день. Первобытные люди, жившие 50 000 лет назад, сильно отличались от первых анатомически современных людей, живших еще на 50 000 лет раньше, и нынешний человек эволюционировал от первобытного в течение примерно такого же временного отрезка. В человеческом геноме обнаруживается множество указаний на недавние эволюционные изменения, обусловленные приспособлением к культурным переменам, новым болезням и другим факторам.
Очевидное свидетельство недавней эволюции – существование рас. После расселения первобытного населения из Африки 50 000 лет назад эволюция продолжалась независимо на каждом континенте. В основных географических регионах земли человеческие популяции многие тысячелетия воспроизводились в довольно строгой изоляции друг от друга и обзавелись отличительными особенностями, генетическим своеобразием, которое и есть основа нынешней палитры рас. Однако эти разные эволюционные маршруты оказались во многом параллельны: людям на разных континентах приходилось приспосабливаться к похожим условиям и ситуациям. По всему миру произошла грацилизация. Переносимость лактозы – генетическая способность взрослых людей переваривать молоко – появилась 5000 лет назад у скотоводческих народов Европы, но одновременно и в пастушеских племенах Африки и Ближнего Востока.
В прошлом люди, вероятно, говорили на одном языке, от которого произошли все языки, существующие сегодня. Как первая популяция современных людей, расселившись по миру, разделилась на расы и этнические группы, так и язык-предок разбивался на множество родственных. Какие-то из них под влиянием ряда факторов – завоеваний, сельскохозяйственных технологий – расширяли свой ареал, и в итоге сегодня некоторые языковые семьи, например индоевропейская, распространены на огромных территориях. А есть языки, бытующие в пределах нескольких километров – в Южной Африке или в Новой Гвинее. Поскольку дивергенция языков следует за разделением народов, генеалогия языков должна до определенной степени отражать родословное древо человеческих популяций, и некоторые биологи надеются, что историю языка можно реконструировать до наречия, на котором говорили первые современные люди.
Человеческий геном содержит удивительные хроники недавнего прошлого, своего рода параллельную версию истории. Геном быстро эволюционирует, и если какое-то сообщество развивается в изоляции по религиозным, географическим или языковым причинам, уже через несколько столетий оно приобретает генетическое своеобразие. ДНК проливает новый свет на историю таких народов, как евреи, исландцы, обитатели Британского архипелага. Она хранит записи о генетическом следе мужских династий монголов и маньчжуров. А тем, кто умеет задавать правильные вопросы, может открыть семейные секреты исторических фигур вроде Томаса Джефферсона.
Составители Книги Бытия старались, как только могли, склеивая из имевшихся легенд и мифов связный рассказ о происхождении человека. Они пытались объяснить, почему на земле существуют разные языки, почему женщины рожают в муках, зачем человек прикрывает наготу одеждой. Сегодня происхождение человека можно описать иначе. Учитывая то, сколь мало дошло до нас материальных свидетельств из отдаленного прошлого, удивительно, как много мы узнаем о нем сегодня. Многие из описываемых в этой книге находок сделаны в самые последние годы. Хотя передний край науки изобилует заявлениями, подтверждение которых требует месяцев и лет работы, некоторые из открытий, о которых пойдет речь, – это несомненные научные прорывы. С небывалой отчетливостью прорисовываются биологические «чертежи» происхождения человека. Информация, непрерывно добываемая из человеческого генома, выводит нас к новому пониманию вещей. В своем долгом стремлении познать себя, свое загадочное происхождение, странную и противоречивую натуру, разделение некогда единой человеческой семьи на разные расы и враждующие культуры, говорящие на тысячах разных языков, мы наконец начинаем видеть в ночной тьме, царившей в истории людей до совсем недавно наступившего рассвета.
2. Превращение
Во всякой большой области земли ныне живущие млекопитающие бывают весьма сходны с вымершими видами той же области. Поэтому вероятно, что Африка была первоначально населена вымершими обезьянами, весьма близкими к горилле и шимпанзе; а так как эти два вида в настоящее время самые близкие родичи человека, то предположение, что наши древние родоначальники жили на африканском, а не на другом каком-либо материке, становится до некоторой степени вероятным.
Чарльз Дарвин. Происхождение человека и половой отбор50 000 лет назад в северо-восточном углу Африки небольшая группа людей, спасаясь от невзгод, готовилась покинуть родные места. Мир тогда еще был скован льдами плейстоценового ледникового периода. Огромные пространства Африки обезлюдели, и популяция первобытных людей стремительно снизилась примерно до 5000 человек.
Тех, кто решил покинуть Африку, было, может быть, около полутора сотен. Оставлять знакомые места было рискованно: выживание охотников и собирателей напрямую зависит от досконального знания местных растений и животных. Кроме того, дальние путешествия нелегко давались первым кочевникам, у которых не было вьючных животных, и нужно было нести все необходимое – оружие, детей, пищу и воду – на себе.
Во внешнем мире эмигранты столкнулись и с другой опасностью. Земли за пределами Африки были обитаемы. Около 1,8 млн лет назад, во время потепления перед плейстоценовым ледниковым периодом, одна или несколько волн миграции ранних людей уже вышли за пределы Африки. Отделившись от основной популяции, эти люди двинулись собственной эволюционной тропой и со временем эволюционировали в новые виды, известные как Homo erectus и Homo neanderthalensis. Homo erectus обосновались на востоке Азии. Неандертальцы же заняли Европу и время от времени пытались освоить Ближний Восток.
Неандертальцы были особенно страшным врагом. У них были большой мозг, в абсолютных мерах даже больше, чем у нынешних людей, и мощная мускулатура. Неандертальцы владели серьезным оружием, включая копья с каменными наконечниками. Они занимали регион на юго-восточной оконечности Средиземноморья, служивший главными воротами на пути из Африки, – область, включавшую в себя современный Израиль. Люди, эволюционировавшие в Африке, вероятно, много раз пытались расселиться за ее пределами, но все эти попытки провалились, и то, что северный выход с континента окружали неандертальцы, представляется тому вполне вероятной причиной.
Как же смогла пройти та небольшая группа, двинувшаяся в путь 50 000 лет назад, если все прежние попытки потерпели неудачу? И что вынудило их к такому риску? Какие узы сплотили этих людей и дали им возможность покорить всю землю?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны вернуться по тропе эволюции к тому моменту, когда человеческая ветвь отделилась от ветви шимпанзе. В этот момент у наших предков появились первые эволюционные черты, отличающие их от обезьян. И эти изменения коснулись не только физического строения, но и поведенческих схем, которые в своей совокупности образуют человеческую природу. Особенно важны формы социального поведения, ведь и люди, и обезьяны выживают не поодиночке, а организованными группами. В этом смысле суть эволюции человека – это превращение обезьяньего социума в человеческий.
Учитывая развитые социальные навыки у шимпанзе и бонобо, появление человеческого общества не было таким уж заметным рывком вперед. Но человеку повезло пойти эволюционной тропой, на которой его ждали увеличение мозга и возможность обзавестись речью. Похоже, именно то, что через 5 млн лет после отделения от обезьян люди получили эту важнейшую для формирования общества способность, и позволило им в конце концов выбраться из африканской колыбели человечества.
Превращение обезьяньего общества в человеческое
Обезьянье общество, из которого эволюционировал человеческий вид, существовало около 5 млн лет назад где-то в Экваториальной Африке. Никакие из обнаруженных окаменелостей ученые не могут с уверенностью идентифицировать как останки обезьян-предков. Однако многое о них можно понять, наблюдая за ныне живущими обезьяньими потомками – шимпанзе и их близкими собратьями бонобо.
Есть несколько причин полагать, что общий предок человека и обезьян очень походил на шимпанзе – и это важное допущение (если оно верно), поскольку в этом случае шимпанзе могут служить довольно точной моделью нашего общего предка. Первая причина: гориллы, отделившиеся от общей ветви приматов раньше, чем произошло разделение шимпанзе и человека, довольно похожи на шимпанзе, а значит, на него был похож и наш с гориллами общий предок. Другая причина в том, что наиболее ранние ископаемые останки предков человека, только что выделившихся в особую линию, с трудом можно отличить от останков шимпанзе. Третья причина в том, что шимпанзе с востока и запада Африки очень похожи друг на друга по облику и поведению, несмотря на то что живут порознь 1,5 млн лет. А если эти обезьяны почти не изменились за такой период времени, стоит предположить, что и в предшествовавшие 3,5 млн лет они эволюционировали столь же неспешно.
Вероятное объяснение такого консерватизма – то, что шимпанзе по-прежнему живут главным образом в лесу, где обитал и наш общий предок, а вот человек на раннем этапе своей эволюции покинул родные джунгли и рискнул обосноваться в открытой саванне, приспосабливаясь к совершенно новому набору задач и трудностей. Шимпанзе не пришлось испытать такого мощного эволюционного давления, которое создает перемена среды обитания, и потому они могли сохранить генофонд почти без изменений.
Но если до сих пор не найдено никаких останков общего предка, откуда мы можем знать, когда он жил? Ответ дает генетика. Установив число отличий между соответствующими участками ДНК у человека и человекообразных обезьян, генетики могут вычертить родословное древо, длина ветвей которого пропорциональна эволюционной дистанции между видами. Это древо покажет, что человек и шимпанзе «разошлись» чуть более 5 млн лет назад (новейшие оценки дают диапазон от 4,6 до 6,2 млн лет)[2]{3}.
Генетическое сравнение также показывает, почему из всех ныне существующих видов обезьян шимпанзе ближе всех к человеку. Ветви шимпанзе – это четыре ныне существующих подвида плюс бонобо, а человеческая ветвь между тем до странности голая, как будто все конкурирующие линии вымерли: не исключено, что их отсекли представители доминирующей линии{4}.
Рисунок показывает происхождение расширенной семьи приматов – включающей орангутанов, горилл, шимпанзе и людей. Древо получено путем расшифровки участка митохондриальной ДНК всех четырех видов, сравнения общих последовательностей букв ДНК и выявления различий. Длина ветвей пропорциональна числу различий, сформировавшихся между видами.
Кустистость ветви шимпанзе отражает широкий спектр генетического разнообразия, возникшего на линии этого вида. Человеческая ветвь, в сравнении с шимпанзе, неестественно прямая: это говорит о природных катаклизмах, сокращавших человеческую популяцию, либо о том, что современные люди истребили другие виды людей, либо об обоих сценариях. Последовательность ДНК неандертальца установлена по ДНК, взятой от ископаемых останков.
Источник: M.A. Jobling et al: Human Evolutionary Genetics, Garland Publishing 2004. P. 222. Pascal Gagneux et al, Mitochondrial sequences show diverse evolutionary histories of African hominoids, Proceedings of the National Academy of Sciences, 96 5077–5082, 1999.Предполагаемые 5 млн лет раздельного существования человека и шимпанзе – срок, совпадающий с заметным событием в климатической истории земли. От 10 до 5 млн лет назад на Земле произошло глобальное похолодание, и особенно суровым был период от 6,5 до 5 млн лет назад. Гигантские ледники вобрали в себя воду, и уровень океана понизился настолько, что Средиземное море несколько раз пересыхало, лишая влажности африканский воздух. В холодном сухом климате экваториальные джунгли стали «таять», местами превращаясь в саванну{5}. В таких условиях, без лиственного полога и с большими открытыми пространствами, лесным жителям, селившимся на деревьях, пришлось проводить больше времени на земле, а это значительно увеличивало риск встречи с крупными хищниками. Суровые годы стали жестоким испытанием для лесных обезьян, и многие виды полностью исчезли.
Именно из-за давления среды и происходили все эволюционные перемены от начала жизни на Земле. В новых условиях биологические виды вынуждены приспосабливаться, перебирая разные встречающиеся в популяции варианты генов. Особи, лучше приспособленные к новой ситуации, выжили и оставили больше потомства. Их потомки продолжили приспосабливаться к среде обитания, и генетическая конституция их через несколько поколений существенно отличалась от конституции предков.
Засуха, наступившая в Африке 5 млн лет назад, возможно, и оказалась тем толчком, который вызвал эволюционные изменения у обезьяны – общего предка человека и шимпанзе. Несмотря на полное отсутствие палеонтологических подтверждений, мы многое можем реконструировать в этом общем предке. Размер его популяции генетики определяют в пределах от 50 000 до 100 000 особей репродуктивного возраста{6}. Если по образу жизни эти приматы действительно мало отличались от шимпанзе, тогда они, скорее всего, образовали сообщества числом около сотни особей, во главе которых стояли группы самцов, связанных родственными отношениями. Как и у шимпанзе, эти самцы агрессивно защищали территорию группы, и многие гибли в схватках с соседями. Стратегия выживания у каждого сообщества состояла в удержании контроля над как можно более обширным участком леса с плодовыми деревьями, где могли кормиться самки.
Мужские особи были значительно крупнее женских, и на слабый пол обращали внимание, только когда хотели спариться. Прочных связей между самцом и самкой не было. У каждого пола была своя общественная иерархия, а самки подчинялись самцам. Свободное от войны время самцы проводили за выстраиванием союзов и в попытках подняться выше в мужской социальной иерархии. Альфа-самцу грозили многие опасности, но и выгоды его положения были значительны, по крайней мере с точки зрения дарвинизма: большинство детенышей в стае рождались именно от альфа-самца и его приближенных.
Итак, представим себе эту популяцию из 100 000 обезьян, подобных шимпанзе, где-то в восточной части Экваториальной Африки 5 млн лет назад. Времена тяжелые, их лесной дом становится все теснее. Плодовые деревья больше не могут прокормить. В поисках новых источников пищи обезьянам много времени приходится проводить на земле. Неосторожных подстерегают и выслеживают крупные кошки. Этой суровой жизнью проверяется каждое новое поколение, и в каждом поколении больше потомства оставляют самые приспособленные.
Выживают две группы. Первые, оставаясь в лесу, сумели сохранить практически неизменным прежний уклад: это линия шимпанзе, и поскольку они удержались в исконной среде обитания, то им нет особой нужды менять образ жизни или меняться анатомически.
Вторые выжили, освоив новую экологическую нишу, – научились жить как на деревьях, так и на открытых пространствах. Выживать на земле им помогло появление новой важнейшей способности – хождения на двух конечностях.
Прямохождение – на языке палеоантропологов бипедализм – первый большой шаг к превращению в человека. Выпрямленное положение тела, вообще-то, не такая уж сложная наука для человекообразных обезьян, которые перемещаются по деревьям, цепляясь за ветки лапами. Мартышковые, с другой стороны, предпочитают бегать по веткам; и потому те из них, что спустились на землю, превратившись в павианов, по-прежнему перемещались на четырех конечностях.
Шимпанзе ходили по земле иначе: опираясь о землю не ладонями, а костяшками согнутых пальцев. Так почему те, кто впоследствии стали людьми, предпочли прямохождение? Ученые называют несколько причин: этот вид передвижения высвобождает руки, позволяя что-нибудь нести, и обеспечивает лучший обзор местности. Но наиболее вероятная причина такова: ходить на двух ногах просто легче, чем опираясь на костяшки. При одинаковых энергозатратах шимпанзе за день может преодолеть 9,5 км, а человек – 17 км{7}. Видимо, бипедализм был просто более удобным способом передвижения, и другие его преимущества обнаружились случайно.
Первые прямоходящие обезьяны – саванные приматы, известные под именем австралопитеков – появляются в палеонтологической летописи 4,4 млн лет назад. След их пребывания на земле – отпечатки стоп, оставленные примерно миллион лет назад в Лаэтоли (Танзания). Это следы двух существ, возможно родителя и ребенка, тянущиеся 50 м через пепел вулкана и пересеченные дорожками следов других животных, спасавшихся от извержения. В этих следах, так похожих на наши, застыло несколько мгновений истории.
И все же, если не брать в расчет прямохождение и строение стопы, австралопитеки, похоже, оставались скорее обезьянами. Обладая длинными руками, они сохранили способность перемещаться по веткам деревьев. Их мозг по объему лишь немного превосходил обезьяний. И, как у обезьян, особи разных полов сильно разнились в размерах: самцы были заметно крупнее.
В популяциях приматов диспропорция габаритов самцов и самок отражает соперничество мужских особей за обладание самками, и особенно она заметна у горилл, где владеющие гаремами самцы в два раза крупнее самок. У шимпанзе самец на 25 % крупнее самки, но в нынешнем человеческом роде эта разница уже лишь 15 %. Австралопитеки же были крупнее своих самок на 50 %, из чего можно сделать вывод, что их общество было в значительной мере подобно обществу шимпанзе с его острым соперничеством между самцами и раздельными иерархиями для мужского и женского пола. За 2 млн лет существования у австралопитеков не появилось никаких заметных человеческих черт, помимо хождения на двух ногах, и нет оснований считать, что их социальное поведение заметно отличалось от моделей, принятых у шимпанзе.
Затем 2–3 млн лет назад наступил следующий период холодного и сухого климата: африканские леса редели, и многие виды, приспособленные к лесной среде обитания, исчезли. Австралопитека климатические изменения вынудили искать новые источники пищи. Рацион этих существ, судя по износу зубной эмали, был преимущественно растительный. Как показывают окаменелости, 2,5 млн лет назад австралопитеки, уже приспособившиеся к жизни в саванне, нашли два разных способа выживания. Один из двух новых видов, Paranthropus robustus (массивный парантроп), развил мощные коренные зубы для перетирания жестких листьев. Другой нашел куда более оригинальное решение, чем жевание растительности. Он, очевидно, решил стать плотоядным. Мясная диета сделала пищеварительный тракт более компактным и обеспечила в достатке питание, позволившее нарастить объем мозга.
Этот второй вид называется Homo habilis (человек умелый). Хотя титула Homo он не вполне заслуживал, поскольку был еще далек от полного человекообразия, сохранял обезьяноподобную анатомию и искал спасения от опасности на деревьях. Но все же этот предок человека обладал необыкновенно полезным новым качеством. Австралопитек 2,5 млн лет обходился мозгом практически того же объема, что и шимпанзе, но у человека умелого мозг наконец-то стал увеличиваться. У шимпанзе он составляет 400 см3, а у современного человека в среднем 1400 см3{8}. Мозг австралопитека в объеме варьировал от 400 до 500 см3. А у человека умелого, судя по найденным черепам, от 600 до 800 см3[3]{9}.
Затрачивать ресурсы на наращивание дополнительных нейронов – не такая уж очевидно выгодная инвестиция для биологического вида, как может показаться. В борьбе за выживание много значат мускулатура и зубы. А клетки мозга – жадные едоки глюкозы и кислорода. У современного человека мозг занимает лишь 3 % массы тела, но потребляет около 20 % энергии, необходимой для обмена веществ. «Если принять в расчет затраты, становится ясно, почему эволюционный феномен человека такая редкость», – пишет антрополог Роберт Фоули{10}.
Зачем человеку умелому понадобился большой мозг, трудно сказать, но как ему удавалось его поддерживать, более-менее ясно. Мозг требует высококачественного питания, обеспечить которое может только мясная пища. Мясо не требует таких мощных зубов, какие нужны для бесконечного перетирания листьев и веток, и зубы у Homo habilis действительно стали меньше. Появился этот вид человека в то же самое время, когда возникли первые каменные орудия, – 2,5 млн лет назад. Если, как представляется вероятным, эти инструменты создавал и использовал именно человек умелый, это объяснило бы факт уменьшения зубов и решение проблемы с питанием большого мозга: мощные зубы стали не нужны, потому что для убийства и разделки добычи или падали применялись орудия, а богатый рацион давал необходимую для большого мозга энергию.
И все же это не объясняет, под действием каких внешних сил большой мозг стал эволюционным преимуществом. Высшие приматы, такие как человекообразные обезьяны и люди, не знают более сложных проблем, чем проблемы взаимодействия с другими членами сообщества. Если так, то наиболее вероятная причина наращивания мозгового объема у человека умелого – это именно усложнение общественного устройства.
Первые каменные орудия, изготовленные человеком умелым, появились 2,5 млн лет назад. Их набор оставался неизменным до тех пор, пока 1,7 млн лет назад на смену ему пришла Ашельская культура и ее носитель – человек работающий. Ось времен, размеченная в миллионах лет, выполнена не в масштабе. Два нижних яруса охватывают период в 2,25 млн лет, два верхних – всего в 0,25 млн лет. На этом отрезке застой предшествующих 2 млн лет сменился гораздо более активной эпохой обновления. Ашельская культура уступила место орудиям Среднего каменного века, которые создавали и неандертальцы в Европе, и предки человека в Африке. Затем, примерно 50 000 лет назад, в позднем палеолите, современные люди, вытеснившие из Европы неандертальца, стали изготавливать весьма тонкие артефакты. Компактные орудия, в том числе созданные для использования с деревянной рукоятью, оружие, украшения и произведения искусства.
Источник: Richard Klein, The Human Career, University of Chicago Press, 2nd edition 1999. p. 576.Каменные орудия, предположительно изготовленные человеком умелым, носят довольно пышное название олдувайской культуры, по имени ущелья в Восточной Африке, где их впервые обнаружили. Орудия эти представляют собой по большей части колотые булыжники и грубые каменные пластины, отбитые от них. Выглядят они так, как будто создатель не держал в голове никакого образца и довольствовался той формой, какую придала камню природа. И все же эти разнокалиберные куски камня немало помогали во многих занятиях человека умелого: например, в разрезании шкур и отделении мяса от костей.
Технология, сохраненная в олдувайской культуре, судя по всему, показывает предел когнитивных способностей и изобретательности Homo habilis. Никакого дальнейшего развития не произошло, и технология не менялась 800 000 лет. Отсутствие всякого прогресса в изготовлении каменных орудий, вероятно, отражает общий консерватизм в укладе жизни их создателей.
Прямохождение и увеличение объема мозга были двумя крупнейшими генетическими этапами в превращении нашего обезьяноподобного предка в современного человека. Третья генетическая революция произошла 1,7 млн лет назад и заключалась в серии физических и поведенческих изменений, давших новый биологический вид, известный под названием Homo ergaster (человек работающий). Человек работающий, вероятно, произошел от человека умелого, хотя палеонтологические свидетельства слишком скудны, чтобы можно было судить точно. Это первое существо, чей скелет обладает большинством признаков человека, хотя его объем мозга – 800 см3 – заметно меньше нашего.
Руки Homo ergaster не были длинными, как у обезьяны, – скорее всего потому, что этот вид окончательно простился с жизнью на деревьях, освоившись на нижнем ярусе. Грудная клетка имела бочкообразную форму, как у современного человека, а не коническую, как у обезьяны, и это указывает на радикальную смену рациона. Обезьянам, чтобы переваривать большие объемы растительной пищи, нужен огромный желудок, и грудная клетка должна быть настолько широкой в нижней части, чтобы прикрыть область, где он располагается. Бочкообразная грудная клетка человека работающего располагалась над компактным животом, а значит, его еда была более питательной – это было мясо и, возможно, клубни, коренья с большим содержанием крахмала, в которых запасают влагу растения, обитающие в сухом климате{11}.
Клубни, своего рода хлеб первобытных охотников и собирателей, оказались удачной диетической находкой, ведь тогдашнему человеку пришлось приспосабливаться к жизни в сухих и жарких областях Восточной Африки, где много клубнеплодов. Как показывает присутствие пыли в морских донных отложениях, климат резко стал суше как раз в момент появления человека работающего. Возможно, он даже научился готовить коренья, и если так, это был значительный прогресс, потому что термическая обработка высвобождает питательные вещества в продуктах и улучшает их усвоение организмом{12}. Никаких свидетельств того, что Homo ergaster пользовался огнем, нет, но зола плохо сохраняется, и, возможно, остатки кострищ просто не дошли до нас.
В структуре тела человека работающего палеонтологи находят признаки того, что структура социума, в котором он жил, серьезно сдвинулась от обезьяньей модели в сторону человеческой. Homo ergaster – первый вид в родословной человека, у которого резко уменьшилась разница в габаритах самцов и самок, хотя женские особи по-прежнему были меньше мужских. Это свидетельствует о какой-то важной перемене в общественной структуре, весьма возможно, о переходе от параллельных гендерных иерархий, принятых у шимпанзе, к союзу мужчины и женщины, характерному для полноценного человеческого общества.
Этот сдвиг не подразумевает таких жестких форм, как моногамия, но отмечает по меньшей мере зарождение семейной модели, при которой самцы в известной степени заинтересованы обеспечивать благополучие и безопасность матери своего потомства. Коренья, если предполагать, что они вошли в рацион человека работающего, – это еда, которую могут добывать женщины. Усилившаяся роль женщин в обеспечении сообщества пищей могла послужить толчком к появлению нового уклада, более тесной кооперации полов, на что и указывает изменившееся соотношение габаритов тела.
Есть в анатомии Homo ergaster и другие указания на смену полоролевой модели. Таз у него не так широк, как у человека умелого, а узкий родовой канал означает, что увеличенный объем головного мозга приобретался детьми в значительной мере уже после появления на свет. Отсюда, в свою очередь, следует, что новорожденных первое время приходилось носить на руках, что делало мать более уязвимой. Отцы в такой ситуации должны были обнаружить, что ради благополучия собственного генетического наследия им нужно не только защищать территорию племени, но и опекать своих детей и их матерей. Такое поведение и упрочившаяся связь между родителями закрепились бы генетически, если бы увеличили процент выживающего потомства. Длинная, но вовсе не безосновательная цепь умозаключений, выведенных из простого анатомического факта – суженного таза{13}.
Мозг у человека работающего с учетом отношения к массе тела был лишь немногим больше, чем у его эволюционного предшественника, но тем не менее Homo ergaster смог достичь принципиально иного уровня в изготовлении каменных орудий. Более совершенный набор орудий, известный как ашельская культура, включал в себя камни, напоминающие рубила, хотя точное их предназначение неизвестно, а также секачи и другие крупные орудия. Микрочастицы вещества на орудиях и современные их исследования позволяют предположить, что у этих инструментов был широкий круг назначений: например, разделка туш, крупных и мелких, разрезание шкур, разрубание костей, срезание травы, обработка древесины. Несомненно, человек работающий использовал также множество снарядов, изготовленных из дерева и других недолговечных материалов.
Прощание с шерстью
Человекообразные приматы, появлявшиеся в первые 3 млн лет после отделения человеческой линии от линии шимпанзе, внешне, вероятно, гораздо больше походили на обезьян, чем на людей. У них были обезьяньи пропорции, длинные руки и шерстный покров от головы до пят. Только с появлением человека работающего в строении наших эволюционных предков стал прорисовываться узнаваемый облик. Этот вид, в отличие от предшественников, обладал выступающим носом. Данное приобретение было его главным приспособлением к сухому и жаркому климату: нос задерживал влагу, охлаждая и конденсируя воздух из легких на выдохе.
После пропорций тела самое значительное отличие человека от обезьяны – распределение волосяного покрова. Большая часть поверхности тела у человека практически лишена растительности. Безволосость человеческого тела – сложный феномен. Сплошной волосяной покров – естественное состояние всех млекопитающих, и те несколько видов, которые утратили его, сделали это по веским причинам, среди которых, например, жизнь в водной среде, как у бегемотов, китов и моржей, или постоянное пребывание в душных подземных тоннелях, как у голого землекопа. Для человека главной причиной могла стать необходимость потоотделения. По мнению палеонтолога Ричарда Клейна, человек работающий, возможно, был первым видом, который сменил шкуру на голую кожу{14}. Свое заключение Клейн основывает на предпосылке, что Homo ergaster, обитавший в сухом и жарком климате, должен был найти способ охлаждения тела и своего большого мозга. Потоотделение, эффективный способ охлаждения, требует голой кожи. А поскольку людям все равно пришлось расстаться с шерстью, самым удачным моментом для этого был тот, когда они вышли из лесной тени под палящее солнце саванны.
Еще одна причина отсутствия растительности на человеческом теле может быть связана с сексуальными предпочтениями. Дарвин, первым это предположивший, уделил вопросу пристальное внимание в книге «Происхождение человека» (1871). «Можно ли предположить, что человек лишился шерсти оттого, что исконно обитал в тропиках?» – спрашивает Дарвин (он уже пришел к выводу, что человек возник в Африке – там, где водились и водятся человекообразные обезьяны, но в то время еще не было обнаружено никаких окаменелостей, подтверждающих эту теорию). Но это не могло быть единственным объяснением, ведь другие приматы в тропических широтах шерстного покрова не утратили. Может быть, избавление от волос на теле спасло человека от паразитов типа блох, вшей и клещей. Но Дарвину это не казалось достаточно исчерпывающим объяснением. «Самым вероятным кажется мне то объяснение, – заключает Дарвин, – что человек, или, скорее, в первую очередь женщина, остался безволосым, чтобы увеличить свою привлекательность…»{15}
Дарвин считал половой отбор важным эволюционным фактором, поскольку от него зависит успех в поиске брачного партнера. Половой отбор проявляется в двух разных формах: межполовой и внутриполовой. Первый вид – это алгоритм, по которому мужчины и женщины выбирают друг друга в партнеры; второй – это соперничество внутри каждого пола: между мужчинами за женщин и не всегда столь же явное соперничество между женщинами за мужчин. По Дарвину, безволосость закрепилась бы в генах, если бы мужчины и женщины предпочитали партнеров с редкой шерстью. К дарвиновской гипотезе о том, что за утратой шерстного покрова стоит половой отбор, недавно обратились биологи Марк Пейгл и Уолтер Бодмер. По их мнению, безволосость ценилась у ранних людей, потому что гарантировала отсутствие у партнера в шерсти паразитов{16}.
Археологи, предположительно датируя исчезновение шерстного покрова, опиралась на гипотезу, что это событие совпало с появлением Homo ergaster. Но окончательно дату определили генетики, и этот пример показывает, каким кладезем информации может быть единственный ген для тех, кто умеет правильно ставить вопросы.
Речь идет о гене, производящем рецептор меланокортина – это белок, определяющий цвет кожного покрова. Он управляет соотношением разноокрашенных меланиновых пигментов, вырабатываемых клетками кожи. Одни разновидности рецептора создают черный цвет кожи и волос, другие – рыжий, белый, смуглый или желтый.
Недавно ученый из Оксфордского университета Розалинда Хардинг рассмотрела последовательность единиц ДНК в гене меланокортинового рецептора у людей из Африки, Европы и Азии. Исследовательская группа под руководством Хардинг обнаружила, что у всех африканцев этот ген, по сути, одинаков, а за пределами Африки он существует во множестве разных версий{17}.
Очевидное объяснение инвариантности это гена в Африке в том, что там он находится под постоянным давлением естественного отбора, пресекающего любые существенные перемены. Африканская версия гена настроена на производство максимально темной кожи: любая перемена в его последовательности ДНК, скорее всего, сделает кожу светлее, а особь – уязвимее к ультрафиолетовому излучению Солнца, разрушающему важный питательный элемент – фолиевую кислоту (УФ-излучение также может вызывать рак кожи, но именно разрушение фолиевой кислоты ослабляет репродуктивную способность, что и задает направление эволюции гена). Любой человек с модифицированным геном меланокортина рискует оставить мало потомства или не оставить вообще, так что его вариант гена со временем исчезнет из популяции. Потому все живущие под африканским солнцем несут одну и ту же разновидность гена.
Однако пока наши предки не лишились шерсти, кожа у них практически наверняка была бледной, считает Нина Яблонски, специалист по эволюции пигментации кожи{18}. Это можно заключить по шимпанзе – модели нашего общего предка. Под темной шерстью, защищающей от солнца, у него светлая кожа. У шимпанзе тоже есть ген рецептора меланокортина, но он встречается во множестве модификаций, словно бы в процессе естественного отбора природа проводила множество экспериментов. Все эти модификации дают бледную кожу – у шимпанзе смуглые лица, но это загар.
Познакомившись с работой Хардинг, генетик из Университета Юты Алан Роджерс задался вопросом: почему все население Африки носит одну и ту же версию гена. Он предположил, что путь к этому начался, когда приматы из человеческой линии стали терять свой обезьяний волосяной покров, обнажая бледную кожу перед опасными солнечными лучами. Любые мутации гена рецептора меланокортина, которые обеспечивали более темную, лучше защищающую кожу, дававшую ее обладателю значительное преимущество. За несколько поколений новая версия гена распространилась по всей популяции.
Такие экспансии зачастую поддаются датировке, поскольку после того, как предписываемая форма гена становится всеобщей, он начинает накапливать так называемые нейтральные мутации, которые не меняют структуру курируемого геном белка и поэтому не изгоняются естественным отбором[4]. Скорость накопления нейтральных мутаций известна, и потому их число указывает, сколько времени прошло с тех пор, как данная разновидность гена стала характерной для всей популяции.
Роджерс понял, что по нейтральным мутациям в африканской версии гена рецептора меланокортина можно определить время как минимум последнего ее закрепления. Он вычислил, что это событие произошло около 1,2 млн лет назад{19}.
Возможно, такие закрепления случались и прежде, и всякий раз закреплялась все более эффективная версия гена. В конце концов ген, должно быть, претерпел значительные изменения: изначально он производил бледную кожу, как у общего предка человека и шимпанзе, а в итоге стал производить черную, защищающую только что сбросившего шерсть человека от лучей солнца на открытых пространствах саванны. Если первая из этих волн началась несколькими тысячами лет раньше, это совпало бы с археологическими данными о появлении Homo ergaster 1,7 млн лет назад.
За пределами Африки, если немного забежать вперед, ген рецептора меланокортина снова получил свободу мутировать и утратил былую эффективность в производстве черной, предохраняющей от солнечной радиации, формы меланина. Для людей, обитавших в холодном северном климате, это стало преимуществом, поскольку им нужно было подставлять себя солнечным лучам, чтобы в организме в достаточном объеме вырабатывался витамин D, при недостатке которого искривляются кости и случается рахит. В любой человеческой популяции у женщин кожа на 3–4 % светлее, чем у мужчин, что, возможно, вызвано половым отбором, производимым мужчинами, а возможно, тем, что во время беременности и вскармливания женщинам необходима повышенная норма витамина D{20}.
Обратимся теперь еще к одной любопытной особенности человеческого волоса: когда вы последний раз видели стригущегося шимпанзе? Человеческий головной волос отличается от обезьяньего тем, что не перестает расти. Если бы волосяные луковицы у нас функционировали, как у шимпанзе, то они подчинялись бы упорядоченному циклу: волос растет несколько недель и, достигнув определенной длины, выпадает, а из луковицы начинает расти новый. У людей этот цикл растянут до нескольких лет.
Возможно, естественный отбор предпочел долгий рост волос у человека по той причине, что это создает канал для передачи множества социальных смыслов. В любом человеческом сообществе люди тратят много времени на стрижку, укладку, расчесывание, завивку, плетение и выпрямление, украшение и иные всевозможные модификации собственных волос. То же самое можно сказать и об усах с бородами. Нестриженые и нечесаные волосы – знак изгоя общества или глубокого траура. Ухоженная прическа – это целый ряд важных сигналов о здоровье, благосостоянии и общественном положении человека. Но для того чтобы этот социальный семафор заработал, людям нужно было прежде отказаться от самостоятельно обновляющихся, как у других приматов, волос и обзавестись такими, которые требуют постоянной заботы{21}.
Генетики вычислили дату появления парикмахерского искусства. Кератин, белок, из которого строится волос, производится в широком спектре разных вариантов, у каждого из которых свой кодирующий ген. У человека, шимпанзе и гориллы, в принципе, один и тот же набор кератиновых генов, но есть одно существенное отличие. Один из этих генов, человеческая разновидность которого называется phi-hHaA, кодирует структурный кератин у шимпанзе и горилл, но не работает у людей ни в одной этнической группе. И хотя ученые пока не до конца понимают механизм генетической регуляции роста волос у человека, похоже, что выключение гена phi-hHaA – тот самый маневр, благодаря которому человеческая голова не подпадает под цикл, предписанный волосяным луковицам горилл и шимпанзе. Сравнив мутации в разных версиях человеческих и обезьяньих генов, ученые установили, что человеческая версия phi-hHaA отключилась 200 000 лет назад{22}. Иными словами, гораздо позже того, как вымер Homo ergaster, и примерно в тот момент, когда предок человека обрел в общих чертах свой нынешний вид.
50 000 лет назад мир был поделен между людьми трех видов: Homo erectus занимал восточную Азию, неандерталец Европу, а популяция прародителей современного человечества жила в северо-восточной Африке. Кроме того, на острове Флорес в Индонезии обитал Homo floresiensis (человек флоресский), которого сегодня представляют как уменьшенную версию человека прямоходящего.
Поскольку тогда шла ледниковая эпоха, уровень океана стоял примерно на 68 м ниже нынешнего, и суша была обширнее, как показывают заштрихованные области вокруг континентов.
В ареал Homo erectus включены археологические памятники, возраст которых варьирует от 1,7 млн до 50 000 лет. Вероятно, человек работающий не занимал весь этот ареал постоянно, а к концу своего существования обитал преимущественно в Юго-Восточной Азии. Ареал и прародина современного человека указаны предположительно.
Источник: 5W Infographic.Первый исход из Африки
Человек работающий, приспособившийся к жизни в местах с сухим климатом, умел выживать в разных условиях. Такая приспосабливаемость открыла ему возможность для эпохального шага – первого выхода за пределы Африки. Близкий родственник и предположительно потомок человека работающего, названный Homo erectus, по меньшей мере миллион лет назад, а может, и много раньше, оказался в Азии – возраст его каменных орудий, недавно обнаруженных в северном Китае, оценили в 1,66 млн лет{23}. Приблизительно миллион лет назад сам человек работающий достиг северного и южного пределов Африки. И не позже чем 500 000 лет назад предки человека вошли в Европу: вероятно, это была вторая миграция из Африки, и ее совершил другой потомок человека работающего – Homo heidelbergensis (человек гейдельбергский). В Европе, в условиях оледенения, царившего там с 400 000 до 300 000 лет назад, новые пришельцы эволюционировали в Homo neanderthalensis – неандертальца, крепкого и массивного человека, хорошо приспособленного к холоду.
Homo erectus и неандерталец считаются архаичными людьми, в отличие от той линии, которая осталась в Африке и в итоге эволюционировала в современного человека. С исходом этих архаичных людей генофонд человека разделился на три крупные ветви, обосновавшиеся в Африке, Азии и Европе, каждая из которых двигалась своей эволюционной траекторией.
В Африке лишь 500 000 лет назад, более 1 млн лет спустя после появления человека работающего, у человека существенно возрос объем мозга в отношении к размерам тела, и лишь 200 000 лет назад это соотношение пришло к современному стандарту.
Однако любопытная особенность этого постепенного наращивания объема мозга заключается в том, что он не сопровождался никакими заметными переменами в поведении, которые можно отследить по археологическим находкам. Каменные орудия эпохи бытования олдувайской культуры оставались неизменными с 2,5 млн до 1,7 млн лет назад, сменившая их ашельская культура тоже практически не менялась с момента появления 1,7 млн лет назад до самого исчезновения 250 000 лет назад. Homo erectus в Азии, возможно, использовал вместо камня бамбук, материал прочный, но недолговечный. Это могло бы объяснить странное отсутствие ашельских каменных рубил на Дальнем Востоке. Неандертальцы в Европе применяли такие же каменные орудия, как и предки человека в Африке. «Технологии этих архаичных существ совершенно не менялись ни в пределах континента, ни даже от материка к материку. Например, ашельские изделия, хотя незначительно варьирующие по форме, известны от Кейптауна до Кардиффа», – пишет антрополог Роберт Фоули{24}.
Культуру, которая следовала за ашельской, археологи определяли как средний каменный век в Африке и средний палеолит, или эпоха мустьерской культуры, в Европе. Создатели орудий среднего каменного века были потомками человека работающего, ступенью на пути к Homo sapiens (человеку разумному) с его большим мозгом, а вот мустьерские артефакты – дело рук европейского родственника Homo ergaster, неандертальца. Набор инструментов на обоих континентах весьма схож и мало чем отличается от ашельской культуры. Главная разница – отсутствие характерных для ашельских орудий рубил. Возможно, архаичные люди научились укреплять камни поменьше на деревянной рукояти, и эти составные орудия из дерева и камня вытеснили рубила{25}.
Что же помешало людям среднего каменного века покинуть Африку по примеру их предков? Похоже, что их не пустили именно потомки первых мигрантов. Каких-то 100 000 лет назад люди из африканской линии все еще пользовались такими же орудиями в Африке, как неандертальцы в Европе и Homo erectus в Азии. У них, очевидно, не было никакого конкурентного преимущества перед неандертальцами.
В течение межледникового периода, длившегося от 125 000 до 90 000 лет назад, люди созрели для ухода из Африки. Они расселились до территории нынешнего Израиля, региона между Африкой и Азией. Но в годы оледенения, от 80 000 до 70 000 лет назад, неандертальцы расширили свой ареал обитания на юг до Западной Азии и, скорее всего, уничтожили африканских пионеров{26}.
Уклад жизни людей, живших в африканском среднекаменном веке, т. е. с 250 000 до 50 000 лет назад, был несколько сложнее, чем у человека работающего. Камень они использовали местный, а не выменянный, что указывает на небольшие территории обитания или примитивный уровень общественных отношений. Практически не обрабатывали кость, рог или раковины. Не были особо умелыми охотниками и даже не знали рыболовства. Популяция их, как подсказывает принятый у археологов подсчет по черепахам, была невелика (люди сначала поедают крупных черепах, потом тех, что помельче. Черепахи медленно воспроизводятся, и потому размер человеческого поселения можно установить по костям черепах: большие кости означают малочисленное поселение, мелкие указывают на большее число едоков){27}.
Люди среднекаменного века, как и неандертальцы, судя по всему, хоронили мертвецов по простому обряду и собирали красящие вещества с неизвестными целями. Никаких наглядных свидетельств искусства или декора они не оставили.
Этот образ жизни практически не менялся в течение сменявших друг друга тысячелетий. Но морфологически, как ни странно, человек изменился гораздо заметнее. В Африке приблизительно 200 000 лет назад появились люди, обладавшие такими же, как у нас сегодняшних, скелетом и объемом черепа. Старейшие известные науке особи со стоянки на реке Кибиш в южной Эфиопии, вероятно, имеют возраст около 195 000 лет{28}, а 100 000 лет назад окаменелости людей с современным скелетом становятся уже обычными.
Современные люди: анатомия и поведение
Поведение современного человека, по крайней мере так считают археологи, – это в целом поведение охотников-собирателей. 100 000 лет назад собиратели вели себя иначе, хотя выглядели уже неотличимо от нынешних. И названы они анатомически современными людьми, чтобы подчеркнуть, что не были таковыми по поведению.
Что же не позволило им стать полностью современными? Вопрос о поведении здесь очень важен: судя по всему, оно и стало последним шагом к появлению родоначальников нынешнего человечества. Отдельные составляющие современного поведения широко проявляются примерно 45 000 лет назад в Европе. Обнаруживаются многочисленные стоянки, где консервативная культура неандертальцев уже вытесняется набором новых, более оригинальных технологий. Это и новые каменные орудия, выделанные более тщательно и по определенному замыслу. И составные орудия из кости, рога, бивня. Носители этой новой культуры создавали украшения из таких материалов, как просверленные зубы, раковины и бусины из слоновой кости. И играли на флейтах из птичьих костей. Значительно улучшились метательные снаряды. Новые люди стали искусными охотниками, они умели загонять крупного и опасного зверя. Мертвых они погребали с соблюдением обрядов. И могли прокормить более многочисленные сообщества. Они развили торговые связи, благодаря которым получали материалы из отдаленных краев{29}.
Эта новая культурная ступень называется поздним палеолитом. Некоторые археологи предполагают, что ее создателями были неандертальцы или потомки от скрещивания неандертальцев и современных людей. Но сегодня более вероятным представляется, что культура позднего палеолита – продукт исключительно современного человека, который за несколько тысяч лет просто вытеснил неандертальцев из их европейских владений.
Такая трактовка опирается, в частности, на то, что ряд признаков современного поведения появляется прежде всего в Африке в позднекаменном веке, который начался не позже чем 46 000 лет назад. (Позднекаменный век в Африке и поздний палеолит в Европе – это один и тот же археологический период, но исторически сложилось так, что на разных континентах он носит разные названия.) Хронология показывает, что люди, характеризующиеся современным поведением, вначале появились в Африке и затем достигли Европы. Эта гипотеза, возникшая на базе исключительно археологических данных, подтверждается генетикой нынешнего человечества, где все указывает на диаспору, в недавнем прошлом покинувшую африканскую прародину.
Значит, если человек с привычными нам поведенческими моделями появился в Африке, последним шагом эволюции на континенте был переход анатомически современных людей, живших 100 000 лет назад, к полностью современным, появившимся 50 000 лет назад. Что же вызвало такую кардинальную перемену?
Археологи привыкли объяснять превращения человека в культурологических терминах. Палеонтологи же, работающие с гораздо более продолжительными отрезками времени, склонны объяснять те или иные новации работой эволюции и генетикой. Палеонтолог Ричард Клейн полагает, что освоение современного поведения – глубинная перемена, которая не могла произойти без генетической подготовки. «С точки зрения поведенческих способностей первые современные или почти современные африканцы поначалу мало отличались от неандертальцев, но со временем, вероятно благодаря нейрологическим модификациям, смогли перейти к культуре, обеспечившей им явное эволюционное преимущество перед неандертальцами и другими древними людьми»{30}.
Очевидно, что именно генетический, а не культурный сдвиг 4,4 млн лет назад подарил австралопитеку прямохождение. Совокупность генетических изменений 2,5 млн лет назад модифицировала австралопитеков до Homo habilis с большим мозгом и умением изготовлять орудия. Третье крупное генетическое преображение 1,7 млн лет назад сформировало из человека работающего более совершенного человека прямоходящего, обусловило переход от разных гендерных иерархий к партнерству в парах. По мнению Клейна, четвертая генетическая революция потребовалась для появления 50 000 лет назад человека с современной поведенческой моделью.
Эта генетическая революция, очевидно, была настолько глубинной, что затронула целый ряд различных аспектов общественного поведения человека и его технических умений, отметив его небывалой способностью к новаторству. Наиболее вероятной причиной такого превращения, считает Клейн, могло быть появление языка.
Жизнь общественных животных ничто не может переменить столь кардинально, как способность передавать точные смыслы от одного индивида к другому. Общий язык делает малые группы более сплоченными и позволяет планировать на долгое время вперед, стимулирует передачу знаний и освоенных навыков.
Точно известно, что люди заговорили еще до того, как покинули Африку, таким образом, язык зародился не позже чем 50 000 лет назад и не раньше чем 5 млн лет назад, когда разошлись генетические линии человека и шимпанзе. Если искать приметы резкого усложнения поведенческих форм, указывающего на возможное появление языка, в археологических свидетельствах, то самым подходящим моментом окажется, пожалуй, область перехода от анатомически современного человека к человеку, современному с точки зрения поведения.
Теорию Клейна разделяют не все археологи, оппоненты же подвергают сомнению отправной момент его аргументации: резкий разрыв, который Клейн наблюдает между поведенческими моделями конца среднекаменного века и начала позднекаменного.
Такие критики Клейна, как Салли Макбрерти из Университета Коннектикута и Элисон Брукс из Университета Джорджа Вашингтона, утверждают, что весь среднекаменный век шло постепенное накопление прогрессивных поведенческих схем, которые в итоге и сложились в современную модель. «Все обнаруженные археологами в Африке артефакты показывают, что переход к полностью современному поведению не был следствием биологической или культурной революции, а произошел в результате импульсного распространения некоторого корпуса общих знаний и применения новаторских решений "по мере необходимости"», – пишут эти ученые{31}.
Несколько новых археологических находок подрывают до сих пор не противоречившее археологическим данным утверждение Клейна, что в Африке ранее 50 000 лет назад не обнаруживается следов современных поведенческих моделей. Кристофер Хиншельвуд из Бергенского университета (Норвегия) обнаружил недавно набор из 41 раковины, продырявленных так, будто они служили бусинами ожерелья. Раковины найдены в пещере Бломбос в Южной Африке; возраст слоя, в котором они лежали, физическими методами определен в 76 000 лет{32}. Такие давние даты уже не определяются надежным радиоуглеродным методом, и применяются другие, значительно менее точные. Но, если возраст находки установлен верно, а просверленные раковины – и в самом деле бусы, это означает, что декоративное искусство, практика, известная только у современных людей, зародилось гораздо раньше, чем мы думаем.
Еще один вид деятельности, считающийся современным, – рыбалка. И тут теория Клейна сталкивается с проблемой в виде восьми зазубренных костяных наконечников, которые могли быть гарпунами для добычи рыбы. Эти наконечники обнаружены на стоянке Катанда, что располагается в Заире на берегу реки, в культурном слое возрастом 100 000 лет. Клейн считает, что, если измерить возраст самих наконечников, он окажется меньше 12 000 лет.
Теория Клейна долго не могла объяснить и то, как быстро современные люди очутились в Австралии. Такой бросок потребовал бы умения строить суда и навыков мореплавания, присущих человеку разумному. Долгое время ученые, ссылаясь на находки из погребений на озере Мунго в юго-восточной Австралии, считали, что человек покорил этот континент 60 000 лет назад. Из чего следует, что в Африке современное поведение сформировалось еще раньше. Однако недавно оказалось, что датировка захоронений Мунго неверна: погребениям всего лишь 42 000 лет, найденные в них артефакты позволяют говорить о присутствии раннего человека в период между 50 000 и 46 000 лет назад{33}. При такой датировке Мунго нет противоречия концепции о том, что человек с современным поведением покинул Африку не раньше чем 50 000 лет назад.
Что касается гарпунов и иных находок, Клейн считает, что это, по крайней мере на сегодня, аномалии, не вписывающиеся в общепринятую археологическую картину. Если наконечникам из Катанды 100 000 лет, почему такое важнейшее умение, как рыбалка, не распространилось со скоростью лесного пожара? Однако больше ни на одной из африканских стоянок не обнаруживается рыболовных снастей, сделанных раньше, чем 25 000 лет назад. Клейн, проводивший раскопки в Африке, дважды обнаруживал овечьи кости в культурных слоях, относящихся к среднекаменному веку, завершившемуся 50 000 лет назад. Поскольку до одомашнивания овцы от того момента еще 40 000 лет, очевидно, что кости – внедрения из вышележащих слоев, занесенные землеройными животными или каким-то иным из множества путей, нарушающих археологическую датировку. Археологи знают, что в любом культурном слое встречаются более поздние внедрения, говорит Клейн, и потому выводы нужно основывать на хорошо просматривающихся закономерностях, а не на случайных аномалиях. Критики его теории, считает Клейн, исследуют помехи, а не сигнал.
Наблюдая невероятный процесс постепенного создания человека из обезьяны, легко подумать, будто конечный результат был целью, к которой двигалась эволюция. Но, разумеется, эволюция – слепой, бездушный процесс, не имеющий цели и уж тем более не заботящийся о благополучии участников. Его направляют мутации, естественный отбор и дрейф генов. Мутации – это случайные естественные изменения в химических блоках ДНК, неутомимый мотор обновлений человеческого генома. Эти обновления – сырье, на котором работает естественный отбор, отбрасывающий неудачные модификации и закрепляющий те, которые дают репродуктивное преимущество. Могучий прилив дрейфа генов путем случайной передачи генов между поколениями навечно закрепляет в популяции одни вариации гена и отбрасывает множество других, сокращая тем самым привносимые мутациями обновления.
В игре этих трех сил иному увидится верный рецепт хаоса, на самом же деле эволюционные механизмы принесли в мир такие сложнейшие устройства, как человеческое ухо или глаз. Поскольку искусственно подобные приспособления инженеры могут создавать только для решения определенных задач, биологи часто говорят об эволюции так, будто у нее есть намерения или планы. Но это всего лишь удобный образ для описания эволюционного процесса, и не нужно думать, будто у эволюции есть какие-то цели или «мысли».
Принимая эту условность, можно сказать, что с появлением языка эволюция в значительной степени решила великую задачу переделывания обезьяны в человека и превращения человека в общественное животное. И поскольку язык – способность, определяющая вид, и, может быть, единственное резкое отличие людей от других биологических видов, стоит рассмотреть внимательнее характер его эволюции.
3. Первые слова
Речь, конечно, не может быть отнесена к настоящим инстинктам, потому что она должна быть выучена. Она, однако, весьма отличается от всех обычных искусств, потому что человек обладает инстинктивным стремлением говорить, как это можно видеть в лепете наших детей, тогда как ни у одного ребенка нельзя заметить инстинктивного стремления варить, или печь, или писать.
Чарльз Дарвин. Происхождение человека и половой отборСырье эволюционного процесса – генофонд биологического вида и мутации в случайном порядке, возникающие в этом генофонде. Столь жесткие ограничения означают, что орган или способность не могут возникнуть на пустом месте: они формируются постепенно из уже имеющихся сущностей, и каждая из промежуточных стадий сама по себе должна обеспечивать преимущество.
И одна из причин, по которым феномен языка так крепко озадачивает биологов, именно в том, что он это правило нарушает. У людей это живая и в полной мере развитая способность, но ее даже в рудиментарной форме не знают другие биологические виды. Язык словно бы возник у современных людей на пустом месте.
Происхождение языка, возможно, было бы не столь загадочно, если бы наши древние родственники – неандертальцы и Homo erectus – дожили до наших дней и рассказали, какими коммуникативными способностями обладали. Но эти ветви на дереве гоминид исчезли, а сохранилась лишь одна.
Ученым остается искать корни языковой способности у общественных приматов: человекообразных и других узконосых обезьян. Эти виды в самом деле обладают значительной частью нервного аппарата, необходимого для функционирования языка. Они могут издавать широкий спектр сложных звуков. У них достаточно тонкий слух, позволяющий воспринимать и интерпретировать сигналы, посылаемые сородичами. Что касается мышления, то нет сомнений, что общественным приматам доступны весьма сложные когнитивные процессы, включая те, которые необходимы, чтобы помнить, с кем ты связан родством, кто тебе чем-то обязан и каков твой статус в общественной иерархии.
Но, несмотря на обладание всей необходимой нейрологической базой для речи, обезьяны начисто лишены способности транслировать мысли в какое-то подобие человеческого языка.
У некоторых видов приматов существуют довольно проработанные системы коммуникации. Например, у гелад есть 22 вида призывов, а у горилл задокументировано около 30 жестовых сигналов{34}. Одна из самых изученных сигнальных систем у животных – репертуар тревожных криков, издаваемых зелеными мартышками, обитающими в Восточной Африке. Жизнь этих обезьян полна опасностей, им постоянно угрожают орлы, леопарды и змеи, и для каждой из угроз мартышки используют свой сигнал тревоги. В ответ на предъявляемые им записи того или иного крика обезьяны сразу вскидывают взгляд на небо, высматривая орла, или смотрят вниз в поисках змеи, или прыгают в кусты, заслышав предупреждение о леопарде.
Интересная параллель с человеческим языком: базовый механизм этой сигнальной системы у мартышек, судя по всему, врожденный, но отлаживается в процессе обучения. Детеныши зеленых мартышек испускают «орлиный» крик в ответ на любые объекты, движущиеся в небе, включая падающие листья, а повзрослев, используют его лишь при виде орла, особенно – боевого орла, но пропускают нехищных птиц, например стервятников{35}.
Можно было бы предположить, что мартышки таким образом придумали слова для обозначения орла, змеи и леопарда, но на деле ситуация иная. Мартышка не может составить два сигнала, чтобы сообщить, что, по ее мнению, «орлы опаснее леопардов». Эти сигналы используются только как тревожная сирена, предупреждающая: «Прячьтесь, в небе орел!» или «Бегите – леопард!»
Мало того, что у животных нет звуковых сочетаний, точно связанных с понятиями, им также недоступен синтаксис. Так, обезьяны капуцины, судя по всему, придерживаются строгого порядка в голосовых сигналах (т. е. клич A испускается перед кличами B и C, но не повторяется после них), но значение таких последовательностей, если оно есть, пока ученым не ясно{36}. Люди упорно пытались научить говорить шимпанзе. Сначала обезьян учили издавать звуки похожие на человеческие. Затем, поняв, что их голосовой аппарат к этому не способен, ученые попробовали язык жестов. Шимпанзе могут выучить немалое число знаков: 125 – по данным занимавшихся с ними педагогов, 25 – по оценкам скептиков, но нет никаких убедительных свидетельств, что они выстраивают эти знаки в какие-то последовательности, чтобы получить новый смысл, а именно в этом и состоит суть человеческого языка. Типичные фразы Нима Чимпски, самца шимпанзе, обученного Гербертом Террейсом из Колумбийского университета, были: «Я банан ты банан ты я дать» и «Дать апельсин я дать есть апельсин я есть апельсин дать я есть апельсин дать я ты». «Способность шимпанзе освоить хоть какие-то основы грамматики оказалась почти нулевой», – заключает Стивен Пинкер из Гарвардского университета{37}.
И все же принцип эволюционного конструирования – непрерывность, и значит, в мозгу млекопитающих должны быть какие-то нейронные сети, которые приспособились генерировать комбинаторные системы грамматики и лексики так же, как ухо млекопитающих приспособилось воспринимать человеческую речь, а голосовой аппарат млекопитающих – ее производить. Недавно необычная команда ученых – этологи Марк Хаузер и Текумзе Фитч совместно с лингвистом Ноамом Хомски – выдвинула гипотезу о том, что человеческая способность строить высказывание эволюционировала из мозговой структуры, у животных отвечающей за другие функции, такие как навигация{38}. Авторы гипотезы считают основополагающим свойством языкового мышления рекурсию, т. е. способность вкладывать одно высказывание внутрь другого, выстраивая сколь угодно длинные цепочки. Рекурсия также может быть полезна и для других способностей, например для навигации, когда животному требуется запомнить путь от A до D с отклонениями к B и C на случай, если дорога непрямая. Если бы гены, кодирующие навигационный модуль мозга, случайно продублировались, то лишний набор мог бы, эволюционируя, принять на себя функцию кодирования картины мира в язык.
Природа языка
Многие считают, что мышление невозможно без языка, что язык и мышление, по сути, одно. Другие отождествляют язык с речью. С точки зрения лингвистики оба утверждения ложны. У животных встречаются довольно сложные мыслительные процессы: шимпанзе, несомненно, знают статусы всех членов своего сообщества и понимают, кого можно привлечь в союзники, но не могут облечь эти смыслы в слова. А речь – лишь одна из форм бытования языка, который также может быть письменным или жестовым, как язык глухонемых. Лингвисты считают такого рода знаковые системы полноценными языками и обнаруживают у них те же свойства, что и у звучащих языков, включая сюда настоящий синтаксис и набор грамматических правил.
С точки зрения лингвистики язык – это не речь, а система передачи смыслов материальными знаками, обычно звуками речи или письмом. Эту передачу мозг осуществляет, как бы пользуясь двумя взаимодополняющими комбинаторными системами, одна из которых производит лексику, другая синтаксис.
Комбинаторная система лексики – это остроумное решение непростой задачи. Многие виды животных общаются при помощи некоторого набора сигналов, обладающих определенными значениями. Если бы человеческий язык был построен по тому же принципу, то сигналов было бы так много, что после энного по счету они становились бы все менее различимыми, сливаясь в однообразную массу. Но естественный отбор нашел способ справиться с бесконечным разнообразием смыслов, построив весь словарь из короткого набора отдельных звуковых «кубиков». Эти кубики могут складываться в бесконечное число комбинаций, а комбинациям произвольно присваиваются значения, чтобы получились слова. Эта система называется комбинаторной, потому что производство слов представляет собой комбинирование блоков-элементов.
Комбинаторную систему для синтаксиса описать непросто, потому что она служит для решения нескольких разных, хотя и связанных между собой задач. Оригинальное объяснение этому дает гипотеза Ноама Хомски о том, что в мозге человека интегрирована универсальная система, благодаря которой дети усваивают грамматические правила любого языка, на каком бы ни говорили вокруг. Во всех языках свои грамматические системы, но в них можно увидеть разные варианты одной модели. Хомски называет этот обучающий механизм универсальной грамматикой (УГ), но термин используется также для обозначения базовой логической решетки, лежащей в основе всех грамматик мира.
Эту теорию оспаривают ученые, полагающие, что разум человека – универсальная самообучающаяся система, чистая доска, без всякого предустановленного программного обеспечения или генетически сформированной «микросхемы», обслуживающей определенные виды поведения, в частности овладение языком. Безусловно, поведение человека, кажется, в гораздо большей степени подчинено контролю сознания, чем поведение других животных. Однако столь же очевидно, что многие формы поведения у животных запрограммированы генетически. У каких-то видов, например у лабораторного круглого червя, биологи уже умеют менять поведение, вмешиваясь в структуру генов. Разумно было бы предполагать, что и у людей многие формы поведения, в частности такие базовые, но сложнейшие способности, как владение языком или распознавание лиц, обусловлены генетически.
В языке комбинаторные системы лексики и синтаксиса настолько сложны, что кажется невозможным, чтобы ребенок мог освоить их с нуля. С эволюционной точки зрения гораздо рациональнее было бы вмонтировать в систему нервных связей человеческого мозга специальный аппарат, помогающий усваивать язык. Как замечал Дарвин, способность понимать звучащий язык кажется инстинктивной, в отличие от умения писать, – письму приходится усердно учиться в школе. В пользу врожденности языковой компетенции говорит и недавнее открытие гена, предположительно напрямую связанного с языком.
Дети во всем мире легко осваивают язык примерно в одном возрасте – это верный признак того, что на определенной стадии развития у человека запускается специальная генетическая программа. Хомски утверждает, что универсальная грамматика заложена в каждого, и, действительно, ученые склонны считать механизм освоения языка одной из многих конструирующих программ, записанных в генах и запускающихся в надлежащий момент.
Однако Хомски, как и других лингвистов-теоретиков, мало занимает вопрос, какие эволюционные стимулы могли запустить эволюцию языка. Первая большая статья об этом предмете появилась в журнале Американского лингвистического общества Language только в 2000 г. «Почему языковеды молча остановились у закрытой двери, даже не попытавшись ее открыть, – это небезынтересная тема для социологов науки», – пишет Дерек Бикертон из Гавайского университета, один из немногих лингвистов, изучавших возникновение человеческого языка{39}.
Некоторые известные ученые обвиняют в бездействии именно Хомски. Предложенная им универсальная грамматика – чрезвычайно сложный механизм, и критики утверждают, что он не мог появиться эволюционным путем, поскольку был бы бесполезен, пока не сформировался окончательно. Но это некомпетентный взгляд: эволюцией убедительно объясняется формирование таких сложнейших органов, как глаз или ухо. Тем не менее несколько выдающихся лингвистов утверждают, что Хомски уклонился от спора и просто проигнорировал эволюционную тему. «Оппоненты доказывают, что такого встроенного механизма, как универсальная грамматика, в человеческом организме быть не может, – пишет Рэй Джейкендофф. – Хомски в ответ пытался отрицать значение довода о законах эволюции»{40}.
«Насколько Хомски вообще был склонен рассуждать о возникновении языка, его замечания только отбивали у лингвистов интерес к предмету. Например, он упорно отвергал идею, что механизм овладения универсальной грамматикой развивался именно как черта, способствующая выживанию и повышающая репродуктивные возможности индивида», – пишет Фредерик Нюмайер, лингвист из Вашингтонского университета (Сиэттл){41}. Авторы приведенных цитат – авторитетные ученые: Нюмайер был президентом Американского лингвистического общества в 2002 г., Джейкендофф в 2003-м.
Хомски не признает, что отговаривал кого-либо изучать эволюционный аспект языка: его позицию, утверждает он, извратили.
«Я никогда не высказывал ни малейшего возражения против изучения эволюции языка», – говорит Хомски. Свои взгляды на предмет он кратко изложил в лекциях 25 лет назад, но оставил вопрос нерешенным, потому что, как поясняет ученый, ему не хватало данных. Он по-прежнему считает, что можно легко придумать множество разных версий, объясняющих эволюцию языка, но трудно какую-либо из них однозначно принять{42}.
Стороннему наблюдателю нелегко понять, почему ученые типа Нюмайера и Джейкендоффа возлагают на одного Хомски вину за то, что вся мировая лингвистика игнорирует эволюционный аспект возникновения языка: казалось бы, состоявшиеся ученые могут не оглядываться на чужие мнения. Однако Хомски действительно сильно влиял на взгляды, замечает Стивен Пинкер, отчасти благодаря своему интеллектуальному авторитету, отчасти из-за агрессивного стиля полемики, разделившего всю лингвистику на два лагеря.
«Разве может мнение одного человека иметь такой вес? – спрашивает Пинкер. – Дело в том, что у Хомски было и есть невероятное влияние в среде языковедов. Есть ревностные поклонники, превозносящие каждое его слово, и заклятые враги, говорящие "черное" на каждое его "белое". В такой ситуации лингвистам, принимающим некоторые идеи Хомски (язык как сложная, комбинаторная, частично врожденная ментальная структура) и отвергающим другие (причудливые и постоянно меняющиеся детали его грамматической теории, отрицание любых попыток объяснить происхождение языка эволюционно), приходится не так-то просто»{43}.
Лингвистика, как и другие гуманитарные науки, не привыкла искать объяснений в эволюции, хотя для биологии это основополагающий принцип. Пинкер был одним из первых лингвистов, попытавшихся его применить. Ради этой «невероятно скучной», по его собственной формулировке, цели Пинкер в соавторстве с Полом Блумом написал замечательную статью. В ней авторы объясняют лингвистам, что, вопреки мнению Хомски и историка науки Стивена Джея Гоулда, «человеческий язык, как и прочие специализированные биологические системы, эволюционировал по законам естественного отбора»{44}.
Пиджины, креольские и жестовые языки
Один из темных для Хомски моментов эволюции языка – то, что он слишком сложен и не имел промежуточных форм, – заинтересовал Дерека Бикертона. Бикертон занялся этой темой, изучая такой удивительный лингвистический феномен, как превращение пиджинов в креольские языки. Пиджин – это язык с примитивным словарем и минимальной грамматикой, изобретенный для общения двух сообществ, не владеющих языками друг друга. И замечательные превращения он терпит во втором поколении носителей: у них он сам собой развивается до полноценного языка с достаточным набором грамматических правил. Такие «достроенные» пиджины называются креольскими языками.
Бикертон, изучая креольские языки Гавайев, разглядел в их эволюции общий принцип развития человеческого языка. Первые языки на земле, полагает он, были похожи на пиджины: они состояли почти целиком из лексики, а синтаксис появился позже. И некоторые предполагаемые реликты этого протоязыка можно наблюдать и сегодня. Если ребенок не обучится языку в раннем детстве, когда его универсальная грамматика наиболее восприимчива, то он не обучится ему уже никогда. Такие случаи крайне редки: потерявшиеся младенцы, которых воспитали животные, или дети, изолированные от человеческого общения нездоровыми родителями. В 1970 г. в Калифорнии 13-летняя девочка Джинни с матерью вырвались из заточения в доме, где девочку с полуторагодовалого возраста держали в запертой комнате без всякого вербального общения. Врачи и педагоги настойчиво пытались научить Джинни говорить, но она так и не смогла усвоить принципы грамматики. Ее фразы оставались на уровне «Хотеть молоко» и «Яблочный сок купить магазин»{45}.
Даже столь примитивный язык в раннем человеческом обществе должен быть невероятно полезен. Другие возможные отголоски предполагаемого протоязыка можно услышать в не подчиняющихся синтаксису восклицаниях типа «Ой!» или более показательного «Шш-ш!»{46}.
Недавно лингвисты получили возможность увидеть, как устроена врожденная основа синтаксического мышления, открыв два новых языка, переживающих момент рождения. Оба языка – жестовые, стихийно формирующиеся в сообществах глухих носителей, не обучавшихся стандартным жестовым языкам своих стран. Первый изобретен учениками одной никарагуанской школы для глухих. Второй – аль-сайидский жестовый язык, придуманный членами большого бедуинского клана из деревни, расположенной в пустыне Негев, в Израиле.
Никарагуанская история начинается в 1977 г., когда Хоуп Сомоса, жена тогдашнего диктатора, основала школу для глухих детей{47}. Педагоги заметили, что дети мало что усваивают на уроках испанского, зато разработали для общения между собой оригинальную систему жестовых кодов. Каждое школьное поколение обучало ей новичков, и код быстро эволюционировал из простого набора жестов в сложный язык с собственным синтаксисом.
Клан глухих из Аль-Сайиди состоит примерно из 3500 человек – потомков мужчины, прибывшего 200 лет назад из Египта и здесь нашедшего себе жену. Начиная с третьего поколения, у них были разрешены внутриклановые браки, так что наблюдается высокий уровень инбридинга. Двое из пятерых сыновей четы родоначальников были глухими, а сегодня этим недугом страдают около полутора сотен членов клана. Клан живет уединенно, отчасти по причинам географического положения, но больше – из-за социальных барьеров, поскольку его члены среди бедуинов презираемы. Глухие члены клана до самых недавних пор не ходили в школу и потому не были знакомы ни с иорданским, ни с израильским жестовым языком. Они разработали свой, которым пользуются для общения с ними также их слышащие родственники{48}.
В «Истории» Геродота есть знаменитый сюжет о том, как египетский фараон захотел узнать, какой язык был первым на земле: взяв двух новорожденных, он приказал никому не говорить с ними и ждал, какими будут их первые слова. Эксперимент фараона основывался на неверной посылке: не слова от рождения даются человеку, а системы, генерирующие синтаксис и лексику. И у никарагуанских школьников, и у бедуинов из племени аль-сайид заработало стихийное чувство синтаксиса, в частности различение, выступает слово в роли субъекта, объекта или действия.
Бедуины к тому же закрепили стандартный порядок слов в предложении: субъект – объект – глагол. Никарагуанские дети, наоборот, предпочли использовать жестовые эквиваленты падежных окончаний. Поскольку падеж указывает, объектом или субъектом выступает слово в высказывании, то и порядок слов не так важен, и он у каждого выпуска школьников свой.
Это очевидно стихийное появление фиксированного порядка слов или падежных окончаний в двух жестовых языках красноречиво указывает на то, что базовые элементы синтаксиса врожденные и генерируются генетически кодированными для этого участками человеческого мозга. Аль-сайидский язык живет всего лишь в третьем поколении, но отдельные знаки там уже превратились в чистую условность. Жест, обозначающий мужчину, – вращение пальцем, изображающее кружок усов, а мужчины в деревне давно уже таких не носят. В Никарагуа тоже все быстро меняется. Число 20 сначала передавали двукратным выбрасыванием десяти пальцев, пишет Энн Сенгас, лингвист, 15 лет изучающая этот язык. Но такой жест слишком громоздок, и теперь его заменил другой, выполняемый одной рукой: он ничем не подобен числу 20, зато выполняется быстро{49}.
Жестовые знаковые системы обнажают не всеми сознаваемое свойство языка: в нем звучащую речь обязательно сопровождает жест. Человеческий протоязык, несомненно, включал в себя жестовые знаки и даже мог начаться именно как жестовый. Психолог из Оклендского университета (Новая Зеландия) Майкл Корбаллис считает, что протоязык «возник как главным образом жестовый, включающий в себя движения тела, в особенности рук, и мышц лица»{50}. Звучащая речь, по мнению Майкла, возникла позже, поскольку для формирования необходимых мышц языка и других тонких деталей речевого аппарата нужны были серьезные эволюционные изменения.
Теория Корбаллиса сильна в нескольких аспектах. Она хорошо объясняет, почему слово и жест так тесно сплетены и почему люди жестикулируют, говоря по телефону, хотя собеседник и не может оценить их пластику. Критики Корбаллиса отмечают, что жестовый язык бесполезен в темноте и что для разговора собеседникам нужно непрерывно смотреть друг на друга. Звучащая речь этих ограничений не знает.
Эволюционные стимулы развития языка
Появившись, человеческий язык, был ли он звучащим, жестовым или использовал обе формы сигнала, несомненно, эволюционировал быстро: ведь каждое его усовершенствование давало носителям огромное преимущество. Даже в самой зачаточной форме язык способен вывести социальные взаимодействия на совершенно новый уровень. Наконец-то члены сообщества могут передавать друг другу точные и ясные послания: заключать союзы, выражать намерения, описывать людей и места, передавать знания. Более того, даже незначительные усовершенствования общей системы, например в области артикуляции и слуха или синтаксических правил, дают говорящим новые преимущества, а гены, обусловившие эти модификации, закрепляются в популяции.
Но с какой бы легкостью ученые ни реконструировали переход от простых форм языка к сложным, это не отвечает на вопрос о вынуждающих факторах, обусловивших появление языка вообще.
Сегодня язык выполняет в человеческом обществе такое множество разных функций, что трудно выстроить их в какую-то иерархию и решить, какая из них – корень, а какие – ветви. Но эволюционные психологи предложили несколько интересных догадок о том, какие факторы спровоцировали эволюцию языка. Так, Робин Данбар из Ливерпульского университета выдвигает теорию языка как продолжения груминга, то есть взаимного перебирания шерсти. Он отмечает, что приматы тратят значительное время на это занятие, которое, помимо чистки шерсти от паразитов, служит еще и укреплению социальных связей. Но груминг ограничивает размер группы, ведь если будет слишком много знакомых, которых нужно как следует вычесывать, на добычу пропитания просто не останется времени.
На практике разные виды мартышковых обезьян тратят на груминг разное время, максимум до 20 % активной части суток, и это у тех видов, где средний размер группы – около 50 особей. Данбар пишет, что максимальное время, отпускаемое на взаимную чистку, по сути, и ограничивает размер обезьяньего сообщества 50 особями. Но как средний размер родоплеменных групп охотников-собирателей вырос до 150 особей? Такая численность, в принципе, потребовала бы от каждого тратить 43 % своего активного времени на взаимную чистку или ее человеческий аналог? Данбар считает: благодаря языку. Язык настолько удобнее для установления и поддержания дружеских связей, что обязательную взаимную чистку можно серьезно урезать. В широком спектре человеческих сообществ, так сложилось, объем времени, затрачиваемого на социальные взаимодействия или разговоры, равен 20 %. Вынуждающей силой эволюции языка Данбар, таким образом, считает необходимость объединить человеческих особей в более крупные группы{51}.
Совсем другое объяснение предлагает эволюционный психолог Джеффри Миллер. Он считает, что движущей силой эволюции языка был половой отбор – так, согласно Дарвину, хвост павлина – это продукт эволюции, сформированный как результат выбора самок. Так же как пышность и симметричность павлиньего хвоста означают отсутствие паразитов, красноречие и членораздельная речь характеризуют качество мышления индивида и высоко ценились в половом партнере и мужчинами, и женщинами. Язык – это инструмент, позволяющий нам узнать потенциального партнера гораздо лучше, чем любой другой метод, пишет Миллер{52}.
И у Данбара, и у Миллера оригинальные гипотезы, и в каждой из них, вероятно, есть доля истины. Неясно, однако, насколько они могут объяснить богатство и точность языка. Лексический запас большинства взрослых носителей английского около 60 000 слов, но 98 % разговоров обслуживаются 4000 самых частотных слов. Нужны ли 60 000 слов, и даже 4000, для взаимной чистки или даже для того, чтобы очаровать возлюбленную? Миллер отвечает, что избыток – это и есть суть полового отбора: если он запускается, то признак, подвергающийся отбору, доводится до крайней степени развития, как ветвистые оленьи рога.
Для лингвистики, однако, суть языка – в смыслах и в коммуникации, и объяснение его эволюции любыми другими причинами ее мало интересует. Пинкер считает, что нельзя не учитывать новую экологическую нишу, которую заняли люди, т. е. информационно насыщенную среду обитания, требующую обширных знаний о растениях и животных, об изготовлении орудий и оружия, а также о правилах и обычаях сообщества, в котором живешь. Увеличилась продолжительность жизни, и стало возможным и нужным накапливать сведения о мире и передавать их детям и внукам. «Язык, – пишет Пинкер, – тонко переплетается с другими свойствами этой когнитивной ниши. С точки зрения зоологии необычные качества Homo sapiens можно объяснить тем, что люди обрели способность кодировать информацию о причинно-следственной структуре мира и распространять ее. Вся наша гиперсоциальность оттого, что информация – это ценный товар, ради обмена которым стоит тратить время на общение с себе подобными».
Пинкер заключает, что накопление полезной информации, общительность и язык представляют собой три главные черты характерного для человека образа жизни и что эти сущности эволюционировали совместно, причем каждая обеспечивала селективное давление для развития двух других{53}.
Определить наиболее вероятные стимулирующие факторы эволюции языка было бы легче, если бы мы понимали, когда язык возник. Очевидно, общий предок человека и шимпанзе не разговаривал, иначе шимпанзе тоже имели бы язык. А все человеческие расы владеют языком в равной степени, значит, современный язык и членораздельная речь появились прежде, чем современные люди покинули Африку. Это позволяет датировать появление языка периодом от 5 млн лет назад до 50 000 лет назад. Палеонтологи упорно пытались разбить язык на этапы развития, опираясь на анатомию: изучали форму головного мозга, реконструированную по внутренним слепкам черепов, отдельные детали вроде гиоида – подковообразной кости, поддерживающей мышцы языка, или подъязычного канала, сквозь который проходит нервный пучок, управляющий языком. Но все эти усилия пока не привнесли в ситуацию особой ясности.
Палеоантропологи в свое время склонялись к той мысли, что язык зародился рано, еще у Homo erectus или даже у австралопитеков, и эволюционировал затем медленно и последовательно. В то же время археологи склонны связывать развитый современный язык с искусством, предметы которого стали появляться в археологических находках приблизительно 40 000 лет назад. Они считают, что художественное творчество требует от субъекта мыслить символами, а значит, и обладать языком, позволяющим делиться абстрактными идеями.
О позднейшем возникновении языка говорят и другие археологические данные. Грубые каменные орудия олдувайской культуры, изготовлявшиеся между 2,5 млн и 1,7 млн лет назад, выглядят как булыжники, расколотые без всякого образца и точного замысла. Однако орудиям из позднего палеолита, начавшегося 40 000 лет назад, придана точная форма, и разнообразие этих форм наводит на мысль, что у создателей орудий было свое название для каждого типа, а значит, был язык. «Представьте, что первобытные кремнетесы говорили: "Это скребок: я пользуюсь им как скребком, называю его скребком, и, значит, выглядеть он должен как скребок"», – пишет археолог Пол Мелларс. Ученый считает, что очевидная забота позднепалеолитического человека о точной форме его орудий «видимо, говорит о том, что тогдашние человеческие сообщества имели гораздо более сложный и четко структурированный словарь для разнообразных артефактов». Указывая на гораздо более грубые инструменты неандертальцев, Мелларс замечает, что неандерталец, вероятно, тоже владел языком, но словарь его был примитивным{54}.
Если современный полностью структурированный язык появился только 50 000 лет назад, незадолго до того, как современный человек покинул Африку, тогда предполагаемый Бикертоном протоязык предшествовал этому периоду. Когда же он мог зародиться? Если Homo ergaster говорил на протоязыке, то и все его потомки, включая архаичных гоминид, добравшихся до Дальнего Востока (Homo erectus) и Европы (неандерталец), говорили тоже. Но в таком случае у неандертальцев, судя по тому, что они не обладали современным человеческим поведением, протоязык так и не эволюционировал в развитую современную речь. Это может показаться удивительным, учитывая, какой выигрыш несет любое усовершенствование языкового навыка его носителям и скорость, с которой язык, в свете этого, должен эволюционировать. Так что неандертальцы, видимо, не говорили никогда.
Ген языка
Замечательное направление в изучении языковой эволюции открылось недавно в связи с расшифровкой человеческого генома. Начало ему положило открытие гена, тесно связанного с рядом тонких аспектов языка. У гена под названием FOXP2 есть ряд признаков, указывающих на то, что он весьма существенно эволюционировал у человека, но не менялся у шимпанзе, чего следовало бы ожидать от гена, обслуживающего новую способность, которая возникла только в человеческой линии. Благодаря умению генетики проникать в отдаленное прошлое появление этого гена можно датировать, хотя пока лишь очень приблизительно.
Ген FOXP2 привлек внимание ученых после открытия британского генетика Джейн Херст, обнаружившей в Лондоне необычную семью и в 1990 г. сообщившей об этом научному сообществу. В этой семье три поколения. Из 37 ее членов, достаточно взрослых для тестирования, у 15 наблюдаются серьезные языковые расстройства. Их речь трудно понять, и сами они плохо понимают речь других. Когда их просят повторить фразу типа «корова корова корова», они запинаются на каждом слове, будто оно – совершенно новое. Они не сразу могут пройти стандартный тест на образование форм прошедшего времени глагола («Каждый день я стираю одежду, вчера я __ одежду». Дети четырех лет, усвоив идею, не раздумывая отвечают «стирал».) С письмом у них такие же трудности, как и с говорением. Эти люди проходили интенсивную практику с логопедами, но большинство из них работает на таких должностях, где не нужно много разговаривать.
«Их речь трудно понять, особенно по телефону или если неизвестен контекст. В окружении этих людей нелегко ухватить, о чем они говорят и поддерживать разговор, потому что многие слова они произносят неправильно», – свидетельствует Фаране Варга-Кадем из лондонского Института детского здравоохранения{55}.
Некоторые лингвисты, изучавшие уникальную семью КЕ, считали сначала, что все нарушения касаются лишь грамматики, но Варга-Кадем установила, что патология гораздо обширнее. У этих людей нарушена артикуляция, и мышцы в нижней части лица, в частности в верхней губе, относительно обездвижены.
Можно предположить, что описанная патология – следствие какого-то общего расстройства в мозгу, не специфически языкового. Однако индекс интеллектуального развития у страдающих ею членов семьи, хотя и невысок, варьирует в пределах от 59 до 91, что пересекается с областью показателей остальных членов семьи (84–119){56}. Главное расстройство, заключает Варга-Кадем, это «нарушение быстрой и точной координации ротолицевой мускулатуры, в том числе мышц, участвующих в последовательной артикуляции звуков речи»{57}.
Носители речевого расстройства из описываемой семьи унаследовали от бабки один поврежденный ген. На их примере можно наблюдать результаты опыта, который никто и помыслить не мог бы поставить на людях, но природа поставила без спросу: что произойдет, если отключить важный для производства речи ген? Ген, поврежденный у членов семьи КЕ, судя по всему, управляет столь тонкими аспектами, что, похоже, это один из последних генов, подключенных в процессе совершенствования языкового навыка у человека.
В 1998 г. группа генетиков из Оксфордского университета взялась точно установить этот поврежденный ген, проанализировав геном семьи КЕ. Исследовались участки ДНК, которые обнаружились у членов семьи с патологией, но отсутствовали у здоровых. Скоро проблемная область сузилась до одного участка 7-й хромосомы – седьмой из 23 хромосомных пар, в которые уложен человеческий геном. В этом участке находятся более 70 генов, и предполагалось, что уйдет несколько лет на изучение каждого и выяснение, который ответствен за дисфункцию. Но тут Джейн Херст обнаружила нового пациента с таким же редким набором симптомов. У этого пациента, мальчика, был разрыв в седьмой хромосоме, разрушивший один из тех генов, которые оксфордская группа изучала у семьи КЕ. Это оказался так называемый ген FOXP2{58}.
Тогда оксфордские генетики Сесилия Лэй, Саймон Фишер и Энтони Монако разобрали все 267 000 единиц ДНК в генах FOXP2 у исследуемой семьи. Обнаружилось, что у всех носителей патологии (но ни у кого из здоровых членов семьи) в одном из звеньев единица G заменена на A (четыре типа химических единиц в ДНК для краткости обозначаются буквами A, T, G и C). Переключение на А в этом участке гена означает, что в молекуле белка, кодируемой этим геном, в позиции, где должен быть аргинин, оказывается гистидин (белки составляются из строительных блоков 20 типов, называющихся аминокислотами, аргинин и гистидин – две из двадцати аминокислот){59}.
Как же могла единственная мутация в одном гене вызвать такой спектр последствий? Гены группы FOX производят особые белки, так называемые факторы транскрипции, которые работают на высшем уровне системы управления клеткой. Эти белки связываются с ДНК и таким образом управляют активностью, или транскрипцией, многих других генов. Ген FOXP2 управляет формированием нескольких областей мозга в период внутриутробного развития, и белок-транскрипционный фактор, который он производит, вероятно, способствует верному оснащению этих областей для обслуживания языка. Томограмма мозга у членов семьи, пораженных речевой дисфункцией, на первый взгляд казалась вполне нормальной, однако более тщательное исследование показало, что у них заметно меньше нормы число нейронов в области Брока – одном из двух мозговых центров, занятых в производстве речи, и больше нормы – во втором из языковых центров – области Вернике{60}.
FOXP2 – старый ген, даже у мышей есть его разновидность. Но, если человеческая модификация тесно связана с языковой способностью, значит, в человеческой линии этот ген должен был измениться каким-то существенным образом. Группа ученых из Лейпцигского института эволюционной антропологии общества Макса Планка во главе со Сванте Паабо изучила последовательность гена FOXP2 у мышей, у человекообразных обезьян и у людей с разных континентов. Есть гены, которые изменяются довольно быстро, но FOXP2, как оказалось, весьма консервативен. У шимпанзе и горилл версия этого гена одна и та же, и, должно быть, такой она была у общего предка человека и шимпанзе, жившего 5 млн лет назад. Эта модификация кодирует белок, лишь одним из 715 звеньев отличающийся от белка, производимого этим геном у мышей, которые имели общего с человеком предка 70 млн лет назад. Иными словами, за период от 70 млн до 5 млн лет назад, т. е. за 65 млн лет, белок FOXP2 претерпел единственную модификацию.
Но его эволюция внезапно ускорилась в человеческой линии, после того как разошлись ветви человека и шимпанзе. Человеческая версия белка FOXP2 двумя блоками отличается от версии шимпанзе, значит, она подвергалась какому-то сильному селективному давлению, например тому, которое сопровождало эволюцию языка.
У всех людей версия FOXP2 принципиально одна и та же, это говорит о высокой важности гена: он распространился на всю популяцию и стал универсальным. Изучая вариации генов FOXP2, встречающиеся у людей в разных концах мира, Паабо сумел установить, хотя довольно грубо, момент, когда все люди получили последнюю модификацию гена FOXP2. По меркам эволюции, это произошло совсем недавно – определенно в последние 200 000 лет, заключает Паабо{61}.
Язык – система настолько сложная, что должна обеспечиваться множеством генов и формироваться в несколько этапов. Исходя из того, что у членов описываемой семьи отключена способность к беглой членораздельной речи, Паабо полагает, что FOXP2, видимо, был одним из последних генов, привлеченных к формированию языковой способности человека, а возможно, и финальным шагом в эволюции современной человеческой речи. «Не исключено, что это было последнее усовершенствование языковой способности, приведшее ее в современное состояние», – пишет Паабо{62}.
По мнению ученого, его датировка гена согласуется с утверждением Ричарда Клейна о том, что язык современного человека сформировался совсем недавно и, вероятно, был тем самым фактором, который запустил поведенческие изменения у человека, которые прослеживаются по археологическим находкам 50 000-летней давности.
В процессе эволюции языка могли существовать общества, в которых были две категории людей, обладавших существенно различными языковыми возможностями. С появлением каждой новой версии гена, приносящей то или иное улучшение языковой способности, носители этого гена оставляли больше потомков. Когда последний из этих генов – возможно, FOXP2-захватил всю популяцию первых современных людей, человек приобрел свои нынешние языковые способности.
4. Эдем
Мы можем видеть, что при самом примитивном состоянии общества личности, наиболее смышленые, изобретавшие и употреблявшие наилучшим образом оружие и западни и наиболее способные защищать самих себя, должны были вырастить наибольшее число потомков. Племена, заключавшие наибольшее число таких даровитых людей, должны были увеличиваться в числе и вытеснять другие племена. Численность народонаселения зависит прежде всего от средств к существованию, а эти последние – отчасти от физической природы страны, но гораздо более – от уменья пользоваться ими. Когда одно племя увеличивается в числе и одерживает верх, то оно часто увеличивается и за счет того, что поглощает другие племена. Рост и сила людей данного племени играют, очевидно, некоторую роль в успехах последнего и зависят отчасти от качества и количества пищи, которая может быть добыта… Все, что мы знаем о дикарях или что можем узнать из их преданий и по древним памятникам, история которых совсем забыта современными обитателями, показывает нам, что с самых отдаленных времен племена, имевшие успех, вытесняли другие племена.
Чарльз Дарвин. Происхождение человека и половой отборС появлением языка процесс человеческой эволюции в Африке достиг решающей фазы. Отделившийся от обезьян 5 млн лет назад человек морфологически и по модели поведения стал вполне подобен нам, живущим на земле сегодня.
Те люди, которых можно назвать племенем прародителей нынешнего человечества, вероятно, были первыми носителями вполне сформировавшейся речи и последними общими предками, от которых происходят все люди на планете. Их популяция исчезла довольно быстро, и существовала она, вероятно, всего несколько тысяч лет.
Эта популяция быстро рассредоточилась по планете, поскольку в изначальном виде вообще не имела шансов на выживание. Она существовала где-то в период между 100 000 и 50 000 лет назад, предположительно, ближе к рубежу 50 000. Между 60 000 и 40 000 лет назад большая часть Африки обезлюдела, и только на востоке материка археологи обнаруживают следы человека{63}. Причиной мог быть длительный период засушливого климата, когда отступали леса и высыхали саванны. По оценкам генетиков, популяция наших прародителей в результате сократилась до 5000 особей. От этой популяции размером с деревенскую общину и произошли все народы мира. И поскольку люди в разных сообществах по всему миру ведут себя, в общем, одинаково, основные компоненты человеческой природы должны были уже присутствовать у прародителей человечества, прежде чем они покинули Африку и расселились по планете.
Огромный интерес вызывают любые сведения об этих прародителях: образ жизни, устройство общества, гендерные роли, религия, язык. На сегодня археологи не обнаружили пока никаких следов этой популяции. Однако и при полном отсутствии материальных свидетельств мы многое можем узнать о прародителях человечества.
Генетики могут оценить размер популяции и, отыскав ближайших потомков, указать, где в Африке она, вероятнее всего, обитала. Им есть что сказать и о языке, на котором эти люди говорили. А антропологи, изучая формы поведения, равно свойственные сообществам из разных частей земли, особенно сообществам охотников и собирателей, похожих на прародителей человечества, могут описать приблизительно образ жизни наших прародителей и их самих.
Родословная Адама и Евы
Поскольку все нынешнее человечество происходит от одной группы прародителей, генетики, анализируя ДНК современных людей и реконструируя их историю, могут сделать некоторые предположения о той первой популяции.
Особенно полезны в этом аспекте два компонента человеческого генома. Первый – это Y-хромосома, единственная хромосома, которая есть только у мужчин. Второй – митохондриальная ДНК. Только эти две области генома не подвержены рекомбинации генетического материала при смене поколений. Рекомбинация в ДНК – это эволюционный механизм, задающий многообразие в каждом поколении, из-за него сегодня «распутать» происхождение составляющих всего генома целиком ученым не под силу[5].
В отличие от большинства хромосомных пар, X и Y не обмениваются сегментами ДНК при смене поколений (только самыми периферийными). Таким образом, самый важный ген Y-хромосомы, тот, который программирует мужской пол особи, не переходит в X-хромосому. Поэтому Y-хромосома передается от отца к сыну, от поколения к поколению, практически неизменной. Митохондриальная ДНК избегает перетасовок другим способом. Митохондрии – орган живой клетки, производящий химическую энергию, – это бывшие бактерии, когда-то захваченные клетками. Они живут в цитоплазме клетки, вне ядра, содержащего хромосомы. При слиянии яйцеклетки и сперматозоида все митохондрии сперматозоида разрушаются, и у оплодотворенной яйцеклетки остаются только материнские. Благодаря такому порядку митохондрии наследуются ребенком от матери неизменными (а митохондрии отца потомству не передаются){64}.
Вдобавок к их особому статусу Y-хромосома и митохондриальная ДНК обладают удивительным и оригинальным свойством единичности. Все мужчины в современном мире носят одну и ту же Y-хромосому, и равно у мужчин и у женщин одинаковые митохондрии. Все нынешние Y-хромосомы происходят от одного и того же и единственного источника – Y-хромосомы одной мужской особи, принадлежавшей популяции родоначальников человечества или жившей незадолго до ее формирования. То же самое можно сказать про митохондриальную ДНК: у всех людей она одинаковая, потому что все это – копии с одного оригинала, митохондриальной ДНК, принадлежавшей одной женской особи.
Трудно удержаться от сравнения: Y-хромосома Адама и митохондриальная ДНК Евы. В популяции прародителей, конечно, было много Адамов и много Ев, примерно по 2500 каждых, если подсчеты генетиков верны. И как же получилось, что лишь один мужчина передал всему человечеству свою Y-хромосому и лишь одна женщина – свои митохондрии?
Любопытный факт: единственная версия гена, особенно в небольших популяциях, может вытеснить все другие существующие версии этого гена за несколько поколений в результате хаотичного процесса, так называемого дрейфа генов. Поясним на примере фамилий, передаваемых точно как Y-хромосома, от отца к сыну. Предположим, на некоем острове живет сто семей, у каждой своя фамилия. В первом поколении во многих семьях родятся только девочки или вообще не будет детей. Так что за одну смену поколений все их фамилии (так же, как и Y-хромосомы) просто исчезнут. Если считать, что новые мужчины на остров не приезжают, такой же отсев неминуемо будет повторяться в каждом поколении, пока не останется только одна фамилия (и Y-хромосома).
Y-хромосома есть только у мужчин. Часть мужчин в каждом поколении остаются бездетными или производят только дочерей, из-за этого число Y-хромосом в популяции снижается, пока, наконец, не останется единственная. Именно поэтому все мужчины на свете носят Y-хромосому, унаследованную от одного человека – Y-хромосомного Адама из популяции прародителей человечества. То же самое можно сказать о митохондриальной Еве.
Источник: 5W Infographic.Так и произошло с человеческой Y-хромосомой. Каждая из существующих сегодня – копия с одного и того же оригинала, принадлежавшего человеку из популяции прародителей. Y-хромосомы остальных Адамов просто исчезли одна за другой, когда их носители умирали, не оставив мужского потомства.
Но, несмотря на то что все Y-хромосомы скопированы с одного оригинала, они не идентичны. Со сменой поколений в хромосомах накапливаются мутации: единицы ДНК одного из четырех типов меняются на блоки другого типа. Мутации безвредны, но генетикам они оказывают бесценную услугу, помогая распределить носителей мужской хромосомы по разным генеалогическим линиям. Механизм таков, что, если в Y-хромосоме мужчины происходит новая мутация, ее унаследуют все его сыновья, но больше никто. Если у одного из сыновей будет следующая мутация, его потомки станут носителями уже двух.
Таким образом, каждая новая мутация – это развилка на родословном древе: линии носителей и неносителей мутации расходятся, образуя новые ветви.
Изучая наиболее информативные мутации Y-хромосомы, генетики могут распределить всех мужчин на планете по линиям родословного древа. А поскольку Y-хромосома только одна, все эти линии или ветви в конце сходятся в один ствол, к Y-хромосоме первого Адама.
Несмотря на то, что Y-хромосома у всех мужчин одна, мутации постепенно накапливаются и в ней. Это позволяет разделить мужчин на разные генеалогические линии по набору мутаций, который они приобрели. Поскольку мутации накапливались в то время, когда прародители человечества расселялись по Земле, каждая ветвь Y-хромосомного древа занимает свой участок географической карты.
У всех мужчин за пределами черной Африки в Y-хромосоме есть мутация M168. А мужчины с мутацией M173, предположительно, были первыми современными людьми, прибывшими 45 000 лет назад в Европу и создавшими ориньякскую культуру. Сменившую ее 28 000 лет назад граветтскую культуру, по мнению ученых, принесли обладатели мутации MI70. Мутация M242 возникла прямо перед тем, как люди прошли Берингийским перешейком из Сибири в Америку.
Источник: 5W Infographic.Мутации накапливаются в Y-хромосоме довольно равномерно, что дает ученым возможность датировать каждое новое ответвление древа, подсчитав число мутаций в линии. Наука способна не только датировать каждую линию, но и устанавливать ее географическое происхождение. Дело в том, что, когда случались определенные мутации, человеческие популяции расселялись по земле, но в то время люди в основном жили и рожали детей в тех же местах, где появились на свет сами. Так что генетика может наложить древо Y-хромосомы на карту мира, соотнеся каждую из его ветвей с какой-то географической областью.
Особенно помогает описать популяцию прародителей ветвь мужчин, покинувших Африку. У всех мужчин за пределами африканского континента и лишь у немногих в самой Африке Y-хромосома отмечена так называемой мутацией M168. Значит, современные люди покинули Африку вскоре после того, как эта мутация появилась. А появилась она, по недавней оценке, сделанной методом подсчета мутаций, 44 000 лет назад{65}. Однако генетическая датировка всегда допускает целый спектр погрешностей. В данном случае, считает Питер Андерхилл и его коллеги из Стэнфордского университета, исход мог произойти в период от 89 000 до 39 000 лет назад. Корень родословного древа Y-хромосомы датируется моментом 59 000 лет назад, хотя и здесь остается широкий диапазон возможностей: от 140 000 до 40 000 лет назад. Вместе с тем 59 000 лет назад представляется довольно обоснованной датировкой момента, когда по земле ходил Y-хромосомный Адам. Эта датировка хорошо согласуется со временем жизни популяции прародителей – 50 000 лет назад, потому что гены обычно имеют чуть более давнее происхождение, чем популяции.
У всех людей на свете, мужчин и женщин, одна и та же митохондриальная ДНК, унаследованная от генетической Евы.
Как и Y-хромосома, эта единственная версия митохондриальной ДНК со временем обросла мутациями, по которым женщин можно разделить на разные генеалогические линии (митохондриальная ДНК наследуется только по женской линии).
В черной Африке все женщины принадлежат к одной из трех первых ветвей родословного древа митохондриальной ДНК, обозначенных индексами L1, L2 и L3. За пределами Африки все женщины принадлежат к линиям M и N, дочерним ветвям линии L3. В западной части Евразийского материка все женщины – дочери N, в его восточной половине есть и M и N. Дочерние линии A, B, C, D и X достигли Америки.
Источник: 5W Infographic.Велика ли была популяция прародителей?
Y-хромосома– лишь малый фрагмент человеческого генома. Но, похоже, она неплохо отражает историю человечества и, в частности, потому, что ее «рассказ» подтверждает митохондриальная ДНК. Митохондриальная ДНК помогает восстановить родословную женщин, точно как Y-хромосома – мужчин.
Все женские линии, как и мужские, оказались ветвями, выходящими из одного корня – митохондриальной ДНК, которая принадлежала женщине, жившей среди или немного раньше популяции прародителей. Митохондриальная Ева, как считается, жила значительно раньше, чем Y-хромосомный Адам, – где-то 150 000 лет назад, но здесь, возможно, сказались трудности в датировке митохондриальной ДНК, которая накапливает мутации быстрее, чем Y-хромосома.
Митохондриальная родословная человечества состоит из трех главных линий, именуемых L1, L2 и L3, L1 и L2 – это только африканцы, живущие к югу от Сахары. Ветвь L3 дает начало линии M, и именно ее представители и вышли за пределы Африки.
Данные, извлеченные из Y-хромосомы и митохондриальной ДНК могут помочь в установлении такой важнейшей характеристики прародителей, как «эффективный размер популяции». Эффективная популяция – это статистическое понятие, значение которого популяционные генетики выводят из числа вариаций в ДНК. Это заметная часть общего размера популяции – у людей обычно около половины{66}. Долгое время эффективный размер популяции прародителей определялся приблизительно в 10 000 особей, но недавняя переоценка, скорректировавшая погрешность прежних подсчетов, дает еще меньшую цифру. Подсчет, основанный на Y-хромосоме, дает эффективный размер популяции прародителей в 1000 мужчин репродуктивного возраста{67}. Предполагая равное число женщин, получаем «эффективную популяцию» объемом в 2000 особей, что означает общую численность всего в 4000, или, скажем, если округлить, в 5000 человек.
Первые две ветви древа Y-хромосомы, представители которых живут только в Африке, имеют множество подветвей. Это позволяет предположить, что популяция прародителей когда-то была разнообразной и занимала обширную территорию. Есть в структуре мутаций и другие косвенные указания на то, что когда-то существовали, но вымерли другие линии Y-хромосомы. Иными словами, предки нынешнего человечества претерпели ряд суровых бедствий, унесших множество мужских жизней{68}.
Поскольку собиратели живут группами численностью в среднем около 150 человек, поддерживая хозяйственные связи с соседними группами, небольшая популяция в 4000–5000 человек вряд ли могла быть распределена по всей Африке. Вероятно, она жила на куда меньшей территории – по одной из оценок, «возможно, площадью со Свазиленд или Род-Айленд»{69}. Чем меньше ареал обитания, тем выше вероятность того, что в нем говорили на одном языке. Археологи пока не обнаружили колыбель наших прародителей. Учитывая, что они были охотниками и собирателями, то, вероятно, почти не оставили там следов своего присутствия.
Но генетики установили, где в Африке могла находиться эта прародина человечества. Указания на это место обнаруживаются не только в генах, но и в языках, а именно в щелкающих языках Африки и у койсанских народов, которые на них разговаривают.
Койсанские языки – отзвук единого праязыка человечества
[6]
Голландские колонизаторы, прибывшие в 1652 г. в Южную Африку, встретились там с двумя группами туземцев, носителей так называемых «щелкающих языков»: скотоводами, которых голландцы прозвали готтентотами, и охотниками-собирателями – тех звали бушменами или готтентотским словом «сан», означавшим аборигенов. Готтентоты называли себя кой-коин. От слов «кой» и «сан» и происходит название семьи щелкающих языков – койсанские.
Южных капских бушменов голландские колонизаторы по большей части истребили. Антропологи изучали северных, обитавших на обширной территории от Южной Анголы до Ботсваны, в том числе в пустыне Калахари. До 70-х гг. XX столетия, когда среди них широко распространилась оседлость, многие бушмены вели кочевой образ жизни, оставаясь одним из немногих народов, приверженных архаичному быту охотников-собирателей. Основной язык северных бушменов –!хонг: это название, вероятно, дали немецкие миссионеры, а значит оно на ангольском диалекте!хонг – «те, они»{70}. Северных бушменов часто так и зовут!хонг или!хонг-сан. Сочетанием символов «!х» условно обозначают один из многих в этом языке щелкающих согласных звуков.
С недавних пор антропологи стали именовать эту народность ее самоназванием жу!цоан, что значит «настоящие люди». Для обозначения европейцев и небушменских африканцев у «настоящих людей» служит слово!ком, и к этой категории также относятся хищники и другие несъедобные звери.
Сочетанием «!ц» в названии жу!цоан также передается один из щелкающих звуков. Пять щелкающих звуков произносятся с втягиванием воздуха, несколько большее число – на выдохе.!Ц – это зубной щелкающий звук, производимый с втягиванием воздуха, когда кончик языка немного отрывается от верхних передних зубов, похоже на междометие «ц-ц». Фонетика койсанских языков считается одной из самых сложных среди всех языков мира{71}.
На юге Африки до сих пор существуют около 30 различных языков со щелкающими звуками. Они делятся на три группы, которые, кроме собственно щелканья, почти не имеют никаких родственных черт. Носители еще двух щелкающих языков – хадза и сандаве – живут далеко в Танзании. И хадза, и сандаве – языки изолированные, т. е. они не родственны ни между собой, ни с бушменскими языками.
Несмотря на то что многие щелкающие языки не обнаруживают между собой ничего общего, кроме щелчков, Джозеф Гринберг, великий классификатор, отнес их все к одной койсанской семье. Лингвисты отмечали, как нелогично объединять в семью кучу неродственных языков, но принимали идею, поскольку других вариантов классификации «щелкающих» языков никто не мог предложить. Сегодня большинство лингвистов-компаративистов отвергают Гринберга, однако его теория в свете удивительной связи, обнаруженной между языками койсанской семьи, похоже, содержит здравое зерно.
Эту связь показывают находки генетиков, установивших, что носители языка хадза и!хонг относятся к самым старым популяциям на Земле. Конечно, все народы имеют один возраст, в том смысле, что все происходят от племени прародителей. Однако некоторые популяции считаются старше на том основании, что располагаются на длиннейших ветвях родословного древа человеческой расы. Дуглас Уоллес из Калифорнийского университета в Ирвине недавно установил, что три старейших народа на Земле – это пигмеи ака из Центральноафриканской Республики, пигмеи мбути из Конго и бушмены!хонг.
У!хонг Уоллес с коллегами обнаружили несколько линий митохондриальной ДНК, но их главная линия образует первую ветвь L1, старейшую из трех на человеческом митохондриальном древе. Эта линия, как отмечает Уоллес, «относится к самым глубоким корням африканского филогенетического древа, и отсюда следует, что бушмены!хонг обособились на самом раннем этапе расселения людей по Земле»{72}. Иначе говоря, бушмены!хонг рано отделились от популяции прародителей и с тех пор сохраняли достаточную обособленность.
Недавно двое ученых из Стэнфорда, Алек Найт и Джоанна Маунтин, сравнили генетику бушменов!хонг и народа хадзабе, как называют носителей щелкающего языка хадза, охотников и собирателей, обитающих в окрестностях танзанийского озера Эяси. Ученые установили, что и хадзабе – необыкновенно древний народ. Вместе с тем на митохондриальном древе хадзабе принадлежат не к ветви L1, а к ветви L2. Поскольку L2 и L1 отмечают два первых разветвления на древе, значит,!хонг (L1) и хадзабе (L2) – это две популяции, отделившихся практически при зарождении человечества. Раздел между предками этих двух народностей «представляется самой первой дивергенцией человеческих популяций», утверждают ученые. Измерения Y-хромосомы показывают, что эти две народности далеки друг от друга более, чем любые другие африканские племена{73}.
Это генетическое открытие несет в себе возможное объяснение тому, почему два койсанских языка,!хонг и хадза, так отличаются друг от друга. Из-за столь давнего разделения до полного несходства разошлись и генетика этих народностей, и их языки, сохранившие единственное общее – звуки-щелчки.
И!хонг, и хадзабе – охотники и собиратели, их образ жизни – кочевье по девственным землям – возможное объяснение того, что они тысячелетиями сохраняли свою самобытность. Но остается одна загадка: почему в их языках переменилось все, но до сих пор сохранились щелкающие звуки.
Некоторые языковеды считают, что!хонг и хадзабе «изобрели» щелканье независимо друг от друга. По мнению этих ученых, ничего экстраординарного в такой фонетике нет, поскольку она усваивается детьми, и щелкающие звуки, как и многие иные особенности языков, за всю историю языка могли быть не раз утрачены и «придуманы» заново.
Однако эта теория не объясняет, почему «щелкающие» языки не распространены по всему миру. Ведь они существуют только в Африке за единственным исключением – дамина, вымершего языка австралийского племени лардил, использовавшегося мужчинами в обрядовых целях и имевшего ограниченный словарный запас. Судя по всему, щелкающие звуки не выходят за пределы популяций исконных носителей, есть лишь одно исключение: некоторые звуки позаимствованы соседями бушменов, говорящими на банту. Но лишь для особого применения: например, в хлонипе, особом почтительном языке женщин племени нгуни, щелчками заменяются согласные звуки в именах родственников мужа, произносить которые для женщины табу.
Как считает Энтони Трейл, специалист по «щелкающим» языкам из Витватерсрандского университета (ЮАР), хотя носители некойсанских языков могли иногда заимствовать или даже изобретать щелкающие звуки, «совершенно невероятно, чтобы целая система щелкающей фонетики развилась на базе нещелкающего языка»{74}. Во-первых, трудно освоить беглое произношение, если в речи много щелчков. Один раз произнести такой звук – небольшой труд, но воспроизводить их целыми сериями – другое дело. Щелкающие звуки, как и сочетания двух согласных подряд, тормозят поток речи. «Беглость артикуляции щелкающих в живой речи – это трудно с любой точки зрения. Здесь нужна усиленная артикуляционная работа – это как шагать через две ступеньки», – говорит Трейл.
Во-вторых, щелкающие звуки скорее имеют тенденцию исчезать, а не укрепляться. В процессе обычной эволюции языка разные типы щелчков заменились нещелкающими звуками, но обратные случаи неизвестны.
Как могли сохраниться при нынешней «ленивости» языковой мышцы щелкающие звуки в языке их носителей? «Большой вопрос, – говорит Трейл. – По всем признакам они не должны были устоять под натиском перемен, происходящих в языке. Я не знаю ответа».
Если щелкающие звуки в норме только исчезают, но не появляются, а притом два старейших на земле народа, бушмены и хадзабе, говорят на таких языках, тогда возможно, что эти звуки были и в том самом первом языке, на котором разговаривали прародители.
Границы Эдема
Поскольку бушмены, по данным генетики и лингвистики, относятся к самым древним популяциям человеческой расы, весьма любопытно, что ранее они жили на гораздо более обширной территории, чем сегодня. В XVII столетии они обитали по всему югу Африки. Археологи думают, что значительно раньше, в эпоху палеолита, бушмены занимали восточную половину Африканского континента, и владения их тянулись через всю Эфиопию до северных берегов Красного моря.
Эту теорию поддерживают находки генетиков: в ДНК современных жителей Эфиопии обнаружились свидетельства того, что в отдаленные времена на этой территории жили бушмены. В народах оромо и амхара у мужчин встречается Y-хромосома с первой ветви Y-хромосомного генеалогического древа. К этой ветви относятся 44 % бушменов, в остальной же Африке она встречается редко. Должно быть, оромо и амхара происходят от тех же предков, что и бушмены, а первая ветвь, таким образом, оказывается «частью протоафриканского генофонда Y-хромосомы», заключает Орнелла Семино из Павийского университета (Италия){75}. Митохондриальная ДНК амхара и оромо тоже указывает на то, что Эфиопия, или по крайней мере восток Африки, – исходная точка, из которой первые современные люди начали свой путь по планете.
Три главных события человеческой эволюции – появление языка, формирование популяции прародителей и исход из Африки, – очевидно, произошли примерно в одно время, приблизительно 50 000 лет назад. Чем ближе друг к другу они окажутся во времени, тем выше вероятность, что они произошли в одном месте, и если так, то Эфиопия на сегодня кажется самым реальным кандидатом на роль колыбели человечества, исторического аналога мифического райского сада.
Между универсальной общностью и реальными людьми
Какими были на самом деле прародители нашего человечества? Археологи именуют их термином «люди с современным типом поведения», отделяя от анатомически современных, появившихся около 200 000 лет назад. Однако этот термин относится к людям, чьи археологические памятники практически неотличимы от артефактов ныне живущих охотников и собирателей. Разные собирательские племена оставляют практически одинаковые следы.
Вряд ли поведение первых людей слишком походило на современное. Их черепа и скелеты были значительно тяжелее, чем у людей нынешних, т. е. можно предположить, что прародители были агрессивны и более приспособлены к войне и к насилию. Они нигде не селились надолго, не строили жилищ, может быть, потому, что у них еще не было социальных навыков, необходимых для оседлой жизни. Если человек современный сформировался недавно, вряд ли одновременно с ним появились и все составляющие современного поведения. Скорее уж, они добавлялись одна за другой в процессе непрерывной эволюции поведенческих моделей.
И вместе с тем прародители, даже если были склонны к агрессии больше, чем мы, уже обладали всеми главными элементами поведения современного человека, поскольку в ином случае все эти компоненты должны были появиться путем эволюции или в результате изобретения независимо в тысячах разных человеческих сообществ.
Есть два способа составить портрет наших прародителей: один – через универсального человека, другой – через человека реального.
Универсальная общность – это абстрактная модель, предложенная антропологом Дональдом Брауном как аналог универсальной грамматики Хомски. Несмотря на то что большинство антропологов всячески подчеркивают уникальность изучаемых ими сообществ, Брауну интересны многочисленные аспекты человеческого поведения, наблюдаемые в самых разных народах и группах по всему миру. Эти универсальные формы человеческого поведения простираются от приготовления еды, танцев и ворожбы до страха перед змеями. Многие из них, например мимические движения для передачи разных эмоций, похоже, имеют прочную генетическую базу. Другие, такие как язык, возможно, есть результат взаимодействия генетически задаваемых форм поведения и универсальных условий среды обитания. Но, каким бы ни было происхождение этих универсальных моделей, их бытование по всему миру позволяет уверенно предположить, что популяция прародителей знала их все, прежде чем рассеялась по Земле.
Эти повсеместно бытующие поведенческие схемы и определяют природу феномена, который Браун называет универсальным народом. У этого народа основной единицей сообщества служит семья, а сообщества определяются территорией, которая им принадлежит. В политической жизни доминируют мужчины, женщинам и детям полагается подчиняться. В некоторых сообществах иерархия строится на основе родства, пола и возраста.
Ядро семьи – мать и дети. Брак публично закрепляет права мужчины на половые сношения с женщиной детородного возраста. Общество имеет родовую структуру, в род включаются только люди, связанные близким родством, и их интересы обычно ставятся выше благополучия посторонних. Половые предписания ограничивают или запрещают браки между близкими родственниками.
Важный принцип обыденной жизни универсальной общности – это взаимность в виде прямого обмена товарами или услугами. За преступления, такие как побои, изнасилование, убийство, предусматриваются кары – от изгнания до казни.
Такой универсальный народ верит в сверхъестественное и практикует магию, например для поддержания жизни или для привлечения полового партнера. «У них есть своя теория удач и неудач. Они как-то объясняют болезни и смерть. Понимают связь между немочью и смертью. Пытаются лечить больных, имеют для этого свои средства. Они гадают, прорицая будущее. И пытаются управлять погодой», – пишет Браун{76}.
Универсальному народу не все равно, во что одеваться, у него есть мода. Как бы скудна ни была одежда, люди украшают себя и носят разные прически. В обществе есть стандарты сексуальной привлекательности. Людям свойственно петь и танцевать.
Они устраивают себе того или иного рода жилища. Постоянно мастерят орудия: резаки, песты, бечевки – связывать предметы и плести сети, а также оружие.
Прародители человечества по определению обладали большинством моделей поведения универсального народа. Возможно, у них также было много общего с принадлежащими к ветви L1 на древе митохондриальной ДНК бушменами, которые, видимо, стоят к популяции прародителей ближе других из ныне существующих народов. Насколько близко – здесь между антропологами согласия нет. Некоторые считают, что между современными охотниками-собирателями и теми, что жили тысячи лет назад, возможно лишь минимальное сходство: генетика человека неизбежно приспосабливается к среде обитания, и в такой долгий срок произошло множество изменений. Однако кочевые охотники живут последние 50 000 лет приблизительно в одних и тех же условиях. Шимпанзе, похоже, практически не изменились за миллион лет, а значит, и для человеческих популяций возможны периоды эволюционной стабильности. Конечно, быт сегодняшних охотников-собирателей не в точности таков, как у первых людей, но, скорее всего, похож в целом ряде аспектов.
Именно с целью изучения эволюции ранних людей группа антропологов из Гарвардского университета в 1960-е гг. приступила к тщательному исследованию уклада бушменов, до сих пор живущих охотой и кочевьем. Выбор объекта видится особенно удачным сегодня, когда стала известна древняя родословная этого народа. В отличие от первобытных охотников-собирателей, бушмены вытеснены из лучших областей их прежней территории, но и теперь для них не составляет большого труда обеспечить себя продовольствием. Они ведут присваивающее хозяйство, которое типично для человеческой расы с тех пор, когда на Земле жили наши прародители.
Хотя митохондриальная линия L1 означает лишь косвенное родство с людьми, вышедшими 50 000 лет назад из Африки в Азию (подветвь митохондриальной линии L3), бушмены до странности похожи на азиатские народности, и, значит, можно заключить, что те и другие унаследовали определенный набор черт от популяции предков. У многих говорящих на койсанских языках племен желтоватая кожа, эпикантус – складка века, придающая азиатам характерный разрез глаз, лопатообразные резцы (передние зубы, как бы выскобленные со стороны языка, типичные для азиатов и американских индейцев) и монгольские пятна – области голубоватой кожи внизу спины у младенцев. Люди!хонг, похоже, сами признают родство с азиатскими народами: они относят азиатов к категории настоящих людей, как и самих себя, а не к категории!ком, к которым приписывают всех небушменских африканцев и европейцев{77}.
Бушмены живут собирательством. Основа их рациона – орехи монгонго, при этом бушмены отлично разбираются в местной флоре, распознавая более 200 видов растений, многие из которых считаются у них съедобными. Согласно исследованиям известного канадского антрополога Ричарда Боршей Ли, от 60 до 70 % продовольствия бушменам!хонг дают собираемые растения, а от 30 до 40 % – мясо добытых на охоте животных. Бушмены – великие следопыты. Они определяют по следам конкретных животных и отдельных людей. Охотничьи луки у бушменов легкие, потому что они снаряжают наконечники стрел смертельным ядом. Яд добывается из куколок трех видов жука-листоеда (Diamphidia nigro-ornata), которые бушмены выкапывают под кустами, где кормятся личинки. Развитие куколки останавливается на несколько месяцев, так что охотники могут носить их с собой и по мере необходимости добавлять яд в наконечники стрел. Точно пущенная стрела убивает двухсоткилограммовую антилопу за срок от 6 часов до суток{78}. В лабораторных опытах 25 триллионных грамма токсина, добытого из куколки Diamphidia nigro-ornata, убивают мышь{79}.
Жизнь собирателей не так опасна и трудна, как может показаться. Располагая широким разнообразием ресурсов и умея их разумно использовать,!хонг при дефиците тех или иных продуктов просто переходят на другие источники снабжения. Археологические данные указывают, что в Калахари бушмены вели такую жизнь тысячелетиями.
Согласно Ли, бушмены!хонг тратят на собирание необходимого количества еды от 12 до 21 часа в неделю. С учетом другой трудовой деятельности, например изготовления орудий, их рабочая неделя составляет от 40 до 44 часов{80}.
Бушмены!хонг живут небольшими группами, которые кочуют на новое место всякий раз, как истощат пищевую базу на старом. Все имущество семьи – орудия, столовые приборы из устричных раковин, детские игрушки, музыкальные инструменты – умещается в двух мешках. Ничего не запасается, ведь все необходимое можно добыть в природе. Транспортабельность настолько важна для бушменов!хонг, что регулирует даже деторождение. Одного ребенка женщина может легко нести вместе с пожитками, но двое – это уже обуза. Поэтому женщины!хонг стараются не заводить второго ребенка, пока первый не научится ходить. До четырехлетнего возраста дети не разлучаются с матерью, и она всюду держит их при себе: и во время сбора пищи, и на кочевке. Ричард Ли подсчитал, что бушменская женщина за год проходит 2000 км, причем по меньшей мере половину этого расстояния она несет какой-нибудь груз: еду, воду, вещи. Бушменская мать носит дитя более 7000 м, прежде чем оно начнет ходить самостоятельно.
Поскольку женщина отдает воспитанию ребенка столько сил и времени, она тщательно осматривает новорожденного младенца, отыскивая признаки каких-нибудь отклонений. «Если с ребенком что-то не так, мать обязана его задушить», – пишет демограф Нэнси Хауэлл{81}. С точки зрения!хонг, подобный вид умерщвления младенца – не то же самое, что убийство, потому что жизнь начинается не в момент рождения, а когда ребенка приносят в становище, дают имя и признают Настоящим Человеком. «До этого момента лишение новорожденного жизни – ответственность и прерогатива матери, и оно предписывается культурой для детей с врожденными дефектами и для одного из двух близнецов», – пишет Хауэлл. Рожать женщины уходят из становища, мужчинам присутствовать при родах запрещено: причина этого табу, несомненно, в том, что в отсутствие отца ребенка женщине легче решить, сохранить ли новорожденному жизнь.
Землей бушмены владеют сообща. Общее почти все, начиная с мяса, добытого охотниками. Две резко порицаемых у бушменов!хонг черты характера: хвастовство и скупость. У охотников принято не только раздавать добытое мясо сородичам, но и как можно скромнее относиться к собственным успехам. Это очень важно для эгалитарного характера бушменского общества. На самом деле охотники заметно разнятся между собой по мастерству, но, поскольку никто не получает ни особой доли в добыче, ни почестей, даже самый искусный охотник не может подняться в общественной иерархии выше других.
В XIX в.!хонг жили родами, носившими названия типа Жирафы, Болтуны, Скорпионы и даже Вши. Браки внутри рода были запрещены. К тому моменту, когда их начал изучать Ли, к 1960-м гг., группы у!хонг имели менее жесткую структуру, строились на основе семьи и ближайших родственников. Но эти группы были немногочисленны, включали около трех десятков человек каждая, и казалось, что их размер ограничен самой природой бушменской социальности.
В сухой зимний сезон разные группы съезжались в одно место для обмена товарами, свадебных сговоров, пиров и ритуальных танцев. «Но эта насыщенная социальная жизнь имела и свои минусы, – пишет Ли. – Чтобы прокормить большую группу, всем нужно работать усерднее, и стычки чаще вспыхивали в больших становищах, чем в малых».
Поскольку бушменские сообщества исключительно эгалитарные, там нет авторитетов, способных судить спорщиков и поддерживать порядок. В группах есть лидеры, но совершенно неформальные, у них нет иной власти, кроме силы убеждения. Обычный способ выразить несогласие – покинуть общий лагерь вместе с семьей и приверженцами. Ли отмечает, что подолгу большими группами!хонг держатся только на стоянках соседей, скотоводов-гереро. Одна из причин этого – «верховенство закона, которое обеспечивают гереро, чтобы сохранять мир и спокойствие в большой массе неуживчивых!хонг». Иначе говоря, гереро поддерживают общественный порядок, который самим бушменам утвердить у себя непросто. Сколь бы привлекательным ни казалось всеобщее равенство в собирательских племенах, у него есть свои недостатки. И частная собственность, и частная жизнь сведены к минимуму. Без органов власти или старейшины членам племени приходится самим или с помощью родственников разбирать все споры, от которых нельзя уклониться. И без распределения ролей и иерархии сообщество не может преодолеть ограничения по размеру и по сложности устройства.
Одна из первых книг о бушменах!хонг, написанная Элизабет Маршалл Томас, называлась «Безобидный народ» (The Harmless People){82}. Однако при всей привлекательности этого народа, безобидным его не назовешь. Когда его изучал Ричард Ли, раздоры притихли, но наскальные росписи и исторические документы показывают, насколько обычна у!хонг была война{83}. Бушмены постоянно воюют с соседями, скотоводами банту, то и дело угоняя их скот и отбиваясь от преследователей отравленными стрелами. Капские бушмены 30 лет сопротивлялись нашествию буров, у которых были современное оружие и кавалерия, пока буры не возобладали в численности{84}. Что касается внутренних распрей, то уровень убийств у!хонг, как подсчитал Ли, равен 29,3 на 100 000 человек в год, что примерно в три раза больше, чем в США.
Раздоры в сообществах!хонг проходят три четко разделяющихся этапа: спор, драка, смертельная драка. На этапе спора выделяются три стадии. Обмен доводами сменяется словесной перепалкой, за которой следуют резкие личные оскорбления, отсылающие к сфере половых отправлений. Обмен оскорблениями скоро приводит к физической агрессии. В этот момент или чуть позже в ход идут ядовитые стрелы.
Раненый такой стрелой тут же надрезает рану и высасывает отравленные кровь и лимфу: шансы на выживание составляют 50:50. Озадаченный применением столь смертоносного оружия в бытовых конфликтах, Ли наивно спросил, почему бы не использовать в стычках обычные стрелы. «На это, – пишет он, – один из информантов дал красноречивый ответ: "Мы пускаем ядовитые стрелы, потому что у нас горячие сердца, и когда мы стреляем, мы по-настоящему хотим убить врага"».
Больше понять о методах разрешения конфликтов у!хонг Ли помог проведенный им опрос о способностях представителей племени к охоте. Спросив четырех охотников, сколько жирафов и антилоп добыл каждый из них, Ли «внезапно решил добавить: «А скольких человек вы убили?»
«Не моргнув глазом, первый охотник,!Чтома, выставил три пальца, объявил: "Я убил Дебе, Н!лу и Н!кейси". Я старательно записал имена и обернулся к Бо, второму охотнику: "А ты скольких убил?" "Я ранил в спину! Лкуше, но она выжила", – ответил Бо. Следующим был его младший брат Самксау: "Я ранил старого Кан!ла в ногу, но он выжил". Я обернулся к четвертому, старому Каше, добродушному старику под семьдесят и спросил: "А скольких убил ты?" "Я никого не убивал", – ответил Каше. Не сдаваясь, я продолжил расспросы: "Ну, а скольких ты ранил?" "Никого, – с сожалением ответил тот. – Я всегда промахивался"»{85}.
Портрет пращура
Удобно было бы считать, что наши прародители походили на нас во всем, не считая тех отличий, на которые мы обнаруживаем четкие указания. Но это рискованное предположение. От популяции прародителей нас отделяют около 2000 поколений. Не так уж много по меркам эволюции, но в то же время вполне достаточно для весьма заметных эволюционных трансформаций.
Не забывайте, что анатомически современные люди 100 000 лет назад поведением нисколько не походили на нас. У них не усматривается способности к изобретательству, и возможно, они не обладали даром речи. В тот 50 000-летний промежуток, что отделяет прародителей человечества от современных людей, видимо, произошли существеннейшие эволюционные перемены. Ровно такой же период разделяет прародителей и нынешнее человечество, и здесь тоже были возможны столь же коренные эволюционные сдвиги. К тому же скорость человеческой эволюции в последние 50 000 лет вполне могла вырасти, если учесть небывалые перемены в среде обитания, которые ждали наши прародителей, покинувших родину, осваивавших неведомые земли, выживавших в холодном климате и менявших кочевье на оседлость.
Недавно появились данные, подтверждающие, что в последние 50 000 лет человеческий мозг продолжает эволюционировать. Как описано в главе 5, эти данные опираются на установленный возраст двух новых версий генов, отвечающих за объем головного мозга: первой около 37 000 лет, второй 6000 лет. Если же мозг развивается непрерывно, люди, жившие 50 000 лет назад, хотя археологи и навесили на них ярлык «современные», могли уступать нынешним в плане когнитивных способностей.
Прародители человечества жили, вероятно, охотой и собирательством, и их быт, скорее всего, не особенно отличался от быта современных собирателей, например бушменов. На своей исконной земле в северо-восточной Африке прародители, несомненно, так же хорошо умели использовать местные растения и фауну, как умеют бушмены на своей. Они, должно быть, владели тщательно продуманным набором орудий для охоты, приготовления пищи и переноски грузов. Судя по маршруту, которым прошли покинувшие Африку эмигранты, прародители, видимо, умели строить лодки и рыбачить.
Однако технологии у них по сравнению с теми, которыми пользуются бушмены, были примитивными. Бушменские легкие луки и отравленные стрелы – показатель серьезной компетенции в механике и в биологии. Луки известны археологии 20 000 лет. Лук так и не появился в Австралии, и значит, прародителям современного человечества он известен не был.
Без метательного оружия охотники в ранних человеческих сообществах были куда менее успешными добытчиками. Взять крупного зверя нелегко, так что мужчины, предположительно, ограничивались такой добычей, которую могли догнать и поразить копьями. «Пока не научились успешно охотиться, мужчины, вероятно, больше специализировались на поисках меда и плодов, так что их добыча была не обязательно скудной, скорее, разнообразной», – пишет антрополог Фрэнк Мэрлоу. Но у женщин, собиравших растения и особыми палками выкапывавших клубни, работа была почти такой же, как и в сегодняшних собирательских племенах{86}.
Что до внешности, то у прародителей определенно была темная кожа, защищавшая от африканского солнца. Их кости были крепче, а сложение плотнее, чем у современного человека. Они стригли и украшали волосы. Датировка эволюции платяной вши, живущей только в одежде, позволяет заключить, что прародители, должно быть, носили сшитую одежду, прилегавшую к телу достаточно плотно, чтобы вши могли кормиться.
Казалось бы, стоит предположить, что прародители человечества были похожи на бушменов с их желтоватой кожей и азиатским набором черт, или, например, на австралийских аборигенов с кудрявыми волосами и черной кожей. Но две эти этнические группы 50 000 лет эволюционировали независимо друг от друга, и вряд ли их внешний вид сохранился все это время неизменным. Прародители могли быть похожими на оба этих народа, но при этом иметь и собственные характерные черты, которые мы сегодня не в состоянии реконструировать.
Прародители человечества обладали членораздельной речью, в которой вполне могли быть щелкающие звуки, до сих пор употребляемые койсаноговорящими наследниками.
Будучи охотниками и собирателями прародители, вероятно, жили небольшими эгалитарными сообществами, без вождей, без рангов и без собственности. Эти сообщества постоянно враждовали друг с другом, обороняли свою территорию и делали набеги на соседей. Когда сообщество дорастало до определенного размера, около 150 человек, в нем учащались внутренние конфликты, и в отсутствие вождей или судебной системы оно просто распадалось на части, делясь по границам кланов.
И вместе с тем в этих малочисленных и разрываемых склоками группах уже сформировались эмбрионы основных институтов сегодняшнего человеческого общества. Там была своя форма религии – эта практика, судя по всему, ровесница языку и эволюционировала совместно с ним. Религия могла служить дополнительным механизмом сплочения, независимым от родственных связей и помогавшим коллективно порицать тунеядцев и преступников или мобилизовать силы на войне.
Общественные отношения и товарообмен регулировались понятиями справедливости и взаимности. Много позже концепция взаимности распространится и на людей, не связанных кровно, позволив оказывать почет чужакам и очертив контуры нового общества, перешагнувшего границы племени, где все так или иначе родственники.
Весь образ жизни прародителей формировала вражда. Откочевав на новые земли, племя могло получить передышку от войны. Однако уйти далеко от родных мест было непростым предприятием. Собиратели приспособлены к выживанию в знакомой среде, где им ведомы все секреты растений и животных. Лишь небольшой группе прародителей удалось преодолеть все опасности и трудности и навсегда покинуть африканскую колыбель. В награду за неслыханную дерзость им достался весь мир.
5. Исход
Предположим, что члены племени, в котором существует известная форма брака, расселяются на незанятом еще материке. Они вскоре разделятся на особые группы, отделенные друг от друга различными естественными преградами и непрерывными войнами, которые столь обыкновенны между дикарями. Отдельные группы будут, таким образом, подвержены влиянию несколько различных жизненных условий и обычаев и рано или поздно почти перестанут отличаться друг от друга. Как только это произойдет, каждое племя составит себе несколько различное представление о красоте, затем бессознательный отбор начнет свое действие вследствие того, что наиболее могущественные и сильные мужчины будут предпочитать одних женщин другим. Таким образом, различия между племенами, сначала очень слабые, будут постепенно и неминуемо усиливаться все более и более.
Чарльз Дарвин. Происхождение человека и половой отборИз Африки есть две дороги. Одна – вдоль северного побережья Красного моря через Синайскую пустыню в Левант, на восточное побережье Средиземного моря. Другая – через южные ворота Красного моря, Баб-эль-Мандебский пролив, или Ворота слез.
Пралюдям, чей дом располагался в Восточной Африке, преодолеть обширную пустыню на севере было бы не так легко. А вот Ворота слез лежали практически у порога.
Сегодня ширина Баб-эль-Мандебского пролива чуть меньше 20 км. Но 50 000 лет назад плейстоценовые ледники удерживали заметную долю Мирового океана, и Врата слез были значительно уже. Уровень океана с тех пор поднялся на 70 м{87}. Сплошного перешейка на месте пролива не было, но в отлив обнажалась группа островов, по которым, будто по камням через ручей, открывался путь на Аравийский полуостров.
«От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря», – в таких словах Моисей вознес хвалу божественному ветру, что разделил воды Красного моря как раз вовремя, чтобы евреи успели бежать из Египта и от гнавшихся за ними по пятам колесниц фараона{88}. Жаль, что эпическую, пусть и менее чудесную переправу первых современных людей за пределы Африки реконструировать в таких подробностях мы не сможем. Но все же некоторые важные детали этого доисторического исхода видятся довольно отчетливо.
Во-первых, как показывают генетические исследования, скорее всего, была только одна миграция современных людей за пределы Африки. Во-вторых, ученые установили, что покинувшая Африку партия, скорее всего, была совсем не многочисленна. Возможно, не более полутораста человек. Тут приходится задаться вопросом: если одной группе людей удалось покинуть Африку, почему никто не последовал ее примеру.
После некоторых споров генетики, кажется, сошлись на том, что древа, построенные по данным Y-хромосомы и митохондриальной ДНК, равно указывают, что исход из Африки случился лишь единожды. «Изучение митохондриальной ДНК и разновидностей Y-хромосомы приводит к выводу о едином восточноафриканском источнике миграции из Африки, – заключают ученые. – Если же волн было несколько, они все вышли из одного и того же сообщества»{89}.
Люди покинули Африку в те дни, когда северные области Европы и Азии покрывали ледники, а уровень океана был примерно на 70 м ниже нынешнего. Они, вероятно, пересекли Красное море в его южной оконечности и достигли Индии. Поколение за поколением люди расселялись вдоль побережья Южной Азии и примерно 40 000 лет назад достигли Сахула, континента, впоследствии частично ушедшего под воду (от него сегодня остались Австралия, Новая Гвинея и Тасмания).
Восточный маршрут, избранный первыми современными людьми, покинувшими Африку, отражает их тяготение к тропическому климату, в котором они привыкли жить, или то, что земли в глубине материка были заняты популяциями Homo Erectus, либо и то и другое.
Источник: 5W Infographic.Таким образом, вполне вероятно, что первые современные люди покинули Африку одной партией, пересекли южную оконечность Красного моря и медленно, поколение за поколением, расселялись вдоль побережья Аравии и Ирана, достигнув в итоге Индии. Поскольку в плейстоценовом ледниковом периоде уровень океана был ниже, археологические свидетельства этого продвижения вдоль моря сегодня надо искать под водой.
Однако эту версию пока принимают не все. Некоторые специалисты выдвигают альтернативную теорию: о том, что путь первых людей из Африки в Индию пролег по северному маршруту, в обход Красного моря, через Левант и Иран.
Есть и третья версия: было по меньшей мере две миграции – одна северная, в Левант, вторая южная, в Индию. Этой теории придерживаются археологи, не доверяющие выводам генетиков. Если же генетики правы и миграция была одна, придется делать выбор между северной дорогой над Красным морем и южной, через его «нижние» ворота, а имеющиеся сегодня свидетельства, во всяком случае с точки зрения генетики, указывают на южный вариант.
На картах генетиков, выстраивающих перемещения первых современных людей по планете, четкие линии тянутся из Восточной Африки в Индию, Австралию и Японию, и трудно отделаться от ощущения, что доисторические эмигранты целенаправленно двигались в эти отдаленные земли. Но, разумеется, это не так: у них не было ни карт, ни представления о том, чем окончится путешествие. По сути дела, не было и путешествия.
Для первобытных собирателей перемещения на небольшие расстояния, видимо, были обычным делом, но дальний переход с детьми – тяжелое испытание. Скорее всего, покинувшие Африку пионеры не собирались путешествовать в неведомое, подвергая свои семьи тяготам и опасностям, а вели себя, как и свойственно охотникам и собирателям: меняли стоянки после короткого путешествия. Через несколько лет родились новые дети, группа выросла в числе и разделилась, чтобы избежать раздоров, обычно возникающих в крупных собирательских сообществах.
После такого раздела часть людей оставалась на старом месте, а часть откочевывала на новые земли. Собирателям для пропитания нужна обширная территория, и потому за столетие – за пять поколений – популяция охотников-собирателей могла продвинуться на значительное расстояние, особенно если ее члены овладели искусством прибрежного рыболовства и старались не удаляться от водоемов. Другими словами, те дальние миграции совершались не одной группой людей, проходившей огромное расстояние, а были медленным расширением зоны обитания, и каждый новый этап путешествия проходило новое поколение.
Выход из Африки на Аравийский полуостров через Ворота слез, вероятно, не обошелся без применения лодок. Хотя археологи не нашли ни одного судна или плота, относящегося к тому периоду, люди, обитавшие на африканских стоянках позднего каменного века, который начинается без малого 50 000 лет назад, определенно занимались рыболовством, так что технология изготовления лодок, вероятно, была им известна. Если первые мигранты покинули Африку на лодках, их потомки могли и дальше двигаться по воде вдоль побережья до самой Индии.
Держаться береговой линии, помимо прочего, было безопаснее, чем удаляться вглубь материка. Большая часть Южной Аравии – это суровая пустыня, которая для собирателей могла оказаться непреодолимым препятствием. Однако время от времени (по геологическим часам) и там случались дождливые сезоны. Даже в плейстоценовый ледниковый период, из оков которого мир освободился лишь 10 000 лет назад, случались промежутки относительного потепления. Пик одного из них случился 50 000 лет назад. Во время этого потепления в Южной Аравии климат стал влажнее и вполне подходил для жизни охотников-собирателей{90}.
Однако эти периоды благоприятного климата могли привлечь обитавших на севере неандертальцев. Безусловно, неандертальцы мешали ранним попыткам африканских перволюдей выйти в Аравию и воспрепятствовали их проникновению в Левант. Но 50 000 лет назад неандертальцам пришлось столкнуться с новым врагом. Первобытные люди, уже обладавшие языком, были лучше организованы и пользовались более совершенным оружием. Уступающие неандертальцам в физической мощи, современные люди наконец-то получили преимущество перед свирепым древним противником.
И все же, пустившись в путь с семьями, первобытные эмигранты, вероятнее всего, предпочли бы не сталкиваться с неандертальцами. Потому они не пошли вглубь материка, а двинулись по побережью Южной Аравии, а лодки служили им одновременно и для рыбалки, и как транспорт.
Так почему же из Африки мигрировала только одна партия людей? Могло ли это объясняться тем, что единственный путь миграции – Баб-эль-Мандебский пролив – первые люди, пересекшие его и осевшие по ту сторону, перекрыли, не позволив идущим следом вторгнуться на их территорию? Скорее, впрочем, дело в том, что шансы на выживание были невелики, и лишь одной группе мигрантов повезло преодолеть все тяжкие испытания, выпавшие по дороге.
Переход в Индию
Как можно проследить путь тех первых мигрантов на заре времен? Первобытные люди, выйдя за пределы Африки, оседали там, куда пришли, кроме тех, кто оказывался во главе катящейся волны. Таким образом, мир заселялся довольно упорядоченно. Тысячелетиями люди жили и умирали там же, где рождались. Популяции не смешивались, заключались патрилокальные браки, свойственные обществу охотников и собирателей.
Такой вывод диктует генеалогия Y-хромосомы и митохондриальной ДНК. Мужчины с каждой ветви древа Y-хромосомы, как правило, происходят из одного географического региона. То же самое верно в отношении древа митохондриальной ДНК. Некоторые ветви этих двух древ ограничиваются одним континентом. Другие простираются через несколько, но в определенном смысле и это доказывает упорядоченное расселение человечества. Если бы население планеты было сильно перемешано, представители каждой ветви обнаруживались бы повсюду.
Даже сегодня для большинства живущих генеалогия по Y-хромосоме или митохондриальной ДНК точно указывает на континент происхождения. Африканцы к югу от Сахары принадлежат к митохондриальным линиям L1, L2 и L3. Весь остальной мир принадлежит к двум дочерним ветвям линии L3, именуемым M и N.
Для реконструкции исхода из Африки особенно интересна линия M. Ученый из Павийского университета Сильвана Сантакьяра-Бенеречетти обнаружила, что линия М довольно распространена у людей на юге Аравийского полуострова, но не встречается в Леванте{91}. Это любопытное свидетельство в пользу того, что путь из Африки лежал через Южную Аравию в Индию. Однако оно не окончательное, потому что в период между 659 и 1900 гг. нашей эры у арабов процветала интенсивная работорговля, и многие африканские невольники были вывезены на Аравийский полуостров. Линию М могли принести сюда именно рабыни, ассимилированные местным арабским населением{92}.
Поскольку мужчины и женщины расселялись по планете вместе, то картина, которую дает генеалогия по Y-хромосоме, должна совпадать с данными генеалогии по митохондриальной ДНК. В целом обе картины совпадают довольно точно, но расходятся в деталях. Мутации, формирующие линию Y-хромосомы, открыты недавно и пока еще не изучены до конца. Митохондриальная ДНК мутирует быстрее Y-хромосомы, и датировка развилок на ее генеалогическом древе в целом старше, чем на древе Y. Чтобы точно и правильно соотнести данные этих древ, предстоит еще большая работа.
Эти два древа не только помогают проследить миграцию первых современных людей по земному шару, но и показывают, что лишь ничтожная группа африканцев оказалась за пределами континента, – этот вывод также косвенно свидетельствует в пользу однократной миграции. По женской стороне линии L1 и L2 на древе митохондриальной ДНК оставались запертыми в Африке, по меньшей мере до нового времени; только дочери L3 – M и N – вышли во внешний мир. Со стороны Y-хромосомы никогда не покидали Африку сыновья A и B с древа Y. За пределами континента обнаруживаются только носители так называемой мутации M168. Предположительно мужчины линии M168 сопровождали M– и N-женщин в миграции из Африки в Индию.
Эмиграция современного человека из Африки была не только поворотным моментом человеческой истории, но и важным демографическим событием. Те немногие, что перешли Красное море, несли лишь малый фрагмент генетического разнообразия, которое было характерно для первобытного человечества. Под генетическим разнообразием понимается число альтернативных версий одного и того же гена – аллелей, как называют их генетики, – наблюдаемых в популяции; каждая особь может нести до двух аллелей, унаследованных по одной от каждого из родителей. Так, область ДНК, ответственная за ген инсулина, у африканцев встречается в 22 разных вариантах, а вот за пределами Африки – только в трех{93}. Небольшой размер покинувшей Африку партии должен был увеличить вероятность того, что эволюционная траектория этих людей будет отлична от эволюции оставшихся в Африке, поскольку малый размер группы создает условия для возникновения важного типа эволюционных изменений, иначе говоря, для дрейфа генов.
Главным инструментом эволюции считают естественный отбор, но генетический дрейф также действенный фактор, и он сказывается тем быстрее, чем меньше популяция. Суть дрейфа генов в том, что половина родительских генов, передаваемая ребенку, и половина, откидываемая прочь, тасуются абсолютно случайным образом[7]. Только случай определяет, какие версии генов со сменой поколений умножаются в популяции, а какие сходят на нет. В конце концов одна из версий может стать в популяции всеобщей, а все другие варианты исчезнут. Так было с Y-хромосомой и митохондриальной ДНК. В общем эволюционном механизме дрейф дополняет мутацию. Мутация постоянно привносит в геном новшества, но в каждом поколении часть новаций вымывается дрейфом. Так работает естественный отбор – биологические виды приспосабливаются к меняющимся условиям жизни.
Дрейф – процесс стихийный, и потому всеобщими в популяции могут становиться как полезные, так и вредные версии гена. В большинстве случаев, впрочем, это нейтральные, как называют их генетики, вариации, никак не влияющие на выживание особи. Чем меньше популяция, тем скорее одна из вариаций гена вытесняет все остальные. Таким образом, дрейф был особенно силен в небольшой группе первых людей, покинувших Африку, и у их дальних потомков, разбредшихся по планете. Человеческая популяция как целое, вероятно, многие тысячелетия существовала в виде изолированных немногочисленных сообществ, потому что расстояния и вражда к чужакам не допускали сколько-нибудь заметного смешения племен.
Вышедшие из Африки несли лишь фрагмент широкого генетического разнообразия тогдашнего человечества, и размер этого фрагмента позволяет приблизительно оценить численность партии эмигрантов. Генетик Сара Тишкофф из Университета Мэриленда подсчитала, что современных людей, покинувших Африку, могло быть всего 160{94}. Другой расчет сделали генетики, изучающие митохондриальную ДНК: африканская популяция, от которой произошли все люди за пределами Африки, насчитывала максимум 550 женщин детородного возраста или, скорее всего, гораздо меньше{95}.
При всей кажущейся точности эти цифры весьма приблизительны, и погрешность оценки может быть значительной. Главный вывод, который можно отсюда извлечь: популяция прародителей, из которой вышли первые эмигранты-колонизаторы, была совсем немногочисленной: скорее всего, просто родовая группа охотников-собирателей. Численность ее при условии, что тогдашние группы были похожи на существующие сегодня, могла составлять около 150 человек. И вот эта партия, видимо, и отправилась за Красное море.
Заселение исчезнувших материков Сунды и Сахула
Каким бы путем люди ни вышли из Африки, их первой крупной остановкой была, судя по всему, Индия, потому что именно там обнаруживаются первые после выхода из Африки разветвления и на митохондриальном древе, и на древе Y-хромосомы.
Среди жителей Индии и сегодня часто встречаются представители вышедших из Африки линий M и N митохондриальной ДНК. Линия М широко распространена, и ее мутации в Индии старше, чем те, что обнаруживаются в ней дальше на восток: косвенное указание на то, что индийский субконтинент был заселен вскоре после исхода из Африки. Что касается Y-хромосомы, то несколько отростков ранних мужских ветвей встречаются только в Индии, и эта картина также согласуется с южным сценарием первой трансафриканской миграции: если бы миграция прошла северным маршрутом, эти отростки встречались бы не только в Индии, но и в Леванте{96}.
В Индии пути группы первоэмигрантов исторически разошлись. Часть прародителей и дальше держалась берегов, расселяясь вдоль южного края Азии и в итоге добравшись до Австралии, Китая и Японии. Часть отправилась вглубь материка, на северо-запад, через земли, ныне известные нам как Иран и Турция: этой группе предстояло долгое противоборство с неандертальцами за обладание Европой. Оба путешествия испытывали человека на прочность, требуя изобретательности, умения выживать во враждебной среде и преодолевать жестокие трудности. Сначала рассмотрим австралийскую миграцию, а затем проникновение в Европу.
Популяция, расселявшаяся вдоль побережья, двигалась на восток вокруг Индии и Индокитая и в итоге достигла двух ныне исчезнувших материков – Сунды и Сахула. 50 000 лет назад уровень моря был существенно ниже, чем в наши дни, так что Малайский полуостров и острова Суматра, Ява и Борнео были одной большой сушей, известной как Сунда, или Сундаленд, отходившей на юг от Азиатского континента. Австралия в те времена сливалась с Папуа – Новой Гвинеей на севере и с Тасманией на юге, и эти три острова вместе образовали материк под названием Сахул, лежавший строго к югу от Сунды.
Если не считать речных устьев, людям, селившимся по побережью, не приходилось пересекать обширные водные пространства, пока они не вышли к проливу, разделявшему Сунду и Сахул. При ширине около 100 км он представлял собой серьезную преграду. Присутствие земли на юге наблюдателям с Сундского берега могли выдать лесные пожары на Сахуле или миграции птиц. Так или иначе, современные люди достигли и Сахула, и это не оставляет сомнений в том, что они обладали навыками мореходства, необходимыми для исхода из Африки через Ворота слез.
Появление первых современных людей в Австралии – важное событие не только потому, что они совершили великое путешествие из далекого дома в Восточной Африке, но и потому, что благодаря этому событию появилась одна из первых возможностей соотнести генетическую историю с данными археологии. Известные археологам погребения позволяют датировать колонизацию Австралии 50 000 лет назад. Такая давность уже не проверяется радиоуглеродным методом, так что приходится использовать другой, так называемый термолюминесцентный. Термолюминесцентное датирование не всегда надежно, но в нашем случае его подтверждают другие свидетельства: 46 000 лет назад в Австралии внезапно вымерли все крупные, тяжелее 100 кг млекопитающие, птицы и рептилии{97}. Причиной наверняка были действия нового неутомимого хищника – человека-охотника. Такая же судьба постигла немного позже и крупных животных Америки, когда первые люди достигли Нового Света.
Довольно удивительно, что самые ранние стоянки современного человека за пределами Африки обнаружены именно в Австралии. Вероятное объяснение – мигрировать вдоль побережья легче, чем продвигаться вглубь суши. Море было надежным источником пищи и удобной дорогой, кроме пролива между Сундой и Сахулом. И поскольку в те дни уровень океана был значительно ниже, многочисленные прибрежные стоянки человека теперь оказались на дне, и таким образом свидетельства о промежуточных этапах путешествия еще предстоит отыскать.
Многие генетики считают, что современные люди вышли из Африки много раньше чем 50 000 лет назад. Недавняя датировка на основе подсчета мутаций в древе человеческой митохондриальной ДНК показывает, что исход случился 65 000 лет назад{98}. Однако генетические данные, хотя неизменно интересные, основываются на допущениях, не всегда верных, даты же, устанавливаемые археологами, гораздо надежнее. Сегодня самые ранние известные археологии следы современного человека за пределами Африки датируются периодом 46 000 лет назад – таков возраст погребений у озера Мунго в юго-восточной Австралии и современных ему находок в Леванте. Археологов не особенно убеждают аргументы о том, что более ранние стоянки человека, располагавшиеся на морском берегу, ныне лежат на дне, потому что люди определенно откочевали бы вглубь материка, вместо того чтобы ждать, пока их поглотит медленно прибывающее море.
Разумеется, блокировать на морском берегу мигрировавших из Африки современных людей могли архантропы, расселившиеся по Евразии многими тысячелетиями ранее. На Аравийском полуострове время от времени появлялись неандертальцы, а Дальний Восток занимал Homo erectus. Возможно, архаичные люди поначалу не позволили современным пройти вглубь Евразийского материка, вынудив их жаться к его краю, зато сами они так и не добрались до Сахула. Может быть, этим и объясняется то странное обстоятельство, что старейшие из известных науке останков современного человека нашлись на самом дальнем отрезке его миграции, в Австралии.
Тому, что именно в Австралии наука обнаружила первый «привал» человечества, есть и другое объяснение – климат. Наши африканские прародители не были приспособлены к холодному климату. Далее в главе 6 речь идет о том, что людям, видимо, пришлось сначала эволюционно адаптироваться, чтобы заселить холодные области Евразии. Не исключено, что именно климат заставлял первых мигрантов концентрироваться на побережье и стремиться в теплые земли вроде Сунды и Сахула.
Как бы там ни было, наверное, правы археологи, не видящие оснований предполагать, что исход современных людей из Африки мог состояться ранее 50 000 лет назад – даты, которая согласуется и с поведенческими изменениями, о которых сообщают археологические находки в самой Африке, и с другой датой – 46 000 лет назад, – начиная с которой можно точно говорить о присутствии современного человека в Австралии.
Но если археологи верно называют дату исхода, то генетики, очевидно, не ошиблись с числом миграций: она была только одна.
Сахул находится в стороне от миграционной трассы прародителей, и его не затронули последующие передвижения и смешения народов, и поэтому аборигены Австралии, возможно, носят в своих генах удивительный портрет первых эмигрантов из Африки. Однако разница в массивности первых австралийских скелетов и появление людей с полуодомашненной собакой (динго) указывают на то, что после прибытия современных людей было еще несколько волн миграции в Австралию. Нынешние политические ограничения на отбор образцов ДНК у аборигенов не позволяют получить ясную картину последовательности этих волн, которую могли бы воссоздать генетики.
До появления европейцев австралийские аборигены делились на шесть сотен разных племен численностью от 500 до 1000 человек, говоривших на разных диалектах и имевших свои территории обитания. Судя по всему, браки заключались только внутри племен, между ними гены почти не перемешивались, и вследствие древности популяции в каждом племени сформировался неповторимый генофонд с особенными разновидностями генов, не встречающимися больше нигде в мире. Анализ митохондриальной ДНК племени валибри, живущего на северо-востоке континента, показал присутствие нескольких генеалогических линий, не встречающихся ни в одном другом племени, а это означает, что племена сильно различаются по генетике{99}.
По сравнению с многообразием митохондриальных типов вариантов Y-хромосомы, напротив, совсем немного: половина всех туземных мужчин имеет одну Y-хромосому. Это могло быть результатом ситуации, известной у генетиков под названием «эффект основателя»: снижения генетического разнообразия в популяции, основанной малым числом особей{100}. Могли сработать и другие факторы. Например, полигамия (когда часть мужчин имеет по несколько жен, а часть – не имеет вовсе) значительно снижает разнообразие в Y-хромосомах. Так же как и постоянные вооруженные конфликты, бремя которых падает на мужчин.
Австралийские племена, судя по всему, жили в состоянии непрекращающейся войны, не пуская чужаков на свои территории, а торговлю вели на нейтральных землях. Набор орудий аборигенов, необременительный в дальних переходах, включал в себя оружие типа тяжелых палиц, бумерангов с крюком и копий{101}. Аборигены хорошо умели выживать в суровых условиях, но так и не освоили земледелия. Их уникальная генетика отражает древность популяции и дрейф генов, усиленный в условиях раздробленности на мелкие враждующие сообщества.
Похожую картину дает генетический анализ других ранних обитателей Сахула – народов Новой Гвинеи. Примерно до 8000 лет назад Австралия и Новая Гвинея представляли собой единый материк, так что население обоих островов могло произойти от одной миграционной волны. Научная группа Марка Стоункинга изучала Y-хромосому и митохондриальную ДНК многих новогвинейских племен и обнаружила поразительное однообразие в Y-хромосоме, особенно у высокогорных племен дани, яли, уна и кетенгбан{102}. Как и у австралийских аборигенов, такое однообразие может означать либо широкое распространение полигамии, когда лишь несколько мужчин производят все потомство в племени, либо высокий уровень насильственных смертей.
В Новой Гвинее, вероятнее всего, действовали оба фактора. Все папуасские популяции в этом регионе практикуют патрилокальный брак, т. е. мужчины всегда остаются со своим родом, а жены переходят в род мужа. Большинство, если не все новогвинейские племена, придерживались полигамии, по крайней мере до появления первых миссионеров. Например, у дани 29 % мужчин имели больше одной жены, притом число жен варьировалось от двух до девяти, а 38 % мужчин не имели ни одной.
Война была обычным делом в большей части папуасских обществ до второй половины XX в., отмечает группа Стоункинга, и смертность на войне была высока: по данным антрополога Карла Хайдера, приблизительно 29 % мужчин дани погибали в сражениях. Практически таков же уровень военных потерь мужских особей у шимпанзе и у южноафриканских яномамо, причем мотив у тех и других, предположительно, одинаков: репродуктивное преимущество, которое успешный воин получает для себя и для своего клана.
Стычки охотников и собирателей кажутся не такими уж кровопролитными в сравнении с мясорубкой современной войны. Начатый бой можно было остановить, как останавливают футбольный матч из-за, например, дождя или серьезной травмы кого-то из игроков. Хайдер, как и многие антропологи, поначалу считал, что война для дани не такая уж трагическая ситуация. После первого полевого исследования в Новой Гвинее в 1961 г. он написал книгу, в которой подчеркивал миролюбивость племени. Однако после многочисленных новых поездок и тщательной реконструкции родословных с выяснением причин смертей Хайдер увидел, как много мужчин на самом деле гибнет в сражениях. Если сражаться приходится еженедельно, даже при небольшом числе потерь убыль со временем будет гигантской.
Как и бушмены, дани бьются насмерть. Они не научились отравлять наконечники стрел ядом жука-листогрыза, но вместо яда используют экскременты, чтобы в рану попадала инфекция. Подобно многим другим человеческим племенам и шимпанзе из Касакелы («Гомбе»), дани знают, что истребление лишь некоторой части врагов дает выжившим повод для мести и потому более эффективно изводить врагов без остатка.
«На плоскогорье около 30 % автономных групп исчезают каждое столетие после военных поражений, – пишет о межплеменной вражде в Новой Гвинее археолог Стивен Леблан. – Племена вырезаются целиком или гибнут в сражении, уцелевшие после больших кровопролитий спасаются у союзников или дальних родственников. Последнее из незатронутых цивилизацией мест оказалось не мирным пастбищем, а полем незатихающей битвы»{103}.
Фенотип коренного австралийца называется австралоид, этот термин подразумевает темную кожу, волнистые или кудрявые волосы, вытянутое телосложение и крупные зубы. Новогвинейцы относятся к австралоидам, но имеют некоторые небольшие отличия: например, мелкокурчавые волосы. То, что народы Сахула выглядят похоже на центрально– и западноафриканцев, вероятно, не просто совпадение. Вследствие своей относительной изоляции австралоидные племена могли сохранить наиболее полное среди всех народов сходство с первыми африканскими мигрантами. Но точно сохранить облик первых современных людей, покинувших Африку, они тоже не могли бы, потому что к их популяции примешались поздние иммигранты, например полинезийцы, да и сами австралоиды сильно изменились под действием дрейфа генов.
Загадка андаманцев
Австралийские аборигены – не единственная остаточная популяция первой трансафриканской миграции. На всем протяжении маршрута, до самой Африки, на дальних островах или в уединенных местах, где было удобно отражать последующих пришельцев, сохранились необычные народы, чья генетика указывает на их происхождение от тех первых мигрантов. Все они живут родоплеменным строем, обитают по большей части в лесах и научились сопротивляться ассимиляции и смешанным бракам. Это примитивные народности Индии, например австралоидные ченчуи койя в штате Андхра-Прадеш, а также негритосы – народ, обитающий на Андаманских островах, в Малайзии и на Филиппинах. Многие из этих народов имеют темную кожу, словно в напоминание об их африканском происхождении.
Один из самых загадочных среди этих реликтовых народов – туземцы Андаманских островов. Андаманские острова лежат в Бенгальском заливе, примерно в 200 км от побережья Бирмы, но при том уровне моря, который был 50 000 лет назад, расстояние до материка было всего около 60 км. Поскольку первые выходцы из Африки хорошо владели искусством мореплавания – а иначе они не добрались бы до Сахула, – то и Андаманские острова были в пределах их досягаемости.
В новое время моряки долго избегали этих островов, чьи обитатели слыли свирепыми людоедами. Согласно британскому источнику 1858 г., на архипелаге насчитывалось 13 разных племен, каждое со своим языком и территорией, некоторые из них находились друг с другом в состоянии непрекращающейся войны. Многие из северных племен, известных как большие андаманцы, сильно поредели после проникновения на их территорию обитания европейских болезней, а за 50 лет британской колонизации практически вымерли. На сегодня уцелели лишь три андаманских племени, все с южных островов: онге, ярава и сентинельцы.
Происхождение андаманцев долго оставалось загадкой. Их фенотип: низкорослость, темная кожа, мелкокурчавые волосы и торчащие ягодицы – так называемая стеатопигия – характерен для африканских пигмеев. «Они выглядят, будто африканцы, но их дом здесь, на этой цепи островов посреди Индийского океана, – говорит Питер Андерхилл, специалист по генеалогии Y-хромосомы. – Люди 200 лет ломали головы, не понимая, что это за народ и откуда он взялся»{104}.
Чтобы разобраться, две группы ученых недавно исследовали ДНК андаманцев. Эрика Хагельберг из Университета Осло изучала образцы крови народов онге и ярава; она же извлекла митохондриальную ДНК из волос, собранных этнографом Альфредом Рэдклифф-Брауном у больших андаманцев в 1906–1908 гг.{105}. Вторая группа, возглавляемая Аланом Купером из Оксфордского университета, получила митохондриальную ДНК из андаманских черепов, хранящихся в лондонском Музее естествознания: старую ДНК извлекли из зубной пульпы{106}.
Обе группы установили, что андаманцы принадлежат к митохондриальной линии M2, и сделали вывод, что этот народ участвовал в ранней миграции человечества из Африки в Южную Азию. Y-хромосома онге и ярава подтверждает, что андаманцы – древний азиатский народ.
Таким образом, выходит, что физическое сходство андаманцев с пигмеями – это так называемая конвергентная эволюция, т. е. независимое формирование одних и тех же признаков. Предположительно, при жизни в лесу появление определенных признаков, таких как малый рост и стеатопигия, дает преимущество. Так, пигмеи байака в Центральноафриканской Республике и конголезские пигмеи мбути принадлежат к разным митохондриальным линиям и, скорее всего, пришли к карликовости независимо друг от друга и от андаманцев.
Андаманцы и другие австралоидные народы с темной кожей и иными африканскими чертами, возможно, мало отличаются от первых обитателей Дальнего Востока и Европы, какими те были до прихода 40 000 лет спустя земледельческих народов неолита.
Другое указание на почтенный возраст андаманских племен дает язык. Андаманские языки, как и древние щелкающие языки!хонг и хадза, изолированные, т. е. не имеют сходства ни между собой, ни с какими-либо другими языками. Есть легенда, будто лингвист Эдвард Сепир говорил студентам, что все языки мира делятся на две группы: андаманские и все остальные. Непохожесть – это тоже знак великой древности{107}.
Джозеф Гринберг в своей типологии языков поместил все андаманские языки в одну макросемью, которую назвал индо-тихоокеанской. К ней, помимо андаманских, он отнес тасманийские и древнепапуасские языки, бытовавшие в Новой Гвинее. Как и некоторые другие предложенные Гринбергом гипотезы, индо-тихоокеанскую семью языков признают далеко не все лингвисты. Но сегодня мы видим, что в эту группу собраны языки, имеющие удивительную общую черту: на них говорят народы, живущие в уединенных местах и, по всей вероятности, наследующие прямо мигрантам первой волны, прошедшим из Африки до затонувшего материка Сахула.
Проникновение на Дальний Восток и в Индонезию
Пути первых колонизаторов Азии лежали не только в Австралию. Часть пионеров переправилась через пролив в Сахул, а часть, судя по всему, продолжила двигаться на восток вдоль южного края Сунды. Эти мигранты прошли краем моря на север по восточному берегу Китая, оставив позади цепь поселений, и достигли Японии и Камчатки.
Затем, обнаружив, что побережье обитаемо и на юге, и на севере, они в итоге должны были двинуться вглубь материка. Согласно реконструкции генетика Стивена Оппенгеймера, во внутренние области Индии, Индокитая, Китая и Центральной Азии переселенцы поднимались вдоль течения рек. «География и климат подсказывали новым обитателям Азии, что делать дальше, – пишет он. – Правила, скорее всего, были просты: селись у воды и там, где проливается достаточно дождя, на переходах избегай пустынь и высоких гор, держись рек и следуй за зверем, которого можно добыть»{108}.
Проникновение вглубь Евразийского материка неизбежно обернулось для современного человека прямым столкновением с архаичными людьми, давно обитавшими там: с неандертальцем на западе, несомненно, и с Homo erectus на востоке. Не исключено, что вторжение на материк откладывалось много поколений, пока изобретательные современные люди не разработали оружие и тактики для противостояния архантропам, а возможно, пока у них не выработались механизмы адаптации к холодному климату. Взаимодействие между разными биологическими видами людей – интереснейшая страница истории, но на сегодня у нас нет практически никаких данных об этом, кроме того непреложного факта, что один из видов выжил, а все остальные вымерли.
Что касается востока, пока неизвестно, какую территорию занимал Homo erectus и связано ли его исчезновение с распространением современных людей. Однако, судя по недавним довольно неожиданным находкам, два человеческих вида все-таки пересекались в самых разных аспектах. Первое свидетельство доставил непосредственный спутник человеческой эволюции: платяная вошь.
Специалист по вшам из Музея естествознания Флориды Дэвид Рид обнаружил, что на людях паразитируют два разных типа платяной вши, морфологически одинаковых, но с разной генетической историей. Рид сделал свое открытие, составляя генеалогию митохондриальной ДНК для платяной вши, как другие генетики составляют ее для человека. Но у человека все линии митохондриальной ДНК – это ветви одного древа, а вот у платяной вши они образуют два разных куста. Один из них соответствует древу человеческой митохондриальной ДНК и по датировке, и по географии, как и следовало бы ожидать, если вошь делилась на популяции следом за человеческими хозяевами, которые начали расходиться по всему свету. Второй куст сходится с первым, но лишь в далеком прошлом, примерно 1,8 млн лет назад, как будто большую часть времени эта разновидность вши паразитировала на другом хозяине.
Вошь – узкоспециализированный организм, и платяная вошь без тепла и питания, обеспечиваемых человеческим телом, живет лишь несколько часов. Так что и второй куст вши должен был паразитировать на людях: но только на людях иного биологического вида, считает доктор Рид. По его предположению, эта вошь вышла из Африки вместе с предками Homo erectus и лишь много позже переселилась на современного человека, который физически контактировал с азиатской популяцией Homo erectus где-то 50 000 лет назад{109}.
Второе и еще более удивительное свидетельство взаимодействия современных людей и Homo erectus недавно обнаружено на индонезийском острове Флорес, расположенном между Индонезией и Австралией. В одной из пещер на берегу реки археологи обнаружили окаменелые останки людей, старейшим из которых было 95 000 лет, а самым недавним – 13 000. Останки принадлежат семерым индивидам, и среди костей есть сохранившийся в целости череп. Эти люди были чуть выше метра, но это не пигмеи. Скорее, как считают обнаружившие их специалисты и ряд других ученых, речь идет об уменьшенной версии Homo erectus{110}.
География острова накладывает серьезные эволюционные ограничения на поселяющиеся здесь виды, зачастую вынуждая некрупные существа приобретать гигантские размеры, а крупные – уменьшаться. На Флоресе обитала гигантская крыса, а ящерицы эволюционировали в хищного комодского варана трехметровой длины. В этом затерянном мире бродили стада карликовых слонов. И человеческие его обитатели тоже, получается, уменьшились.
Низкорослые флоресийцы поставили антропологов перед целым рядом парадоксов, которые пока не поддаются разрешению. Жители острова создавали сложные каменные орудия, схожие с теми, что изготавливали современные люди, и отличные от всех, которые прежде приписывались Homo erectus. При этом мозг, уменьшившийся в весе в соответствии со всем организмом, не превосходил в объеме мозг шимпанзе и австралопитека, не обладающих способностью к изготовлению каменных орудий вообще. Скептики считают, что, если орудия, найденные на Флоресе, созданы туземцами, значит, эти туземцы был современными людьми, возможно, какого-то патологического подвида. Часть ученых, однако, не сомневается в том, что обнаруженный череп принадлежит Homo erectus, и не обнаруживает в нем никаких признаков патологии{111}.
Имеющиеся данные указывают на то, что флоресийские лилипуты были потомками Homo erectus, сумевшими просуществовать еще около 35 000 лет рядом с современными людьми, когда все другие его потомки давно исчезли с лица земли. Своим выживанием флоресийцы обязаны тому, что жили, никому не мешая, в лесах на уединенном острове. Только так вид Homo erectus и мог сохраниться при смене эпох: став практически невидимым для новых пришельцев.
Долгая война против неандертальцев
Не в пример скупым и разрозненным свидетельствам о судьбе Homo erectus, о контактах современных людей с неандертальцем, архантропом, обитавшим в Европе и на Ближнем Востоке, мы знаем немало. Неандертальцы, которые появились приблизительно 127 000 лет назад к западу от Уральских гор, были совершенно особой моделью человека. У них были коренастые тела с бочкообразной грудной клеткой и мускулатура штангиста. Большие головы, мощные надбровные дуги и странные выросты или гребни в задней части черепа.
Эти особенности могли быть или результатом биологической адаптации к холоду, или действием дрейфа генов, случайной перетасовки генов, происходящей при смене поколений. Дрейф особенно сказывается в небольших популяциях, какими они могли быть и у первых неандертальцев.
В неандертальских скелетах ученые часто обнаруживают срощенные переломы костей, что указывает на жизнь, полную суровых испытаний; были эти травмы связаны с охотой на зверя или на ближнего, сказать трудно. Некоторые скелеты имеют такие повреждения, при которых человек не мог бы обходиться без помощи сородичей, а значит, неандертальцы, вероятно, заботились о своих инвалидах. А еще они периодически предавались каннибализму, о чем свидетельствуют разрубленные и обожженные кости, обнаруженные на нескольких стоянках. Одним словом, и в привлекательных, и в не самых привлекательных своих обычаях неандертальцы были вполне подобны людям.
Объем мозга у них варьировал в тех же пределах, что и у современного человека, а у некоторых особей и превосходил его{112}. Но поведением они мало походили на людей нынешних. Неандертальцы пользовались тем же самым набором орудий, что и анатомически современные люди. Мертвецов они погребали в неглубоких могилах, но нет никаких бесспорных свидетельств того, что погребение сопровождалось ритуалами. В пещере Шанидар на северо-западе Ирака откопан скелет, обильно обвалянный в цветочной пыльце, что наводит на мысль о погребальных венках и букетах. Однако пока не обнаружены другие подобные захоронения, проще объяснить присутствие пыльцы деятельностью грызунов, изрывших всю могилу сетью ходов{113}. Есть некоторые указания, что неандертальцы не были высокосоциальными существами{114}. И, хотя примерно 100 000 лет назад они вытеснили с Ближнего Востока анатомически современных людей, неандертальцы оказались неспособны реагировать на высокую поведенческую мобильность людей, появившихся в ареале их обитания 45 000 лет назад.
«Нетрудно понять, почему неандертальцам пришлось исчезнуть после появления современных людей, – пишет антрополог Ричард Клейн. – Археологические находки показывают, что практически в любом заметном аспекте – будь то артефакты, устройство стоянки, умение адаптироваться к суровым условиям, добыча пищи и т. д., неандертальцы в социальном плане уступали современным людям, и, судя по их характерной морфологии, такое отставание могло быть обусловлено биологическими особенностями»{115}. Нельзя заключить, имея только скелеты, была ли у неандертальцев речь, но, возможно, причиной их отставания было именно то, что они обладали лишь грубым протоязыком без всякого синтаксиса или не обладали им вообще.
Некоторые антропологи считают, что первые современные люди могли скрещиваться с неандертальцами. Учитывая то, что основной формой межплеменных отношений у охотников и собирателей были вражда и сильнейший страх, который неандертальцы, вероятно, вселяли в наших прародителей, трудно вообразить, чтобы человек и неандерталец вообще взаимодействовали, а не то, что охотно шли на смешанные браки. Человеческие древа митохондриальной ДНК и Y-хромосомы сходятся к одному корню – к единственному предку в Африке – и ни в одной из линий не показывают присутствия неандертальца.
Генетическую разобщенность современного человека и неандертальца убедительно подтверждает впечатляющее открытие Сванте Паабо и Маттиаса Крингза из Мюнхенского университета, которые сумели в 1997 г. извлечь митохондриальную ДНК из первых обнаруженных останков неандертальца возрастом около 40 000 лет{116}, найденных в 1856 г. в Неандерской долине близ Дюссельдорфа. ДНК в хромосомах клеточных ядер разлагается вскоре после смерти, но у небольшого кольца митохондриальной ДНК, которой около 1000 копий в каждой клетке, шансы на длительное выживание имеются. Извлечение этой ДНК было актом высочайшего мастерства, многие пытались это сделать, но не преуспели, отчасти из-за того, что методика амплификации, как правило, умножает копии не только нужной ДНК, но и посторонние вкрапления, которых в изобилии в любой лаборатории и на любом изучаемом объекте.
Часть африканских эмигрантов, достигшая Индии, расселялась на северо-запад, через Иран и Турцию и в конце концов достигла Европы. Медленный захват Европы занял около 15 000 лет из-за сопротивления туземного неандертальского населения. Точками отмечены местности, занятые ориньякцами (от археологического термина, названия культуры первых современных людей). Возраст стоянок, указанный в тысячах лет, получен радиоуглеродным методом, и может быть на 3000 лет или около того моложе обозначенных дат.
Источник: Paul Mellars, The impossible coincidence. A single-species model for the origins of modern human behavior in Europe Evolutionary Anthropology 14, 12.27, 2005. © Paul Mellars 2005. Воспроизведено с разрешения John Wiley & Sons, Inc.Мюнхенской группе удалось расшифровать лишь небольшой участок митохондриальной ДНК неандертальца, но этого хватило, чтобы увидеть, насколько последовательность единиц неандертальской ДНК разнится с человеческой. На сегодня митохондриальная ДНК извлечена из всех четырех неандертальских окаменелостей, хранящихся в Германии, России и Хорватии. Все их ДНК схожи между собой и резко отличны от ДНК нынешних людей. Паабо и его коллеги показали, что митохондриальная ДНК неандертальца также отличалась и от митохондриальной ДНК первых современных людей, что говорит против теории о вкладе неандертальцев в генофонд человечества{117}.
Однако митохондриальная ДНК представляет собой только небольшой фрагмент генома, так что пока нельзя исключить возможности, что неандертальские гены инкорпорировались в генофонд человека{118}. Хотя какое-то значительное смешение двух видов представляется вряд ли возможным, современные люди могли в отдельных случаях производить потомство от захваченных неандертальских рабынь. Приспособленные к холоду неандертальцы, несомненно, располагали полезными для современного человека генами, и если виды действительно скрещивались, следы этих генов еще могут обнаружиться, несмотря на то что митохондриальные линии неандертальца исчезли.
Крингз и Паабо рассчитали, что общая митохондриальная праматерь людей и неандертальцев жила примерно 465 000 лет назад плюс-минус пару сотен тысячелетий. Гены обычно расходятся вскоре после разделения популяций, и, значит, неандертальцы отделились от линии гоминид не позже 465 000 лет назад. Предполагаемый предшественник неандертальца, так называемый гейдельбергский человек, известен в Европе примерно с 500 000 лет назад, но неандертальские останки датируются не позже чем 127 000 лет назад.
Территория обитания неандертальца тянулась от Испании до закаспийских земель. В Западной Азии она включала в себя нынешние Турцию, Ирак и Иран. Возможно, современные люди пришли на земли неандертальцев прямиком из Африки, однако, если, как мы предположили выше, была лишь одна миграция, которая достигла Индии, тогда современные люди добрались до соседей-архантропов дорогой, пролегавшей из северной Индии через Иран и Турцию. Согласно данным археологии, приблизительно 45 000 лет назад они вторглись на Ближний Восток и стали медленно продвигаться по Европе{119}.
С их распространением неандертальцам пришлось отступить в окраинные области, такие как Пиренейский и Апеннинский полуострова. Неандертальцы, за одним загадочным исключением шательперонской культуры (40 000 лет назад), всю свою историю пользовались неизменным мустьерским набором орудий, так и не научившись более сложным технологиям последующих культур{120}.
Мы не можем точно узнать, какой характер носили контакты неандертальца и человека. Вряд ли они были мирными. Общества охотников и собирателей обходятся без регулярной армии, поэтому неверно было бы представлять продвижение современных людей по Европе как военную кампанию. Этот процесс больше походил на медленное проникновение. Поскольку в Европе эпохи плейстоцена не было сети дорог, новые пришельцы, скорее всего, двигались в лодках вдоль северного берега Средиземного моря и вверх по рекам Центральной Европы{121}. Зимой замерзшие реки представляли собой естественные шоссе сквозь лесные чащи.
По Европе современные люди, видимо, расселялись, как и прежде: новые территории осваивались по мере отделения новых популяций, а вовсе не ради продвижения и захвата. И каждому новому сообществу приходилось сражаться с неандертальцами, которым в случае отступления на земли соседнего клана, вероятно, грозила смерть от рук сородичей и потому оставалось или защищать свои территории, или исчезнуть с лица земли. Год за годом владения современных людей расширялись, а неандертальцев – уменьшались. По невероятной продолжительности этого процесса – пограничный конфликт длился в Европе 15 000 лет – видно, что неандертальцы сопротивлялись упорно. Но 30 000 лет назад их вытеснили из последнего убежища на Пиренейском полуострове{122}.
Завоевание мира
С исчезновением неандертальцев на Евразийском материке не осталось архаичных людей. Сохранились лишь лилипуты-флоресийцы, жившие в лесах на своем далеком острове. Спустя 20 000 лет после того как их прародители пересекли Ворота слез, современные люди заняли большую часть мира. Их популяции, пусть все еще немногочисленные, рассредоточились по всей Евразии, Сунде, Сахулу и Африке.
Но это не была империя, это были просто разрозненные племена, не имевшие ни центральной власти, ни прочных коммуникаций. Ни городов, ни селений в этом периоде археологи не обнаруживают: люди все еще жили в природе, их существование полностью обеспечивалось охотой и собирательством.
Большую часть эпохи, в которую продолжался исход из Африки, от 50 000 до 30 000 лет назад, современные люди повсюду на Земле выглядели похоже. Все население за пределами Африки произошло от 150 пионеров, которые, в свою очередь, вышли из племени прародителей, обитавшего на Черном континенте.
Первые современные люди были африканским видом, который внезапно расширил ареал обитания. Тысячелетия за тысячелетиями все они, вероятно, оставались темнокожими, каковы и теперь реликтовые популяции в Австралии, Новой Гвинее и на Андаманских островах. Скорее всего, первые люди, достигшие 45 000 лет назад Европы, тоже сохраняли темную кожу и другие африканские черты. Неандертальцы в то же время жили в северных широтах достаточно долго, чтобы ген рецептора меланокортина, программирующий цвет кожи, вернулся в исходный режим и сделал их бледными. Хотя никаких явных указаний на цвет кожи неандертальцев нет, и нам остается лишь гадать, кожа у них вполне могла быть светлой, а вот у их победителей была, вероятно, черной. Наверное, первые европейцы, в том числе великие живописцы из французской пещеры Шове, многие тысячи лет сохраняли темную кожу и другие признаки африканского происхождения.
Однако, несмотря на первоначальное единство широко раскиданной человеческой семьи, местные различия неминуемо возникают. Археологов особенно удивляют различия в искусстве. Нигде нет ничего и близко подобного удивительным пещерным росписям Европы, хотя наскальные изображения того же периода обнаружены и в Австралии. «Приходится задаться вопросом, – пишет археолог Офер Бар-Йосеф, рассуждая об искусстве первых людей, – почему Западная Европа, и, в частности, франко-кантабрийская область, так разительно отличается от остального позднего палеолита. Явно не дефицит известняковых пещер и подходящих скальных поверхностей помешали другим племенам или их шаманам создать сравнимые росписи или рисунки. Возможно, такой местный расцвет искусств объясняется превратностями и испытаниями, выпавшими на долю охотников-собирателей в двух крупных территориях-убежищах на разных концах обитаемого мира – в Западной Европе и в Австралии, – где обнаружены наскальные росписи примерно одинакового возраста»{123}.
Между европейским и австралийским потоком трансафриканской миграции современных людей возникли или наметились существенные различия. Австралийско-новогвинейская ветвь скоро угодила во временную петлю бесконечного застоя. Когда через 45 000 лет европейские «родственники» пришли их навестить, австралийцы по-прежнему жили палеолитическим укладом. Они так и не смогли разорвать тройных пут патрилокального общества, кочевья и племенной вражды.
Люди же, осваивавшие Европу и Ближний Восток, сумели как-то избежать этой ловушки и перейти в режим постоянного и безостановочного обновления. Почему дальнейшие пути двух ветвей человечества оказались столь разными – одна из самых больших загадок человеческой доистории. Историки и социологи, согласно природе своих наук, склонны объяснять все различия между людьми культурными особенностями или влиянием среды обитания. С точки зрения биолога, однако, представляется вероятным, что действовали и генетические механизмы, ведь по меньшей мере трудно помешать организму подстраиваться генетически под постоянное давление среды. Осваивая полярные области, люди генетически приспосабливаются к холоду и приобретают сложение эскимосов. А поселившиеся в тропических лесах могут эволюционировать в лилипутов, и с тех пор, как человечество покинуло землю своих прародителей, такое случалось по меньшей мере трижды с разными племенами.
Люди позднего палеолита, расселившиеся небольшими популяциями от Африки до Австралии и от Дальнего Востока до Европы, подвергались различному эволюционному давлению и стихийному воздействию дрейфа генов.
Убедительный пример того, насколько человек склонен к формированию генофонда по месту локации, недавно обнаружен в Исландии, население которой генетики тщательно изучают в поисках истоков болезней человечества. Исландия заселена всего лишь 1000 лет назад колонистами из Норвегии, Британии и Ирландии. И все же, по данным анализа, проведенного исландской компанией DeCode Genetics, в каждом из одиннадцати протестированных местных сообществ уже сформировались свои генетические особенности. Причина в том, что исландцы, как и люди по всему миру, склонны жить, вступать в брак и умирать в одном месте, и даже всего за 1000 лет в каждой из субпопуляций успевают появиться свои генетические особенности.
Ученые из DeCode Genetics, проанализировав геном отдельного человека, могут сказать, из каких местностей были его родители, бабки и деды. Для анализа берутся последовательности ДНК всего на 40 участках генома{124}.
Если в Исландии отличия в генетике разных местностей наметились всего за десять веков, то в остальном мире, где люди живут уже 40 000 лет и свободному перемешиванию генов препятствуют многие социальные и географические преграды, генетические расхождения между популяциями должны быть гораздо резче.
Расподобление генофондов, несомненно, началось уже в эпоху позднего палеолита. Генетик из Чикагского университета Брюс Лан сделал удивительное открытие об эволюции двух генов, участвующих в конструировании человеческого мозга. Каждый ген имеет несколько альтернативных реализаций, так называемых аллелей, и у каждого один из аллелей становится в популяции гораздо более частотным, чем остальные. Если аллель необычайно быстро становится преобладающим, это признак интенсивной работы естественного отбора. Так что, по логике, каждый аллель обеспечивает какое-то сильное селективное преимущество.
Брюс Лан работал с аллелями гена под названием микроцефалин. Преобладающий аллель этого гена появился примерно 37 000 лет назад (хотя это могло быть в любой момент между 60 000 и 14 000 лет назад) и сегодня встречается у 70 % людей во множестве популяций Европы и Восточной Азии. Этот аллель гораздо менее распространен у народов Центральной и Восточной Африки: там обычная его доля в популяции – от 0 до 25 %.
Где-то около 6000 лет назад в Европе и на Ближнем Востоке появился и быстро стал преобладающим, закрепившись у 50 % населения, новый аллель другого гена – ASPM. Этот аллель сравнительно редок в Восточной Азии и практически не встречается в Африке южнее Сахары{125}.
Что заставило эти аллели распространиться так быстро? Похоже, каждый из них обеспечивал какое-то когнитивное преимущество, может быть, незначительное, но тем не менее достаточное для того, чтобы естественный отбор стал его закреплять.
Возможно, отвергая предположение, что какие-то популяции могут быть генетически «умнее» других, некоторые критики ищут иные, не связанные с мозгом, причины распространенности этих аллелей, например устойчивость к болезням{126}. Но Лан не утверждает, что кто-то оказался умнее, а кто-то глупее. По его мнению, в конструировании человеческого мозга участвуют многие гены. У двух из них Лан обнаружил аллели, довольно широко распространившиеся среди европейцев и восточных азиатов, но наверняка и у других генов существуют аллели, распространенные в других популяциях. Таким образом, разные популяции используют свои наборы аллелей для решения одних и тех же задач: это хорошо известный биологический процесс, называемый конвергентной эволюцией.
Например, сопротивляемость малярии повышают несколько защитных аллелей в ряде генов, но у африканцев свой набор антималярийных аллелей, а у народов Средиземноморья – свой, хотя местами повторяющий африканский. Объясняется это тем, что новые аллели возникают в результате мутаций, стихийного процесса, и каждой популяции приходится использовать тот набор аллелей, какой достанется. Выгодный аллель может со временем распространиться и в соседние популяции, но наиболее частотным останется там, где возник. Такая же ситуация наблюдается и с аллелями, которые усиливают когнитивные способности. Лан случайно наткнулся именно на два таких аллеля, распространенных у европейцев и восточных азиатов. «Скорее всего, у разных популяций свои комбинации этих генов», – пишет он.
Кроме того, критики обходят молчанием то обстоятельство, что пока у нас нет никаких указаний на иные, кроме регулировки объема мозга, функции микроцефалина и белка ASPM. Есть такие гены, которые выполняют не одну, а несколько функций, но ни у микроцефалина, ни у ASPM никаких попутных задач пока не обнаружено. А вот их роль в формировании мозга хорошо изучена. Они вообще известны в первую очередь тем, что их отключение вызывает микроцефалию: патологию, при которой мозг не дорастает до стандартных размеров, особенно его большие полушария, где осуществляется вся тонкая ментальная деятельность.
Этот странный сбой выглядит как откат на 2,5 млн лет назад, когда объем мозга у человека был в три раза меньше сегодняшнего. Брюс Лан в 2004 г. установил, что и микроцефалин, ASPM и еще несколько мозговых генов в процессе превращения обезьяны в человека эволюционировали гораздо быстрее, чем соответствующие гены у грызунов{127}. Из этого напрашивается вывод, что мозг у человека увеличился в объеме благодаря тому, что естественный отбор закрепил серию новых, более эффективных вариаций микроцефалина, ASPM и еще некоторых генов. По мнению Лана, нынешние аллели микроцефалина и ASPM – продолжение того же процесса.
Открытия Лана позволяют твердо сказать: после того как человечество 50 000 лет назад разбрелось по миру, эволюция человека продолжалась, следуя разными путями у разных популяций. По большей части это была конвергентная эволюция, и каждая популяция своими наборами аллелей отвечала за одни и те же задачи. Но конвергентная эволюция не обязательно идет синхронно. Так что в одних европейских популяциях новый аллель микроцефалина, обеспечивший рост когнитивных возможностей и такие впечатляющие культурные достижения, как ориньякские пещерные росписи, распространился около 37 000 лет назад, другие же могли приобрести подобные способности позже{128}.
И 50 000 лет назад, когда прародители человечества разошлись по планете, эволюция запустила великий эксперимент: каждая популяция на своей ревностно охраняемой территории стала развиваться своим особым путем. Мы говорим и о культурном аспекте развития: возникло огромное множество языков, разные религии и житейские уклады; и о генетическом, ведь каждому из сообществ приходилось приспосабливаться к своему климату, экологии и к установившимся нравам. Далеко разошедшиеся ветви человеческой расы, изолированные на разных континентах, двинулись разными дорогами, приспосабливаясь к чуждому им миру, распахнувшемуся за границами африканской родины.
6. Равновесие
Нравы кочевников в широких равнинах, в густых лесах тропиков и по берегам моря оказывались постоянно весьма неблагоприятными для прогресса. Во время моих наблюдений над дикими обитателями Огненной Земли я был поражен тем, что обладание какой-либо собственностью, постоянное жилье и соединение нескольких семейств под управлением одного главы оказывались постоянно необходимыми условиями для цивилизации. Такие нравы приводят к развитию земледелия, и первые шаги обусловливаются, вероятно, случайностью: например, падением на кучу гнилых семян плодового дерева, давших особенно ценную разновидность. Во всяком случае, вопрос о первоначальном развитии дикарей в сторону цивилизации слишком сложен, чтобы его можно было решить в настоящее время.
Чарльз Дарвин. Происхождение человека и половой отборПримерно 30 000 лет назад, вытеснив из Европы неандертальца и загнав остатки популяции Homo erectus в джунгли Флореса, современные люди получили в свое владение мир за пределами Африки, более миллиона лет принадлежавший архантропам. Однако с определенной точки зрения не изменилось ничего. Современные люди, как и архаичные, которых они сменили, оставались собирателями, жили от милостей природы. Они ничего не строили и не оставили по себе практически никаких следов, кроме каменных орудий. Их потомки изготавливали значительно более сложные орудия, в том числе много видов орудий из кости, и создавали художественные произведения, такие как фигурки из слоновой кости и наскальные росписи в пещерах Франции и Испании. Но они оставались собирателями, которых кочевой образ жизни лишал всех материальных и интеллектуальных возможностей построения цивилизации.
Прежде чем началась история цивилизации, кочевникам предстояло еще одно грандиозное превращение. Им нужно было отказаться от кочевья и образовать оседлые поселения. Учитывая те великие выгоды, которые несет оседлая жизнь, стоит предположить, что перейти к ней раньше у человека не было возможности. Но почему? Что не позволяло ранним людям поставить крышу над головой и пользоваться удобствами постоянства? Какие события должны были произойти, чтобы переход к оседлости стал возможен? Зачем прародителям человечества понадобилось 35 000 лет странствовать по пустыне, пока они не осознали выгоды цивилизации?
Как у племен, поселяющихся в лесу, происходят физические изменения, приводящие в итоге к низкорослости, так же и отказ от единственно знакомого первым людям кочевого уклада жизни мог потребовать определенной аккумуляции поведенческих изменений. Нам оседлость может казаться естественным выбором, но от охотников и собирателей она потребовала ряда непростых перемен. Нужно было научиться ладить с чужаками. Забыть о возможности уйти прочь от опасности или от неудобных соседей. И отбросить былое всеобщее равноправие ради беспощадной социальной иерархии начальствующих и подчиненных, с ее бесчисленными правилами, жрецами и чиновниками.
Потребовались для этого свои генетические модификации или нет, появление оседлых сообществ было событием колоссального значения. Пусть механизм перехода к оседлости для нас пока загадка, время от 50 000 до 15 000 лет назад, до появления первых поселений, – это период взросления человечества.
Этап, предшествующий оседлости, рассматривается в настоящей главе, а следующая будет посвящена переходу от оседлости к земледелию. Такое разграничение исторических периодов основано на предположении, что переход к оседлости был поворотным моментом в человеческой эволюции и гораздо более важным событием, чем одно из его последствий – зарождение земледелия, начавшееся примерно 10 000 лет назад. Однако эта периодизация противоречит членению на эпохи, принятому в археологии. Там примерно с 45 000 до 10 000 лет назад продолжается поздний палеолит, определяемый по характерным наборам каменных орудий. Эти орудия лишь 10 000 лет назад сменились неолитическими – как раз в момент появления земледелия.
Переход из позднего палеолита в неолит совпал с крупным климатическим сдвигом: окончанием великой плейстоценовой ледниковой эпохи, начавшейся 1,8 млн лет назад, и приходом голоцена, теплого периода, который продолжается до наших дней. Как и поздний палеолит, плейстоцен оканчивается примерно 10 000 лет назад.
В эпоху от 50 000 до 15 000 лет назад, когда Африка и Австралия уже были заселены, главные события человеческой истории происходили на Евразийском материке. Хотя Европа и Азия долго шли каждый своей, с другим не схожей, дорогой, в позднем палеолите народы Евразии вели примерно одинаковый образ жизни, охотились в евразийских степях на одних и тех же зверей и терпели те же самые превратности климата. В начале позднего палеолита популяции с запада и востока Евразии, должно быть, где-то переплетались, поскольку и те, и другие изошли из одного корня, из первой волны мигрантов, достигшей Индии. Женщины, принадлежащие к митохондриальной линии X, – свидетельницы той далекой связи. Часть дочерей линии X ушла из Индии на северо-запад, и теперь это европейки; другая часть двинулась на северо-восток, пересекла Сибирь и прошла сухим перешейком на Аляску, став американскими индианками.
Поздний палеолит в Европе был эпохой резких температурных перепадов, особенно во время последнего ледникового максимума, который продолжался примерно с 20 000 до 15 000 лет назад.
Источник: Randall White, New York University.Во время последнего ледникового максимума северную и центральную Евразию покрывали ледники, окаймленные полосой тундровой зоны, и людям, населявшим обе половины суперконтинента, пришлось мигрировать на юг, в теплые рефугиумы.
Источник: 5W Infographic.Запад и Восток расходились постепенно. Просторы Евразии не могли не развести позднепалеолитические народы по разным тропам. В этой главе мы поговорим о том, как небыстро и непросто люди Запада шли к оседлости, и о том, как люди Востока одомашнили собаку и открыли Америку.
Позднепалеолитические превращения
В плейстоцене большую часть Северной Европы и Северной Азии, иначе сказать – Сибири, покрывали ледники, и климат был значительно суше нынешнего, а вдоль нижней границы оледенения тянулся пояс арктических пустынь. Поскольку ледники вобрали значительную часть Мирового океана, его уровень в плейстоцене опускался сравнительно с нынешним почти на 70 м, и карта мира, если бы люди позднего палеолита могли себе представить такую вещь, была совсем другой. Кроме больших континентов Сунды и Сахула была еще обширная, ныне целиком затонувшая суша между Сибирью и Аляской – Берингия. Она послужила современным людям широким мостом в Америку, но не сразу: большую часть своей истории Берингия была слишком сухой для существования обильной растительности и крупной фауны, а значит, и для человеческих мигрантов, нуждающихся в пропитании.
Изобретательные люди позднего палеолита быстро выучились жить на холодном севере, следуя за потоками северных оленей, что текли по бескрайним просторам евразийской тундры. Проходили тысячелетия, охотники, следуя переменам климата и экологических условий, занялись добычей мамонтов, затем – горных козлов и маралов, затем опять – северных оленей. Археологические культуры сменяли друг друга, но присваивающее хозяйство оставалось неизменной основой жизни.
Под занавес плейстоцена климат нашей планеты резко поменялся. Приблизительно 20 000 лет назад произошла небывалая катастрофа, известная как последний ледниковый максимум: ледники еще раз двинулись на юг, сделав большую часть Северной Европы и Сибири непригодными для жизни. Население планеты тогда составляло, предположительно, от 1 млн до 10 млн человек. Существенную его часть внезапное похолодание задело. Евразийские популяции людей и животных выживали только в южных областях-убежищах. Спустя 5000 лет ледники ослабили хватку и отступили, вновь открыв уцелевшим евразийцам путь на север.
На сегодня археологические артефакты, языки и генетика в Европе изучены больше, чем где-либо еще, и потому она остается лучшим пособием по истории родоплеменных сообществ.
На основе обнаруженных каменных орудий археологи составили последовательность культур, сменявшихся в Европе в позднем палеолите. Древнейшая, ориньякская, существовала с 45 000 до 28 000 лет назад. Стоянки с ориньякскими орудиями обнаружены во Франции, в Италии и в большинстве стран Восточной Европы, а еще в отдельной области на территории Леванта. Очевидно, ориньякцы были искусными воинами: это они постепенно оттеснили и окончательно истребили неандертальцев. Но их культура не была исключительно утилитарной: к ней принадлежат и удивительные художники, расписавшие пещеру Шове в долине французской реки Ардеш, самую раннюю из известных расписанных пещер Европы.
Согласно радиоуглеродным замерам, пещера была обитаема дважды: с 32 000 до 30 000 лет назад, а затем с 27 000 до 25 000 лет назад{129}. В росписях ее стен преобладают изображения львов, мамонтов и носорогов – животных, на которых, согласно данным археологии, охотились редко, – а также лошадей, северных оленей, диких быков и сов. Мастерство и выразительность изображений впечатляют современного зрителя. Однако при всем сопереживании, которое они могут вызвать, ни значение этих изображений, ни цели их создателей нам попросту неизвестны. Напрашивается мысль, что столь выразительные картины могли создать лишь такие же люди, как мы сами. Но равно возможно, что эти панно – произведение первобытного разума, который, воспринимая мир таким с помощью такого же зрения, как наше, совершенно иначе его осмыслял.
Из-за преимущественно холодного климата Европу и большую часть Евразийской степи покрывали не леса, а обширные луга, где в изобилии плодились северные олени, шерстистые мамонты, бизоны и антилопы. Эти животные вполне обеспечивали охотников и продовольствием, и такими полезными материалами, как кожа, кость, бивень и рог.
Ориньякская эпоха окончилась по неизвестным причинам, и на смену ориньякской культуре пришла граветтская, также определяемая по характерному набору каменных орудий. Граветтская культура, продолжавшаяся с 28 000 до 21 000 лет назад, простиралась на восток вглубь нынешней России, тянулась вдоль франко-испанской границы и захватывала южные области Италии. Граветтианцы охотились больше на мамонтов, чем на оленей. Они создавали знаменитых палеолитических Венер с маленькими головами, пышными грудями и ягодицами – фигурки, удивительно напоминающие отдельными чертами бушменов и андаманцев. Фигурки Венер, обнаруживаемые в раскопках от Франции до России, явно играли в культуре граветтианцев важную роль и, возможно, были связаны с культом плодородия. Менее известное граветтианское достижение – изобретение лука: первые образцы лука и стрел встречаются в раскопках конца граветта{130}.
Граветтская культура приходится на период серьезного похолодания, когда большая часть североевропейских равнин оставалась необитаемой. Ее время кончается с приходом последнего ледникового максимума. Ледники придавили Британию, Скандинавию и вообще северные широты, заставив северян отселяться в Испанию, Италию и Украину. Мы ничего не знаем о столкновениях народов, которые могли начаться с переселением северных людей на земли южан. Но ухудшение климата давало преимущество более приспособленным к холоду северянам. После эпохи граветтской культуры в Европе господствовала так называемая солютрейская культура. Она сосредоточивалась во Франции и Испании и существовала с 21 000 до 16 500 лет назад. Животные, чьи кости чаще всего обнаруживают в солютрейских стоянках, – горный козел, дикая лошадь и олень. Солютрейские стоянки обнаруживаются в тесном соседстве друг к другу, а некоторые из самых крупных и тонких каменных орудий наводят на мысль о церемониальном, а не утилитарном использовании. Два этих факта археологи толкуют как указание на то, что люди стали жить крупными сообществами. Что, возможно, было следствием оттока из Северо-Западной и Центральной Европы и уплотнения популяции в южных рефугиумах.
Последний ледниковый максимум продолжался около 5000 лет. Затем столь же быстро, как вернулись, ледники стали отступать, освобождая плодородные равнины Евразии, куда пришли животные, а следом охотники. Из рефугиума в Перигоре, на юго-западе Франции, люди разошлись по территории нынешних Франции и Германии, создав мадленскую культуру, существовавшую с 18 000 до 11 000 лет назад. Мадленский набор орудий, созданных для охоты на северного оленя, легок и удобен для ношения. Мадленцы изготавливали орудия особенно тонкой и точной выделки: например, костяные гарпуны с двумя рядами зубцов с разных сторон. Пещерная роспись продолжилась в таких мадленских пещерных стоянках, как Ласко, имеющая возраст 17 000 лет, Нио и Альтамира.
Мы мало знаем как о жизни позднепалеолитических охотников и собирателей, так и о причинах, по которым одна культура сменяла другую. За отсутствием указаний на обратное, принято считать, что социальный уклад этих сообществ был эгалитарным, без королей и вождей, каков он и у современных нам собирательских обществ.
Археологи отлично умеют делать выводы по нескольким осколкам камня или кости, с которыми им приходится работать, но эти свидетельства немного могут сообщить. Редко удается установить, что за люди изготовили те или иные артефакты. Новую глубину археологии получила благодаря развитию генетики, которая предоставляет биологическую информацию, соответствующую археологическим культурам. Кем были ориньякцы или граветтианцы? Удивительно, но генетика сумела установить, откуда пришли эти люди и кто из ныне живущих на земле их потомки.
Наиболее обширное на сегодня исследование по истории раннего населения Европы провел Мартин Ричардс из Хаддерсфилдского университета (Великобритания). Совместно с коллегами из Европы и Израиля он применил оригинальную технологию под названием «анализ по основателю» и датировал прибытие в Европу каждой из волн миграции начиная с 45 000 лет назад и заканчивая недавним прошлым.
Анализ по основателю опирается на ту посылку, что колонисты, посланные из области А в область Б, на новом месте подвергнутся новым мутациям ДНК, которые не встречаются у оставшихся в области А. Тогда если новые мутации удастся выявить и посчитать, их число приблизительно покажет, насколько давно колонисты живут на новой родине, в области Б.
Ричардс применил эту методику к митохондриальной ДНК. Как мы говорили выше, генеалогические линии митохондриальной ДНК четко распределяются по географической карте, поскольку мутации, начинающие каждую развилку ее родословного древа, возникают, когда люди перемещаются по миру на новые места обитания. Из Африки вышли и добрались до Индии только две линии, обозначенные литерами M и N. Дочерние ветви линии M и некоторые дочерние линии ветви N заселили восток Евразийского материка; оставшиеся подветви N – запад.
Ветвь N дала начало подветви R, а линии, исходящие из подветви R, называющиеся J, H, V, T, K и U, заселили Ближний Восток и Европу. Практически все европейцы принадлежат к одной из этих шести линий, или к седьмой – X, линии прямо ответвляющейся от N, а не от R: отсюда и название занимательной книги популяционного генетика Брайана Сайкса «Семь дочерей Евы». Линия U, самая плодовитая из дочерей, имеет несколько ответвлений, из которых одно, по странной логике, носит индекс K, а остальные от U1 до U6.
Восстанавливая популяционную историю Европы, группа Ричардса начала с главных европейских митохондриальных линий, затем искала современных потомков корневой популяции на Ближнем Востоке. Затем ученые сравнивали области митохондриальной ДНК у европейских представителей, например куста U5 и у ближневосточных. После того как эти две группы U5 разошлись в разные стороны, каждая стала накапливать свои мутации. Поэтому обнаружить новые мутации европейской U5 было несложно: это были те мутации, которых нет на U5 ближневосточной.
Зная число новых мутаций европейской U5 и обычный темп накопления изменений в митохондриальной ДНК, группа Ричардса смогла подсчитать, какое время U5 присутствует в Европе. Тот же алгоритм применяли и для остальных ветвей европейской родословной{131}.
В итоге установили, что три четверти нынешнего населения Европы принадлежит всего к семи кустам митохондриальной ДНК, объединяющим около 40 отдельных линий. Самый старый куст, U5, присутствует в Европе 50 000 лет, возможно, пятью тысячами лет больше или меньше. Эти выводы согласуются с археологической датировкой стоянки в Болгарии, самой старой из известных европейских стоянок современных людей, возраст которой определяется в 45 000 лет и считается началом позднего палеолита в Европе. Также это подразумевает, что ориньякцы, первые европейские колонисты, принадлежали в генеалогическом древе митохондриальной ДНК к линии U5.
Ричардс не может оценить численность той первой миграции современных людей в Европу. Но, основываясь на том, какую долю всего древа составляют подветви куста U5, он предполагает, что около 7 % нынешних европейцев – потомки первых поселенцев.
Все остальные кусты, кроме одного, прибывали в Европу по очереди в период от 35 000 до 15 000 лет назад. Общим счетом 87 % европейцев происходят от поселенцев, прибывших во время плейстоцена. И лишь 13 % – от тех, кто пришел примерно 10 000 лет назад, в основном это куст J митохондриальной генеалогии. Эти новички предположительно были переселенцами с Ближнего Востока, провозвестниками неолита, принесшими в Европу знания о земледелии.
Мощным фактором, сформировавшим нынешнюю популяцию европейцев, были ледники последнего ледникового максимума, отогнавшие людей обратно в южные области Пиренейского полуострова. Когда ледники 15 000 лет назад отступили, Европа заселялась людьми, двигавшимися с юга Испании на северо-восток{132}. В той реэкспансии преобладали ветви V и H, пришедшие на континент ранее. К этим ветвям на 45–50 % принадлежит большинство европейских популяций и на 60 % – народ басков, чего и стоило бы ожидать, если страна басков на юго-западе Франции и северо-востоке Испании и была отправной точкой послеледниковой реколонизации.
Ричардс обнаружил неожиданный момент в популяционной истории Европы: большинство европейцев оказались прямыми потомками первых поселенцев, прибывших на континент в позднем палеолите. Лишь небольшая часть пришла в неолите. Эта картина противоречит всем ожиданиям: археологи предполагали, что неолитические иммигранты, принесшие в Европу земледелие, были многочисленнее и подавили прежних обитателей. Открытие Ричардса показывает, что европейцы позднего палеолита не вымерли: они перешли от кочевья к оседлости и освоили новую культуру – земледелие.
Поскольку женщины и мужчины мигрируют вместе, выстроенная Ричардсом генеалогия митохондриальной ДНК должна подтверждаться данными генеалогии Y-хромосомы. И в значительной степени это так. Недавнее исследование Орнеллы Семино из Павийского университета и Питера Андерхилла из Стэнфорда показало, что 95 % европейских мужчин принадлежат всего к 10 линиям родословного древа Y-хромосомы{133}. Ученые не смогли найти в этом древе линию, точно соответствующую митохондриальному кусту U5, маркирующему первопоселенцев, пришедших в Европу 45 000 лет назад. Зато обнаружили присутствие нескольких линий, в которых все мужчины имеют так называемую мутацию M173: они появились в Европе между 40 000 и 35 000 лет назад и, по мнению Семино и Андерхилла, скорее всего, были носителями ориньякской культуры.
Вторая волна носителей Y-хромосомы пришла в Европу с Ближнего Востока примерно 25 000–20 000 лет назад. Мутация, маркирующая линии этих пришельцев, называется M170. Группа Семино считает, что эти люди были носителями граветтской культуры, которая сменила ориньякскую.
Работа Ричардса и Семино дает основу для будущего синтеза генетики и археологии, которого многие с надеждой ждут. Если генетики смогут подтвердить даты прибытия в Европу носителей разных ветвей митохондриальной ДНК и Y-хромосомы, археологи впишут эти перемещения в последовательность различных культурных периодов, которые они выделяют в позднем палеолите. А если лингвисты-компаративисты продвинутся в реконструкции общего древа человеческих языков, как описывается в главе 10, то можно будет сказать, на каких языках говорили представители старинных генетических ветвей. По меньшей мере для одной ветви такие связи предложены: представители митохондриальной линии J – это те, кто 10 000 лет назад принес в Европу земледельческие технологии неолита, и значит, эти люди могли говорить на праиндоевропейском языке, от которого происходят многие из языков нынешней Европы.
Поздний палеолит в Азии
История человеческих популяций в Восточной Азии восстановлена пока не столь детально, как в Европе. Хотя две половины Евразийского материка развивались каждая своим путем, между ними определенно существовали мосты. Один из таких мостов связан с людьми мужского пола, принесшими в Европу ориньякскую культуру. Их ветвь на древе Y-хромосомы, определяемая по мутации M173, родственна ветви M3, которая обнаруживается в некоторых сибирских популяциях и во многих индейских: эти две линии происходят из одного источника, вероятно, из Индии. По всей Сибири и вокруг озера Байкал обнаружен ряд позднепалеолитических стоянок, подобных европейским, возрастом от 40 000 до 25 000 лет.
Обитатели Сибири вели, вероятно, практически тот же образ жизни, что и их европейские родственники, – охотились. Как и в Европе, здесь тысячелетнее кочевье людей прервали бедствия последнего ледникового максимума.
Может быть, в наше время Сибирь – что-то вроде окраины мира, но в дни последнего ледникового максимума ее обитатели осуществили два исторических достижения. Первым было одомашнивание собаки, с которой и началось использование животных на службе у человека. Вторым, не столь важным в ближней перспективе, стало открытие и заселение Северной и Южной Америки.
В большинстве современных обществ собаки утратили былое хозяйственное значение. Но в доисторическом мире практика собаководства распространилась со скоростью лесного пожара. Собак можно было выдрессировать для охоты. Собаки хорошо согревают постель холодными сибирскими ночами. Они при крайней необходимости становятся ходячим запасом мяса. Но причина молниеносного распространения собак от одного конца Евразии до другого была иной.
В противоположность одной из историй о Шерлоке Холмсе, где сюжет построен вокруг того, что собака не лаяла ночью, главная загадка происхождения собак именно в том, что они лают. Волки не делают этого почти никогда. Возможно, лай был особенностью, которую вывели у собак первые в истории заводчики. И это наводит на мысль, что людей не особо интересовало применение собак на охоте, где лай не помогает. Однако если первым применением собак была караульная служба и предупреждение о чужаках, пришельцах и врагах, тогда именно неистовый яростный лай делал собаку бесценным защитным механизмом.
Таким образом, собаки сыграли в ранней человеческой истории важную роль: особенно если они облегчили человеку переход от собирательского кочевья к оседлости. Люди, поселившиеся на одном месте, постоянно находились в опасности нападения чужаков. Видимо, не случайно первые постоянные поселения возникли в то же время, когда человек одомашнил собаку.
Собаки – это волки, генетически адаптированные жить вместе с человеком. В биологии если между двумя видам и существуют какие-то взаимоотношения, то эволюционное приспосабливание их друг к другу – обычная картина. Изменились ли наши гены из-за партнерства с собаками? Сообщества, научившиеся использовать собак, очевидно получали серьезное преимущество – особенно в условиях постоянной войны – перед теми, кто не смог найти с собакой общего языка.
Собаки кардинально поменяли жизнь ранних человеческих обществ еще в одном аспекте – они опрокинули тысячелетнее табу собирателей на частное владение собственностью{134}. Собака не принадлежит деревне: собаки привязываются к одному хозяину. Может быть, собаки, вошедшие в человеческие сообщества как первый значимый объект частной собственности, тем самым проложили дорогу модели оседлого общества, которое и пришло на смену охотничье-собирательскому укладу.
Роберт Уэйн из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, изучая митохондриальную ДНК собак, волков, койотов и шакалов, обнаружил, что собаки, как давно предполагалось, происходят с почти 100 %-ной вероятностью от волков, хотя все эти виды псовых могли скрещиваться{135}. Однако его датировка появления собак как отдельного вида – 135 000 лет назад – археологам представляется слишком ранней. Старейшие из обнаруженных на сегодня собачьих костей, найденные в Германии, имеют возраст 14 000 лет, за ними следуют кости, обнаруженные в Израиле, которым 12 000 лет.
Гораздо более вероятная дата фигурирует в уточняющем исследовании Питера Саволайнена из Королевского технологического института (Стокгольм). Саволайнен собирал образцы митохондриальной ДНК, попросив собаководов со всех концов мира прислать ему фрагменты шерсти их собак. Располагая образцами от 654 особей из Европы, Азии, Африки и Америки, а также 38-ю образцами шерсти волков Старого Света, он сумел установить: несмотря на то что самые ранние останки домашних собак обнаружены на западе Евразии, территория, где одомашнили первых собак, находится, скорее всего, где-то на востоке Азии. В доказательство Саволайнен ссылается на то, что у собак в Восточной Азии наблюдается самое большое в мире разнообразие ДНК, а общее правило генетики гласит, что территория наибольшего разнообразия данного вида – это и есть место его зарождения.
Почти вся выборка Саволайнена распадается на три генетических куста, и это может объясняться либо тем, что собак одомашнили независимо в трех разных местах, либо тем, что в одном и том же месте и в одно время одомашнили трех родственных по крови волков, взятых из одного помета или из одной стаи. Саволайнен склоняется ко второму объяснению, поскольку оно предполагает более правдоподобную дату одомашнивания – 15 000 лет назад. (Альтернативная теория трех независимых одомашниваний предполагает, что собаки живут с человеком уже 40 000 лет. Но ведь такой ценный ресурс, как домашняя собака, должна была распространяться со скоростью степного пожара, а никаких следов собак в первые 26 000 из этих 40 000 лет археологами не обнаружено){136}.
Как началось превращение волка в домашнюю собаку – большая загадка. Некоторые виды животных вообще не подвержены одомашниванию, другим требуется селекция на протяжении многих поколений. Трудности одомашнивания хорошо показывает замечательный эксперимент советского ученого Дмитрия Беляева, который пытался приручить черно-бурых лис. Беляев предположил, что при выведении всех или почти всех домашних животных человек руководствовался незамысловатым критерием способности к дрессировке. Генетический расклад, необходимый для такого глубокого поведенческого слома в диком животном, по мнению Беляева, попутно сформировал и определенные морфологические особенности, наблюдающиеся у многих разных видов домашних животных. Эти особенности включают белые пятна, вьющуюся шерсть, короткий хвост и висячие уши.
Беляев и его продолжательница Людмила Трут отбирали щенят чернобурки для дальнейшей селекции по единственному критерию готовности к послушанию. Спустя 40 лет и 30–35 поколений селекции, в которой участвовало 45 000 лис, Трут имеет популяцию в сотню послушных ласковых зверей, у многих из которых белые пятна на шкуре{137}.
В случае собаки на приручение, помимо способности к дрессировке, сыграл еще один момент – способность понимать человеческий язык тела. Брайан Хэар из Гарвардского университета экспериментально проверил способность собак, волков и шимпанзе понимать сигналы, показывая им, в каком из закрытых ящиков лежит еда. Экспериментатор подавал явные знаки: пристально смотрел на нужный ящик, постукивал по нему. В интеллектуальном развитии шимпанзе значительно опережает собаку, но при этом совсем немногие из них сумели принять сигнал: они не обращали особого внимания на манипуляции экспериментатора. Волки также весьма интеллектуальный вид, но они не понимали подсказки. Собаки же, даже щенята, сразу улавливали, что хочет сказать человек{138}. И поскольку эта способность обнаруживается даже у щенят, то, скорее всего, заключил Хэар, она врожденная и такое поведение выработано путем селекции при одомашнивании, хотя, возможно, оно не воспитывалось целенаправленно, а выработалось попутно с послушанием.
Но это все еще не дает ответа на вопрос, чего надеялись достичь люди, принимаясь за приручение волка, ведь вряд ли можно было предвидеть какой-нибудь результат. Специалист по поведению собак Рэй Коппингер из Хэмпшир-колледжа считает, что заслуга людей в приручении волка минимальна: волки сами себя одомашнили. Волки – умелые охотники, но питаются и падалью. По мнению Коппингера, волки приходили к человеческим стоянкам в поисках объедков, и те звери, что научились не бояться людей, оказались в выигрыше.
«Это был естественный отбор, который сделал волк, а не человек, – пишет Коппингер, – теория об одомашнивании собаки человеком слаба тем, что для этого потребовались бы тысячи собак, как у Беляева были тысячи лис». По мнению ученого, человек мог взять щенят у частично прирученных волков, следующих за кочевьем людей, и обнаружить, что их можно обучать{139}.
Охотники-собиратели часто приносят детенышей диких животных в становище, чтобы играть и ухаживать за ними, пока те не станут взрослыми и опасными. Специалист по собакам из Пенсильванского университета Джеймс Серпелл считает этот вариант истории одомашнивания более вероятным, чем появление волков – собирателей объедков. А если волк был одомашнен лишь раз, и для этого была взята группа родственных друг другу особей, то в их поведении, считает Серпелл, могла быть какая-то особенность, облегчающая дрессировку.
Как бы ни возникла связь между человеком и собакой, она оказалась нерушимой. Сибиряки, первыми прибывшие в Северную Америку через исчезнувший континент Берингию, обширную сушу, ушедшую на дно Берингова пролива, взяли с собой и собак. Это неожиданное открытие, потому что до сих пор ученые полагали, что американские индейцы одомашнили себе собак из североамериканских волков. Дженнифер Леонард из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе собрала образцы митохондриальной ДНК из доколумбовых собачьих захоронений Мексики, Перу и Боливии. И увидела, что они совпадают с ДНК серого волка из Старого Света, но не с ДНК американского волка.
ДНК из американских захоронений разбиваются на пять генеалогических кустов, из чего можно заключить, что родоначальниками всей доколумбовой популяции домашних собак стали пришедшие с первыми поселенцами пять неродственных между собой сибирских собак или пять групп, состоящих из родственных друг другу особей{140}. По неизвестным причинам все эти пять линий доколумбовых американских собак вымерли. Судя по всему, индейцы предпочитали собак, завезенных европейцами. Все собачьи породы, выведенные в Новом Свете, например эскимосская лайка, голая мексиканская собака и чесапик бэй ретривер, получены от европейских предков.
Первое открытие Америки
Помимо одомашнивания собаки позднепалеолитические обитатели востока Азии совершили еще одно историческое деяние: они открыли и заселили два великих материка – Северную и Южную Америку. Генетическое сравнение современных коренных сибиряков и американских индейцев может наконец внести какую-то ясность в два долгих научных спора о заселении Америки – в лингвистический спор и в археологический.
У индейцев Америки более 600 языков, причем настолько несхожих между собой, что большинство лингвистов считало их производными от нескольких разных языков-прародителей. В науке, как правило, есть ученые, которые видят связи и общие черты объектов и явлений, а есть специалисты, предпочитающие замечать и описывать особенности и различия. В сравнительно-историческом языкознании последних большинство. Ведущий и, в принципе, единственный представитель первой группы – покойный Джозеф Гринберг из Стэнфордского университета.
В 1987 г. Гринберг вызвал в лингвистической среде смятение, объявив, что, по его данным, все американские языки объединяются не более чем в три крупных семьи. Эскимосско-алеутскую – из десятка языков, на которых говорят эскимосы и жители Алеутских островов, лежащих у побережья Аляски. Семью на-дене, состоящую из 32 языков, распространенных только в Северной Америке: у апачей, навахо, канадских и аляскинских народностей. И, наконец, семью америнд, в которую входят, по мнению Гринберга, остальные 583 языка северо– и южноамериканских индейцев.
Гринберг хорошо понимал, что специалисты по различным индейским языкам вряд ли примут эту концепцию. «Я прекрасно сознаю, что предлагаемая в этой работе классификация противоречит всем нынешним тенденциям в языкознании, и в определенных кругах вызовет довольно бурную реакцию, – писал он. – Учитывая, сколько времени и сил затрачено на получение результатов, совсем не сходных с моими выводами, такая реакция вполне объяснима»{141}.
Свою классификацию языков Гринберг развил до универсальной и изящной теории. Он предположил, что выделенные им в Америке три языковые семьи отражают три волны колонизации, пришедших из Сибири. Гринберг отмечал, что гипотеза трех волн подтверждается не только языковыми данными, но и изучением иммунологии коренных американцев и строения их зубов. Как и можно ожидать, три миграции расселились по Америке в порядке прибытия. Носители америндских языков, достигшие южной оконечности континента, очевидно, пришли первыми. Гринберг полагал, что они прибыли в Америку приблизительно 12 000 лет назад, и приписывал им создание так называемой культуры кловис, самой ранней из бесспорно существовавших в Америке археологических культур. Люди кловис жили на Великих равнинах и примерно с 11 500 до 11 000 лет назад и охотились на мамонтов и бизонов. Затем мамонты и еще несколько крупных видов американских животных исчезли – это классический признак появления человека, хотя в данном случае могло сыграть роль и окончание плейстоценового ледникового периода.
Спустя несколько тысяч лет после америндоговорящих поселенцев в Америку, полагает Гринберг, пришли носители языков на-дене, ныне живущие на северо-западе Северной Америки, а последними пришли обитатели арктических областей, эскимосы и алеуты.
Относительно недавняя дата первой миграции в Америку, предложенная Гринбергом, позволяла ему отстаивать убеждение, что связи между разными америндскими языками еще можно увидеть. Однако в археологии спор о дате первой миграции не кончается. Никаких человеческих останков, датируемых более ранним временем, нежели культура кловис, пока не обнаружено, но есть косвенные признаки более раннего присутствия человека, прежде всего это стоянка Монте-Верде в Южной Чили. Артефактам из первого, не вызывающего разночтений слоя, где в основном остатки растений и деревянные снаряды – предположительно, для крепления шатров, – по данным радиоуглеродного анализа 12 500 лет, однако более глубокий и менее очевидный слой датируется как 33 000-летний. Археологи сначала отвергли и лишь после долгих споров признали первый из «до-кловисных» слоев, младший, а второй, более ранний, не признают и поныне{142}. Таким образом, датировка смещается, но в целом остается впечатление, по крайней мере от археологических данных, что примерно до 14 000 лет назад Америка была безлюдна.
Когда в эту научную битву вступили генетики, большей частью они придерживались мнения о нескольких миграциях. Но при этом митохондриальная ДНК, участок генома, который ученые смогли изучить прежде других, указывает на гораздо более ранние даты колонизации Америки и пока поддерживает сторону археологов, считающих, что люди пришли туда задолго до эпохи культуры кловиса, а именно около 30 000 лет назад.
В Америке представлены пять ветвей митохондриальной ДНК: это группы A, B, C и D и небольшая ветвь X, у которой история особая. A, C и D также встречаются в северных широтах Азии и в северо-восточной Сибири, а вот у группы B – свое распространение, она типична в юго-восточной Сибири. Основываясь на этом, Дуглас Уоллес из Калифорнийского университета в Ирвине предположил, что первая миграция в Америку состоялась 34 000 лет назад, и в этой волне были люди с кустов A, C и D, пришедшие из Берингии. Затем была вторая миграция, 16 000–13 000 лет назад, согласно информации митохондриальной ДНК, принесшая в Америку линии B и X. Эскимосы же и на-дене появились, по мнению Уоллеса, не раньше, чем 10 000 лет назад{143}.
Эти цифры не противоречат результатам других генетиков, исследовавших митохондриальную ДНК американцев и получивших разлет от 10 000 до 40 000 лет назад. Однако сегодня появилось мнение, что большинство этих дат по не вполне ясным причинам неверны. Недавно новая группа ученых решила прояснить ситуацию с помощью Y-хромосомы и убедительно доказывает гораздо более поздние даты появления человека на этих континентах, примерно совпадающие с теми, что первым предложил Гринберг.
Обычно Y-хромосому датировать труднее, чем митохондриальную ДНК, но в Америке на помощь ученым пришла мутация, которая возникла в Y-хромосоме как раз перед тем, как в Берингию вступили первые «колумбы». Это была мутация M242, появившаяся, по оценке Марка Сейлстада и его коллег, между 15 000 и 18 000 лет назад{144}. Следом за ней в Y-хромосоме возникает другая мутация – M3, которая есть только у американских индейцев. Вся картина говорит о том, что достичь Америки раньше чем 18 000 лет назад люди не могли.
Генетические, археологические и лингвистические данные в довольно убедительной гипотезе совместил Андрес Руис-Линарес из Лондонcкого городского университета. Группа Руиса провела широкое сравнение вариаций Y-хромосомы у монголов и у индейцев, преимущественно южноамериканских. Ученые пришли к выводу, что американские индейцы произошли от двух транссибирских миграций{145}. Источник обеих миграций находился где-то в южных широтах центральной Сибири. Первая волна пришла в Северную Америку около 14 000 лет назад и распространилась по обоим американским материкам. Вторая волна пришла позже и не пошла дальше Северной Америки. Эта миграция могла выйти из мест, ныне населенных кетами, чей язык Гринберг считал родственным семье на-дене.
В Южной Америке у многих племен наблюдаются признаки сильного дрейфа генов – свидетельство того, что эти популяции долгие тысячелетия существовали в изоляции. Изучив сигнатуры ДНК двух племен, тикуна с верховий Амазонки и вайуу с северного побережья Колумбии, Руис-Линарес установил, что эти популяции были изолированы в течение 7000–8000 лет. Это открытие позволяет заключить, что трайбализация – разделение на малые враждующие популяции, закрепившиеся на своих территориях – в Южной Америке началась вскоре после того, как в ней появились первые поселенцы.
Раннее раздробление и древнее происхождение южноамериканских племен в значительной степени объясняют, почему америндские языки так существенно разошлись за относительно короткое время. И если это генетическое толкование верно, оно показывает, почему одновременно правы и лингвисты, перечисляющие различия между америндскими языками, и Гринберг, объединивший все эти языки в одну семью.
Если новая картина, открытая нам Y-хромосомой, подтвердится, тогда теория Гринберга о трех волнах миграции получит дополнительное подтверждение. Первые пришельцы могли пересечь Берингию не раньше 14 000 лет назад и не позже 11 000 лет назад, когда этот материк поглотили воды поднявшегося океана. Если возраст артефактов Монте-Верде определен в 12 500 верно, значит, пионеры переселялись на юг довольно быстро, вероятно двигались водой. Вторая миграция привела в Америку атабасков (на-дене), а после них появились и эскимосы с алеутами. Во всех трех языковых группах обнаружены те же митохондриальные линии: вероятно, из-за последовавшего перемешивания, но, похоже, что линии A, C и D превалировали в первой миграции, а B и X – во второй.
Митохондриальная линия X обнаружилась в недавних исследованиях сиу, навахо, оджибве и других североамериканских племен. Сначала это открытие вызвало среди ученых немалое удивление, поскольку Х – это одна из корневых линий в Европе. Возникли сложные гипотезы: например, о женщинах из североамериканской колонии викингов, Винланда, похищенных индейцами. Однако вскоре генетики установили, что куст X в Северной Америке существует по меньшей мере 12 000 лет{146}, амитохондриальную ДНК из этого куста обнаружили в 1200-летних костях, найденных в штате Вашингтон: кости находятся довольно далеко от Винланда и несколько старше его{147}.
Объяснение здесь должно быть в том, что линия Х – ответвление ветви N, достигшей Индии, – участвовала в двух главных трансиндийских миграциях. Как мы уже отмечали, часть женщин с ветви X пошла на запад в Европу, а их сестры тем временем присоединились к походу в степи Средней Азии и Сибирь. Спустя много поколений потомство этих женщин оказалось среди первооткрывателей Северной Америки.
Митохондриальная ДНК и адаптация к холоду
Пионеры, добравшиеся из Сибири в Америку, вероятно, обладали одним особенным качеством. Мост на Аляску найти было нетрудно: перед уходом под воду Берингия была обширным материком. Почему же лишь несколько партий смогли его перейти? Одна из очевидных разгадок – холодный климат Сибири и Берингии, в котором не все могли выжить. Случайно ли в Америке оказались только представители митохондриальных линий A, B, C, D и X? Уоллес предполагает, что эти линии развили особую устойчивость к холоду.
Он подчеркивает, что ветви митохондриальной ДНК географически распределяются не только по континентам, но и по широтам. Самые древние ветви L1, L2 и L3 ограничены Черной Африкой. Исключение составляют представители L3, переселившиеся на северо-восток континента, и дочерние побеги той же L3, линии M и N, покинувшие Африку и колонизировавшие земли в умеренных широтах. Уоллес задался вопросом, действительно ли такое распределение было случайным, как это принято считать, или над ним поработал естественный отбор. Митохондрии производят потребляемую организмом энергию и тепло, так что выживание в холодном и даже в умеренном климате в значительной степени зависит от генеалогии митохондриальной ДНК.
Митохондрии выпускают свою продукцию либо в форме тепла, либо в виде химического соединения АТФ, служащего переносчиком энергии. Соотношение тепла и АТФ варьирует в зависимости от модификаций ДНК в митохондриальных генах, регулирующих систему производства энергии. Для людей, живущих в холоде, лучше, если их митохондрии приспособятся выпускать больше тепла и меньше химической энергии. Если так, рассудил Уоллес, их митохондриальные гены должны хранить в себе следы былого селективного давления[8]. Изучая образцы митохондриальной ДНК со всего мира, он обнаружил, что некоторые из них действительно несут следы позитивного отбора: в частности, это люди, живущие в Сибири, и те, кто оттуда происходит, как большинство американских индейцев. Группы митохондриальных линий A, C, D и G распространены у полярных народов: к этим четырем кустам принадлежат 75 % северян и только 14 % азиатов, живущих в умеренных широтах. Некоторые европейские кусты, например H, тоже имеют признаки адаптации к низким температурам{148}.
Именно адаптацией митохондрий к холодному климату, считает Уоллес, можно объяснить, почему на генетической карте мира распределение митохондриальных линий не такое свободное, как у линий Y-хромосомы. В Y-хромосоме содержится не так уж много генов, большей частью они связаны с мужской репродуктивной способностью, и нет оснований думать, что на Y-хромосому как-то влияет климат. Именно этим может объясняться, что мужчины ушли дальше, чем женщины, по крайней мере в планетарных масштабах. Если говорить о масштабах поменьше, то генетика свидетельствует, что женщины перемещаются дальше мужчин: возможно, дело в том, что у большинства человеческих обществ практикуется патрилокальный брак и именно женщинам приходится перебираться в другие места к брачным партнерам{149}.
Адаптация к холоду могла воздействовать на человеческие популяции и в других важных аспектах, особенно во время последнего ледникового максимума. В Европе ледяные поля вытеснили жизнь не только из приполярных, но и из умеренных широт, которые спустя много поколений заново заселили люди, переждавшие оледенение в южных областях Испании и Украины. Похожее явление, вероятно, наблюдалось в восточной части Евразии, и, может, именно в этом ключ к такой великой загадке популяционной истории человечества, как появление монголоидов.
Происхождение монголоидов
Монголоиды – это термин из физической антропологии, означающий форму черепа, типичную для восточных азиатов и для многих американских индейцев. Форме черепа придавалось большое значение в расовых теориях XIX столетия, которые ошибочно соотносили строение черепа с поведением или способностями, характерными, как считалось, для той или иной расы. Современная краниометрия, или наука об измерении черепа, – это описательная дисциплина, не претендующая на выводы о поведении. Она занимается детальным сравнением анатомических особенностей черепов и выстраиванием статистических корреляций. Хотя эти параметры трудно перевести в простое описание предмета, современные восточноазиатские черепа обычно имеют тонкие черты, большую ширину и приплюснутый профиль. Черепа бывают грацильные и робустные: в таких терминах антропологи описывают толщину костей; монголоидные черепа самые грацильные во всей человеческой расе.
А еще у монголоидов особый тип зубов. Многие этнические группы, например центрально– и южноафриканцы или европейцы, сохранили в неизменности общий, стандартный тип зубов, каким он был и у прародителей человечества. Но жители Юго-Восточной Азии, Полинезии, Австралии, южного Китая и древней Японии развили несколько иную форму, которая называется сундадонтия, по имени исчезнувшего материка Сунды, частью которого были Малайзия и основная территория Индонезии. И третий тип зубов, уже модификация сундадонтии, называется синодонтия. К синодонтам относится население северного Китая, современной Японии и американские индейцы{150}. Монголоиды как раса характеризуются обоими типами новых зубов: южные монголоиды – сундадонты, а северные – синодонты.
Загадка в том, что монголоидный череп, сегодня характеризующий самую большую этническую группу на Земле, в археологических находках появляется не раньше 10 000 лет назад. Разумеется, люди в Китае жили и до того, но у них были обычные черепа ранних современных людей. Монголоидный череп – весьма недавнее изобретение эволюции.
Наука не знает точно, какие факторы вызвали формирование монголоидной расы, но предложено два объяснения, и в обоих ключевую роль играет последний ледниковый максимум.
Первое предполагает, что причина появления монголоидов – дрейф генов, случайные флуктуации в последовательностях генов, происходящие при смене поколений. Дрейф может привести к тому, что одна версия гена может стать универсальной и зафиксируется, а остальные версии исчезнут. Фиксация гена зависит от размера популяции, и быстрее происходит в малых популяциях, и значит, любые процессы, дробящие популяцию на мелкие сообщества, ускоряют генетический дрейф и эволюционные изменения. Последний ледниковый максимум вполне мог разбить территорию обитания людей, живших в северных широтах Азии, разделив их на мелкие популяции, подверженные быстрому дрейфу. В одной из них, по определению самой успешной, чисто случайно (поскольку дрейф генов – процесс стихийный) сформировались особенности монголоидного черепа, и эта группа впоследствии возобладала на востоке Азии.
Другая гипотеза предполагает, что монголоидный череп возник в результате естественного отбора. Биологи давно рассуждают о том, что морфология монголоидной расы – это адаптация к холоду. Дополнительный слой жира на веках (эпикантус или монгольская складка) утепляет глаз. Бледная кожа пропускает больше солнечного излучения, необходимого организму для производства витамина D. Коренастое телосложение уменьшает теплопотерю. Вполне вероятно, что гены, программирующие такие черты, могли закрепиться в те 5000 или около того лет, что длился последний ледниковый максимум.
Разумеется, дрейф и естественный отбор могут действовать сообща. «Возможно, с наступлением оледенения широко расселившаяся по Восточной Азии популяция сузила свою территорию в северных широтах, распавшись на несколько временно изолированных групп, – пишет антрополог Марта Миразон Лар. – Под сильным давлением среды морфологические изменения в популяции небольшой численности могли закрепиться быстро»{151}. Или, менее формальным языком, новые версии генов, программирующие физические особенности монголоидов, в одной из этих групп могли стать универсальными под действием селективного давления холодного климата.
Жители Восточной Азии, похоже, развили светлокожесть независимо от европейцев{152}. У них также есть ген, программирующий сухую ушную серу и снижающий потоотделение{153}.
Когда примерно 15 000 лет назад ледники стали отступать, монголоиды, пока еще немногочисленная группа, принялись расселяться и реколонизировать северные местности, как это, мы знаем, происходило и у обитателей Европы.
Первые современные люди, покинувшие Африку, практически наверняка были темнокожими, как их нынешние потомки в Австралии и реликтовые популяции, сохранившиеся на дороге из Африки в Австралию. Учитывая, что черепа ранних современных людей все принадлежат одному типу, нельзя исключить, что многие тысячелетия современные люди – как за пределами Африки, так и внутри – были черными. Но на каком-то этапе люди и на востоке, и на западе Евразии эволюционировали в светлокожих или были вытеснены светлокожими. Когда это произошло, наука пока может лишь предполагать. Но один из удобных для такого превращения моментов – это последний ледниковый максимум. Обитатели северных широт могли обзавестись светлой кожей, будь то в видах полового отбора или ради производства витамина D, около 20 000 лет назад. Когда вернулись ледники, приспособленные к холоду северяне медленно двинулись на юг вместе с морозным климатом, к которому были, в отличие от южных соседей, привычны. Низкие температуры давали им преимущество и помогли вытеснить с южных земель темнокожую родню. Затем, после отступления ледника, из южных рефугиумов как в Европе, так и в Азии вышли уже потомки светлокожих северян.
Это могло бы объяснить, почему региональные вариации черепов, разделяющие народы на кавказоидные (живущие на западе Евразии: в Индии, Европе и на Ближнем Востоке) и монголоидные (населяющие восток Азии) появляются только в голоцене, теплом периоде, 10 000 лет назад сменившем плейстоценовый ледник. «Большинство ранних черепов современных людей не несет никаких четких признаков ни одной из нынешних рас, – пишет антрополог Ричард Клейн, – и все более вероятным представляется, что современные расы сформировались в основном в голоцене не раньше чем 12–10 тысяч лет назад. Это особенно заметно в Восточной Азии (нынешнее горнило монголоидов), но применимо и к Европе (территории европеоидов)»{154}.
С окончанием последнего ледникового периода наконец поколебалась и монополия присваивающего хозяйства – единственного дотоле известного человечеству образа жизни. Вскоре на Ближнем Востоке начнутся первые удачные опыты создания постоянных поселений.
7. Оседлость
Человек наживает себе собственность и оставляет ее своим детям; таким образом, в пределах того же народа дети богатых людей получают преимущества перед детьми бедняков, независимо от их телесного или умственного превосходства. Но наследование собственности само по себе далеко не является злом, ибо без накопления капитала не могли бы процветать ремесла, а между тем цивилизованные расы прежде всего благодаря им одержали и продолжают одерживать верх над другими, занимая место низших рас. Умеренное же накопление богатств не мешает процессу отбора. Когда бедный человек начинает преуспевать, его дети берутся за торговлю или промыслы, в которых процветает борьба, и наиболее способный телом и духом всегда успевает более других.
Чарльз Дарвин. Происхождение человека и половой отборПоследний ледниковый максимум предварял не только появление рас, немного отличных друг от друга на вид, но и, что гораздо важнее, появление людей, которые стали жить иначе, чем все предшествующие поколения. На южных границах западной половины Евразии, вдоль восточных берегов Средиземного моря, возникло человеческое сообщество нового типа, в котором охотники и собиратели наконец выработали формы поведения, необходимые для оседлой жизни.
Плейстоцен не просто тихо закончился, его уход обернулся чехардой резких климатических перемен. После последнего ледникового максимума, где-то 20 000–15 000 лет назад, пришел теплый период, в науке именуемый беллингским межсезоньем, в течение которого растения, животные и люди смогли вновь селиться в северных широтах. Но беллингское потепление, продолжавшееся с 15 000 до 12 500 лет назад, не было настоящим рассветом. Евразию сковало следующее похолодание, начавшееся довольно внезапно. Всего за 10 лет температуры упали до почти ледниковых значений, и вскоре бескрайние леса Северной Европы превратились в тундру. Этот наскок холода известен как поздний дриас – по названию карликовой желтой розы дриада, которая растет в тундре.
Поздний дриас продолжался 1300 лет и закончился так же внезапно, как начался, – за десятилетие, как показывают пробы, выпиленные из гренландского ледяного щита, который служит своеобразным архивом глобального климата. Примерно 11 500 лет назад на землю пришел голоцен – межледниковый период, продолжающийся поныне.
Эти резкие климатические и экологические перемены стали для человечества суровым испытанием на жизнеспособность и вынудили людей осваивать новые модели поведения даже в теплых южных широтах. Точная цепочка причин и следствий остается загадкой. Все, что мы знаем сегодня: с окончанием последнего ледникового максимума на Ближнем Востоке начало складываться человеческое сообщество нового типа, перешагнувшее рамки кочевого хозяйства, и изобретшее постоянные поселения.
Может быть, оседлость, или, как говорят археологи, седентаризм, и кажется нам очевидным выбором, но для охотников и собирателей он был далеко не прост. Привязанность к одному месту увеличивает риск подвергнуться набегу. Поселения привлекают паразитов и болезни. Жизнь в поселениях требует нового мышления, новых взаимоотношений в социуме и нового общественного устройства: такого, в котором люди вынуждены обменивать заветную свободу и равенство на иерархию, вождей, властные институты и т. д.
Археологи признают переход к оседлости революцией, сравнимой с той, что знаменует начало позднего палеолита (50 000 лет назад), когда на смену анатомически современным людям явились их потомки с современным социальным поведением. Офер Бар-Йосеф из Гарвардского университета называет эти события «двумя важнейшими в истории человечества революциями»{155}.
Охотники и собиратели не знают практически никакой частной собственности, и при отсутствии имущественного неравенства все члены сообщества более или менее равны между собой. Первые оседлые сообщества оставили свидетельства совсем иного социального устройства. Дома и хранилища, судя по всему, находились в частном владении. С возникновением личного имущества появились и люди, которые накапливали его быстрее других и получали более высокий статус. Прежнее равенство исчезло, и на его месте выстроилась иерархическая пирамида с вождями и «ведомыми», богачами и бедняками, разделением труда и зачатками официальной религии в виде культа предков.
«Повседневная жизнь в деревне, где народу больше, чем в бродячем племени, требует общественной реорганизации, накладывает новые ограничения и на индивида, и на целые домовладения, – пишет Бар-Йосеф. – Чтобы надолго сохранить в деревне пригодные для жизни условия, ее обитатели принимают определенные правила поведения, которые подразумевают среди прочего признание власти вождей или начальников (вероятно, богатейших членов сообщества), активное или пассивное участие в церемониях (устраиваемых публично под открытым небом) и другие подобные вещи»{156}.
Оседлые люди должны были найти решение самой острой из социальных проблем: как защититься от других сообществ. У кочевников залогом безопасности служила мобильность. А у первых седентариев она должна была обеспечиваться иначе, и логично предположить, что достигалась за счет численности сообщества. Поскольку оседлые люди научились жить крупными группами, в случае нападения они превосходили агрессора числом. Имея перевес в живой силе над любой группой кочевников плюс укрепления и, возможно, сторожевых собак, которые появились у людей 15 000 лет назад, поселенцы могли отражать атаки любых пришельцев, явившихся захватить продовольствие и женщин.
Эта новая форма общественного устройства предшествовала и способствовала таким новшествам, как возделывание диких злаков, а также содержание в загонах и выпас диких животных: овец и коз. Эти начинания, в свою очередь, – возможно, не случайно, а по замыслу – привели к одомашниванию растений и животных и возникновению сельского хозяйства. Оседлая жизнь и иерархическая структура общества вымостили человечеству дорогу к государствам, городам, цивилизации и зачаткам институтов нынешнего урбанизма. Практически вся последующая история и прогресс человечества в определенном смысле могут быть представлены как последствия этого великого рывка из жизни собирателей в оседлое и структурированное общество.
Оседлость и сельское хозяйство начали распространяться по Европе 10 000 лет назад, и от этого момента ученые начинают исчислять эпоху неолита. Поскольку эти два изобретения становятся по-настоящему заметны в неолите, археологи долго считали, что улучшение климата позволило человеку вести сельское хозяйство, которое и мотивировало его принять оседлую жизнь. Однако им пришлось убедиться, не в последнюю очередь благодаря усовершенствовавшимся методам датировки, что на деле порядок был обратным: не сельское хозяйство привело к оседлости, а скорее оседлость возникла первой, задолго до начала неолита, а уж за ней появилось первое аграрное производство.
«До недавнего времени было принято считать началом неолита появление земледельческих поселений, – пишут археологи Питер Аккерманс из Лейденского университета (Нидерланды) и Гленн Шварц из Университета Джонса Хопкинса. – Но сегодня мы знаем, что оседлая деревенская жизнь началась за несколько тысячелетий до окончания последнего оледенения, а широкое освоение земледелия и скотоводства много позже – в конце восьмого – начале девятого тысячелетия до нашей эры. Сегодня очевидно, что сельское хозяйство не было необходимой предпосылкой оседлости, и оседлые сообщества не обязательно были аграрными»{157}.
Признаки оседлого быта можно усмотреть уже 18 000 лет назад в граветтских хижинах, выстроенных из бивней мамонта, и, возможно, люди пробовали надолго селиться возле надежных источников продовольствия: лесного ореха, лосося и пр., если придумывали способ его хранения. Однако эти ранние примеры оседлых поселений единичны, и они не требовали никаких глубинных поведенческих трансформаций. Истинный седиментаризм как постоянный образ жизни не прослеживается до завершения эпохи позднего палеолита. Первый достоверный пример успешного и долго существовавшего оседлого сообщества – это натуфийская культура, существовавшая на Ближнем Востоке от 15 000 до 11 500 лет назад. Натуфийцы жили на восточном побережье Средиземного моря, на землях нынешних Израиля, Иордании и Сирии. Ранние натуфийцы собирали дикую пшеницу и ячмень, росшие в этих землях. Для сбора диких злаков они изготавливали каменные серпы, на которых сохранились характерные следы от окиси кремния, содержавшейся в злаковых стеблях{158}.
Бар-Йосеф считает, что натуфийцы могли начать культивацию диких злаков, в том числе пшеницы-однозернянки, двузернянки, ячменя и риса, в период позднего дриаса, когда урожайность этих культур в дикой природе упала. На этот счет свидетельств недостаточно, и в любом случае натуфийцы не вывели культурных форм этих злаков. Но возделывая, обрабатывая и сохраняя зерно, они заложили технологическую основу для первых селекционеров.
Натуфийцы основали поселения на восточном берегу Средиземного моря приблизительно 15 000 лет назад. Позже они начали собирать дикую пшеницу и ячмень, заложив основы для одомашнивания этих злаков, которое произошла несколько тысячелетий спустя.
Источник: Ofer Bar-Josef, On the nature of transitions: the Middle to Upper Palaeolithic and the Neolithic Revolution Cambridge Archaeological Journal, 8:2, 1998 Cambridge University Press.Интересно, что натуфийцам, первому из оседлых народов, не были чужды ни война, ни религия – два занятия, направлявших жизнь человечества до и после перехода к оседлости. Натуфийцев принято изображать как миролюбивый народ, но внимательное изучение останков с одного из натуфийских поселений показало, что между разными группами натуфийцев вспыхивали жестокие конфликты{159}.
Натуфийская культура интересна своими погребальными обрядами, в которых отразились и социальное неравенство, и на редкость непосредственные формы почитания предков. Примерно в 10 % ранних натуфийских захоронений обнаруживаются украшения из морских раковин и подвески из звериных зубов, указывающие на представителя обеспеченной элиты. В поздний натуфийский период, когда пришли суровые времена дриаса и мобильность сообществ вынужденно возросла, погребения отражают откат к эгалитарному устройству.
В ранненатуфийский период также возникла прочно утвердившаяся затем в неолите практика отделения черепов от мертвого тела перед погребением. Тела погребали, а черепа покрывали гипсом и хранили в жилище, чтобы поддерживать тесную связь между живыми и мертвыми{160}.
Хотя мы не можем узнать, что творилось в сознании позднепалеолитического человека, похоже, что оседлость потребовала освоения понятий, неведомых или чуждых собирателям. «Медленное превращение присваивающего общества в неолитический мир земледельцев и скотоводов потребовало нового набора социальных и экономических ценностей, выстроенного вокруг дома, мертвецов, захороненных в доме и рядом, и производства и хранения товарных запасов», – пишут Аккерманс и Шварц.
Трудно не восхищаться стойкостью и изобретательностью собирателей. Однако набор интеллектуальных способностей, необходимых для выживания в дикой природе, разительно отличается от того, который нужен для процветания в дебрях городской жизни. Даже если родоплеменной собиратель родится с интеллектуальными способностями Ньютона, Дарвина или Эйнштейна, трудно представить, какую он мог бы извлечь из своего дара выгоду, или, по циничному эволюционному счету, репродуктивное преимущество, позволяющее произвести и вырастить больше детей. Но в городских условиях способность к вычислениям или к абстрактному мышлению куда легче претворяется в возможность иметь больше детей, и гены, программирующие такие способности, распространяются скорее.
Причина в том, что оседлый способ существования позволяет индивиду приобретать лишнее имущество и высокий статус, а ни то ни другое практически не встречается в эгалитарных собирательских сообществах. Собственность, в свою очередь, – это способ обеспечить выживание индивиду и его близким. На долгом отрезке человеческой истории обладание избыточной собственностью помогало людям иметь больше детей, хотя в современном обществе связь между богатством и плодовитостью не столь очевидна. Иными словами, оседлость создала совершенно новую среду обитания, к которой люди приспосабливались, вырабатывая новые модели поведения, в том числе спектр интеллектуальных способностей, которые не нужны собирателям-кочевникам.
Собственность, ценность, число, вес, меры, исчислимость, товар, деньги, капитал, экономика – все эти понятия, какими бы естественными они ни казались современному человеку, вряд ли играли сколько-нибудь заметную роль в жизни кочевых собирателей. Могло ли быть так, что современный разум, владеющий абстрактным мышлением, знаковыми системами и письмом, – на самом деле совсем недавнее наше приобретение? Возможно, процесс его формирования «следует считать постепенным, разворачивавшимся в несколько ступеней и этапов и, возможно, параллельно в разных частях мира», – пишет археолог из Кембриджа Колин Ренфрю{161}.
Таким образом, по мнению Ренфрю, можно объяснить, почему человеческие сообщества столь долгое время почти не прогрессировали. «Если люди в начале позднего палеолита уже приобрели новые способности к творчеству и новациям, которые свойственны нашему виду, почему они не проявились раньше?» – спрашивает он. Между возникновением прародителей человечества и первыми великими цивилизациями: Вавилоном, Египтом, хараппской цивилизацией в Индии и государством Шан в Китае лежит пропасть в 45 000 лет. Если современные с точки зрения поведения люди сформировались 50 000 лет назад, почему их «современность» так долго не получала практического применения? Ренфрю называет эту паузу «парадоксом мудрости».
Одно из возможных объяснений: сначала социальное поведение человека должно было претерпеть определенную эволюцию. Тогда становится понятным, почему до утверждения оседлости сменилось так много поколений. Адаптация, обеспеченная рядом изменений в генах, обусловливала новые формы поведения, которые подготовили людей к жизни крупными сообществами, к сосуществованию без постоянной вражды и к принятию иерархий и вождей. Это первое изменение – снижение агрессии – создавало новую среду обитания для оседлого сообщества, что, в свою очередь, запустило бы процесс дальнейшей адаптации, в том числе дальнейшее развитие интеллектуальных способностей.
Еще одна удивительная перемена предшествовала утверждению оседлости: утончение, или «грацилизация», скелета у всего человечества. Это превращение, о котором мы поговорим в следующей главе, вероятно, сопровождалось снижением агрессивности человека или повышением коммуникабельности – несомненно, необходимым шагом на пути к постоянному проживанию в больших сообществах.
И если такой шаг человечество действительно сделало, то, очевидно, эволюция шла параллельно в разных частях планеты, как бывало и с другими механизмами адаптации: например, с карликовостью или с переносимостью лактозы. Прямые подтверждения такой эволюции может дать человеческий геном, когда будут идентифицированы гены, влияющие на социальное поведение человека.
После перехода к оседлости у людей появилось много возможностей для инноваций в хозяйстве, торговле, военном деле и политическом устройстве. Появилась новая прорывная технология – сельское хозяйство, зародившееся в конце плейстоцена и распространившееся после потепления климата в неолите. Сельское хозяйство быстро стало развиваться, потому что человеческая популяция на Ближнем Востоке оказалась подготовленной к нему, во-первых, оседлой жизнью, а во-вторых, попытками высевать дикие злаки для увеличения урожая{162}. Прежние гипотезы возникновения сельского хозяйства зачастую предполагали действие внешних сил, будто бы вынудивших пассивное человеческое сообщество заняться обработкой земли. Ни одна из этих теорий не получила достаточного подтверждения. Есть версия о том, что заняться возделыванием пищевых культур людей вынудил рост населения. Однако археологические данные говорят о том, что население Земли начало расти не до распространения сельского хозяйства, а после этого. Другая теория гласит, что стимулом стало потепление, наступившее в конце плейстоцена. Но климат улучшился более-менее повсюду, а сельское хозяйство возникало в разных местах Земли в разное время.
«Важно понимать, – пишут Аккерманс и Шварц, – что сельское хозяйство – это не просто экономически обоснованное производство продовольствия и не вынужденный ответ неолитической популяции на какие-то масштабные события, неподвластные человеку. Напротив, освоение сельского хозяйства было частью глубинного преобразования всего собирательского общества и приспособления к совершенно новому набору общественных ценностей и смыслов»{163}. Обеспечение продовольствием не единственное объяснение возникновения сельского хозяйства. Одна из выгод жизни в оседлом сообществе, недоступная кочевым племенам, – это возможность производить с избытком и сохранять излишки. Излишки создают основу для торговли. Их можно обменять на вещи, несравненно более важные, чем запас пищи: на оружие, на связи, на статус.
Оседлость и одомашнивание
К концу плейстоценового оледенения (10 000 лет назад) уже активно шла вторая великая революция человеческой расы: превращение кочевых родоплеменных собирательских групп в крупные оседлые сообщества, скрепленные узами альтруизма и религии. Первыми этот великий поворот, создавший условия для расцвета творческой мысли человека, совершили на Ближнем Востоке. Возможно, именно тогда возникло разделение общественных функций, которое привело к повышению производительности труда. Высокая производительность позволяет иметь излишки продукта, а излишки одного продукта можно обменять у соседей на излишки другого. Оседлость, распределение функций, собственность, излишки, торговля – вот основа той хозяйственной деятельности, что позволила человеку, наконец, не зависеть, как остальные живые существа, только от щедрости природы.
Натуфийцы и другие народы позднего плейстоцена разработали технологии обмолачивания и помола диких злаков, которые они собирали. Кроме того, они начали выращивать эти злаки, вероятно, после того, как резкое похолодание позднего дриаса сократило естественные угодья, кормившие оседлые поселения.
От выращивания диких злаков оставался один шаг до выведения культурных пород. У диких пшеницы-однозернянки, двузернянки и ячменя – злаков, распространенных в Плодородном полумесяце, регионе Ближнего Востока с наибольшим количеством осадков, – созревшие зерна осыпаются с колоса. Культурные же разновидности этих злаков не осыпаются, так легче убирать урожай. Если первые земледельцы убирали дикие злаки, постукивая колосом о край корзины, то все редкие неосыпающиеся колосья-мутанты оставлялись в поле до окончания страды. Они служили семенным фондом для следующих поколений, и непреднамеренная селекция неосыпающихся пород быстро повысила частотность гена неосыпаемости.
Стихийная селекция могла подавить и другую нежелательную особенность диких злаков – способность замедлять проращивание, чтобы не запускать жизненный цикл в засушливый год{164}. Семена, решавшие не расти, автоматически отбраковывались, а оставались мутанты, всходившие при любых условиях.
На превращение возделываемых диких злаков в культурные формы, возможно, ушло не более 20–30 лет. В сочетании с кое-какими генетическими данными это дало повод считать, что одомашнивание пшеницы было легкой задачей и могло произойти независимо у разных человеческих сообществ{165}. Однако генеалогическое древо, выстроенное для домашних и диких пород пшеницы-однозернянки, показывает, что все культурные разновидности сходятся к одному корню, т. е. указывает на единственную доместикацию. То же самое касается и ячменя{166}.
Археологи пока не обнаружили такого места, где можно было бы проследить переход от диких злаков к культурным. Но неожиданная помощь пришла от генетиков, кое-что выяснивших о пшенице-однозернянке. Франческо Саламини из Института селекции растений имени Макса Планка (г. Кельн) совместно с норвежскими и итальянскими генетиками изучил почти 1400 сортов дикой пшеницы-однозернянки с Ближнего Востока. Самой близкой к культурным сортам оказалась генетическая структура у пород, произрастающих в горах Карачадаг на юго-востоке Турции. Оттуда недалеко до археологических памятников северной Сирии, таких как Абу-Хурейра, где культурную пшеницу выращивали уже 8500 лет назад. Ученые пришли к выводу, что «пшеницу-однозернянку, весьма вероятно, одомашнили именно в горах Карачадаг»: это заявление многие оспаривают, но с ним согласен Даниэль Зохари, один из главных авторитетов в области доместикации растений{167}.
Пшеница-однозернянка, очевидно, была первым злаком, который одомашнил человек. Ее выращивали уже 12 500 лет назад, первые ее культурные разновидности появились, предположительно, 10 500 лет назад, а уже 9500 лет назад в западной части Плодородного полумесяца (юго-восточная Турция и восточный берег Средиземного моря) культурная однозернянка росла в изобилии. Культурная пшеница-двузернянка, которую легче убирать, обнаруживается в Абу-Хурейре уже 10 400 лет назад. (Однозернянку практически перестали культивировать еще в бронзовом веке, двузернянку до сих пор возделывают в Эфиопии. Современные виды пшеницы происходят от случайного скрещивания культурной разновидности пшеницы-двузернянки и дикой травы эгилопса трехдюймового (Аegilops squarrosa, или Аegilops tauschii)). Предполагается, что гибрид родился около 7000 лет назад в северном Ираке. Не позже 10 000 лет назад в регионе Плодородного полумесяца были одомашнены еще два диких злака – рожь и ячмень{168}.
Первыми одомашненными животными после собаки были овцы и козы, которыми человек обзавелся предположительно 10 000–9500 лет назад. Примерно в то же время одомашнили тура и дикого кабана, получив корову и свинью. Туры широко обитали по всей Европе и Ближнему Востоку, но сравнение британских туров (по митохондриальной ДНК, обнаруженной в ископаемых костях) с современными быками показывает, что европейский скот тоже происходит от ближневосточного прародителя{169}. Не исключено, что эти виды, как и дикие злаки, были одомашнены непреднамеренно, и сначала дикие стада загонялись на огороженные участки, а наиболее смирных особей оставляли плодиться. Иными словами, 10 000 лет назад люди не ставили себе целью одомашнивание животных, потому что вообще не догадывались, что оно возможно. Вместе с тем у них уже был пример приручения собаки.
Лошадь одомашнили значительно позже и не на Ближнем Востоке, предположительно – в пределах Евразийской степи. Кости домашней и дикой лошади трудно различить, но конские черепа с предполагаемыми следами удил на зубах обнаруживаются в археологических памятниках Украины и Казахстана начиная с 6000 лет назад. Не в пример всем другим изученным на сегодня домашним животным, которые одомашнивались лишь один или два раза, лошадь, по данным анализа митохондриальной ДНК, одомашнивалась многократно в разных местах и в разное время{170}. Не исключено, что от одного сообщества другому передавались не сами домашние лошади, а технологии отлова, укрощения и разведения диких особей. В объяснение этому можно предположить, что лошади ценились необыкновенно высоко – возможно, за их военное применение, – и люди спешили одомашнить своих, не дожидаясь возможности приобрести пару для разведения{171}.
Ближневосточные народы, приручившие множество видов растений и животных, понесли свои сельскохозяйственные практики на запад и на север, в Европу. В археологии прежде господствовало мнение, что аграрные сообщества, умевшие прокормить больше народу, просто вытеснили своей многочисленностью коренных обитателей Европы, которые пришли туда в позднем палеолите кочевыми собирателями. Однако, как мы упоминали в прошлой главе, анализ по основателю, проведенный Ричардсом, показывает, что лишь малая часть современных европейцев происходит от неолитических земледельцев с Ближнего Востока.
Судя по всему, аграриев, пришедших в Европу с Ближнего Востока, было совсем немного, а аборигены принялись подражать их благополучной жизни, селясь на одном месте и перенимая новые хозяйственные практики. Либо партии пришельцев, если они состояли в основном из первопроходцев-мужчин, могли похищать женщин из местного населения. Пока эти аграрии и принесенная ими культура продвигались дальше по Европе, их гены с каждым следующим поколением размывались все больше{172}.
Каков бы ни был механизм экспансии, только четыре из 10 основных линий Y-хромосомы, присутствующих в Европе, пришли сюда в эпоху неолита. К этим четырем линиям, по данным Семино и Андерхилла, принадлежат 22 % европейских Y-хромосом, что примерно соответствует картине митохондриальной генеалогии, в которой неолитические корни прослеживаются у 13 % населения континента{173}.
Только хронологическое совпадение связывает эти Y-хромосомы с неолитом, так что, учитывая неточность генетической датировки, очень не помешали бы прямые свидетельства. Одно такое свидетельство дает расписная глиняная посуда и фигурки из раскопок неолитических поселений. Эту керамику, известную как «линейно-ленточная керамика», изготавливали на Ближнем Востоке, в колыбели неолитической революции, а также в Греции, на Балканах и в Южной Италии. Ученые из Стэнфордского университета, Рой Кинг и Питер Андерхилл, сравнили географическое распространение линейно-ленточной керамики с географией четырех линий Y-хромосомы, пришедших в Европу на заре неолита. Они обнаружили, что одна из этих линий, отмеченная мутацией M172, практически точно совпадает по распространению с культурой линейно-ленточной керамики{174}. В наши дни популяция с самой высокой частотой мутации M172 у мужчин обнаруживается в городе Конья, который расположен неподалеку от южного побережья Турции всего в 100 с небольшим километрах от знаменитого неолитического памятника Чатал-Хююк. В этом городе мутацию M172 в Y-хромосоме имеют не менее 40 % мужчин.
Эти находки подтверждают гипотезу о проникновении в Европу неолитических аграриев из окрестностей Чатал-Хююка, и их постепенном смешивании с аборигенами. Земледельческие практики и гончарные технологии пришельцев распространились повсеместно, а вот гены нет. Вопрос о том, не эти ли люди принесли в Европу праиндоевропейский язык, мы обсудим в главе 10.
Взаимодействие генов и культуры: переносимость лактозы
Пока люди изменяли генетику одомашненных растений и животных, задавая им новые условия жизни, любопытные вещи происходили и с самими людьми. Их гены тоже менялись, приспосабливаясь к новым условиям оседлого существования.
Воины и успешные охотники, которые в собирательских сообществах производили больше всех детей, в оседлых поселениях лишились былого статуса. Здесь возможность воспитать большое потомство получили те, кто преуспел в новых видах деятельности: крестьяне, жрецы, управленцы. Через много поколений оседлые люди могли выработать особый набор поведенческих форм, отличающий их от кочевых предков.
Эту догадку пока нельзя подтвердить, потому что гены, программирующие человеческое поведение, ученым по большей части еще не известны. Однако пластичность, с которой человеческий геном отвечает на культурные сдвиги в обществе, хорошо заметна на примере одной физиологической адаптации: необычной для приматов способности переваривать молоко во взрослом возрасте (так называемая переносимость лактозы){175}.
Хотя одомашнивание скота произошло на Ближнем Востоке, Европа стала центром скотоводства уже в одной из первых ее сельскохозяйственных культур, известной по дошедшей от нее керамической посуде как Культура воронковидных кубков (КВК). Эта культура, существовавшая с 6000 до 5000 лет назад, была распространена в Центральной и Северной Европе на территории нынешних Нидерландов, северной Германии, Дании и южной Норвегии. И она оставила долгий след в генетике местных популяций как домашнего скота, так и человека.
Недавно группа ученых под руководством Альбано Беха-Перейры исследовала гены европейских коров 70 разных пород, кодирующие шесть самых важных молочных белков. По образцам, отобранным у 20 000 особей, ученые составили карту генетического разнообразия крупного рогатого скота. Область с наибольшим разнообразием – а обычно это территория, откуда происходит вид, – близко совпадает с границами распространения КВК.
Затем провели такое же картографирование одной генетической особенности человека: переносимости лактозы, т. е. способности ее переваривать не только в младенчестве. Ученые обнаружили, что значительная часть территории, где отмечается максимальный процент людей с переносимостью лактозы, также оказалась в границах древней области воронкообразных кубков. С удалением от этой территории переносимость лактозы среди людей встречается все реже{176}. Это значимое открытие: оно показывает, что человеческая популяция в недавнем прошлом эволюционировала под влиянием перемен, созданных человеческой культурой. Лактоза – это вид сахара, основной носитель калорий, содержащихся в материнском молоке. Ген, который производит расщепляющий лактозу фермент лактазу, включается перед рождением и выключается у большинства людей по выходе из грудного возраста. Поскольку в естественный рацион большинства взрослых людей лактоза не входит, продолжать производство лактазы означало бы впустую тратить ресурсы организма. Однако у людей североевропейского происхождения и до известной степени у африканских и бедуинских племен, которые пьют сырое молоко, ген лактазы остается активным до наступления зрелого возраста или даже всю жизнь. У этих народов способность расщеплять лактозу в коровьем, овечьем и козьем молоке, очевидно, дает столь важное преимущество, что генетическая мутация, обеспечивающая эту способность, получила самое широкое распространение.
Генетики еще не до конца восстановили точную механику модификации гена лактазы, заставляющую его оставаться активным. Сама последовательность ДНК этого гена одинакова и у переносящих и у не переносящих лактозу людей. Разница, должно быть, в каком-то соседнем участке ДНК, контролирующем активацию гена, типа двух мутаций недавно обнаруженных Лееной Пелтонен из Университета Хельсинки{177}.
Ученые точно знают, что европейцы с переносимостью лактозы унаследовали от общего предка крупный отрезок ДНК, в который входят ген лактазы, соседний ген и многие другие гены, неизменным. Размер этого отрезка говорит о недавних эволюционных модификациях. Крупные блоки ДНК крайне редко сохраняются без изменений, потому что в каждом поколении пары хромосом обмениваются участками ДНК, чтобы новые особи имели уникальную комбинацию генов. Легко понять, что отрезки оригинальной ДНК, с которой хромосома начинает работу, становятся от поколения к поколению все короче в процессе смешивания генов. И значит, крупный отрезок, неизменный у многих людей, есть знак недавнего отбора. Большие блоки создаются, когда появляются какие-то «обязательные» мутации, активно продвигаемые процессом естественного отбора. Природа не может отделить нужные ей мутации или гены; она умеет только поддерживать особей, унаследовавших крупный участок ДНК с полезными генами.
Участок ДНК не просто демонстрирует присутствие гена, отделенного естественным отбором, но помогает определить время, когда этот ген «пошел в работу»: чем больше участок, тем короче отбор. Джоэл Хиршхорн из Гарвардского университета установил, что у толерантных к лактозе европейцев отрезок ДНК, содержащий ген лактазы, охватывает примерно 1 млн ДНК-единиц. Хиршхорн считает это признаком активного положительного отбора и датирует начало широкого распространения этого участка ДНК периодом между 21 000 и 2000 лет назад{178}. Такая датировка совпадает с периодом существования КВК.
Переносимость лактозы широко распространена среди северных европейцев, живущих на бывшей территории КВК: ей обладают, по данным одного исследования, 100 % голландцев и 99 % шведов. Встречается она у других народов, но далеко не с такой частотностью. В Африке у скотоводческих племен переносимость лактозы встречается чаще, чем у нескотоводческих. В некоторых африканских этнических группах доля толерантных к лактозе индивидов доходит до 25 %. Здесь переносимость лактозы встречается предсказуемо реже, чем в Европе, потому что в Африке пасти скот начали позже, и естественный отбор длился меньше времени, что отразилось на частотности гена.
Похоже, что в Африке генетическая база переносимости лактозы иная, поскольку обнаруженный группой Пелтонен у европейцев отрезок ДНК, ответственный за толерантность к лактозе, практически не представлен на этом континенте{179}.
Феномен переносимости лактозы проливает свет на три аспекта человеческой эволюции. Во-первых, он показывает, что эволюция, вопреки распространенному мнению, не остановилась 50 000 лет назад, с исходом современных людей из Африки, а поныне продолжает формировать человеческий геном.
Во-вторых, мы видим, что в разных популяциях геном схожим образом отвечает на одни и те же эволюционные побуждения: этот процесс называется конвергентной эволюцией. Переносимость лактозы возникла независимо у народов Северной Европы и у нескольких этнических групп в Африке. Многие другие человеческие свойства, после того, как прародители человечества рассеялись по земле, вероятно, тоже сформировались независимо в разных популяциях, как, например, и те предполагаемые когнитивные преимущества, что мы обсуждали в главе 5.
В-третьих, не остается сомнений, что гены отвечают на культурные перемены. Это неудивительно, поскольку человеческая среда обитания формируется преимущественно культурой, а геном – это механизм приспособления к среде обитания. Однако общественные науки не склонны учитывать обратное влияние культуры на гены, и многие ученые считают, что с появлением человеческой культуры всякая эволюция, имеющая практическое значение, остановилась. Феномен переносимости лактозы показывает, что любые закрепившиеся поведенческие схемы, употребление в пищу сырого молока, могут вызвать изменения в генетике, если только геном имеет возможность на них реагировать.
Обращаясь к эпохе между 50 000 и 5000 лет назад, т. е. от момента существования племени прародителей и до культуры воронкообразных кубков, мы видим, что в этот период среда обитания человека претерпевала самые резкие перемены, в частности в общественном устройстве. Охотники и собиратели научились жить оседло и объединяться в большие сообщества, не связанные узами крови. Равноправие сменилось иерархией, а общий для всех набор занятий – все более дробным распределением функций. Все эти изменения, видимо, формировали новые поведенческие практики, часть которых посредством эволюционных модификаций закрепились в человеческом геноме.
Иными словами, человеческая природа за последние 50 000 лет существенно, хотя и не радикально, изменилась. Ее фундаментальные характеристики одинаковы у всех людей на Земле, а значит, унаследованы из одного источника. Но любые характеристики, задаваемые генами, могут и обязательно будут варьироваться, потому что на длинных этапах истории лишь немногие гены остаются неизменными. Тему эволюции человеческой природы мы рассмотрим в следующей главе.
8. Общество
Все согласятся с тем, что человек – общественное животное. Это проявляется в его нелюбви к уединению и в стремлении к обществу за пределами его собственной семьи. Одиночное заключение – одно из самых тяжелых наказаний, которые можно придумать для него.
То обстоятельство, что у дикарей почти всегда и везде происходят войны между племенами соседних участков, не доказывает, что человек – животное необщественное, потому что общественные инстинкты никогда не распространяются на всех особей одного вида. Судя по аналогии с большим числом четвероруких, вероятно, что древние обезьянообразные родоначальники человека были также животные общественные, но это не очень существенно для нас. Хотя человек в его современном состоянии обладает немногими специальными инстинктами, потому что он утратил все, бывшие некогда принадлежностью его предков, тем не менее нет причины отвергать возможность сохранения с древних времен до известной степени инстинктивной любви и сочувствия к своим товарищам. […] Так как человек – общественное животное, то, вероятно, он тоже наследует наклонность быть верным своим товарищам и повиноваться вождю своего племени, потому что это черта, свойственная большинству общественных животных. Отсюда он мог приобрести и некоторое уменье владеть собой и сохранить наследственную склонность защищать совместно с другими своих ближних и проявлять готовность помогать им всеми способами, не идущими чересчур сильно наперекор его собственной пользе или его собственным сильным желаниям.
Чарльз Дарвин. Происхождение человека и половой отборЯномамо – группа племен, обитающих в джунглях на границе Бразилии и Венесуэлы. До недавних пор они сохраняли традиционный образ жизни, на который не повлияли ни миссионеры, ни другие пришельцы из цивилизованного мира. Яномамо живут в деревнях и занимаются сельским хозяйством, основной источник пищи у них – плантации пизанга, крупных овощных бананов. Джунгли служат источником разнообразных лакомств: например, броненосцев или деликатесных личинок размером с мышь, которых яномамо извлекают из-под коры пальм и жарят.
Обеспечение продовольствием отнимает всего три часа в день. Долгий досуг мужчины яномамо заполняют употреблением галлюциногенных наркотиков, приготовленных из разных растений, а шаманы – пребыванием в трансе, общением с духами и сказаниями.
Но, если жизнь так легка, почему яномамские деревни находятся в состоянии почти постоянной вражды друг с другом и с другими племенами? Они заключают союзы, скрепляемые подарками и ритуальными празднествами, чтобы укрепиться против врага. Но зачастую празднества оказываются ловушками и кончаются для приглашенных гостей кровавой баней. Такая постоянная война недешево обходится. По данным антрополога Наполеона Шаньона, изучающего яномамо несколько десятилетий, около 30 % смертей взрослых мужчин в этом племени – насильственные{180}. Шаньон выяснил, что у 57 % яномамо старше 40 лет двое или больше близких родственников – дети, родители, братья – погибли от чужой руки.
Образ жизни яномамо ни в чем не сходен с существованием большинства людей в развитых экономиках. И при этом у них есть все ключевые общественные институты, включая военное дело, торговлю, религию и четкое разделение гендерных ролей. Откуда пришли эти институты? Есть ли у них биологические корни или это исключительно культурные явления? Какие механизмы в первую очередь обеспечивают цельность человеческого сообщества?
На все эти вопросы отвечает гипотеза – правда, не подтвержденная прямыми доказательствами, – согласно которой все формы общественного поведения человека тем или иным образом укоренены в генетической матрице, доставшейся ему от предков-приматов и адаптированной путем эволюции к складывающимся условиям жизни.
Одной из таких адаптаций, вероятно, была активная экспансия свойственных шимпанзе чувства территории и агрессивности к представителям своего вида. Вместе с тем человек приобрел особый набор совершенно иных форм поведения, позволяющих эффективно взаимодействовать с ближними в крупных и сложноорганизованных сообществах. В группах шимпанзе большинство самцов – родственники: их общий генетический интерес и есть тот «клей», который объединяет группу. Люди же развили формы поведения, позволяющие даже к чужакам относиться, как к родственникам, и на этом держится вся городская культура. Именно мягкие формы поведения, составляющие такую же часть человеческой природы, как и склонность к убийству и насилию, обеспечивают социальную сплоченность, благодаря которой развивается цивилизация.
Социальная динамика у приматов
В человеческом геноме, несомненно, присутствуют гены, влияющие на его общественное поведение, но ученые их еще не отыскали. И пока их не обнаружат, представление о них лучше всего помогут составить новые данные об общественном устройстве у шимпанзе и бонобо. Социальные модели у этих двух видов обезьян сильно разнятся. У шимпанзе доминируют самцы и агрессия, а у бонобо главенствуют самки и царит согласие. Логично заключить, что обе поведенческие схемы были присущи общему предку обезьян и человека, от которого происходят шимпанзе и бонобо. Таким образом, нравы этих двух видов приматов могут сообщить бесценную информацию о тех формах поведения, которые мы могли унаследовать от общего с обезьянами предка.
Общество у шимпанзе складывалось, очевидно, с целью обеспечить его членам максимальный репродуктивный успех. Их социальная структура тщательно приспособлена к условиям жизни, так же как и радикально иная структура общества бонобо к их условиям. В человеческих сообществах тоже существует широкий спектр различных структур, в каждой из которых можно увидеть решение той или иной проблемы. Эгалитарные нравы охотников и собирателей – адекватный ответ на проблему непостоянства охотничьей удачи. А для торговли и распределения излишков лучше подходит иерархическая структура оседлого общества.
Шаблоны общественного поведения шимпанзе и человека весьма сходны в главном: в том, что касается защиты территории и стремления радикально решить проблему враждебных соседей путем их полного истребления. Но в других важнейших аспектах они расходятся. У людей сформировались совсем иные отношения между полами, основанные на институте семьи, а не на разделении мужской и женской иерархий. Семья требует значительно большего доверия между мужчинами: им нужно объединяться ради важных целей, например для ведения войны, не опасаясь, что их жен похитят. Кроме того, во всех человеческих группах существуют институты, неизвестные шимпанзе. Сюда входит право собственности, церемонии, ритуалы и религии, проработанная система обмена и торговли, построенная на универсальном принципе взаимности.
Группы шимпанзе, как и примитивные человеческие сообщества, строятся на родственных связях, и эволюционный смысл такого подхода вполне понятен. Но родственные группы не могут преодолеть определенных лимитов численности. Люди, обретшие дар языка, выработали способы создавать большие коллективы, не связанные кровными узами. Одна из этих объединяющих сил – религия, которая появилась, скорее всего, почти одновременно с языком.
Богатство человеческой культуры не позволяет легко обнаружить генетическую подоплеку нашего социального поведения. Гораздо проще наблюдать поведенческие схемы, заданные генетикой, у нашей дикой родни. Шимпанзе в природе изучаются около 45 лет, эту работу начали Джейн Гудолл, работавшая в Национальном парке Гомбе (Танзания), и Тосисада Нисида (заповедник Махале, Танзания) и продолжили их последователи. Лишь в последние годы в результате огромной работы у ученых начала складываться некоторая общая картина. Сегодня биологи могут объяснить многие фундаментальные особенности общественного устройства у шимпанзе и знают, как функционируют его отдельные части. Механика социума шимпанзе имеет самую прямую связь с гораздо менее очевидной стратегией человеческой социальности.
Изначально Джейн Гудолл считала, что шимпанзе в Гомбе живут одной большой и счастливой коммуной, но затем, не без помощи опытов Нисиды, выяснилось, что все ровно наоборот. Шимпанзе делятся на стаи числом до 120 особей, каждая имеет свою территорию и агрессивно ее защищает.
Вся стая никогда не собирается вместе. Ее члены передвигаются по территории группами переменного состава примерно по 20 голов: специалисты по изучению приматов называют это обществом деления-слияния (fission-fusion society). Самка с детенышами нередко ест отдельно либо в небольшой группе с другими самками с потомством. Удивительная параллель с человеческими нравами: сообщества шимпанзе патрилокальны, т. е. самцы остаются на своей территории, а самки перемещаются к брачным партнерам на соседние участки. Обычно самки шимпанзе в возрасте полового созревания покидают родные сообщества и присоединяются к чужим, где больше нравятся самцам, чем тамошние «невесты».
Большинство охотничье-собирательских сообществ также патрилокальны – жена уходит жить в клан мужа. Биологическая причина – страховка от инбридинга, с проблемой которого сталкиваются все социальные животные. Но в мире приматов почти всеобщим стало другое решение – матрилокальность, когда женские особи остаются на месте, а уходят, достигнув половой зрелости, самцы. Патрилокальность – исключение, и она возникла, кроме человека и шимпанзе, предположительно, только у четырех видов приматов{181}.
Другая необычная черта социальности шимпанзе – тоже свойственная человеку – это склонность устраивать кровавые набеги на соседей. Самцы не просто охраняют границы своего участка: они то и дело нападают на иноплеменников, при этом зачастую убивают. Это обстоятельство немало удивило многих биологов и социологов, привыкших думать, что война – феномен исключительно человеческой социальности.
Зачем вообще стаи шимпанзе держатся своей территории и защищают ее? Зачем убивают друг друга? Ученые считают, что им удалось реконструировать фундаментальную логику социальности шимпанзе, по крайней мере в общих чертах. Социум шимпанзе, как оказалось, формируется необходимостью добывать себе пропитание – преимущественно за счет собирания плодов. Деревья плодоносят лишь время от времени. Они разбросаны по лесу и саванне и не могут обеспечить пищей большую стаю. Самкам шимпанзе, которым необходимо не только выжить самим, но и выкормить детенышей, удобнее промышлять самостоятельно. Они кормятся на участке площадью в несколько квадратных километров и редко его покидают. Размер участка необыкновенно важен. По данным Дженнифер Уильямс и Энн Пьюси, изучавших шимпанзе парка Гомбе, чем больше участок, тем короче у самки интервал между родами, т. е. тем больше потомства она приносит.
Что касается стратегий самцов, то каждый из них стремится к репродуктивному успеху, оберегая одну самку. Однако самцам кажется более рациональным объединяться в отряды и охранять территорию, на которой пасется много самок. Одно из разумных объяснений этой стратегии заключается в том, что в условиях патрилокальности самцы, как правило, приходятся друг другу родственниками, и, защищая группу самок, каждый самец-шимпанзе борется не только за свой репродуктивный успех, но и за успех рода. Ведь гены родственников в значительной степени сходны с его генами. Как замечает биолог Уильям Хэмилтон, предложивший доктрину совокупной приспособленности, помочь кровному родственнику передать гены по наследству – практически то же, что передать свои. Поэтому у видов с кровно обусловленной социальностью закрепляются гены, поощряющие альтруизм. Та же самая логика объясняет сплоченность муравьиных и пчелиных сообществ, в которых рабочие особи генетически ближе к своим сестрам и братьям, чем к потомству, которое могли бы принести. Из-за этого рабочие особи отказываются от возможности размножения и счастливы участью бесплодных нянек при детях царицы-матки.
В сообществах шимпанзе самцы и самки обычно не склонны проводить время вместе, исключая моменты спаривания. Два пола организуются каждый в свою общественную иерархию. Любой взрослый самец требует почтения от любой самки и немедленно прибегает к насилию, если самка не готова подчиняться. При всех наших различиях и у человека, и у шимпанзе социум решает одну и ту же задачу: обеспечить самцам и самкам подходящий способ получить личное репродуктивное преимущество.
Во главе мужской иерархии стоит альфа-самец, удерживающий свой статус за счет физической мощи и, что не менее важно, за счет союзов с другими самцами. «Альфа живет в постоянной опасности заговора самцов и должен непрерывно укреплять свой статус демонстративной воинственностью», – пишет Джон Митани{182}. Проверка вожака на прочность, которую ученые иногда иронически называют выборами, может произойти в любой момент. Поражение на выборах у шимпанзе – не самая приятная перспектива. Проигравшему зачастую просто отрывают детородный орган и оставляют умирать. Долгое правление не гарантирует мирной отставки. Шимпанзе Нтолги из Махале был альфа-самцом 16 лет, а потом заговорщики свергли его и убили.
Какая же выгода быть альфа-самцом, если приходится каждый день рисковать своей властью, а единственная процедура отрешения от нее – насильственная смерть? Задумываются ли над этим шимпанзе или нет, эволюция свидетельствует: высокая позиция в мужской иерархии дает самцу возможность чаще спариваться и оставить больше потомства.
Эта связь далеко не сразу открылась ученым. Самка шимпанзе в период овуляции демонстрирует готовность к зачатию: у нее на заду появляется большая розовая шишка. Самки в эту пору становятся весьма общительными и всеми силами стараются спариться с каждым самцом в стае, в среднем копулируя 6–8 раз в день. Джейн Гудолл наблюдала случай, когда самка спаривалась 50 раз в течение дня{183}. Цель такого поведения, как считают биологи, скрыть отцовство. Если самец шимпанзе знает, что детеныш мог быть зачат им, он вряд ли его убьет.
При такой, казалось бы, хаотичной системе спаривания, каким образом высокоранговые самцы получают положенную по статусу награду? Во-первых, они спариваются чаще, хотя обычно и делят партнерш с другими самцами. Во-вторых, вспомним о таком явлении, как спермовые войны. При большом числе партнеров у самки, преимущество будет у того самца, который сможет произвести больше спермы и «затопить» соперников. Поэтому эволюция отбирает самцов шимпанзе с огромными по отношению к телу тестикулами. Но было непонятно, имеют ли эти самцы выгоду от своего ранга, пока не появились современные методики ДНК-анализа на отцовство. Группа ученых под руководством Джулии Констебл недавно обнародовала результаты 20-летнего исследования шимпанзе из Касекелы (Гомбе). Ученые обнаружили, что в 36 % беременностей отцом оказывается правящий альфа-самец, а если не считать его близких родственниц, зачатий с которыми следует избегать, то все 45 %{184}. Еще 50 % зачатий приходится на долю других высокоранговых самцов. В Гомбе, помимо альфы, в стае обычно бывает не меньше двух самцов, считающихся высокоранговыми.
Большинство зачатий, зафиксированных группой Констебл, случились во время обычных массовых совокуплений или, как называют их ученые, «ситуационных спариваний», из чего можно заключить, что многие зачатия альфам обеспечивает именно победа в гонке сперматозоидов.
У самок шимпанзе тоже есть своя иерархия. Не такая четкая, как у самцов, потому что самки большую часть времени проводят в уединении, кормясь на своих участках, а не пребывают, как самцы, в постоянном взаимодействии, но и у самок место в иерархии заметно влияет на репродуктивный успех{185}. Детеныши самок с низким «рейтингом» чаще гибнут. Отчасти потому, что их, случается, убивают более статусные самки. В Гомбе высокоранговая самка Пейшн и ее дочь Пом крали и поедали новорожденных детенышей у соседок, чтобы не допустить посягательств на свои кормовые угодья. Пока ученые не знают точно, каким образом самки получают высокий статус, но в общем смысле ранг особи в иерархии шимпанзе, судя по всему, очень зависит от ранга ее матери. В Гомбе детьми высокоранговой и сексуально привлекательной самки Фло были Фиган, альфа-самец, правивший стаей десять лет (с 1971 по 1981 г.), и Фифи, ставшая доминантной самкой. Фифи помогла своему первенцу Фрейду сделать первые шаги к власти, выступив на его стороне, когда он подростком стал обозначать свое превосходство над самками. Фрейд был альфа-самцом с 1994 по 1998 г., а потом заболел лишаем и был свергнут младшим братом Фродо.
Династические войны у людей историки объясняют различными сложными причинами: желанием славы, захватом территорий, насаждением религий. Намерения шимпанзе, не затушеванные такого рода домыслами, можно понять по результатам их действий. Все войны ведутся ради репродуктивного преимущества. Каждый участник старается оставить как можно больше потомства. Самцы стремятся занять в иерархии место рангом повыше, чтобы больше спариваться с разными самками. Самки ищут лучшие кормовые участки, чтобы родить и вырастить как можно больше детенышей. Конечная цель проста, но в сложно устроенном обществе, чтобы ее достичь, индивиду приходится реализовывать весьма сложные сценарии поведения.
Надо полагать, социальное поведение шимпанзе мотивировано генетически, но у них, как и у людей, есть еще и культура, т. е. усвоенные формы поведения, варьирующие от сообщества к сообществу. В недавнем обзоре семи многолетних полевых исследований шимпанзе, Эндрю Уайтен с соавторами насчитывают 39 поведенческих схем, которые по-своему выстраиваются в каждом обезьяньем сообществе, и это своеобразие не имеет видимого экологического объяснения{186}. Все шимпанзе во всех сообществах привычно используют орудия, но используют совершенно по-разному. Особи из национального парка Тай в Кот-д'Ивуаре разбивают орехи камнями, будто молотками, а в Гомбе такого полезного навыка не изобрели и не переняли. Ни одного случая применения орудий в быту до сих пор не отмечено у бонобо{187}. Напрашивается вывод, что у шимпанзе склонность к использованию орудий обусловлена генетически, а у бонобо нет.
Если поведенческие вариации в разных сообществах шимпанзе по большей части культурное явление, то сквозные черты социального поведения у них заданы генами. И сдвигом в этой генетической матрице объясняется разница между общественным устройством у шимпанзе и у их родственников бонобо, эволюционные пути с которыми разошлись около двух миллионов лет назад.
Альтернатива бонобо
Бонобо настолько похожи на шимпанзе внешне, что биологи долгое время считали их одним видом. Но поведение у них сильно различается. Не в пример обществу шимпанзе, где самцы свирепо принуждают самок к подчинению, в царстве бонобо у руля как раз женский пол. Чтобы такой порядок оставался неизменным, самки во всем помогают друг другу и сообща пресекают любые попытки самцов вмешаться в их дела. Доминантный статус позволил самкам изжить инфантицид, самый страшный кошмар матерей-шимпанзе.
Бонобо привлекли внимание человека тем, что практикуют секс не только для продолжения рода, но и как акт социализации и как универсальную форму примирения. Репродуктивная физиология у бонобо имеет небольшое, но критически важное в социальном плане отличие от физиологии шимпанзе. Самцы шимпанзе едва ли не с точностью до дня определяют – вероятно, по запаху – наступление овуляции у самок и тут же начинают яростно состязаться за их расположение. У бонобо овуляция, как и у людей, не имеет внешне заметных признаков. Самцы, которые все равно могут практически в любое время спариваться с любыми самками, не знают жестокого соперничества, потому что не видят в нем смысла. С точки зрения самок, общественное устройство бонобо работает безупречно: узнать, кто отец детеныша, невозможно.
Сообщества бонобо заметно менее агрессивны по отношению друг к другу, чем сообщества шимпанзе. Самцы не патрулируют границ, не ищут драки. Биологи даже наблюдали, к своему немалому удивлению, как группы бонобо из разных стай мирно проводили время вместе.
Почему же поведение бонобо так отличается от поведения шимпанзе? Похоже, дело в том, что условия жизни бонобо, направляющие эволюцию их общественного устройства, отличаются от условий жизни шимпанзе одной тонкой, но очень важной деталью. Далее мы излагаем теорию, предложенную специалистом по шимпанзе из Гарвардского университета Ричардом Рэнгемом, частично основывающимся на наблюдениях японского ученого Такаеси Кано и его коллег.
На первый взгляд, между средой обитания шимпанзе и бонобо нет никаких заметных различий. И те и другие живут в тропических лесах, хотя шимпанзе обитают еще и в саванне. Шимпанзе живут по всей Тропической Африке от западного берега до восточного, но при этом они живут севернее реки Заир, а бонобо – южнее.
Река – это граница, к югу от которой не водятся гориллы. Гориллы – прожорливые едоки травянистых растений. Шимпанзе к северу от реки, живущие с ними на одной территории, едят только плоды деревьев, оставляя травы и листья соседям. А вот бонобо к югу от Заира едят и то и другое, и зубы у них приспособлены к срезанию травы.
Разница в рационе приводит к важнейшим последствиям. Самки шимпанзе собирают еду каждая на своем участке: это наиболее эффективный способ прокормиться. Но для бонобо в лесу пищи в избытке, и потому они могут пастись группами более-менее постоянного состава. Так самки получают возможность сдружиться, что они и делают, используя традиционную для бонобо социальную смазку – интенсивный секс. «Иными словами, стабильность группы порождает власть женщин», – пишет Рэнгем{188}.
И у бонобо, и у шимпанзе общество устроено так, чтобы каждая особь могла наиболее успешно использовать среду обитания. Эволюция бонобо закономерно предполагала серьезные генетические изменения сравнительно с шимпанзе{189}. Самцам пришлось умерить уровень агрессии, а самкам приобрести вкус к формированию сильных союзов, без которых они не смогли бы контролировать самцов.
Хотя ученые пока не могут этого доказать, более вероятным кажется, что бонобо произошли от шимпанзе, а не наоборот. Вместе с тем оба вида происходят от общего предка шимпанзе и людей, который в своей поведенческой матрице должен был сочетать черты бонобо и шимпанзе. Это объяснило бы, откуда у людей их противоречивые склонности к агрессии и к кооперации. «Человек последовательно характеризуется и большей жестокостью, чем шимпанзе, и большей эмпатией, чем бонобо: мы, безусловно, самая противоречивая из обезьян, – пишет ученый Франс де Вааль. – В наших сообществах не бывает ни полного мира, ни тотального соперничества; ни чистый эгоизм, ни всеобщая добропорядочность не торжествуют нигде»{190}.
Издержки и выгоды вражды
Помимо приобретенной или врожденной приспособленности к среде обитания социумы человека и шимпанзе роднит еще одно важнейшее качество: склонность к убийству себе подобных. Воля к убийству представителей своего вида, судя по всему, коррелирует с развитым интеллектом. Возможно, из всех видов животных только человек и шимпанзе сумели рассудить, что полное истребление врага, хотя и требует дополнительных усилий, но является максимально верным решением, и не стоит оставлять врагу жизнь и возможность продолжить борьбу.
Военные умения недооценены как биологический феномен; в своем роде они столь же замечательное усовершенствование человека, как и его способности к творчеству, явленные в пещерных росписях позднего палеолита. Военное дело у людей имеет несколько уровней сложности, и на высших уровнях становится неотъемлемым компонентом государственного управления. Между тем на нижнем конце спектра в плане целей и методов наблюдается практически та же ситуация, что и у шимпанзе.
Война у шимпанзе – это группы самцов, патрулирующие границы своей территории и высматривающие самца из соседней стаи, которому хватило легкомыслия кормиться в одиночку. Иногда они совершают набеги вглубь вражеского участка. «В патруле у обезьян наблюдается характерное и необычное поведение, – пишет ученый Джон Митани. – Они не шумят, насторожены и сосредоточены. Идут плотной цепью, то и дело замирают, прислушиваясь, нюхают землю и увлеченно изучают ночные гнезда, сооруженные другими шимпанзе, помет и объедки»{191}. Они в тревоге, как люди, совершающие набег.
Шимпанзе тщательно просчитывают шансы и стараются не рисковать – абсолютно оправданная тактика, если драться приходится все время. Они предпочитают нападать на одиночек и потом отступать на свою территорию. Наткнувшись на вражеский патруль, оценивают численность противника и, если врагов больше, спешат скрыться. Ученые подтвердили это, проигрывая в динамик клич одинокого самца партиям шимпанзе различной численности. Оказалось, что группа идет на крик, только если состоит из трех и более особей; патрули-двойки предпочитают уклониться от встречи. Трое против одного – наилучший расклад: двое держат жертву, а третий колотит, пока та не испустит дух.
Набег – это основная форма военных действий, практикуемых примитивными человеческими сообществами. Яномамо тоже тщательно планируют набеги и стараются свести риск к минимуму. «Цель набега – убить одного или нескольких врагов и скрыться незамеченными», – пишет Наполеон Шаньон{192}.
Война – занятие, которое отделяет шимпанзе и людей от всех прочих живых существ на земле. «Очень немногие виды живут патрилинейными, связанными по мужской стороне сообществами, где женские особи, чтобы избежать инбридинга, традиционно отправляются искать брачного партнера в чужой клан, – пишут Ричард Рэнгем и Дейл Петерсон. – И только два из этих видов обеспечивают патрилинейность при помощи инициируемой мужскими особями постоянной территориальной агрессии, в том числе кровавых набегов на соседей с целью застать врасплох и убить. Из 4000 видов млекопитающих, из 10 млн или больше того других видов животных такая поведенческая комбинация присуща только шимпанзе и человеку».
К войне шимпанзе и человека, по крайней мере сообщества, подобные яномамо, побуждает одна и та же ключевая мотивация. Шимпанзе защищают кормовые участки самок ради собственного репродуктивного преимущества.
Той же программой руководствуются и яномамо. Захват женщин редко бывает у них основной целью набега, но всегда предполагается как часть военного успеха. Захваченную женщину насилуют все участники набега, затем все мужчины в деревне, после чего она дается одному из них в жены.
Но настоящее репродуктивное преимущество от участия в набеге – это статус, который получает всякий, убивший врага. Чтобы душа убитого не могла отомстить, воин, убивший человека, должен пройти ритуальное очищение – обряд унокаимоу. Прошедшие этот ритуал мужчины получают титул унокаи, и об этом знает вся деревня. Унокаи, как выяснил Наполеон Шаньон, имеют в среднем в 2,5 раза больше жен, чем неубивавшие мужчины, и более чем в три раза больше детей.
Многолетний труд Шаньона необычен своей продолжительностью. Но при всей кропотливости его работы ученое сообщество не торопилось принимать выводы исследователя, сопротивляясь идее, что насилие может быть репродуктивно оправданным. Один из критиков, Марвин Харрис, предположил, что вражда у яномамо вызвана дефицитом белка. Шаньон описывает, как эту мысль восприняли сами яномамо. «Я объяснил им взгляды Харриса: "Он говорит, вы сражаетесь за дичь и мясо, и не верит, что война идет за женщин". Они посмеялись и отвергли теорию Харриса в таких словах: "Yahi yamako buhii makuwi, suwa kaba yamako buhii barowo!" ("Мы, конечно, любим мясо, но женщин мы любим гораздо больше!")»{193}.
Зачем яномамо ведут жизнь, в которой так велик риск насильственной смерти? Очевидный ответ – репродуктивное преимущество, которое дает статус унокаи; конечно, эта мотивация не обязательно должна осознаваться. У шимпанзе точно те же мотивы, что и у унокаи, и равно та же цена. В Национальном парке Гомбе от рук сородичей погибает около 30 % взрослых самцов, это тот же уровень потерь, что и у яномамо. Мужчина или самец шимпанзе имеет шанс погибнуть, защищая территорию, но возможности передать гены потомству это его не лишает. Те особи, которые выигрывают от его гибели, состоят с ним в родстве, и многие гены у них – те же, что у него. Участники набега получат награду и родят сыновей, передав свои черты по наследству. Такова логика патрилокальности.
Действенность первобытной войны
Любовь к насилию и войне выделяется среди всех поведенческих форм, унаследованных человеком и шимпанзе от общего предка. Жестокие войны между современными государствами сопровождаются величайшим кровопролитием. Однако расхожее представление, будто примитивные народы, не в пример цивилизованным, были миролюбивы, и случавшиеся иногда между ними раздоры не имели серьезных последствий, неверно. Война между догосударственными сообществами была безостановочной и беспощадной и велась с целью, нередко успешно достигаемой, полного уничтожения противника. Что касается человеческой природы, то люди в ранних сообществах, скорее всего, были гораздо более агрессивными, чем теперешние. Строго говоря, за последние 50 000 лет человек изрядно умерил воинственность.
«Мирные догосударственные сообщества были чрезвычайно редки: войны вспыхивали постоянно, и без малого всем взрослым мужчинам в таких сообществах всю жизнь то и дело приходилось воевать», – пишет Лоренс Кили, антрополог из Иллинойсского университета в Чикаго. Первобытные войны велись не армиями, выстроенными на поле боя, как в западной цивилизации, а путем внезапных набегов и засад. Число убитых в одном набеге было, в общем, невелико, но, поскольку война не прекращалась, жертв было, если посчитать в процентах от общего населения, значительно больше, чем в войнах между государствами. «На самом деле примитивная война из-за того, что стычки происходят постоянно, а методы особо жестоки, куда более смертоносна, чем та, которую ведут цивилизованные государства. Примитивные методы войны были весьма разрушительны: они уничтожали имущество, в частности средства производства и жилища, и сеяли страх постоянными внезапными смертями и страшными увечьями», – пишет Кили{194}.
Кили делает выводы на основе археологических свидетельств, в том числе относящихся к позднему палеолиту, а также на базе антропологических исследований примитивных народов. Эти исследования охватывали три уцелевшие доныне этнические группы охотников и собирателей: бушменов, эскимосов и австралийских аборигенов, а также некоторые сельскохозяйственные племена типа бразильских яномамо и новогвинейцев, занимающихся свиноводством и выращиванием ямса.
Для снижения риска первобытные воины выбирают особые тактики, например засады или набеги на рассвете. Но даже при такой тактике они несут огромные потери, и не в последнюю очередь потому, что не берут пленных. Это логично, когда главная цель войны – полностью уничтожить врага. Захваченных вражеских воинов убивали на месте, исключение составляли лишь ирокезы, которые уводили пленников, чтобы дома предать мучительной казни, и некоторые колумбийские племена, которые предпочитали откармливать захваченных врагов перед съедением.
Война в примитивных сообществах была обыденным занятием. По оценкам Кили, около 65 % мужчин сражались постоянно, а 87 % – чаще раза в год{195}. Типичное родоплеменное сообщество, по подсчетам Кили, ежегодно теряло на войне около 0,5 % своей численности. Если бы в XX в. уровень военных потерь был таким, то за век человечество потеряло бы убитыми на войне два миллиарда людей.
В тех редких случаях, когда войска примитивных сообществ сходились в большом сражении, убитыми обычно теряли около 30 %. У индейцев мохаве считалось, что отряд в обычном бою теряет троих из каждого десятка. Новогвинейское племя маэ энга в одном из сражений поредело на 40 %. Для сравнения: в сражении под Геттисбергом северяне потеряли убитыми 21 %, Конфедерация – 30 %.
К похожим выводам независимо от Кили пришел недавно археолог Стивен Леблан из Гарвардского университета. «Нам нужно понять и принять то обстоятельство, что за все время существования человечества его история никогда не была мирной, – пишет он. – Хотя, конечно, временами где-то устанавливалась мирная жизнь, но в общей картине такие затишья выглядят редкими и кратковременными… Чтобы вполне понять современную войну, мы должны увидеть в ней практически универсальную форму человеческого поведения, которая сопровождала нас на всем пути из обезьян в люди»{196}.
Воины в примитивных культурах, отмечает Кили, отлично владели своим искусством. При всем неравенстве вооружения в открытом бою они регулярно одерживали верх над армиями цивилизованных народов. В индейских войнах армия США, если приходилось драться в поле, «обычно терпела жестокие поражения», как от семинолов в 1834 г. или в битве при Литл-Бигхорне. В 1879 г. в Южной Африке британскую армию, вооруженную пушками и гатлингами, наголову разбили в битвах при Изандлване, Майерс-дрифт и Хлобане зулусы с копьями и щитами из бычьей кожи. В 1890-х в Сахаре туареги разгромили французов. Государственные армии в итоге побеждали только за счет численного перевеса и истощения ресурсов противника, но не за счет воинского искусства.
Но как примитивные племена достигли такого воинского мастерства? Постоянной практикой 50 000-летней безостановочной войны. Даже в самых жестких природных условиях, когда уже само выживание требует немалых усилий, примитивные сообщества все равно не отказываются от более насущной цели – истреблять себе подобных. Антрополог Эрнест Берч глубоко изучал военное дело у эскимосов северо-западной Аляски. Он установил, как пишет Леблан, «что и прибрежные, и материковые деревни часто строились там, где их легче оборонять: на мысах или на опушке густого ивняка, защищающего от нападения. Между домами нередко рылись подземные ходы, чтобы обитатели могли спастись в случае неожиданного набега. Важную роль играли собаки-сторожа. Берч отмечал, что войны у эскимосов ведутся до полного истребления врага, и обычно агрессор не щадит ни женщин, ни детей и не берет пленных – разве только затем, чтобы убить их позже. Берч также установил, что «самой популярной тактикой у эскимосских воинов были внезапные набеги на рассвете, но случались и открытые бои».
И Кили, и Леблан считают, что как антропологи, так и археологи старательно замалчивали агрессивность примитивных культур. «Я не собираюсь здесь упрекать коллег, но невозможно не отметить то обстоятельство, что ученое сообщество как бы не заметило того, что я считаю своего рода квинтэссенцией человеческой истории», – пишет Леблан. «Я понял, что археологи послевоенной эпохи искусственно "замиряли прошлое" и в массе своей были предубеждены против идеи доисторической войны», – вторит ему Кили.
Кили полагает, что завоевания и культура войны как предмет изучения у академического сообщества не в чести после того, как Европа пережила нацизм, когда с ней обходились так же, как прежде она со своими колониями. Так или иначе, мы видим среди ученых определенное нежелание признавать истинные масштабы вооруженных конфликтов в давней истории человечества. Кили сообщает, что испрашивал грант на изучение неолитического частокола и рва трехметровой глубины, и его заявку не одобряли, пока он не заменил в описании сооружения слово «укрепление» на слово «ограда». Леблан сетует, что большинство археологов не замечают укреплений вокруг майяских городов и майяскую элиту описывают как миролюбивых жрецов. Однако последние 20 лет ученые изучают майяскую письменность. Вопреки радужной картине, которую рисуют современные археологи, записи майя показывают, что их якобы миролюбивая элита участвовала в войнах, завоеваниях и кровавых жертвоприношениях побежденных врагов.
Откопав запас крупных округлых булыжников, археологи пишут, что это кипятильные камни, отбрасывая самое очевидное объяснение: снаряды для пращи. Если в захоронении обнаруживаются копья, мечи, щиты, части колесницы и мужской скелет в доспехах, ученые уверяют: символы статуса, а не оружие, которое использовали для войны. Многочисленные медные и бронзовые топоры, обнаруженные в захоронениях позднего неолита и бронзового века, признаны не боевыми топорами, а некоей валютой. Сохранившаяся 5000-летняя мумия, обнаруженная в 1991 г. в тающем леднике и прозванная учеными Эци, имела при себе такой медный топорик. Ее нашли, сухо замечает Кили, «с одной из тех монет, из озорства насаженной на рукоятку, будто топор. Еще у Эци были при себе кинжал и лук со стрелами: это он, видимо, получил где-то на сдачу».
Несмотря на то что покойник был вооружен до зубов, археологи с антропологами видели в нем то пастуха, который заснул и мирно замерз во внезапной снежной буре, то торговца, отправившегося по делам через Альпы. Подобным рассуждениям пришел конец, когда рентгенография обнаружила в груди у вооруженного пастуха наконечник стрелы. «Несмотря на то что в последние годы многие антропологи все охотнее принимают мысль, что прошлое человечества не было мирным, – отмечает Леблан, – в ученой среде еще упорно держится желание не замечать нашего общего кровавого прошлого. Широкая аудитория усваивает эти предубеждения, и миф о миролюбивых предках живет».
Если примитивные сообщества из исторического прошлого так увлекались войной, весьма вероятно, что их дальние предки были еще агрессивнее. Одним из подтверждений этой догадки стало генетическое открытие, сделанное во время изучения коровьего бешенства.
Скелеты в шкафу человечества
Один из самых несимпатичных аспектов первобытной войны – это каннибализм. Каннибализм сам по себе предполагает ситуацию вражды, ведь жертвы не по доброй воле становятся обедом. Антропологи с археологами долго не хотели признавать, что в своем идиллическом прошлом люди ели друг друга. Антрополог из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук Уильям Аренс в изданной в 1979 г. книге «Людоедский миф: антропология и антропофагия» утверждал, что никаких веских доказательств людоедства не существует и что большинство сообщений о нем – пропаганда одной культуры, стремящейся утвердить идею своего морального превосходства над другой. Когда антрополог Кристи Тернер из Университета штата Аризона предположил, что разрубленные обожженные и очищенные от мяса фрагменты примерно 30 человеческих скелетов, обнаруженные в раскопках на территории древнего племени анасази, есть не что иное, как остатки каннибальского пиршества, ученое сообщество отказалось принимать такую версию. Критики объясняли состояние костей действиями животных-падальщиков, погребальными ритуалами, несчастным случаем – только не людоедством.
И хотя некоторые рассказы о каннибалах действительно могут быть выдумкой, Кристи Тернер и Тим Уайт из Калифорнийского университета в Беркли на сегодня обнаружили останки съеденных людей в 25 раскопах на юго-западе Америки. Тернер считает, что все это дело рук анасази – племени, которое обитало на этих землях между 900 и 1700 г. и прибегало к людоедству как к инструменту социальной политики. Людоедство наблюдалось в Центральной и Южной Америке, на Фиджи, в Новой Зеландии и в Африке. Ацтеки превратили жертвоприношение пленных врагов в государственную церемонию, и их цивилизация оставила рецепт рагу из человечины. С каннибализмом было связано широко распространенное верование, будто, поедая определенные органы убитого, часто воина, поедатель приобретал его силу или храбрость. Встречаемость случаев людоедства в разных культурах по всему миру показывает, по мнению Кили, «что ритуальное поедание определенных частей трупа, хотя вряд ли было у первобытных воинов нормой, но и редкостью тоже явно не было».
Могло ли людоедство быть такой повсеместной и глубоко укорененной практикой, чтобы оставить след в человеческом геноме? На такую мрачную вероятность наткнулись ученые, взявшиеся оценить возможный масштаб эпидемии коровьего бешенства среди британцев, евших зараженное мясо. Коровье бешенство относится к разрушающим мозг заболеваниям, вызванным аномальными мозговыми белками, так называемых прионами. Против всех ожиданий британских чиновников прионы могут пересекать межвидовые границы: коровьи прионы, размягчающие коровий мозг, с равным успехом размягчат человеческий, если человек съест нервную ткань коровы.
Но человеческие прионы еще скорее разрушат человеческий мозг. Риск подвергнуться воздействию человеческих прионов возникает у тех, кто поедает человеческие мозги. Такая практика была традиционной у новогвинейского племени форе, где примерно около 1900 г. распространился новый погребальный ритуал: женщины и дети съедали мозг умершего. Примерно в 1920 г. среди форе начались случаи распада мозга – болезни, которую они назвали куру.
Очень похожая на нее болезнь Крейтцфельдта – Якоба (БКЯ) изредка отмечается в самых разных человеческих популяциях. БКЯ возникает после случайной мутации, заставляющей клетки мозга производить белок патологической структуры. Видимо, болезнь куру появилась после того, как группа форе полакомилась мозгом носителя БКЯ.
Закрепившись в популяции форе, куру стала уничтожать ее представителей: дошло до того, что в некоторых деревнях молодые женщины вымерли едва не поголовно. Эпидемия быстро пошла на убыль, после того как австралийские власти в 1950-х запретили форе традиционные погребальные пиршества.
Недавно группа ученых под руководством Саймона Мида из Университета города Лондона изучала генетику женщин форе старше 50 лет. Все исследуемые, хотя участвовали во множестве погребальных пиров, не заболели куру и, предположительно, обладали какой-то генетической защитой от этой патологии. Группа Мида исследовала ДНК их прионового гена и обнаружила более чем у 75 % особенную генетическую сигнатуру{197}. В то же время у всех заболевших коровьим бешенством британцев сигнатура была противоположного характера[9].
Обнаружив эту защитную сигнатуру, ученые затем обратились к другим популяциям из разных частей мира. Выяснилось, что сигнатура встречается во всех этнических группах, какие только были проверены, за исключением японцев, у которых обнаружилась своя защитная сигнатура в другом участке гена.
Серия генетических анализов показала, что защитная сигнатура слишком уникальна, чтобы быть случайной, и, должно быть, распространялась в процессе естественного отбора. Другие тесты показали, что сигнатура существует давно и, вероятно, была у прародителей человечества еще до того, как они покинули Африку. Если было так, то японцы, предположительно, утратили свою сигнатуру по вине дрейфа генов, но сформировали взамен утраченной новую, поскольку без нее было не обойтись.
Так почему эпидемия коровьего бешенства в Британии оказалась не такой смертоносной для нации любителей говядины, как опасались вначале? Похоже, что британцев отчасти защитило древнее людоедское наследство. Наличие защитной сигнатуры у британцев и других народов спустя столько поколений после их последних людоедских пиров показывает, насколько обычным делом был каннибализм у прародителей человечества и их потомства во всех концах земли. Распространенность каннибализма в свою очередь свидетельствует о том, что ранние человеческие популяции постоянно воевали.
«Существует врожденная предрасположенность к формированию культурного аппарата агрессии тем образом, который отличает сознающий разум от сырых биологических процессов, кодируемых генами, – пишет биолог Эдвард Уилсон. – Культура придает вражде характерные формы и освящает равную приверженность им всех членов племени»{198}.
И у шимпанзе, и у людей гены равно предписывают вражду к чужакам, пишет Уилсон, но люди, благословенные даром языка, нуждаются в каких-то видимых причинах для истребления ближних. Прежде чем пойти на соседа войной общество разжигает в себе решимость, договариваясь считать, что соседи в чем-то виноваты: отняли наше или не исполнили каких-то договоренностей. Религиозные деятели заверяют, что местные духи одобрили поход и помогут в сражениях, и колонны маршируют на врага.
Человеческая предрасположенность к одобренной обществом агрессии – совсем иная поведенческая форма, нежели агрессия на личном уровне. Драчливые индивиды рано или поздно на долгие годы отправляются за решетку, а в примитивных популяциях сообщество дает санкцию на их убийство. Индивидуальная агрессия редко помогает передать гены по наследству. Но социально одобренная агрессия, т. е. война, вполне может. Предрасположенность к войне не означает, что война всюду неизбежна, поскольку предрасположенность актуализируется только в определенных ситуациях. Воинственные викинги X столетия превратились в мирную Скандинавию века XX.
В эпоху присваивающего хозяйства победа в войне выгодна: она расширяет территорию, повышает репродуктивный успех. Эту логику ученые так не хотели признавать, видя в ней оправдание и даже прославление войны. Но, замалчивая повсеместность войны в прошлом, они затушевывают важное и удивительное обстоятельство, упоминаемое Кили: современным обществам удалось заметно снизить военную активность на планете.
Если мы полагаем, что ранние люди были непрерывно заняты бесконечной войной, то картина позднего палеолита, реконструированная историками, выглядит странно неполной. Что значит: на смену ориньякской культуре пришла граветтская? Что изготовители ориньякских орудий, проснувшись однажды утром, решили отныне делать все по-граветтски? Или что после многочисленных кровавых стычек носители граветтской культуры уничтожили ориньякцев? Когда в последний ледниковый максимум северные широты стали непригодны для жизни и ледники потеснили северных людей на юг, возможно ли, чтобы южане встретили вторгшихся к ним пришельцев с распростертыми объятиями? Если война была нормой, значит, она сказывалась во всех аспектах жизни ранних человеческих сообществ.
Война – яркая и особенная составляющая человеческой истории, и она полностью заслоняет другое, не менее примечательное свойство человеческого общества. Это свойство – полная противоположность войны, уникальная способность человека ладить с собратьями, а главное – с неродственными ему индивидами. В суперорганизмах типа пчелиного или муравьиного в центре сообщества находится группа родственных друг другу особей, имеющих общий генетический интерес. Похожим образом дело обстояло и у людей при родоплеменном строе. Однако люди научились создавать связи, тянущиеся далеко за пределы рода или племени, и развили систему, позволяющую множеству чужих друг другу людей взаимодействовать в составе крупного сложного единого сообщества.
Этот уникальный человеческий тип социальности приобретался не просто. Его отдельные элементы эволюционировали в течение многих лет. Самым глубинным преобразованием, переходом от обезьяньего типа сообщества к человеческому, было возникновение супружеской семьи, которая всем мужским особям обеспечивает возможность размножения и одновременно мотивирует их сообща добывать пищу и защищать границы. Второй элемент, который развился из инстинкта, свойственного всем приматам, – понятие справедливости и взаимности, мотивирующее человеческие сообщества к контактам и торговле с соседями. Третьим элементом был язык. И четвертым, компенсирующим риски, привнесенные языком, была религия.
Все эти институты опираются на основной мотив поведения общественных животных: сотрудничество предпочтительнее соперничества.
Эволюционные основы общественного поведения
Для нас необходимость социального поведения очевидна, однако в царстве животных общественные образования большая редкость. Строго говоря, объяснить даже самые зачаточные формы социальности с позиций эволюционной теории ученые не могли до самого последнего времени.
Дело в том, что социальность не приносит никакой пользы, если члены сообщества не помогают друг другу, но при этом любые действия, совершаемые для ближнего, – это недовложение в собственное потомство и в собственный репродуктивный успех. Если бы альтруисты рожали меньше, естественный отбор уничтожил бы альтруистическое поведение. Но без альтруизма нет смысла жить сообществом. И как тогда вообще сформировалось социальное поведение?
Биологи довольно убедительно объясняют, как оно могло возникнуть в группах близкородственных особей: эта теория получила название теории совокупной приспособленности. Другая теория – взаимного альтруизма – объясняет, как могли сформироваться поведенческие механизмы, предписывающие помогать даже чужакам, по крайней мере тем, от которых можно в будущем ожидать ответной услуги.
Почему пчела жертвует жизнью, защищая улей? Зачем рабочие муравьи соглашаются на бесплодие и посвящают жизнь вскармливанию потомства муравьиной царицы? Уильям Хэмилтон существенно дополнил дарвиновскую теорию, показав, какую пользу в эволюционном смысле может приносить альтруизм, по крайней мере внутриклановый. Дарвиновская приспособленность, определяемая как репродуктивный успех, – это способность передать в следующее поколение как можно больше генов. Открытие Хэмилтона состояло в том, что дарвиновскую приспособленность следует расширить за счет тех генов, которые повторяются у разных членов клана. Поскольку гены одинаковы, унаследованы от одних родителей и прародителей, то помочь им перейти в следующее поколение – то же самое, что передавать свои.
Понятие расширенной приспособленности, или, как его назвал Хэмилтон, совокупной приспособленности, предполагает, что индивид кровно заинтересован обеспечить выживание потомства, кровных сестер и братьев и родителей – с ними у него 50 % общих генов – и существенно, хотя и меньше, заинтересован в выживании внуков, племянников, сводных братьев и сестер, бабок и дедов, дядьев и теток, с которыми разделяет только 25 % генотипа.
Чтобы обеспечить максимальную совокупную приспособленность, отдельным особям нужно умерять состязательность и до известной степени поступаться своими интересами ради клана, иначе говоря, практиковать социальное поведение. Таким образом альтруисты оказываются лучше совокупно приспособленными, чем абсолютные индивидуалисты, и их гены в определенных условиях лучше распространяются. Теория Хэмилтона объясняет многие загадочные особенности суперорганизмов: например, самопожертвование у общественных насекомых – пчел, муравьев и термитов. Она же помогает понять, почему сообщества шимпанзе и племенные группы у людей строились по линиям родства.
Насколько важны родственные связи для выживания – особенно заметно в экстремальных обстоятельствах. Первую зиму в Новом Свете не пережили около 51 % из 103 прибывших на «Мэйфлауэре» обитателей Плимутской колонии. Оказалось, что погибшие, в отличие от выживших, почти не имели родственников, прибывших вместе с ними. В партии Доннера, запертой зимой 1846 г. в высокогорье Сьерра-Невады, выжили только трое из пятнадцати холостых мужчин, при этом с каждым из выживших в этой партии шло в среднем 8,4 члена семьи{199}.
Однако родственные связи как объединяющая сила имеют довольно ограниченное действие. Наполеон Шаньон в своей работе о яномамо отмечает, что с ростом населения деревни родственные связи между обитателями ослабевают. И тогда население делится, как правило, по клановым границам, чтобы в двух меньших группах оказались только достаточно близкие родственники. «Кланово-организованные группы могут дорастать лишь до определенного предела, а затем начинают дробиться на части», – пишет Шаньон. Споры вспыхивают по самым обыденным поводам: половые связи, неверность, язвительные шутки или замаскированные оскорбления. «С разрастанием деревни поддерживать внутренний порядок и общее сотрудничество становится все труднее, и рано или поздно возникают фракции: родственники стоят друг за друга, и в общине возникает социальная напряженность. Вероятно, существует верхний предел численности группы, успешно организованной по принципам родства, наследования и брака – механизмов интеграции, обычно имеющихся в распоряжении примитивных народов»{200}.
В большинстве деревень яномамо жители обычно связаны родством более тесным, чем двоюродное{201}. Но неклановые общества гораздо многочисленнее, как будто в группах, переросших пределы родовых, начинает действовать какой-то новый объединяющий фактор. Всю недавнюю историю человечества, пишет Наполеон Шаньон, можно представить как борьбу за преодоление клановых границ: «В рассуждениях о нашем социальном прошлом в эпоху собирательства и зарождения земледелия постоянно упоминается „магический“ диапазон от 50 до 100 единиц как типичный размер сообществ, в которых разворачивалась наша недавняя культурная и биосоциальная эволюция, как максимальный размер социальной группы, предел, который мы перешагнули лишь совсем недавно, каких-то несколько тысяч лет назад»{202}.
Один из механизмов, которым биологи пытаются объяснить рост численности человеческих групп, – это принцип взаимного альтруизма, предписывающий помогать даже не родственным тебе членам сообщества, потому что в будущем они могут оказать ответную услугу. Стратегия взаимности, когда ты помогаешь прежде незнакомому соплеменнику, а затем держишься с ним так, как он с тобой (отворачиваешься, если он отворачивается, помогаешь, если он помогает тебе), во многих обстоятельствах оказывается выгоднее любой иной. Таким образом, эта форма поведения могла эволюционировать дальше при условии, что параллельно ей развивался механизм, позволяющий разоблачать и наказывать мошенников: без этого мошенники оказались бы успешнее, а ситуационные альтруисты в конце концов вымерли бы.
Ситуационный, или взаимный, альтруизм может сформироваться далеко не у всех биологических видов. Для этого нужно, чтобы особи узнавали друг друга и имели долгую память – помнить, кто кому обязан. Ярчайший пример взаимного альтруизма мы наблюдаем не у кого иного, как у вампировых летучих мышей. Они обитают в Южной Америке и живут колониями размером примерно с дюжину взрослых особей с детенышами. Кормятся, прокусывая кожу спящих животных – в наши дни в основном коров или лошадей – и впрыскивая в рану вещество-антикоагулянт под названием дракулин. Однако вылеты на сбор крови не всегда бывают удачны. Согласно данным Джеральда Уилкинсона из Университета Мэриленда, трети молодых особей и 7 % взрослых не удается напиться крови на ночной охоте.
Это серьезная проблема, потому что если вампир не поест три дня подряд, он погибнет. Как обнаружил Уилкинсон, колония вампиров решает эту проблему так: успешные охотники отрыгивают часть добытой крови тем, кому не повезло. Особенно охотно вампиры помогают друзьям, с которыми у них взаимный груминг, тем, кто в крайней нужде, и тем, от кого недавно сами принимали помощь{203}. Взаимный альтруизм вампиров, должно быть, удивительно эффективен, поскольку вампировые летучие мыши при всем риске голодной смерти после трех неудачных выходов на охоту доживают до 15 лет.
Если социальный альтруизм развился у вампиров, нет причин, по которым он не мог бы возникнуть у приматов. И в самом деле, именно на нем строится коалиционная политика самцов, когда альфа-самцу, чтобы сохранять господство в иерархии, не обойтись без поддержки союзников. Биолог Роберт Трайверс, первым показавший, как взаимный альтруизм может закрепляться в процессе естественного отбора, полагает, что у людей сформировался обширный спектр сложных поведенческих моделей, связанных с альтруизмом, включая обман (невозмещение альтруистической помощи подателю), возмущение обманом и разные методы разоблачения обмана{204}.
Многие повседневные эмоции можно представить как своего рода следствие ожидания взаимности и обиды обманутого ожидания. Если нам кто-то по душе, мы хотим обмениваться с ним услугами. Мы сердимся на тех, кто не платит услугой за услугу. Мы стараемся отомстить тем, кто нас использует. Нам совестно, если мы сами не можем ответить на добро, и стыдно, если нас в этом изобличают публично. Если мы верим, что человек, не сумевший ответить нам, искренне об этом сожалеет, мы прощаем его. Но если обнаруживаем, что раскаяние фальшиво, отказываем в доверии{205}.
Похоже, что именно инстинкт взаимности и обслуживающий его аппарат выявления обманщиков послужил истоком такой фундаментальной человеческой практики, как торговля с соседями. Разветвленные торговые связи – одна из форм поведения, характерных для человеческих сообществ, возникших в позднем палеолите, который начался около 50 000 лет назад. В родоплеменных сообществах сложились довольно развитые системы торговли.
Племя собирателей йир-йоронт, живущее на севере Австралии, до недавних пор существовало в каменном веке. Одним из самых необходимых предметов, используемых в любых занятиях, от охоты до сбора дров, у них были каменные топоры. Однако йир-йоронт живут в джунглях на побережье, а ближайший каменный карьер находится в 800 км. Как же они добывали свои полированные каменные топоры? Они изготавливали продукт, пользующийся большим спросом у их южных соседей: копья с наконечниками из шипов ската-хвостокола. Копья продавались во внутренние области страны и проходили сквозь длинную цепь посредников, на каждом этапе их выменивали на разное число каменных топоров. Курс обмена копий на топоры на каждой из торговых факторий обеспечивал продвижение топоров на север, а скатовых копий – на юг{206}.
Торговля – это основа экономической деятельности, потому что она дает участникам стимул специализироваться на производстве предметов, которые контрагент находит ценными. Однако торговля невозможна без доверия, без решения обходиться с абсолютно чужими людьми так же, как с членами семьи. Человек – единственный биологический вид, развивший у себя такую степень социального доверия, когда исполнение важнейших задач охотно передается в руки чужаков, не относящихся к семье. Этот комплекс поведенческих моделей – выстроенных вокруг взаимности, справедливого обмена и разоблачения мошенников – и лег в основу всех великих городских цивилизаций, включая существующие сегодня.
«Принцип взаимности и способность рассчитывать издержки и выгоды кооперации – фундамент нашей общественной жизни, – пишет экономист Пол Сибрайт, – заставляющий относиться к чужакам как к родственникам или друзьям». Примечательно, что такое поведение сформировалось в тот самый период, когда первобытная война была в самом разгаре и у людей были все причины относиться к чужакам с подозрением. Незнакомцы и сейчас могут быть опасны, однако в определенных обстоятельствах мы им доверяем по умолчанию. «Признание того, что большинству людей в большинстве ситуаций можно доверить участие в сложной сети социальных взаимодействий, радикально изменило психологию нашей обыденной жизни», – пишет Сибрайт. Именно поэтому «мы беззаботно выходим за порог пригородного дома и растворяемся в толпе из десяти миллионов незнакомцев»{207}. Без этой врожденной склонности доверять чужим людям человеческие общества поныне были бы семейными группами не больше нескольких десятков душ, и ни города, ни великие экономики не могли бы возникнуть.
Каким же путем уровень взаимного доверия мог так возрасти? Мозг млекопитающих производит два гормона, играющих, как становится ясно, центральную роль в модулировании социального поведения: окситоцин и вазопрессин. Эти гормоны вырабатываются гипофизом и оказывают действие как на мозг, так и на весь организм. Окситоцин запускает родовые схватки и образование материнского молока. Его влияние на психику, по крайней мере у лабораторных животных, состоит, главным образом, в стимулировании аффилиативного поведения, т. е. доверия к другим и в снижении от природы свойственного животным стремления избегать близкого соседства других особей.
А что окситоцин провоцирует у людей? Ученые из Цюрихского университета открыли, что он существенно повышает уровень доверия к ближним. Окситоцин, пишут они, «сказывается прежде всего на готовности индивида принимать риски, связанные с межличностными контактами». Такое заключение ученые сделали после серии опытов, в которых испытуемым давали вдохнуть окситоцин, а потом предлагали игры, демонстрирующие, насколько участники доверяют друг другу{208}.
Если таким образом задается биологическая основа для открытости, то степень этой открытости легко можно было бы повышать или понижать в ходе эволюции путем генетических изменений, либо повышающих продукцию окситоцина, либо усиливающих реакцию мозга на него. Таким образом, у охотников и собирателей гены, вероятно, программировали слабый ответ мозга на окситоцин, а обитатели городов развили у себя повышенную чувствительность к нему. Каким бы в точности ни был этот механизм, зная биологические основы доверия и открытости, легче понять, как на разных стадиях человеческой эволюции закреплялись эти формы поведения.
Доверие – важнейший механизм объединения людей, взаимодействующих в обществе. Но оно усиливает грозящую любому сообществу опасность – опасность появления тунеядцев. Тунеядцы пользуются благами общежития, но не несут его издержек. Они представляют собой серьезную угрозу обществу, поскольку уменьшают выгоды общежития для других и, если остаются безнаказанными, могут спровоцировать распад социума.
Человеческие сообщества давно выработали защитный механизм против тунеядцев. Эта защитная система – один из главных организационных принципов любого общества – приобрела такое множество других функций, что его первоначальная задача просто потерялась из виду. Речь о религии.
Эволюция религии
Суть религии – коллективизм: религиозные ритуалы отправляются множеством людей, собравшихся в одном месте. Само название, происходящее, вероятно, от латинского religare – связывать, говорит о роли этого явления в сплачивании общества. Религиозные церемонии предполагают эмоционально насыщенные массовые практики, например песнопения или танцы, и это объединяющее физическое действие укрепляет в участниках приверженность общему мистическому взгляду на мироздание.
Склонность к религиозным верованиям может быть у человека врожденной, поскольку встречается в человеческих сообществах по всему миру. Врожденные поведенческие механизмы формируются путем естественного отбора, потому что обеспечивают какие-то преимущества в борьбе за выживание. Но если религиозность относится к врожденным качествам, то какие она дает преимущества?
Никто не может точно сказать, для удовлетворения каких нужд у охотников и собирателей возникла религия. Однако есть высокая вероятность, что религия эволюционировала параллельно с языком, поскольку язык может быть использован для обмана, а религия и должна это предотвращать. Религия возникла как механизм, помогающий сообществу исторгать тех, кому нельзя доверять. Позже он вырос в систему воодушевляющих коллективных практик – важная роль в обществе охотников и собирателей, не знавшем вождей и центральной власти. Затем правители оседлых сообществ сделали ее инструментом укрепления собственного авторитета и оправдания своих привилегий. В современных государствах многие функции, исполняемые прежде религией, успешно исполняются другими институтами, и поэтому она уже не столь актуальна в развитых обществах, например европейских и восточноазиатских. Но поскольку предрасположенность к отправлению культа по-прежнему вшита в человеческое сознание, религия остается важной силой в тех обществах, которые еще борются за внутреннее единство.
Важная особенность религии в том, что она обращается к сущностям, более глубинным, чем разум: религиозные истины воспринимаются не как фактические утверждения, но как некие священные истины, сомневаться в которых было бы безнравственно. Этот эмоциональный компонент показывает, что религиозность глубоко коренится в человеческой природе и что люди рождаются не только с врожденной способностью к усваиванию языка, на котором говорят вокруг, но, возможно, и с подготовленным механизмом восприятия религиозных верований.
Можно ли узнать, когда появилась религия? Как ни странно, ответ будет утвердительным, если мы примем изложенную далее аргументацию. Как и большинство поведенческих матриц, обнаруживаемых в разных сообществах по всему миру, религиозные верования, скорее всего, были свойственны популяции прародителей человечества еще до того, как они 50 000 лет назад покинули Африку. Хотя религиозные церемонии обычно включают в себя танцы и музыку, в них большой вес имеет слово, ведь необходимо провозглашать священные истины. А если так, значит, религия, по крайней мере в ее современных формах, не могла предшествовать появлению языка. Ранее мы показывали, что язык пришел в свое современное состояние незадолго до исхода прародителей из Африки. И если религии пришлось дождаться появления нашей теперешней членораздельной речи, то и она оформилась где-то немногим раньше, чем 50 000 лет назад.
Если же религия и язык развивались параллельно, логично предположить, что при этом они как-то взаимодействовали. Нетрудно понять, зачем религии нужен язык – средство трансляции истин. Но зачем религия могла понадобиться языку?
Возможно, ответ следует поискать в одной из главных сил, цементирующих человеческое общество, – инстинкте взаимного альтруизма, и особенно в главной опасности, связанной с ним, – тунеядцах, которые пользуются благами общежития, ничего не давая взамен. Если их не обезвреживать, они могут разрушить общество: коллективизм перестанет быть выгодным. С появлением языка у тунеядцев появилось мощное оружие, помогающее в обмане. Религия могла развиться как защита от тунеядцев. Тем, кто на публичной церемонии поклялся быть верным священной истине, не страшна ложь, потому что они могут доверять друг другу.
Антрополог Рой Раппапорт считает, что священные клятвы были у ранних сообществ страховкой от злонамеренного применения недавно обретенного дара слова. «Из этого следует, что категория сакральности и язык родились одновременно, – пишет он, – и эволюционировали в тесной взаимосвязи или даже в форме единого взаимно-обусловленного процесса». Появление категории священного, полагает Раппапорт, «возможно, помогло сохранить основные качества существовавшей общественной организации, защитив их от новой угрозы, которую несла в себе постоянно растущая в людях способность ко лжи»{209}.
Чтобы ранние общества могли пользоваться языком, должен был возникнуть особый контекст, в котором утверждения можно воспринимать как несомненно правдивые и искренние. Таким контекстом, по мнению Раппапорта, стало понятие священного. В значительной степени это свойство сохранили и современные религии, которые также строятся вокруг священных истин, вроде «Господь, Бог наш, Господь един!» или «Нет бога, кроме Аллаха». Эти священные истины невозможно проверить или опровергнуть, но верующие все равно принимают их как бесспорные. И таким образом, собрания верующих с далеких времен зарождения языка объединяются для защиты от неверующих и их лжи или для коллективного сопротивления им.
Раппапорт также установил, изучая примитивное земледельческое племя маринг, обитающее в горах Новой Гвинеи, что в эгалитарном обществе, не знающем вождей или правящей элиты, ритуал становится важным источником власти. Именно путем участия в ритуальных танцах маринг принимают на себя обязанность сражаться на чьей-либо стороне в следующем цикле военных действий. «Допустимо предположить, – пишет Раппапорт, – что религиозные ритуалы играли важную роль в общественной и экологической регламентации на том этапе человеческой истории, когда произвольность общественных конвенций росла, но у властей, если они уже существовали, не было возможности добиться послушания».
Догадки Раппапорта о роли религии в ранних обществах получили подтверждение в виде примечательной серии находок, обнаруженных археологами в мексиканской долине Оахака. Археологи Джойс Маркус и Кент Фланнери проследил, как религия развивалась в долине в течение более 7000 лет, пока долинные обитатели проходили четыре стадии общественного развития: от кочевых охотников-собирателей к оседлому эгалитарному обществу, затем к обществу с правящей элитой и, наконец, к архаическому государству сапотеков. Вместе с развитием общества у жителей Оахаки модифицировалась и религия{210}.
На этапе собирательского кочевья Джойс Маркус и Кент Фланнери обнаружили утоптанную площадку, огороженную камнями. Эта площадка с 6650 г. до н. э. служила местом для ритуальных танцев, когда множество разных групп собиралось вместе для посвящений и ухаживаний.
К 1500 г. до н. э. оахакцы вывели культурные формы кукурузы, что позволило им перейти на оседлый уклад и начать возделывать землю (порядок, обратный тому, что мы видим на Ближнем Востоке, где оседлость существовала задолго до начала земледелия). Поначалу общество у них было эгалитарным, как в эпоху присваивающего хозяйства, но ритуалы стали более формальными. Маркус и Фланнери в ходе археологических раскопок обнаружили четыре дома, одинаково ориентированных по странам света, возможно, согласно движению солнца в день весеннего равноденствия. Такая ориентация подсказывает, что религиозные церемонии стали совершаться в установленное время, в зависимости от определенных астрономических событий. В такие дома, если судить по нынешним племенным сообществам, вероятно, допускались, только мужчины, прошедшие особые испытания и посвященные в сакральные ритуалы.
К 1150 г. до н. э. обозначились признаки третьего этапа общественного развития, появление элиты, у которой были большие дома, одежды, украшенные драгоценными камнями, и обычай в знак благородного происхождения деформировать новорожденным черепа. Мужские дома сменились храмами, созданными по тому же образцу. Религиозные культы, как свидетельствует археология, стали более изощренными, возникла практика ритуального кровопускания как символ самопожертвования, а также приготовления и поедания жертвенных животных.
Четвертый этап общественного развития – государство сапотеков, основанное в 500 г. до н. э., – характеризовался еще более сложными формами религии. В храмах появились особые помещения для служителей культа – жрецов.
Возникновение жречества знаменовало собой кульминацию постепенного развития оахакских ритуалов в сторону все большей монополизации. В период присваивающего хозяйства ритуальные танцы были доступны всем. В период мужских домов участвовать в церемониях могли только посвященные, а в государстве сапотеков религия перешла в ведение особой касты священников.
Что лежит в основе этой совместной эволюции религии и общественного устройства? Похоже, что ритуал, игравший важную координирующую роль в обществе охотников и собирателей, не утратил своего значения и после появления оседлых поселений, элит и правителей. Напротив, элиты использовали религиозные культы как дополнительный способ контроля над подданными и как оправдание собственного привилегированного положения. Передача ритуалов в ведение отдельной касты давала элитам большие возможности для управления верующими. Для укрепления власти правителей к прежним религиозным постулатам добавлялись новые истины-следствия, как и прежде, непроверяемые: «У вождя великая мана», «Фараон – воплощение бога Хора» или «Генрих, Божьей милостью король».
Раппапорт считает, что механизмы, наделяющие правителей светской властью, сформировались совсем недавно, а большую часть человеческой истории элиты провозглашали источником своих полномочий священные материи. Уже архаические государства были теократиями, по крайней мере начинались как теократии. Современные государства, хотя обладают немалой гражданской властью, не перестали обращаться к авторитету и объединяющей силе религии. Даже в таком обществе, как США, верность государству скрепляется клятвой со словами «одна нация перед Богом».
Востребована в современных обществах и другая старинная функция религии – защита общества от тунеядцев. Среди ультраортодоксальных иудеев из нью-йоркского Бриллиантового квартала уровень взаимного доверия так высок, что многомиллионные сделки скрепляются только рукопожатием. Существует мнение, что монотеистический ислам в Африке распространился в качестве инструмента, способствующего развитию торговли и доверию между людьми{211}.
Доверие и сплоченность нигде так не важны, как на войне. Современные религии в мирное время проповедуют ценности добрососедства, но в дни войны священникам приходится освящать оружие и официальные церкви практически всегда поддерживают военные кампании государства. «Религия – исключительно полезный инструмент войны и экономической эксплуатации, – пишет биолог Эдвард Уилсон и далее замечает: – Она эффективнее всех других механизмов, принуждающих индивида поступаться собственными насущными интересами ради интересов группы»{212}.
Почему религия не исчезает, хотя ее главное предназначение – объединение общества – давно обслуживается множеством других культурных и политических институтов? Может быть, как социальный инструмент религия утратила актуальность, тем не менее для множества людей она оказывается удовлетворением некой важной потребности, и в этом, возможно, отражается генетическая предрасположенность. Так и Уилсон считает, что у религии есть генетическое основание, что ее корни «на самом деле, в наследственности, и возникла она благодаря определенным особенностям человеческого менталитета, записанным в генах».
Религия, язык и политика взаимности – три сравнительно новых элемента того клея, на котором держатся человеческие сообщества. Все три появились, предположительно, около 50 000 лет назад. Но гораздо более древним эволюционным шагом к большим человеческим сообществам, шагом, решительно отделившим человека от всех других приматов, было возникновение супружеских связей. Человеческая природа – это по большей части поведенческие формы, необходимые для существования союза мужчины и женщины и обслуживающие решимость мужчины защищать семью в обмен на решимость женщины рожать только от этого мужчины.
Приватизация секса
Обезьяньи сообщества управляются внутриполовой конкуренцией: соперничеством самцов, добивающихся доступа к самкам. Хотя у шимпанзе самцы создают союзы с целью удержания власти в иерархии, это временные ситуационные коалиции. Самец шимпанзе, скорее всего, видит в любом взрослом сородиче потенциального соперника, и это отношение ограничивает степень сплоченности сообщества.
Наша генеалогическая линия, вероятно, унаследовала обезьянью систему раздельных гендерных иерархий. Но примерно 1,7 млн лет назад, как свидетельствует палеонтологические находки, разница в размерах между самцами и самками стала сглаживаться. Подобная коррекция служит практически несомненным знаком того, что соперничество между самцами ослабло, сменившись практикой образования пар.
Новая брачная система повлекла за собой целый набор абсолютно новых социальных схем. Возможность продолжить род получило большинство мужчин: общественный уклад обеспечил каждому доступ хотя бы к одной женщине. Таким образом, у мужчин появилась небывало сильная мотивация к коллективной деятельности, например охоте или войне, от которой выигрывает общество в целом.
Образование пар существенно снижает взаимную агрессию мужчин.
И требует большего уровня доверия между ними, чтобы уходящие на охоту могли не беспокоиться, что оставшиеся оберегать женщин посягнут на их жен.
Для женщин это был своего рода компромисс. Они лишились возможности соединяться со всеми самыми привлекательными мужчинами племени, и им пришлось ограничить репродуктивный потенциал генами лишь одного партнера. Но при этом они получили гарантию физической защиты и пропитания для себя и своих детей. В некоторых собирательских сообществах мужчины добывают мясо, но основу рациона составляют растения и мелкие животные, собираемые в основном женщинами. Однако добытое мужчиной было особенно кстати в те частые периоды, когда женщина вскармливала детей и не могла добыть себе достаточно провианта{213}.
Как и большинство эволюционных поведенческих моделей, образование пар не было жесткой схемой и не предписывало нуклеарную семью из одного мужчины и одной женщины. Многие сообщества придерживаются полигамии, позволяя мужчине иметь несколько жен, если он в состоянии их обеспечить. Сообщества, живущие в особых природных условиях, позволяют женщинам иметь нескольких мужей: например, у высокогорных земледельцев Тибета несколько братьев могут взять в жены одну женщину и растить детей как единая семья.
С оформлением института пар секс превратился во внутрисемейное занятие. Вероятно, именно тогда в человеческих сообществах появилось табу на публичное соитие – у шимпанзе или бонобо такой запрет практически остановил бы общественную жизнь. Приватизация секса в значительной степени нейтрализовала бы его как фактор, провоцирующий соперничество между самцами.
Но хотя институт семейных пар пригасил раздоры среди мужчин, зато он породил новую напряженность между полами. Асимметрия гендерных ролей в семье – женщина воспитывает детей, а мужчина защищает семью и снабжает всем необходимым – неизбежно повлекла расхождение в репродуктивных интересах и стратегиях. У мужчин появились такие поведенческие формы, как ревность, и это разумно, ведь муж, прощающий измены, рискует передать по наследству меньше генов.
Неверность партнера несет совершенно разные риски для мужчин и женщин. Для женщины измена мужа страшна только потому, что он направит свои ресурсы не в семью, а на любовницу, а это снизит репродуктивную приспособленность законной жены, т. е. ее возможности успешно поставить детей на ноги.
Это серьезная угроза интересам женщины, но для мужчины неверность партнерши означает куда более неприятные вещи. Он рискует тем, что будет растить чужих детей. С точки зрения эволюции мужчина, посвящающий жизнь воспитанию чужих детей, обладает нулевой дарвиновской приспособленностью.
Мужская боязнь измены имеет свои основания, потому что у женщины, если партнер оказывается бесплодным, а это не такой уж редкий случай, возникает сильная мотивация найти другого. И даже если муж способен к зачатию, женщина может расширить собственный репродуктивный успех, родив детей от разных партнеров. В идеале женщина получает от мужа и хорошие гены, и содержание, но, поскольку содержание гарантировано, в ее репродуктивных интересах, пользуясь им, поискать где-то лучшие гены. И многие мужчины готовы оказать ей услугу, ведь они-то этим расширяют и свой репродуктивный успех, производя детей от многих партнерш, что особенно удобно, когда расходы по воспитанию падают на других мужчин.
Поэтому неудивительно, что мужчины всеми силами стараются обеспечить себе исключительное право физического доступа к женщине, чьих детей они обязались воспитывать, и для этого прибегают к самым разным методам: от женского обрезания до паранджи, вуали, чадры и букета законов и обычаев, ограничивающих права женщин. Как бы отвратительны ни были эти методы, продиктованы они в конечном счете ненадежностью мужской репродуктивной стратегии.
Часто ли замужние женщины зачинают детей на стороне? Орнитологи любят воспевать супружескую верность у определенных видов птиц, составляющих пары на всю жизнь. Но это было до появления анализов на установление отцовства: сначала методом белковых фракций, затем по ДНК. При всей наблюдаемой верности внебрачные связи оказались у птиц вполне обычным делом. Самой завзятой блудницей зарекомендовала себя австралийская пичужка прекрасный расписной малюр: 76 % ее отпрысков рождаются от внебрачных спариваний{214}.
У людей генетические анализы на наследственные болезни довольно часто обнаруживают то обстоятельство, что лицо, записанное отцом, в биологическом смысле им не является. Общее правило генетики гласит, что процент подобных неувязок в обычных американских и британских сообществах варьирует от 5 до 10 %. По населению США в целом «общий показатель, которым мы руководствуемся, – 10 %», – говорит Брэдли Попович, вице-президент Американского института медицинской генетики{215}.
Доля «неотцовских детей» в США и Европе особенно удивительна при тех возможностях регулировать собственное репродуктивное поведение, которыми располагает современная женщина. Логично предположить, что большая часть таких детей зачаты отнюдь не случайно. Очевидный вывод – в каких-то случаях женщины преднамеренно беременеют не от мужей.
То, что женщины в современных обществах иногда предпочитают зачать ребенка от альтернативного партнера, заставляет ученых вновь и вновь спорить о том, характерно ли для людей в сколько-нибудь значимой степени такое явление, как конкуренция между сперматозоидами. У многих биологических видов самку осеменяют одновременно несколько партнеров, и в ее репродуктивном тракте начинается буквальная гонка между сперматозоидами самцов-соперников, главным призом в которой является оплодотворение яйцеклетки. Самка получает крупный генетический выигрыш: ее оплодотворяет лучший из участников состязания. Отказалась ли эволюция от такого удачного метода обретения репродуктивного преимущества, или он работает у человеческой расы?
«Спермовые войны у Homo sapiens возможны, хотя вопрос о том, сыграли ли они сколько-то заметную роль в эволюции человека, остается дискуссионным», – пишет авторитетный специалист в области размножения у приматов Ален Диксон{216}.
Недавно ученые исследовали последовательности ДНК в трех генах, задействованных в продукции спермы, у трех видов приматов: шимпанзе, горилл и человека. У шимпанзе, среди которых спермовые войны особенно важны, эти гены, по всем признакам, находятся под сильным селективным давлением. Давление заметно меньше у горилл, чего и следовало бы ожидать, учитывая, что седоспинный самец не делит свой гарем ни с кем. У людей эти гены эволюционировали в ускоренном темпе: быстрее, чем у горилл, и не медленнее, чем у шимпанзе. Человеческие гены спермы явно испытывают на себе мощное селективное давление, и причиной может быть конкуренция сперматозоидов{217}.
Чтобы она имела место, нужно не просто, чтобы у женщины было больше одного полового партнера, но чтобы при этом контакты с обоими произошли в короткий отрезок времени{218}. По данным биолога из Манчестерского университета Робина Бейкера, в таких соревновательных условиях зачаты около 4 % населения Великобритании{219}. Эта оценка отчасти поддерживается данными о суперфекундации – явлении, которое случается с разнояйцовыми близнецами. В отличие от однояйцовых, которые зарождаются при расщеплении одной яйцеклетки, разнояйцовые близнецы образуются, если в овариальном цикле высвобождается более одной яйцеклетки. А суперфекундация – это тот случай, когда две яйцеклетки оплодотворяются разными отцами. В греческой мифологии близнецы Кастор и Полидевк были сыновьями соответственно спартанского царя Тиндарея и Зевса, в образе лебедя соблазнившего жену Тиндарея Леду. Это, возможно, первый в истории случай суперфекундации, но ни в коем разе не последний. Подсчитано, что каждая четырехсотая пара разнояйцовых близнецов, рождающихся у белых американок, – от разных отцов{220}. В случаях оспаривания отцовства суперфекундация обнаруживается у 2,4 % пар близнецов{221}.
Для женщины беременность от альтернативного партнера несет серьезный риск: если ребенок окажется подозрительно непохожим на номинального отца, его жизнь и жизнь матери могут оказаться в опасности. Такой риск должен был создать сильное селективное давление в пользу генов, которые предписывали бы новорожденным не быть слишком похожими на родителей. И действительно, у младенцев обычно пухлые личики с нечеткими чертами, похожие одно на другое, и риск, что новорожденный окажется похож не на того отца, таким образом резко уменьшается.
В той степени, в какой младенцы вообще могут на кого-то походить, они должны быть равно похожи на обоих родителей. Однако ученые обнаружили, что родственники молодых родителей, в частности бабушки и деды новорожденного, гораздо чаще комментируют его сходство с отцом, и особенно часто – в присутствии отца, как бы подтверждая его отцовство. «Делают ли это родственники осознанно, хорошо зная, что младенец нисколько не похож на отца, или обманывают себя, неясно», – пишут авторы учебника по эволюционной психологии{222}.
Учитывая первостепенную важность репродуктивного успеха, эволюционные психологи уделяли особенное внимание брачным обычаям человека, изучали сигналы, управляющие выбором партнера у мужчин и у женщин, и стратегии, используемые полами для достижения их репродуктивных целей.
Анализируя сигналы, которыми человеческая психика генетически запрограммирована на то, чтобы при выборе быстро оценивать партнера, ученые выяснили, что во многих культурах мужчины предпочитают женщин с соотношением объема талии и бедер 7 к 10. Вероятно, глаз мужчины настроен на эти пропорции, потому что они сигнализируют о хороших детородных способностях. У молодых женщин жир обычно откладывается на бедрах, в груди и на ягодицах, а у женщин постарше и у беременных утолщается талия. «Относительно тонкая талия означает: я женщина, я молода и не беременна», – пишет эволюционный психолог Бобби Лоу{223}. Еще один показатель хороших генов – симметрия черт, особенно в лице: это признак нормального внутриутробного развития, а значит, крепкого здоровья вообще. Встречаются, конечно, и вариации общей темы. У бушменов мужчины без ума от женщин с выступающим валиком жира на ягодицах – предположительно это знак того, что женщина сможет кормить ребенка в трудные времена.
Поскольку для женщин воспроизводство – это куда больший риск и большие траты, чем для мужчин, женщины, считает биолог Роберт Триверс, более придирчивы в выборе партнера, и это усиливает в мужчинах соперничество за благосклонность противоположного пола. Женщины ищут у потенциального партнера не просто признаки хорошего здоровья, а готовность оберегать семью. Это вопрос отчасти эмоциональной вовлеченности, которую женщина внимательно оценивает, а отчасти – благосостояния или возможности его приобрести, на которую указывает, например, социальный статус мужчины.
Опросы последовательно показывают, что американских женщин благосостояние партнера волнует больше, чем мужчин. Эволюционный психолог Дэвид Басс провел такой же опрос среди 10 000 человек, принадлежащих 37 разным культурам по всему миру, и увидел ту же картину: женщины придают финансовым обстоятельствам потенциального партнера большее значение, чем мужчины{224}. Практически во всех культурах женщины предпочитают мужчин с высоким социальным статусом, очевидно потому, что статус напрямую коррелирует с богатством. Женщины последовательно предпочитают мужчин немного старше себя, по непонятным до конца причинам. Эта склонность, считает Басс, может быть пережитком эпохи охотников и собирателей, когда самыми сильными и способными к физической защите семьи были мужчины повзрослее{225}. Возможно, по той же причине женщины устойчиво предпочитают рослых мужчин невысоким.
Если есть смысл оценивать признаки здоровья и детородные способности потенциальной пары, то, пожалуй, еще полезнее при выборе партнера для длительных отношений обратить внимание на показатели его ментальной совместимости с будущим супругом. Эволюционный психолог Джеффри Миллер предложил оригинальную теорию о том, что и такие индикаторы существуют, только известны нам под именами, никак не отражающими их биологической функции. По мнению Миллера, индикаторами ментального соответствия служат, во-первых, культурные занятия: музыка, танцы, изобразительные искусства, литература, а во-вторых, моральные качества, такие как доброта{226}.
Биологи довольно неплохо разобрались в том, почему этим индикаторам совместимости можно верить и почему ими служат те качества, которые варьируют от индивида к индивиду. Показатели совместимости и связанные с ними поведенческие предпочтения появляются в результате полового отбора – той формы естественного отбора, инструментом которой служит не физическое выживание, а брачный успех. Первым механизм полового отбора описал Дарвин, который долго не мог понять, зачем у многих видов самцы носят обременительные украшения: ветвистые или длинные рога, плюмажи из перьев. Эти вычурные украшения, очевидно, никак не способствовали выживанию и явно противоречили дарвиновской идее выживания наиболее приспособленных. Ответ, который Дарвин излагает в «Происхождении человека», – предпочтения женского пола: самки павлина почему-то выбирают самцов с пышными и яркими хвостами, которым повезет произвести много потомков, в том числе мужского пола, что унаследуют пышные хвосты, и женских, что унаследуют вкус к таким хвостам. Следовательно, все эти мужские украшения оказываются полезными для владельца бременем, потому что способствуют решению главной эволюционной задачи: передать по наследству как можно больше генов.
Это не снимает вопроса о том, как подобные мужские украшения вообще возникли. Целый век дарвиновскую теорию полового отбора практически никто не признавал – современники ученого отказывались верить, что женские вкусы могут быть мощным эволюционным фактором, – и только в 70-х гг. XX столетия биологи стали ею заниматься. Одно из предположений было таким, что мужские «наряды» типа длинных плюмажей трудно вырастить, и потому они служат маркером хорошей генетики. Но если, например, длинные красные перья в хвосте были бы для самцов ключом к репродуктивному успеху, то скоро ими обзавелся бы каждый и они стали бы бесполезны для самок, выбирающих партнера.
Биолог Амоц Захави пришел к выводу, что «ярлыки», отмечающие здоровых и пригодных для брака особей, должны быть «дорогими», чтобы существенно осложнять жизнь носителю. У слабых павлинов вырастают облезлые хвосты, и только сильнейшие могут похвастать по-настоящему прекрасным шлейфом. На основе этих различий самки и делают выбор. Биологи считают это качество наследственным: состояние хвоста варьирует от особи к особи, и эти вариации отчасти задаются генами.
Физические черты, развившиеся как показатели брачной привлекательности у людей, – симметрия черт, гладкая кожа, пропорциональное сложение – мы называем общим словом «красота». Люди находят эти черты привлекательными не потому, что так решили, и не по велению моды, но потому, что мужской и женский разум в процессе эволюции запрограммированы искать и одобрять такие черты в потенциальном партнере.
Теория Амоца Захави объясняет, почему, как это ни грустно, красивыми и привлекательными не могут быть все. Степень красоты служит показателем пригодности к браку и потому должна быть у людей разной. Если бы все были одинаково прекрасны, красота не имела бы никакой ценности как критерий полового отбора.
Приватизация секса, начавшаяся 1,7 млн лет назад, не оставила места для соперничества между мужчинами за обладание женщинами. Но она стала важным шагом на пути уменьшения агрессии внутри сообществ. И много тысяч лет спустя отозвалась значительным эволюционным снижением уровня агрессии между разными сообществами.
Одомашнивание человека
О том, что вражда между человеческим племенами пошла на убыль, свидетельствует грацилизация, т. е. утончение скелета, произошедшее повсеместно в позднем палеолите. Скелеты первых современных людей крупные и мощные, имеют толстые кости. Но примерно 40 000 лет назад этот стандартный тип начинает меняться. В разных популяциях по всему миру данная модификация проходила практически одновременно схожим образом, как будто в каждой группе независимо происходили одни и те же генетические изменения. «Уменьшение черепа и грацилизация в большинстве случаев – гомоплазия [результат независимой эволюции]», – пишет антрополог Марта Миразон Лар{227}.
В разных популяциях грацилизация шла разными темпами, но процесс имел общий характер повсюду, за исключением двух популяций, разместившихся в разных концах обитаемого мира: австралийских аборигенов и жителей крайнего юга Южной Америки. Черепа австралийцев уменьшились в объеме, но зато сохранили прежнюю массивность, вероятно, в результате независимой эволюции. На жителей Огненной Земли, скорее всего, повлиял дрейф генов: мелкая изолированная популяция приобрела уникальные черты{228}. Наиболее успешно грацилизация прошла в Африке и в Азии, у европейцев же по-прежнему можно встретить крупные габариты и массивность костей{229}.
Что вызвало грацилизацию человеческих скелетов и уменьшение черепов и зубов у всего человечества? Это большой и непростой вопрос, не в последнюю очередь осложняющийся тем, что очень похожий процесс «усыхания» претерпели овцы, козы и другие животные, одомашненные в эпоху неолита после возникновения сельского хозяйства. Меньшие габариты одомашненных животных (в сравнении с их дикими прародителями) ученые объясняют такими факторами, как смена рациона, убывание физической активности и ослабление при размножении в неволе селективного давления, выбирающего крупных самцов{230}.
Спадом физической активности и переменой рациона вследствие распространения сельского хозяйства пытались объяснять и грацилизацию человека. Однако объяснение придется искать в другом, поскольку мы знаем, что грацилизация началась задолго до возникновения сельского хозяйства, примерно в период появления первых оседлых поселений. Ближневосточные натуфийцы, первые в истории оседлые люди, уже имели заметно более изящные, чем у предков, черты, меньше рост и мельче зубы{231}.
Марта Миразон Лар считает, что облегченный и утонченный скелет, характерный для людей позднего палеолита, «имеет прочную генетическую базу», однако работа Лар целиком описательна, и она не выдвигает никаких гипотез о причинах, что могли повлечь изменения в генетике. А вот приматолог Ричард Рэнгем предложил весьма любопытную версию.
Он рассуждал так. Рассмотрим сначала бонобо, куда более миролюбивых и дружелюбных обезьян, чем шимпанзе. Их черепа похожи на черепа юных шимпанзе, и поведение у них, по сравнению с родственниками, более инфантильное. Перемена такого типа называется педоморфоз, т. е. сохранение детского облика, и связана с эволюционным процессом образования новых биологических видов путем купирования нескольких стадий полного созревания особи у вида-предшественника. Бонобо, вероятно, оказались в условиях, когда вражда стала невыгодна, и тогда эволюция стала отбирать особей, чье развитие завершалось до проявления агрессивных склонностей, типичных для взрослого самца.
Биологи знакомы с педоморфной эволюцией и по другой истории: истории одомашнивания. У собаки череп и зубы меньше, чем у волка, они – как у волка-подростка. То же самое наблюдал Дмитрий Беляев, проводя свой, уже упоминавшийся нами эксперимент по одомашниванию черно-бурых лис. Беляев отбирал животных только по критерию послушности, но в его лисах помимо терпимости к людям проявлялся еще ряд общих особенностей, включая белые пятна на шкуре, волнистый мех и меньший объем черепа и мозга.
В этом свете грацилизация человеческого черепа полностью соответствует набору тех модификаций, которые происходят, когда биологический вид подвергается педоморфозу или доместикации. Грацилизация, считает Рэнгем, произошла потому, что люди стали менее свирепыми.
А кто же их тогда приручил? Ответ очевиден: люди приручили сами себя. В каждом сообществе у свирепых и агрессивных самцов вдруг ухудшились шансы на продолжение рода. Процесс начался приблизительно 50 000 лет назад, и, по мнению Рэнгема, полным ходом идет сегодня. «Я полагаю, есть все указания на то, что мы проходим середину эволюционного процесса, в ходе которого уменьшаются размер зубов и челюсти, и логично, что мы и дальше продолжаем сами себя укрощать… Так человек постепенно превращается в гораздо более мирную форму былого воинственного предка»{232}.
Со снижением агрессивности человек получил возможность создавать крупные и сложно организованные общества.
Прогресс человеческого общества
В словаре эволюционной биологии нет слова «прогресс», поскольку у эволюции нет цели, к которой направлялось бы развитие. Однако, когда речь идет об эволюции человека, пожалуй, стоило бы сделать исключение. Люди, в конце концов, довольно часто делают выбор. Если их выбор поколение за поколением формирует общество и дает индивидам, обладающим определенными личностными свойствами, иметь больше детей и распространять свои гены, тогда сама природа общества будет зависеть в некоторой степени и от человеческого выбора. Если свойство личности – готовность сотрудничать с другими индивидуумами, тогда общество, в котором такие личности преобладают, станет более сплоченным внутри и более гибким в отношениях с соседями. Чем меньше в обществе готовых к сотрудничеству членов, тем более агрессивным, подозрительным и предприимчивым оно является. Общество у яномамо, поскольку унокаи производят большое потомство, несомненно, получило толчок в сторону развития агрессивности. Но в целом при всех отклонениях человечество за последние 15 000 лет прошло огромный путь в сторону миролюбия, сплоченности и социального усложнения.
Многие считают, что эволюция происходит слишком медленно и никаких значимых изменений в человеческой природе не могло произойти ни за 10 000, ни даже за 50 000 лет. Но это не так. Мы уже упоминали появление новых аллелей мозговых генов 37 000 и 6000 лет назад и гена переносимости лактозы 5000 лет назад; еще несколько примеров недавних эволюционных изменений у человека описываются в главе 12. Нет никаких причин считать, будто человеческая природа перестала эволюционировать, достигнув в далеком прошлом какой-то финишной черты, или думать, как некоторые психологи, что люди пытаются функционировать в современных обществах, сохраняя пещерное сознание. Геномы либо приспосабливаются к складывающейся ситуации, либо исчезают, и нет оснований исключать наш геном из этого правила.
В последние 15 000 лет человеческие общества пережили целый ряд фундаментальных преобразований, которые, вполне вероятно, сопровождались не только культурными, но и эволюционными изменениями. Лишь умерив агрессию, люди смогли перейти от кочевой жизни охотников и собирателей, которую вели последние 5 млн лет, к оседлости. Первые постоянные поселения появились на Ближнем Востоке около 15 000 лет назад. И, хотя поначалу в них бытовал эгалитаризм, вскоре появились иерархии с элитами, вождями и распределением ролей.
С переходом к оседлости люди стали образовать крупные и сложно организованные сообщества, т. е. возникла новая среда обитания, к которой нужно было приспосабливаться. Сообщества имели разную природу, и каждое поощряло и наказывало в индивиде свой набор черт характера. Антропологи Аллен Джонсон и Тимоти Эрл проследили зарождение человеческих обществ разной степени сложности и утверждают, что каждый тип общества – это ответ на некие проблемы среды обитания, в частности продовольственного обеспечения, излишков, защиты и торговли. Джонсон и Эрл выделяют три основных уровня сложности: семья, ближнее окружение и региональная политика[10]{233}. Каждое из этих крупных культурных образований вызывало перемены в социальном поведении человека, которые могли закрепляться в генетике, если индивиды, лучше приспособленные к каждой последующей стадии общественного развития, оставляли многочисленное потомство.
По мнению Джонсона и Эрла, сообщества охотников и собирателей складывались из более или менее автономных семейных групп, хотя и с элементами надсемейной организации. Так, у бушменов есть строгие правила распределения рисков неудачной охоты, предписывающие охотнику делиться добычей с другими семьями. Крупное животное дает столько мяса, что одна семья не в силах его потребить, и потому охотник делится с другими, покупая ответную услугу на будущее.
Две черты, наметившиеся в собирательском социуме, – взаимность и появление лидеров – еще более отчетливо обозначаются в оседлых общинах. Согласно Джонсону и Эрлу, оседлые поселения нуждались в гарантированном источнике продовольствия. Но вместо того, чтобы, как собиратели, делиться тем, что удалось добыть, люди придумали другое решение: производить и хранить излишки.
Излишки – практически неведомая собирателям реалия – для оседлых сообществ имели критическое значение. Запасы пищи нужно было хранить, оберегать и распределять: эти занятия требуют более высокого уровня социальной организации, чем слабые межсемейные связи в собирательском кочевье. Появились территориальные сообщества, типа деревень яномамо, в которых уже были свои главы, не имевшие, правда, большой власти сверх умения убеждать. Среди объединяющих группу занятий главную роль играли религиозные ритуалы.
Излишки – это еще и товар, которым можно торговать. Усложнившееся управление делами сообщества: торговлей, обороной и вложением труда (например, в устройство рыболовных заколов или в ирригацию), потребовало более полномочных лидеров. Появились вожди, а с ними – специалисты и элита. Осуществляя торговлю с удаленными регионами и вынося риски производства продовольствия на надсемейный уровень, вожди и элиты интегрировали сообщества деревенского формата в региональные хозяйственные системы.
Так, по мнению Джонсона и Эрла, была подготовлена почва для слияния территориальных сообществ в более крупные образования. Дальнейшая интенсивная хозяйственная активность привела к возникновению первых государств, именуемых архаическими. Так, в Японии люди вели присваивающее хозяйство приблизительно до 250 г. до н. э. когда начали культивировать рис на сухом поле. Собирательство и суходольное рисоводство сосуществовали до 300 г., когда японцы освоили выращивание риса на мокром поле. Проливное рисоводство требует масштабных мелиорационных работ, и в это время в Японии возникают первые архаические государства.
Они формируются не раньше 5000 лет назад. По оценкам Джонсона и Эрла, в эпоху неолита на земле существовало более 100 000 политически самостоятельных сообществ типа семьи или округа. Но на всех стадиях, от собирательского кочевья до архаического государства, социальная организация преследует одну цель: использовать имеющиеся ресурсы для обслуживания репродуктивных стратегий общества. Созданием первых государств управляли две мощные силы, которые и в современном мире формируют межгосударственные отношения. Первая – оборона, вторая – зависимость от внешних связей. Эти две государственные функции вытекают из двух глубинных свойств человеческой природы: противоположных инстинктов вражды и взаимности. Хотя войне в исторических сочинениях посвящено больше страниц, в долговременной перспективе побеждают примиряющие искусства торговли и обмена. По данным ВОЗ, в 2002 г. только 0,3 % смертей были вызваны войной{234}.
По сравнению с предками из позднего палеолита у нас хрупкие кости, дружелюбный характер, более сплоченное и безопасное общество. Возможно, выбор человечества – предпочтение переговоров борьбе на уничтожение – запечатлелся и в нашем геноме. Возможно, этим и объясняется, что человеческая эволюция в последние 50 000 лет оставляет стойкое ощущение прогресса: воля человека направляет слепые силы природы, которые прежде двигали эволюцию по стихийной траектории.
Вместе с эволюцией социальных форм продолжалась и эволюция нашего организма. Род человеческий рассеялся по разным континентам, расстояния и вражда препятствовали свободному перемешиванию генов, и на разных континентах люди двигались своими эволюционными путями. Эти разные дороги и привели спустя много поколений к формированию разных человеческих рас.
9. Раса
Хотя существующие человеческие расы отличаются друг от друга во многих отношениях – по цвету кожи, волосам, форме черепа, пропорциям тела и т. д., – тем не менее оказывается, если брать в расчет их общую организацию, они похожи друг на друга по множеству признаков. Многие из этих признаков настолько маловажны или своеобразны, что кажется невероятным, будто они приобретены независимо друг от друга изначально различными видами или расами. То же относится к многочисленным чертам интеллектуального сходства между различными человеческими расами. Коренные обитатели Америки, негры и европейцы разнятся между собой по уму настолько же, как и любые другие три расы, которые мы назовем. Несмотря на это, во время моего пребывания на корабле «Бигль» вместе с туземцами Огненной Земли меня постоянно поражали многочисленные мелкие черты характера, показывавшие большое сходство между умом этих людей и нашим; то же самое я могу сказать относительно чистокровного негра, с которым мне случилось однажды быть близко знакомым.
Чарльз Дарвин. Происхождение человека и половой отборПосле того как прародители человечества, покинув родные места на северо-востоке Африки, разошлись по свету, вместо единой человеческой популяции на земле возникло несколько. На разных концах планеты эволюция человека шла разными путями. И через много поколений на каждом из континентов сложились особые расы.
Такой поворот ничуть не удивителен. Множество различных факторов задавало для каждого из народов свою эволюционную траекторию. Механизм, который мог бы сохранить единообразие генотипа – тщательное перемешивание генов за счет постоянных смешанных браков, – перестал действовать, поскольку люди жили на огромном удалении друг от друга и, вероятно, их племена враждовали между собой, если на земли какого-то племени забредал чужой, его сразу убивали как вражеского лазутчика. Генеалогия Y-хромосомы и митохондриальной ДНК, чьи основные ветви по-прежнему, в общем, раскладываются по континентам, показывает, что по всему миру люди поразительно склонны – или по крайней мере до самого недавнего времени были склонны – жить, заводить семьи и умирать в тех местах, где сами появились на свет.
Генетическое разделение человеческого рода на расы, а внутри рас – на национальности долго оставалось предметом споров и фигурой умолчания одновременно. Из-за бед, которые принес расизм, – от дискриминации до геноцида – ученые старались как бы не замечать существования рас. Многие представители общественных наук даже заявляли, что раса – целиком социальный феномен, не имеющий биологической основы.
Мы не вполне понимаем явление расы, отчасти потому, что раса не считалась предметом научного исследования. Во многих отношениях это было благоразумно. Тема рас, как тогда казалось, не представляла большого интереса для науки, вызывала конфликты и была серьезно скомпрометирована целым рядом теорий, классифицировавших расы с целью показать превосходство одной над другими. Однако проявились две весомые причины для научного анализа расового вопроса, и в то же время новейшие средства определения последовательности ДНК наконец-то открыли возможность исследовать загадочную природу расы научными методами.
Первая причина – историческая: представители разных рас могут хранить в генах свидетельства, важные для понимания истории человечества после разделения популяции прародителей, случившегося 50 000 лет назад. Расы, как можно полагать, сформировались не в последнюю очередь под действием факторов внешней среды, влиявших на разные человеческие популяции, и генетические изменения, задавшие своеобразие расы, могли бы дать ученым возможность эти факторы установить. Разные ветви человеческой семьи имеют свою историю, и ее невозможно ни изучить, ни описать, если не выявить эти ветви и не исследовать их генетику.
Вторая и более практическая причина изучения рас – медицинская. Во многих болезнях есть генетический компонент, и он нередко расово или национально специфичен. Гемохроматоз, наследственное заболевание, предположительно распространенное викингами, встречается в основном у европейцев. Индейцы пима особенно предрасположены к диабету, тихоокеанские островитяне – к ожирению. Болезнь Крона встречается у европейцев и у японцев, но из трех вариантов гена, вызывающих ее у европейцев, в Японии не обнаруживается ни один: очевидно, что там аналогичную симптоматику порождает другая мутация.
Также люди разных рас могут различно реагировать на лекарства. В частности, потому, что они с разной скоростью теряют расщепляющие лекарства ферменты. (Первоначальным назначением таких ферментов было расщепление природных токсинов, содержащихся в растениях: поскольку для этой цели они больше не нужны, то в случайном порядке отключаются мутациями, которые естественный отбор перестал отсеивать.) Помимо этого, у людей бывают разные версии белка, на который нацелен лекарственный агент. Сердечный препарат эналаприл снижает кровяное давление и риск госпитализации по сердечной недостаточности у белых пациентов, но не оказывает никакого действия на чернокожих{235}.
Особенно отчетливо расовоспецифичную реакцию на лекарства можно наблюдать на примере препарата «БиДил», созданного кардиологом Джеем Коном из Университета Миннесоты. Первые испытания лекарства не показали высокой эффективности. Однако, изучая результаты, Кон обратил внимание, что препарат хорошо помог определенной выборке больных – афроамериканцам. В новом тестировании, в котором участвовали только афроамериканцы, «БиДил» оказался настолько эффективным, что пришлось остановить испытания и назначить лекарство пациентам из контрольной группы, которые его не получали. (Возможно, избирательное действие препарата объясняется тем, что у людей африканского происхождения уровень того химического сигнала, который усиливается лекарственным агентом, генетически понижен для удержания соли в условиях жаркого климата{236}.)
Обнаружение генетически обусловленной разницы в клинической картине заболеваний и в реакции на лекарственные препараты у разных народов вызвало горячий спор о «расовой медицине». Часть врачей считает, что расовая принадлежность пациента не должна учитываться в процессе лечения. Но им горячо возражают генетики: расшифровка человеческого генома уже позволяет проводить диагностику и лечение согласно с этнической спецификой болезней, и было бы неразумно игнорировать расовые различия, если они, как в истории с «БиДилом», помогают успешному лечению.
Знаменитый генетик Нейл Риш, работающий в Калифорнийском университете в Сан-Франциско, первым заявил, что структура человеческой популяции в значительной степени согласуется с общепринятой теорией рас.
Написать статью Риша побудило резкое недовольство социологической догматикой о внебиологической природе рас, прозвучавшей в New England Journal of Medicine, одном из главных журналов медицинской науки. «Расы – это общественная конвенция, а не научная классификация», – заявил в редакционной статье Роберт Шварц, заместитель главного редактора{237}. И поскольку понятие расы «не имеет биологического смысла», развивает тезис Шварц, она никак не должна учитываться в работе врача. Подобная статья, правда, не столь категоричная, появилась и в журнале Nature Genetics{238}.
Большинство представленных аргументов, пишет Риш в ответе на две эти статьи, «не опирается на объективное научное видение». В лишенном эмоций языке научной литературы это оскорбление. Многочисленные генетические исследования человеческой популяции показывают, что самые заметные различия в генетике существуют между разными континентами. Эти исследования, пишет Риш, «в целом подтвердили классическое определение рас по континенту происхождения». Пересматривая эти определения, Риш и его коллеги предлагают делить человечество на расы по континентам, и внутри рас выделять национальности.
По мнению Риша, существует пять континентальных рас{239}:
• африканцы – люди, чья родословная происходит из Черной Африки. К ним относятся афроамериканцы и негроидные жители Карибских островов;
• европеоиды – выходцы из Западной Евразии, т. е. Европы, Ближнего Востока, Северной Африки, и с Индийского субконтинента (Индия и Пакистан);
• азиаты – народы Восточной Евразии (Китай, Япония, Индокитай, Филиппины и Сибирь);
• тихоокеанцы – аборигены Австралии, народы Папуа – Новой Гвинеи, Меланезии и Микронезии;
• коренные американцы – первые обитатели Северной и Южной Америки.
Внутри каждой из континентальных рас наблюдается градация цвета кожи, от светло-шоколадных бушменов на юге Африки до черных бантуговорящих народов из западной и центральной части материка, от бледнокожих скандинавов до смуглых народов южной Индии. Таким образом, цвет кожи не может служить для точного определения континентальной расы.
На границах континентальных популяций сложилось несколько групп, образованных путем смешивания соседствующих рас или метисации, как называют этот процесс генетики. Так, эфиопы и сомалийцы – это метисы европеоидов и африканцев. «Существование таких промежуточных групп никак не должно скрывать тот факт, что крупнейшее генетическое разделение в человеческой популяции существует на расовом уровне», – пишет Риш.
В США есть несколько народов, сформировавшихся путем перемешивания двух рас. Разные популяции афроамериканцев имеют от 12 до 20 %, а в среднем 17 % европеоидных генов, унаследованных, главным образом, от эпохи рабства. «При всей метисации афроамериканцы остаются в основном африканской популяцией, их генетика отражает прежде всего их африканские корни», – продолжает Риш.
Другая смешанная группа, по классификации Бюро переписи населения США, называется латиноамериканцами, хотя латино– это не расовый, а лингвистический маркер. По своей генетике латиноамериканцы в разных частях страны отличаются друг от друга. На юго-западе США – это в основном американцы мексиканского происхождения, у которых, согласно результатам недавнего исследования, 39 % индейских генов, 58 % европеоидных и 3 % африканских. Латиноамериканцы с восточного побережья – это, главным образом, жители Карибских островов, и у них доля африканских генов больше.
США часто называют плавильным котлом рас, однако уровень смешения здесь ниже, чем можно было бы ожидать. По данным переписи населения 2000 г., американские браки не вполне стихийны. Правилом остается расовая эндогамия (браки с представителями своей расы): 97,6 % опрошенных причисляют себя к какой-то одной расе, и лишь 2,4 % заявили, что принадлежат к более чем одной расе (предположительно дети родителей, принадлежащих к разным расам). Около 75 % американцев считают себя белыми, т. е. европеоидами, 12,3 % назвались черными или афроамериканцами, 3,6 % – азиатами, 1 % – коренными американцами и 5,5 % – другие расы.
Разделение прародителей
Формирование континентальных популяций показывает, что господствующую роль в образовании человеческих рас играют география и эндогамия. Пока браки заключаются без всяких ограничений, как, несомненно, было в популяции прародителей, генофонд остается единым. Путем мутаций накапливается новое разнообразие, т. е. альтернативные версии генов, а старые уносятся дрейфом генов, но все это происходит с одним общим геномом. Когда возникают какие-либо серьезные преграды смешанным бракам, например религиозные табу, генофонды разделяются. Поскольку мутации и дрейф генов – процессы стихийные, то новые генофонды в дальнейшем изменяются независимо друг от друга. И две популяции могут пойти по разным эволюционным траекториям. Миграции между ними могут существенно сгладить генетические различия, которые время и расстояние, напротив, усугубляют.
Началом формирования рас следует считать распространение человечества по Африке из одной колыбели-прародины, случившееся примерно 50 000 лет назад. Прежде чем люди вышли за пределы родного материка, первая человеческая популяция уже, очевидно, разбилась на части: безусловно, отделенные друг от друга расстояниями разные субпопуляции. Как мы уже отмечали, покинувшая Африку партия целиком принадлежала к одной из этих субпопуляций, ответвившихся от линии L3 в генеалогическом древе митохондриальной ДНК. В своих генах они несли лишь часть генетического разнообразия африканцев, т. е. далеко не все аллели каждого гена. Это обстоятельство выводило описываемую группу на новую эволюционную тропу.
Эмигранты скоро разбрелись по всему миру и дальше разделились на множество новых популяций. Чем популяция меньше, тем сильнее в ней сказывается дрейф генов, урезающий число доступных аллелей. Без перемешивания с другими группами, гомогенизирующего генофонд, население континента или отдельной территории со временем становится все более особенным и все менее похожим на другие народы.
Роль дрейфа генов в формировании статичных популяций ученые недавно пронаблюдали на примере Исландии{240}. Хотя Исландия, как мы уже упоминали, заселена всего 1000 лет назад, люди в разных ее областях настолько генетически обособились, что, проанализировав 40 участков в геноме исландца, можно точно сказать, в какой из 11 областей острова жили его предки. В остальном мире, где генетические процессы идут примерно в 50 раз дольше и существует множество труднопреодолимых препятствий для перемещения, следовало бы ожидать куда более резкого расподобления популяций.
Помимо дрейфа генов человеческие популяции на Земле разводит в разные стороны естественный отбор. На первых мигрантов, покинувших Африканский континент, отбор действовал, видимо, особенно жестко, ведь им пришлось приспосабливаться к совершенно новым рациону, ландшафту и климату. Особенно яркий пример отбора представляет собой недавно открытый вариант гена, кодирующий светлый цвет кожи европеоидов. У африканцев и азиатов почти без исключения другой, старый аллель этого гена, известного под названием SLC24A5. Среди европеоидов же 99 % или около того оснащены новой версией, которая, видимо, возникла, когда разделились популяции европеоидов и азиатов. Универсальной среди европейцев новая версия стала, очевидно, потому, что бледная кожа, которую она программирует, несла какое-то ошеломительное преимущество в аспекте здоровья, сексуальной привлекательности или того и другого. Азиатам их бледную кожу подарил другой ген, который еще предстоит обнаружить{241}.
Как полагал Дарвин, половой отбор, т. е. выбор мужчинами и женщинами партнеров определенного типа, а также соперничество между мужчинами, тоже может быть серьезным фактором селекции с относительно своеобразными законами в каждой отдельной популяции. Несомненно, на формирование генома влияли и болезни, ведь людям в разных краях приходилось бороться с разными местными заболеваниями типа малярии. Заметную роль в складывании популяций, безусловно, сыграла такая неослабевающая сила, как война. Еще одним мощным ваятелем человеческой генетики мог быть климат, особенно когда речь шла об адаптации к жизни в северных широтах и к резким климатическим перепадам позднего плейстоцена.
Если работают все эти эволюционные механизмы, неудивительно, что широко расселившиеся по миру человеческие популяции на разных континентах претерпели собственные модификации общей генетической «темы». Это генетически-географическое своеобразие отражается и в генеалогических схемах, выстроенных на основе митохондриальной ДНК и Y-хромосомы, а также на основе других генетических компонентов. Данные подобных исследований приводит Риш в доказательство разделения человечества на континентальные расы.
Через несколько месяцев после публикации статьи Риша 2002 г. к тем же выводам пришел автор более развернутого исследования Маркус Фелдман из Стэнфордского университета. Вместо того чтобы рассматривать только отдельные маркеры, или участки ДНК, как поступали многие его предшественники, Фелдман с группой коллег проанализировал 377 участков по всему человеческому геному, т. е. более обширную и репрезентативную выборку. Материал для исследования был собран у 1000 человек в 52 популяциях из разных концов света. На основании особенностей ДНК в 337 ее участках компьютерная программа распределила всех испытуемых на группы. В итоге у нее получилось 5 естественных групп, приблизительно совпадающих с континентами происхождения испытуемых: Африка, Западная Евразия (Европа, Ближний Восток, индийский субконтинент), Восточная Азия, Океания и Америка{242}.
Фелдман и соавторы не используют в своем отчете слова «раса», говоря вместо этого о «структурах» и «самоидентификации через популяцию происхождения» (т. е. расовое самоопределение индивида), но в одном интервью Фелдман признает, что его находки подтверждают общепринятую концепцию рас. «Статья Нейла теоретическая, а здесь у нас данные, подтверждающие его выкладки», – прокомментировал Фелдман работу Риша{243}.
Определение расы по ДНК
Один из итогов работы Риша и Фелдмана – впервые предложенный объективный способ определения расы у человека. Большинство предшествующих систем, за важным исключением современной краниометрии, опирались на признаки типа цвета кожи, которые варьируют несистематически, притом часть этих систем создавалась с неблаговидными целями: например, подтвердить провозглашаемое превосходство одной расы над другими. Генетическое определение расы не только свободно от подобной программы, но и не работает ни с какими морфологическими признаками.
Дело в том, что генетические маркеры, используемые при определении расы, насколько известно ученым, не относятся ни к генам, ни к программируемым ими зонам, и, значит, не влияют ни на физический облик, ни на поведение индивида. Очевидно, они косвенным образом связаны с генами, программирующими физическое строение организма, но эта связь опосредованная и на сегодня науке не известна.
ДНК-маркеры, исследованные группой Фелдмана, относятся к тому же типу, который рассматривают судебные эксперты при геномной идентификации личности. В разных участках человеческого генома последовательность ДНК начинает как бы «заедать», образуя так называемый короткий тандемный повтор: несколько единиц ДНК повторяются подряд раз за разом: например, AC-AC-AC-AC-AC. По какой-то причине эти повторы имеют особенность сбивать копирующий ДНК аппарат клетки, который раз в несколько десятков поколений может случайно добавить или отбросить один повтор. Таким образом, точное число повторов на выбранном участке ДНК будет заметно варьировать от особи к особи и, значит, может послужить критерием идентификации человека или популяции{244}.
Генами занято лишь около 3 % ДНК в геноме; остальная ДНК – это несколько метров связывающего «шнура». Короткие тандемные повторы происходят именно в этом соединительном материале и потому не сказываются на физическом строении индивида. Но случается, повторы возникают поблизости от генов, а некоторые гены у разных рас эволюционировали разными путями. Выбирая нужные повторы, генетики обнаруживают индикаторы расы, хотя на сегодня наука не знает, какие именно гены сообщают представителям разных рас их характерный облик.
Риш подсчитал, что, если фрагменты с короткими тандемными повторами выбирать полностью случайно, анализ приблизительно сотни таких фрагментов покажет, к какой из пяти крупных рас относится человек. Но если участки ДНК отбирать намеренно с целью определения расы, то хватит 30 фрагментов. Чтобы установить популяцию или национальность в пределах расы, понадобятся, по оценкам Риша, несколько сотен маркеров.
Наборы таких фрагментов, обозначаемые термином «маркеры происхождения», помогают определить не только расовую принадлежность индивида, но и расовое происхождение отдельных участков его генома. Компания DNAPrint Genomics предлагает тест на определение континента происхождения и в случае смешения рас пропорции присутствующих генов той или иной расы{245}. Тест основан на наборе маркеров, составленном Марком Шрайвером, генетиком из Университета штата Пенсильвания. Этот анализ уже успешно применялся в полицейском расследовании и помог по образцам собранных на месте преступления тканей определить расовую принадлежность серийного убийцы в июне 2003 г. Полиция Луизианы предполагала, что убийца принадлежит белой расе, но анализ, проведенный DNAPrint Genomics, показал, что у подозреваемого 85 % африканских генов и 15 % индейских; впоследствии арестовали чернокожего подозреваемого{246}. Надежность методики еще не подтверждена, но если она помогает полиции выйти на подозреваемого, то затем его ДНК сравнивается с образцами, собранными на месте преступления, методами обычной генной идентификации.
Фелдман и его группа говорят, что по различным наборам маркеров – участков с тандемным повтором – они могут определить у индивида континент происхождения в зависимости от генетической вариабельности искомой расы. Принадлежность к индейцам Америки можно установить всего по 100 маркерам, а вот для подтверждения ближневосточного происхождения понадобится уже все 377. Это объясняется тем, что американские индейцы все происходят от сибирских родоначальников, а Ближний Восток представляет собой более сложную генетическую композицию: по большей части это европеоиды, но у кого-то, как, например, у бедуинов, есть африканский компонент.
Метод Фелдмана позволяет увидеть, насколько глубоко в популяционную историю помогают проникнуть генетические маркеры. Компьютерная программа, использованная для сортировки образцов генома по континентальным кластерам, способна рассечь на географические фракции геном отдельного человека, если у него смешанное происхождение. Центральноазиатские народы хазарейцы и уйгуры, обитающие на историческом перекрестке Востока и Запада, как оказалось, имеют примерно половину европеоидных генов и половину восточноазиатских. У индейцев суруи, довольно обособленной бразильской народности, геном полностью американский (с точки зрения системы пяти расовых кластеров), а вот у майя в американском геноме обнаружилась заметная европейско-восточноазиатская примесь.
С дополнительными маркерами, специально отобранными для определения географического происхождения, наука смогла бы гораздо более детально восстановить происхождение и историю разных человеческих популяций. Для генетиков суть расы – не политика, а история: раса – это отсылка к той ветви родословного древа человечества, из которой ты происходишь.
Научное отношение к расе
Отношение ученых к понятию расы в последнее столетие было самым различным, и новый взгляд, представленный в работах Риша, Фелдмана и других, еще нельзя признать общепринятым.
В XIX в., когда европейские путешественники познакомились с народами других континентов, разительно не похожими на европейцев, разгорелся спор о том, не следует ли признать этих странных туземцев отдельными биологическими видами. Дарвин, с его проницательностью, отверг эту идею, заявив в книге «Происхождение человека» (1871), что существует лишь один вид Homo sapiens, однако разделенный на подвиды, или расы. Единый вид должен иметь единое происхождение, и Дарвин прозорливо поместил колыбель человечества в Африку, где наблюдается самое большое разнообразие человекообразных обезьян. По Дарвину, человеческая популяция в дальнейшем распалась на расы из-за географического разобщения и дальнейшего расподобления, главным двигателем которого, по мнению великого ученого, был половой отбор, т. е. предпочтение женщинами определенных типов мужчин.
Со времен Дарвина человечество успело глубоко осознать опасности расовой концепции, столкнувшись с притеснениями и насилием, которые представители одной расы творили против других. Многие ученые, в том числе генетики, пытались преуменьшить степень биологического разнообразия внутри человеческого рода. Одной из самых влиятельных точек зрения на расу доныне остается позиция, обозначенная генетиком Ричардом Левонтином в 1972 г.
Левонтин измерил параметры белков, взятых у представителей разных рас (метода секвенирования ДНК еще не существовало), и вычислил стандартный показатель колебаний, известный как индекс фиксации по Райту, или FST. Смысл индекса в том, что у некоторого свойства, варьирующего в пределах популяции, подсчитывается доля вариаций, вызванная различием между двумя субпопуляциями. Таким образом, индекс Райта отражает ту долю вариаций выбранного признака, которую можно объяснить различиями между субпопуляциями.
Ричард Левонтин установил, что индекс Райта равняется 6,3 %, т. е. из всех различий между людьми, по крайней мере отражаемых 17 белками, которые Левонтин рассматривал, только 6,3 % представляют собой различия между расами, при этом еще 8,3 % – различия между этническими группами внутри рас. «На 85 % различия между отдельными людьми объясняются индивидуальным своеобразием человека внутри нации или племени», – заключил Левонтин{247}.
Это открытие вполне укладывается в теорию о том, что большая часть генетических вариаций в каждой расе совпадает с вариациями генофонда прародителей, откуда все и вышли. Но здесь также возникает вопрос: насколько велика степень различия между расами? Левонтин заявлял: межрасовые различия столь незначительны, что деление людей на расы с точки зрения генетики бессмысленно и не оправданно.
Такой интерпретации предпочитали держаться многие биологи, и позицию Левонтина приняли и даже довели до крайности крупнейшие общественно-научные ассоциации США. Согласно Американской ассоциации социологов, у расы нет биологической природы, поскольку это «социальный конструкт». Официальное коммюнике Ассоциации по вопросу рас гласит: «Признавая расовые категории как законный предмет эмпирического социологического исследования, важно сознавать всю опасность подыгрывания популярной концепции рас как биологического явления»{248}.
Американская антропологическая ассоциация также не признает, что между расами можно усмотреть биологические различия: «В США как ученые, так и широкая публика привыкли видеть в расах природное и объективное разделение человеческого рода на основе очевидных физических различий», – гласит ее декларация. Но поскольку физические особенности по всей Земле плавно варьируют и не связаны между собой, «эти обстоятельства делают все попытки провести четкие границы между биологическими популяциями субъективными и произвольными»{249}.
Однако сегодня людей можно объективно классифицировать по континенту происхождения, т. е. по расе, с помощью генетических маркеров, подобных тем, что использовала группа Фелдмана. И оценка Левонтином обнаруженных им различий как «незначимых» была столь же научным, сколь и политическим заявлением. Степень различия, исчисленная им в человеческой популяции, совпала с оценками других ученых, помещавших глобальное значение индекса Райта между 10 и 15 %. Сьюэлл Райт, один из трех основателей популяционной генетики и изобретатель индекса FST, отмечал: «…у других биологических видов столь заметно различные расы считались бы подвидами»{250}. Райт подчеркивал, что FST от 5 до 15 % в любой популяции живых организмов означает «умеренные» генетические различия, а диапазон от 15 до 25 % должен считаться «значительной» генетической дифференциацией{251}.
Однако существенную или не очень степень разнообразия отражает FST в 10–15 % – пожалуй, не так уж важно для ответа на вопрос, стоит ли разграничить человеческие расы. Дело в том, что замеры для индекса фиксации по Райту захватывают так называемые нейтральные вариации, а большинство расовых различий, скорее всего, программируются не ими.
Под нейтральными вариациями понимают мутации, никак не сказывающиеся на организме. Эволюцию подобного рода изменения не интересуют, и частотность таких аллелей в популяции колеблется стихийно от дрейфа генов. Общие вариации по большей части нейтральны, а большинство замеров FST, вероятнее всего, захватывают общие, т. е. нейтральные изменения.
Вместе с тем эволюция во все глаза следит за мутациями, изменяющими ген и программируемый им белок. Если изменения неблагоприятны, мутация безжалостно уничтожается, потому что ее носитель погибает или не может продолжить род. Если же модификация повышает репродуктивный успех индивида, мутация продвигается, так как становится все более частотной в популяции. Это и есть две стороны естественного отбора: отрицательный и положительный отбор. Биологи пока не знают, какие именно гены должны видоизмениться, чтобы один вид разделился на два подвида. Вместе с тем похоже, что аллели, задействованные в разделении человеческого рода на расы, скорее должны относиться не к нейтральным, а к закрепленным эволюцией.
Именно такую картину дают версии двух мозговых генов, сменившиеся в последние 40 000 лет их эволюции. Как мы упоминали в главе 4, аллель одного из этих генов, а именно микроцефалина, появившийся около 37 000 лет назад, сегодня широко распространен среди европеоидов и восточных азиатов, но гораздо реже встречается в Черной Африке. Индекс Райта для этого аллеля при сравнении Черной Африки и остального мира 48 %, или 0,48, «что указывает на большое разнообразие и существенно выше, чем среднегеномный показатель 0,12», – пишет первооткрыватель аллеля Брюс Лан из Университета Чикаго{252}.
Новая версия гена ASPM появилась около 6000 лет назад у европеоидов, среди которых носители этого аллеля составляют 44 %. В Восточной Азии он менее распространен, а в Черной Африке крайне редок. Индекс FST этого аллеля у европеоидов и неевропеоидов расходится на 0,29{253}. Несомненно, существуют аллели других мозговых генов, еще не известные науке, которые широко распространены среди азиатов и африканцев и редки у европейцев.
Например, различия в цвете кожи у людей по большей части межпопуляционные, а не внутрипопуляционные. По данным анализа, проведенного Джоном Релетфордом из Университета штата Нью-Йорк в Онеонте, FST по цвету кожи составляет 88 %{254}. Цвет кожи сильно зависит от расы и от географической широты, но очевидно не диктуется нейтральными генами. Генетики Генри Харпендинг и Алан Роджерс считают, что «с другими заметными признаками, отмечаемыми большинством наблюдателей, дело, скорее, обстоит так же, как с цветом кожи, чем как с нейтральными модуляциями». Иначе говоря, большинство физических характеристик, по которым публика определяет расу человека, скорее всего, закреплены отбором, что и было бы закономерно, если главной силой, задававшей своеобразие разных человеческих популяций, был половой отбор{255}.
Именно выбранные эволюцией гены, а не множество нейтральных, скорее всего, ответственны за межрасовые различия. Убедительные свидетельства в пользу этой гипотезы обнаружил пангеномный анализ, осуществленный Джонатаном Притчардом из Университета Чикаго. Разрабатывая тест на выявление генов, недавно подвергшихся селективному давлению, Притчард нашел примерно по 200 таких генов у африканцев, азиатов и европейцев. Лишь совсем незначительная часть из этих наборов у трех рас совпадает, чего и следовало бы ждать, если людям на разных континентах приходилось приспосабливаться к эволюционному давлению независимо друг от друга{256}.
Расы, генотипы и фенотипы
Даже если генетики усматривают разницу между расами на уровне ДНК, как эта разница сказывается на уровне реальных людей? В биологии есть важное разграничение между генотипом и фенотипом организма. Генотип – это только гены, наследственная информация, а фенотип – физический результат работы генов.
Поскольку в геноме столь заметную часть составляет неработающая ДНК, которая не кодирует белки, генотип может меняться, не вызывая заметных перемен в фенотипе. Исландцы, у которых в каждой из 11 областей страны своеобразный генофонд, вряд ли сильно различаются на вид (впрочем, сейчас ученые выясняют, нет ли у них различий в плане болезней).
Опыты Риша и Фелдмана, показавшие, что людей можно генетически классифицировать по континентам происхождения, опираются на генотип и сами по себе ничего не говорят о том, насколько люди разных рас должны отличаться по фенотипу.
Однако участки генома, с которыми работали ученые, в процессе рекомбинации (перестановка единиц ДНК при смене поколений) движутся так же, как и гены. И некоторые из этих участков, особенно расположенные близко к генам, будут как бы представлять сами гены.
Значит, то обстоятельство, что всего лишь несколько сот участков генома позволяют установить расовую принадлежность человека, должно подразумевать и другое: от расы к расе могут варьировать и многие гены, а значит, и задаваемые этими генами фенотипы. Расы, безусловно, имеют свои зримые физические особенности. И эти различия вовсе не поверхностны: есть разница в восприимчивости к болезням и в реакции на лекарства.
Принципиальная схожесть разных рас вещь вполне ожидаемая, если учесть, что каких-то 50 000 лет назад человеческая популяция была единой, а природа человека в значительной степени сформировалась до рассеяния этой популяции, поскольку основные ее черты присутствуют у всех людей. Доказательством неразрывного единства всей человеческой семьи служит и то, что люди разных рас без труда вступают в смешанные браки, и то, что люди любой культуры могут, если их не дискриминируют, функционировать в любой другой.
Вместе с тем существование заметных различий между разными расами также не должно никого удивлять, ведь человеческий род давно разделился на несколько ветвей, эволюционирующих независимо уже 50 000 лет или дольше, толкаемых в разные стороны стихией дрейфа генов и селективным давлением разного климата, разных болезней и разного общественного устройства.
Наука пока не особенно интересуется расовыми различиями, кроме разве что медицины, но и там нет полного согласия. Врачи, изучающие расовое неравенство в медицине, хорошо знают, что многие социальные явления, такие как бедность или низкий уровень врачебной помощи, связаны с расовой принадлежностью. И эти обстоятельства не реже, чем генетика, могут быть причиной того, что, скажем, афроамериканцы в большей степени, чем белые пациенты, подвержены ряду заболеваний. Однако, если расовую принадлежность не учитывать совсем, как призывают некоторые, ученые пройдут мимо многих важных находок, и социологических, и генетических. Если говорить о вкладе генетики, то «БиДил» не появился бы, если бы Джей Кон не проверил, как реагируют на препарат пациенты-афроамериканцы. Казалось бы, получение ценного лекарства для недостаточно защищенной категории населения – безоговорочно доброе дело. И все же некоторые афроамериканцы встретили «БиДил» весьма прохладно: их озаботили немедицинские последствия. Эти люди опасаются, что, если за афроамериканцами, пусть даже в самых благих медицинских целях, признают особую генетику, публика станет приписывать им не самые достойные качества: например, склонность к преступлению. «Если думать о расовых различиях, можно прийти к опасному выводу, что расовая принадлежность предрасполагает к насилию», – говорит противник расово-специфичных методов лечения, социолог из Нью-Йоркского университета Трой Дастер{257}.
Вполне понятно, что любые теории о генетической основе расовых различий могут возбуждать страсти. Долго кипели споры вокруг тестов на умственное развитие, которые, как считается, отражают различия между населяющими США расами. Есть обширная область совпадающих результатов, но если брать среднее значение, то у выходцев из Азии показатель немного выше, чем у американцев европейского происхождения, а у афроамериканцев – ниже. Это признанный факт, но вот устраивающего всех объяснения у него нет. Некоторые психологи заявляют, что тесты на IQ замеряют общее умственное развитие, которое, по их мнению, в значительной степени определяется наследственностью, и что результаты теста предсказывают успешность в дальнейшей жизни. Другие же считают, что тесты демонстрируют лишь разницу в образовании и других культурных особенностях, и значит, никакие генетические объяснения результатов неприменимы. В свете этой дискуссии, анализ которой не входит в задачи нашей книги, изучение рас давно приобрело ореол скандальности.
Менее тревожная сфера проявления расовых различий – спортивные рекорды. По данным кинодокументалиста Йона Энтайна, примерно 95 % всех лучших результатов в спринте принадлежат бегунам из Западной Африки или происходящим оттуда афроамериканцам. Энтайн снял фильм о доминировании африканцев на спортивной арене, а затем написал книгу под названием «Табу», намекая на остракизм, которому подвергается любой, кто заговаривает о генетических основах расового разделения. Господство западных африканцев в беге на короткой дистанции столь безраздельно, что «в последних четырех Олимпиадах все финалисты в мужских забегах на 100 м были западноафриканского происхождения», – пишет Энтайн{258}.
На средней дистанции, от 5000 до 10 000 м, однако, доминируют не западные африканцы, а выходцы с востока материка, кенийцы. У них 60 мировых рекордов в беге с препятствиями на 3000 м и более половины рекордов в беге на 5000 и на 10 000 м. Большинство кенийских чемпионов происходят из народов группы календжин, населяющих земли Великой рифтовой долины, в частности из небольшого племени нанди. Нанди составляют меньше 2 % населения Кении, но к ним принадлежит 20 % всех победителей крупных международных соревнований по бегу{259}.
Занятно, что кенийцы пытались захватить лидерство и в спринте, но потерпели впечатляющий провал: лучший показатель кенийца на стометровке стоит примерно 5000-м в списке результатов, когда-либо зафиксированных на соревнованиях{260}. Это наводит на мысль, что кенийцы обладают каким-то качеством, особенно помогающим на средней дистанции.
Энтайн отмечает целый ряд социальных факторов, помогавших, по крайней мере в прошлом, добиваться лидерства в тех или иных видах спорта. В 1930-е в баскетболе доминировали еврейские спортсмены, и спортивные обозреватели, рассуждавшие об особой генетической предрасположенности евреев к баскетболу, конечно, заблуждались. Однако многие виды спорта, особенно бег, сегодня открыты для всех желающих, вне зависимости от расы и социального происхождения. По мнению Энтайна, при всех упорных тренировках и других методиках воспитания больших спортсменов, столь безусловное господство западноафриканцев в спринте, а кенийцев на средних дистанциях должно иметь и какие-то генетические предпосылки. Джон Мэннерс, написавший о кенийских бегунах несколько книг, также склонен именно генетикой объяснять выдающиеся успехи календжинских атлетов, чьи достижения, по его словам, «создали самую плотную за всю историю спорта географическую концентрацию рекордсменов»{261}. Календжинцы, воинственный скотоводческий народ из группы нилотов, много веков живут на высокогорье – 2000 м и более над уровнем моря – и почти не смешиваются с другими народами. У них есть любопытный обычай, который, пишет Мэннерс, мог послужить инструментом генетического отбора сильных бегунов. Обычай связан с угоном скота – занятием, в котором календжинцы были в свое время непревзойденными мастерами.
Кто-то может сказать, что это кража, но календжинцы считали, что лишь возвращают себе собственность, которая дарована им богом, но по нечаянности попала в чужие руки. Процедура возврата зачастую предполагала прогулки на сотню миль с лишним, чтобы скот оказался достаточно далеко, когда хозяин обнаружит его пропажу. «Чем более умелым угонщиком был юноша – а это умение в немалой степени состояло из высокой скорости бега и хорошей выносливости, – тем больше он добывал скота, – пишет Манер, – а поскольку скот был валютой, которой потенциальный жених рассчитывается за невесту, большое стадо позволяло иметь больше жен и производить больше потомства. Нетрудно понять, что такое репродуктивное преимущество могло за несколько веков заметно модифицировать генетику племени»{262}. Мэннерс подчеркивает, что это лишь догадка, а не точное знание о том, как календжинцы стали такими быстроногими.
На международных спортивных соревнованиях даже малозаметные различия между расами и этническими группами внутри рас наглядно высвечиваются: причина этого – характер распределения физических характеристик внутри популяции. Так, в популяции большинство индивидов – среднего роста, карликов и гигантов совсем немного. Если одна популяция немного выше другой, разница вряд ли будет заметна при сравнении их средних представителей. Но если взять и отобрать из двух популяций десяток самых рослых индивидов, то наверняка все десять окажутся из «высокой» популяции, поскольку мы сравнивали не рядовые образцы, а крайности.
То, что различные расы и этнические группы легче других преуспевают в тех или иных видах спорта – африканцы на беговой дорожке, китайцы в пинг-понге, европейцы в тяжелой атлетике, – само по себе не указывает ни на какие генетические особенности, но здесь видится нам отправная точка, намек на то, что такие особенности стоит поискать.
Гены против географии
Отдельные личности из разных рас могут почти не отличаться друг от друга, но человеческие сообщества существенно разнятся по уровню организации и технического развития. Некоторые культуры, например в Новой Гвинее, только выходят из каменного века, а тем временем другие, типа Финляндии или Тайваня, имеют высокий уровень образования и лучше всех производят сложнейшие товары для глобальной экономики. Объясняется ли эта разница только тем, что новогвинейцам не повезло с географическим положением и ресурсами или, может быть, некие генетические особенности, касающиеся, к примеру, социальности, затормозили одни народы в каменном веке, а другие пустили по совершенно иной траектории?
За географическое объяснение выступает Джаред Даймонд из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Он пишет, что в Евразии существовало больше пригодных для одомашнивания растений и животных и потому там раньше зародилось сельское хозяйство, а евразийцы таким образом получили фору в экономическом развитии. Приспособившись жить поселениями, они выработали иммунитет ко многим болезням, включая те, что переносятся домашними животными: грипп, корь, оспу и др., а народам с других континентов, не знавшим городской культуры, эти болезни несли опустошительные эпидемии.
По мнению Даймонда, именно стартовая фора в хозяйственном развитии и возбудители болезней, а вовсе не врожденная разница в способностях, помогали европейцам покорять другие народы. «История разных народов движется разными путями из-за различий в условиях жизни народов, а не из-за различий в биологической природе самих людей», – утверждает он{263}.
Даймонд пишет, что много лет провел в Новой Гвинее, изучая птиц, и хорошо узнал аборигенов, которые впечатлили его своим живым интеллектом. После этого Даймонд усомнился в объективности данных IQ-тестирования в США, где «многочисленные белые психологи десятилетиями стараются доказать, что черные американцы африканского происхождения от природы менее интеллектуальны, чем белые люди, происходящие из Европы».
По мнению Даймонда, в реальности новогвинейцы, вероятно, даже умнее, чем европейцы, а причина этого, поясняет он, в генетике. У европейцев главным фактором отбора стала способность приобрести иммунитет к болезням, свирепствовавшим в густонаселенных районах, а в Новой Гвинее, где главными причинами смерти были война, убийства и голод, выживание действительно требовало умения думать. «В Новой Гвинее естественный отбор, закрепляющий гены интеллекта, вероятно, был куда более суровым, чем в демографически плотных, сложно организованных сообществах, где наиболее мощный отбор действовал в области обмена веществ [т.e. устойчивости к болезням], – поясняет Даймонд и заключает: – По интеллектуальным способностям новогвинейцы, вероятно, генетически превосходят людей Запада».
Но если новогвинейцы такие умные, почему же менее развитые, избавленные от болезней европейцы нашли выход из губительного круга первобытной вражды и постоянного кровопролития, а для представителей Новой Гвинеи эта задача оказалась нерешаемой? Потому, считает Даймонд, что европейцам повезло с географией. В Евразии видов животных и растений обитает больше, чем где-либо, в том числе видов, подходящих для одомашнивания. Поскольку виды приспосабливаются к климатическим зонам, одомашненные растения и животные могли распространяться вдоль параллелей, и таким образом европейцы набрали широкий круг сельскохозяйственных культур и скота и получили значительную фору в неолитической революции. Это стартовое преимущество, не очень заметное 10 000 лет назад, мало-помалу нарастало, и дошло до того, что в 1500 г. н. э. в обеих половинах Евразийского материка возникли великие цивилизации, тогда как остальной мир, по больше части, еще не выкарабкался из родоплеменной вражды и устной традиции.
Позже, согласно Даймонду, также по географическим обстоятельствам темп развития потеряли китайцы: коммуникации, связавшие воедино материковый Китай, позволили дать власть над всем народом одному правителю, совершившему затем несколько непоправимых ошибок, вроде уничтожения флота, в то время как в Европе с ее междоусобицами процветало разнообразие и удачные модели имели возможность успешно реализоваться. В итоге к началу колониальной эпохи западная цивилизация победила благодаря своему преимущественному географическому положению.
Обычно объяснение какой-то одной универсальной причиной вызывает у историков усмешку, но смелость и оригинальность теории Даймонда, несомненно, расширяют место географии в ландшафте исторической науки. Так что же, генетика совсем не сказалась на ходе исторических процессов?
Многие читатели, которых подкупает политический подтекст теории Даймонда – что господство западной культуры есть географическая случайность и, следовательно, ни одна из рас ни в чем не уступает никакой другой, – вероятно, не заметили его предположения о генетическом превосходстве новогвинейцев. Но, если генетика новогвинейцев эволюционировала, как считает Даймонд, в сторону развития интеллектуальных способностей, необходимых для выживания в некотором биогеценозе, почему такого не могло произойти и с другими популяциями? Приписывая лидерство Запада целиком географии и молчаливо забывая о генетическом объяснении, оставленном для новогвинейцев, Даймонд сосредоточивается на возникновении сельского хозяйства. Однако, как мы отмечали в главе 7, современная археология считает, что на Ближнем Востоке переход к оседлости произошел значительно раньше зарождения производящего хозяйства: сначала люди осели на земле, отказавшись от собирательского кочевья. Затем стали выращивать дикие злаки. Затем, вероятно непреднамеренно, получили культурные формы растений и одомашнили животных. Решающим шагом было не одомашнивание животных, а переход к оседлости. Это открытие, кажется, серьезно подрывает построения Даймонда: трудно усмотреть географические причины, которые предрасполагали бы человеческие сообщества к оседлому образу жизни. Учитывая, что в тот самый момент человеческий организм претерпевал очередную модификацию, продиктованную генами: грацилизацию черепа и скелета, генетическое объяснение седентаризма не кажется невероятным. Возможно, народности вроде натуфийцев, приспосабливаясь к условиям обитания, развили новый тип социальности, который позволил им отказаться от кочевья и создать долговременные поселения.
Если седентаризм действительно был следствием эволюционных изменений, то эти изменения должны были произойти независимо в разных популяциях, как это было с карликовостью, переносимостью лактозы и, несомненно, многими другими усовершенствованиями.
Подобные генетические адаптации не могут быстро охватить все население Земли, поскольку изменение последовательности генов в популяции требует смены нескольких поколений. Напротив, в разных популяциях они идут независимо. И этот широкий разброс во времени перехода от кочевья к оседлости у разных популяций, возможно, и объясняет, почему человеческие сообщества в разных концах света так разнятся по уровню развития.
Возникновение рас
Когда начали складываться нынешние континентальные расы? Очевидно, людям пришлось независимо друг от друга приспосабливаться к разным условиям жизни сразу после того, как популяция прародителей человечества 50 000 лет назад рассеялась по Земле. Вместе с тем до конца позднего палеолита человеческие черепа по всему миру оставались практически одинаковыми, и, скорее всего, черты, характерные для нынешних рас, появляются не раньше, чем 12 000–10 000 лет назад{264}. В это время возникла наибольшая, затем стремительно распространившаяся, вероятно, за счет покорения соседей, популяция, давшая начало китайцам (хань). Судя по всему, то же самое верно и в отношении европеоидов (население Европы, Индии и Ближнего Востока), чьи черепа похожи на ранние европейские, как будто между ними есть преемственность, но в то же время отличаются. У ранних европейцев черепа были крупнее, челюсти массивнее, надбровные дуги мощнее, и, как пишет палеоантрополог Ричард Клейн, «видимо, не стоит относить этих людей к европеоидной расе, объединяя с нынешними обитателями Европы».
Привлекательно выглядит версия о том, что нынешние европейцы и азиаты произошли от народов, 20 000 лет назад населявших северные широты Европы и Сибири соответственно. Как мы упоминали ранее, этих людей должны были вытеснить на юг наступавшие ледники последнего ледникового максимума. Поскольку весь Евразийский материк, кроме самых южных окраин, превратился в полярную пустыню или тундру, центральные области и Европы, и Азии, вероятно, люди покинули.
5000 лет назад ледники начали отступать, и бывшие северяне в обеих половинах континента, видимо, реколонизировали покинутые земли. При таком сценарии в Европе и Азии доминировали бы народы, происходящие от популяций, которые 5000 лет ранее представляли собой немногочисленные группы на крайнем севере ареала обитания человека.
Третья континентальная раса – американские индейцы – происходит от нескольких групп сибирских предков, т. е. тоже являет собой случай разрастания малой группы до населения целого континента.
Получается, таким образом, что европейцы, азиаты и американские индейцы – относительно молодые расы, а вот две другие – австралийцы и африканцы – в генеалогическом смысле несколько старше (их ветви, исходящие из общего корня, немного длиннее). Но и африканцы, и австралийцы эволюционируют ровно такой же срок и, хотя сохранили темную кожу, вероятно, отличаются от прародителей человечества не меньше, чем три расы, формировавшиеся в северных широтах.
Существование рас начинается с того обстоятельства, что популяция раскалывается, и две части прежнего целого двигаются дальше каждая по своей эволюционной траектории. Такие расколы оставляют след не только в генетике, но и в языке. Как и генотип, язык находится в постоянном движении и разделяется на дочерние языки, когда народы расходятся в разные стороны. До выхода прародителей из Африки человеческая семья была единой и разговаривала, вероятно, на одном языке. Поговорив о разделении единого человечества на расы, пора рассмотреть и сопутствующее разделение языков.
10. Язык
Если бы у нас была полная генеалогия человеческого рода, то генеалогическое размещение рас человека дало бы и наилучшую классификацию разных языков, употребляемых в настоящее время во всех странах света; для включения всех исчезнувших языков и всех переходных, слегка разнящихся наречий это была бы единственная возможная система. Но возможно, что один из древних языков изменился очень мало и дал начало немногим новым языкам, тогда как другие изменились существенно в зависимости от расселения, изоляции и степени цивилизации разных рас, связанных общим происхождением. Разные степени различия между языками одного и того же корня могут быть выражены установлением групп, подчиненных друг другу; но единственно возможная система все же должна быть генеалогической; и она была бы естественной в самом строгом смысле, потому что связывала бы вместе все языки – как исчезнувшие, так и современные – на основании их родства.
Чарльз Дарвин. О происхождении видов путем естественного отбораЛингвисты насчитывают на Земле около 6000 языков. Все они происходят от языков-предков, на которых сегодня не говорят. В немногих случаях эти предки сохранились в записанных текстах, как латынь, или могут быть реконструированы через языки-потомки, как праиндоевропейский, предполагаемый родоначальник обширной семьи языков, распространенных от Европы до Индии.
Иначе говоря, эти 6000 языков – не просто разнородная группа; все они раскладываются по ветвям единого фамильного древа человеческих наречий. Все эти ветви, по логике, должны сходиться в единый ствол – праязык, первый из всех языков Земли, на котором разговаривала популяция прародителей.
Если это так, то родословие всех языков можно проследить, найдя каждому место на общем древе. Как предполагал Дарвин, такое древо должно во многом совпадать с другой родословной, показывающей разделение популяции прародителей и происхождение рас. И если языковое древо можно соединить с генетическим древом человеческой популяции и соотнести их с различными археологическими культурами, мы получим новый универсальный подход к изучению доистории.
Одно препятствие на пути к этому синтезу мы видим сразу: большинство исторических лингвистов сходится в том, что реконструировать состояние языков глубже, чем на 5000, максимум на 10 000 лет в прошлое, невозможно. А вот у генетиков энтузиазма побольше. Они разработали сложные статистические методы, позволяющие прослеживать генеалогию популяций, и полагают, что подобная методика могла бы работать и для языков.
Генетический инструментарий, если он действительно применим в этой области, вероятно, помог бы разрешить несколько давних споров в сравнительно-историческом языкознании. Главная из этих загадок – необычное распространение языков на карте мира.
Ареалы распространения языков: удивительная неравномерность
На всей территории США доминирует один основной язык. В Новой Гвинее в то же время около 1200 языков, пятая часть всего мирового разнообразия, на площади примерно в четверть континентальной части США. Откуда такая неравномерность в распределении?
Лингвисты выделяют обширные языковые ареалы, когда на большой территории доминирует один язык, и зоны, где соседствуют множество небольших по площади языковых ареалов. Большинство случаев территориального размещения языков в мире попадает в ту или другую категорию, и, судя по всему, в истории были случаи перехода территорий от языковой раздробленности к цельному ареалу, и наоборот. Процессы, регулирующие территориальное распределение языков, оказывают существенное влияние на историю и культуру.
Одна из причин языковой мозаичности в том, что язык быстро меняется, даже в пределах двух поколений. Прошло всего 600 лет, а английский Чосера современным англичанам кажется иностранным языком. Внутри языка бывают диалекты, варьирующие зачастую от селения к селению. Различия между диалектами были, вероятно, еще значительнее в те дни, когда люди редко уезжали далеко от мест постоянного проживания. Даже в Англии до самого конца 1970-х по выговору можно было определить, где живет человек, с точностью до нескольких десятков километров.
Подобное разнообразие удивляет и озадачивает, ведь универсальный не меняющийся язык был бы, кажется, идеальным средством общения. То, что язык эволюционировал в сторону раздробления, а не в сторону единой системы, конечно, не случайно. Для ранних человеческих сообществ безопасность была гораздо важнее, чем возможность объясниться с чужаками. В условиях непрекращающихся войн всех против всех языковая раздробленность помогала моментально выявить пришельца, который мог оказаться врагом. Диалекты, как пишет психолог Робин Данбар, «служат знаком принадлежности к группе, позволяющим членам группы легко узнавать друг друга; диалект трудно изучить в совершенстве, как правило, им овладевают в детстве, и меняется он настолько быстро, что указывает не только на место жительства говорящего, но и на то, к какому поколению носителей он принадлежит»{265}.
На войне языковые различия помогают отличить своего от врага. Когда Иеффай с жителями Галаада разбил ефремлян, он выставил стражу на переправах, чтобы уцелевшие враги не смогли уйти за Иордан. «…И когда кто из уцелевших ефремлян говорил: "Позвольте мне переправиться", – повествует с пугающей детальностью Библия, – то жители галаадские говорили ему: "Не ефремлянин ли ты?" Он говорил: "Нет". Они говорили ему: "Скажи: шибболет". А он говорил: "Сибболет", – и не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его, закололи у переправы чрез Иордан. И пало в то время из Ефремлян сорок две тысячи»{266}.
В пасхальное воскресенье 1282 г. сицилийцы восстали против французских оккупантов Карла Анжуйского. «Всех чужаков, которых выдавал акцент, убивали, и, как считают, несколько тысяч французов истребили за считаные часы», – пишет историк Денис Мак Смит о бойне, известной под названием «Сицилийская вечерня»{267}. Здесь шибболетом послужило слово ceci (произносится как «чейчи») – итальянское название нута.
Изменчивость языков отражает мрачную правду: человечество эволюционировало в опасном и жестоком мире, где самую страшную угрозу человеку нес другой человек. Мозаичные языковые кластеры, вероятно, сложились там, где долгое время сосуществовали небольшие племенные группы, ни одна из которых не была способна вытеснить остальные. Даже если первопоселенцы все говорили на одном языке, на территории каждой группы быстро формировался свой диалект как знак общности и защита от чужих. Чем дольше такая ситуация существует, тем заметнее расходятся языки.
Новая Гвинея – классический пример языковой мозаичности – своим великим множеством языков обязана, судя по всему, многовековому застою. Здесь представлены две большие языковые семьи: трансновогвинейская, на языках которой говорит центральная горная часть острова, и австронезийская, которой принадлежат жители прибрежных равнин. Трансновогвинейские – это языки более ранних обитателей острова, возможно, даже первых поселенцев, прибывших сюда 40 000 лет назад, австронезийские же языки пришли, как считается, по цепочке островов вместе с рисоводами и мореходами, мигрировавшими с острова Тайвань.
Каждый из языков Новой Гвинеи насчитывает в среднем 3000 носителей, живущих в десятке-двух деревень. Племенная вражда, а также густой лес, покрывающий горы и долины, – причины крайней балканизации острова. «Политическая раздробленность – реальность жизни для новогвинейских сообществ, – пишет Уильям Фоли, специалист по языкам Новой Гвинеи, – в отличие от большинства евразийских и многих африканских культур у новогвинейских нет истории формирования государства, ни имперского, ни национального. Основной единицей общественной структуры здесь выступает клан, и соперничество кланов и есть основное содержание здешней политической жизни»{268}. Таким образом, богатую языковую мозаику острова создали три фактора: вражда, неспособность ни одной из языковых групп обеспечить себе господство над остальными и продолжительное время расподобления языков.
Тот же процесс, вероятно, развернулся в масштабе планеты, когда современные люди впервые покинули свою африканскую колыбель. С точки зрения лингвистики получился обширный языковой ареал, ведь вышедшая из Африки группа говорила, очевидно, на одном языке. Однако внутри этого ареала образовались враждующие племена, не пускавшие на свою территорию никого, кто не говорит на их языке. Через несколько поколений этот большой ареал «растрескался» в мозаичную зону, составленную из неуклонно расподобляющихся языков. Новая Гвинея и часть Австралии, возможно, представляют собой реликты той первой мозаики. При сильном территориальном инстинкте ранних людей, усугубленном языковыми границами, не приходится удивляться, что до самого недавнего времени люди на Земле, по свидетельству генетиков, практически не перемещались с места на место.
Открытие и освоение новых необитаемых земель тоже означало появление новых языковых моногрупп, но и там после заселения территории обширный языковой ареал мало-помалу распадался на осколки. Южная Америка с ее многочисленными америндскими языками – пример недавно сформировавшейся мозаичной зоны. Но две области Земли заселены столь недавно, что до сих пор остаются языково однородными. Одна из них – Полинезия, другая – Арктика, впервые заселенная после того, как иннуиты научились жить в тамошнем климате.
Если же языковая моногруппа распадется на диалектную мозаику, может ли какой-то процесс восстановить на ее месте однородный ареал? На это способны три силы: климатическое бедствие, переход к производящему хозяйству и война.
Если крупная область Земли обезлюдеет, те, кто придет поселиться в опустевшие места, принесут свой язык. Между 20 000 и 15 000 лет назад последний ледниковый максимум вытеснил людей из северной части Евразийского материка. Те, кто вернулись туда потом, могли быть носителями древнего языка, давшего начало индоевропейской и нескольким другим крупным языковым семьям. Эту предполагаемую древнюю макросемью некоторые лингвисты называют ностратической, а Джозеф Гринберг называл протоевразийской. Или, возможно, евроазиатскому и его языкам-потомкам расчистило путь похолодание позднего дриаса, начавшееся около 13 000 лет назад{269}.
Другим мощным стимулом усиления языковой раздробленности может стать сельское хозяйство. Колин Ренфрю из Кембриджского университета и ряд других археологов, например Питер Беллвуд из Австралийского национального университета (Канберра), считают, что из каждого очага зарождения сельского хозяйства люди расселялись вовне, распространяя и свои языки.
Гипотеза, связывающая язык и земледелие предполагает, что популяции, расселявшиеся из областей, где было изобретено земледелие, распространяли и свои языки. Если в такой области говорили на нескольких языках, экспортировались они все. Согласно гипотезе, индоевропейский и семито-хамитский языки могли происходить из очага культивирования пшеницы, как, возможно, и дравидский. Сино-тибетский, тайский и австроазиатский языки распространялись из очага возделывания риса вместе с австронезийским, носители которого достигли Тайваня и оттуда расселялись по островам южных океанов.
Эти языковые экспансии (на схеме показаны стрелками) разворачивались приблизительно до 9000 лет назад. Одновременно карта показывает распределение ныне существующих языковых семей. Люди, говорившие на одном из индоевропейских языков, тохарском, продвинулись в северо-западные области Китая, но затем этот язык вымер.
Также на схеме показана происходившая около 4000 лет назад экспансия банту в Африке (бантоидные нигеро-конголезские языки).
Источник: 5W Infographic.Беллвуд и географ Джаред Даймонд утверждают, что не менее 15 крупных языковых семей сложились в результате экспансии земледельческих народов из первых центров сельского хозяйства{270}. В некоторых случаях, по мнению этих ученых, один сельскохозяйственный центр давал начало нескольким семьям. Такое могло быть, если очаг зарождения сельского хозяйства охватывал территорию бытования нескольких резко разнящихся языков, и все разноязычные популяции этой территории начинали благодаря новым технологиям расти в числе.
Даймонд и Беллвуд предполагают, что ближневосточный очаг сельского хозяйства был родиной как минимум двух крупных языковых семей. Одна из них – индоевропейская. Вторая – семито-хамитская, языки которой двигались на юго-запад, в Африку. Третьей могла быть дравидийская семья, которая еще прежде индоевропейской двинулась на юго-восток, в Индию. (Дравидийские языки отдаленно родственны эламскому, древнему языку, существовавшему на юго-западе Ирана; восточная ветвь индоевропейской семьи, предположительно, мигрировала в Индию позже, оттеснив дравидийские народы на юг.)
Теория о Плодородном полумесяце как кузнице языковых семей оригинальна, однако происхождение каждой индивидуальной семьи остается предметом споров. В отношении семито-хамитской семьи некоторые лингвисты, например Кристофер Ирет из Университета штата Калифорния в Лос-Анджелесе, горячо оспаривают гипотезу об их ближневосточном происхождении{271}.
Второй колыбелью языковых семей, по Даймонду и Беллвуду, была область бассейнов Янцзы и Хуанхэ, где около 9000 лет назад начали возделывать рис. Эта территория, по мнению авторов гипотезы, дала начало по меньшей мере четырем языковым семьям. Австроазиатская семья из 150 языков, куда входят вьетнамский и кхмерский, распространилась по юго-востоку Азии. По ее следам затем двинулась вторая волна возделывавших преимущественно рис народов, говоривших на тайских языках, к которым относятся сиамский и лаосский. Третья семья – сино-тибетская. Четвертая – австронезийская, народы которой не позже чем 5000 лет назад достигли Тайваня, а затем пустились в плавание по Тихому океану, стали первыми колонистами Полинезии и примерно в 1200 г. н. э. достигли Новой Зеландии.
Колонизация Новой Зеландии народом маори была, таким образом, заключительным этапом 50 000-летнего путешествия.
В Африке языки банту распространялись земледельцами, которые разработали технологию возделывания сначала ямса, затем проса и сорго. Бантуговорящие народы около 3000 лет назад со своей родины на территории восточной Нигерии и западного Камеруна двинулись на юг двумя потоками. Один взял курс на западное побережье Африки, другой пошел на восток, а затем спустился по побережью к югу. Смешавшись в районе Великих озер с носителями нило-сахарских языков, этот поток вытеснил оттуда койсаноговорящие племена. Сегодня языки банту, составляющие одну из ветвей нигеро-конголезской макросемьи, занимают огромную территорию в субэкваториальной Африке.
Даймонд и Беллвуд считают пример банту наиболее убедительным из всех 15 предполагаемых ими случаев «сельскохозяйственного распространения» языковых семей. Однако в случае с банту важным фактором успешной экспансии наряду с внедрением сельского хозяйства была технология изготовления железа. Железное оружие входило в тот набор преимуществ, который сделал продвижение банту по просторам Африки столь успешным, и значит, вполне вероятно, что война тоже была средством этой экспансии.
Война – третий фактор, который разрушал мозаичные языковые кластеры, действовал самостоятельно или синхронно с распространением сельского хозяйства. В первом тысячелетии до нашей эры нилотоязычные народы, двигаясь из Эфиопии на юг в район Великих озер, покорили обитавших в кенийском высокогорье аграриев-кушитов. Кристофер Ирет полагает, что одолеть сельскохозяйственный народ нилотам помогла сильная воинская традиция, в которой мальчики-подростки по достижении определенного возраста объединялись в команды, по сути, воинские подразделения, пребывавшие в постоянной боевой готовности. «На длительном отрезке их истории у большинства нилотских племен развивалось военное дело, что всегда обеспечивало им преимущество при конфликтах с соседями, если только это не были другие нилоты», – пишет Ирет{272}. (К южным нилотам относятся и кенийские календжинцы, ныне знаменитые более мирными достижениями в спорте, где им принадлежит большинство рекордов в беге на средние дистанции.)
Появление индоевропейцев
Индоевропейская языковая семья – лучший пример для выяснения того, что же было главным генератором новых обширных языковых ареалов: война или распространение сельского хозяйства. Ареал индоевропейских языков простирается от Западной Европы до Индийского субконтинента. К этой семье относятся такие мертвые языки, как латынь, древнегреческий, хеттский и тохарский, когда-то существовавший на северо-западе Китая. К живым потомкам праиндоевропейского языка принадлежат, помимо английского, остальные германские языки (немецкий, голландский, исландский, норвежский), славянские языки (русский, сербохорватский, чехословацкий, польский), балтийские (латышский, литовский), романские (итальянский, французский, испанский, португальский) и кельтские (бретонский, валлийский, ирландский).
Откуда вышел народ, говоривший на праиндоевропейском языке? Где он жил? Куда и как распространялись народ и его язык? На эту серию вопросов отвечают две альтернативные теории, одна из которых утверждает, что индоевропейская семья прокладывала себе дорогу мечом, а другая – что плугом.
Археолог Мария Гимбутас в серии статей, написанных между 1956 и 1979 гг., отождествляет индоевропейцев с народом, который насыпал характерные погребальные холмы, называемые курганами, в степях к северу от Черного и Каспийского морей. Этот народ вскоре после 4000 г. до н. э., одомашнив лошадь, стал расселяться за пределы своих исконных земель. К 2500 г. до н. э., согласно Гимбутас, эти воины-скотоводы достигли пределов Британии и Скандинавии, а их язык разделился на множество языков-потомков, которые сегодня звучат на пространстве от Европы до Индии.
В лингвистическом аспекте эту гипотезу поддерживает Кристофер Ирет: если бы индоевропейцы были мирными крестьянами, говорит он, к ним должны бы всходить многие названия злаков. Однако индоевропейская литература насыщена упоминаниями сражений. «Почти у всех индоевропейских культур в ранних мифах и легендах мы видим героизацию войны и особенно смерти в бою, известную и в других культурах, но мало где доведенную до такой степени, – пишет Ирет. – В этих сюжетах устойчиво отражается общественная структура, выделяющая воинов в особое элитное сословие».
Альтернативную гипотезу предложил в 1987 г. археолог Колин Ренфрю{273}. Он считает, что индоевропейцы, скорее всего, были первыми аграриями и начали расселяться за пределы исконных земель, когда новый тип хозяйства обернулся ростом населения, а значит, экспансией.
На основе анализа археологических памятников, показывающих распространение сельского хозяйства, Ренфрю помещает родину первых индоевропейцев в Анатолии – области нынешней Турции, где обнаружены некоторые из самых ранних неолитических поселений. Поскольку неолитическая революция стала распространяться в Европе примерно 9500 лет назад, гипотеза Ренфрю предполагает, что индоевропейские языки появились на несколько тысяч лет раньше, чем предполагает версия Гимбатус о курганных воинах и чем датируют возникновение семьи большинство лингвистов-компаративистов.
Одно время казалось, что установить истину поможет генетика. Первые генетические открытия, касающиеся заселения Европы, сделал Лука Кавалли-Сфорца из Стэнфордского университета. Изучая белки, кодируемые генами (последовательность ДНК тогда еще не умели определять), Кавалли-Сфорца обнаружил просматривающийся на 95 маркерах генетический градиент, тянущийся через Европу с юго-востока на северо-запад. Он предположил совместно с археологом Альбертом Эммерманом, что градиент отразил продвижение неолитических аграриев, медленной волной мигрировавших сквозь Европу. Хотя предполагалось, что аграрии смешивались с жившими на тех землях собирателями, отчего и возник наблюдаемый градиент, главным двигателем этой миграционной волны, как считалось, был рост населения более многочисленных сельскохозяйственных народов{274}.
Эта идея – серьезный, но не решающий аргумент в пользу гипотезы Ренфрю. Кавалли-Сфорца заметил, что собранные им данные обнаруживают еще несколько генетических градиентов, помимо того, который предположительно связан с ближневосточными аграриями. Один из таких дополнительных следов указывает на поток генов, двигавшийся на запад из степей Северного Причерноморья. Этот градиент «работает на гипотезу Гимбутас», – отмечают Кавалли-Сфорца и Эммерман, так же как первый градиент поддерживает версию Ренфрю{275}.
Однако исходную предпосылку Ренфрю о том, что двигателем экспансии был рост населения, подрывают новые оценки численности европейской популяции. Археолог Марек Звелебил из Шеффилдского университета (Великобритания) писал, что «демографических данных, которые указывали бы на популяционное давление, вынудившее первых аграриев мигрировать, нет, как нет и свидетельств быстрого прироста населения. Археологические находки не говорят о быстром насыщении земель, колонизированных неолитическими аграриями, или о демографической экспансии»{276}.
Между тем гипотеза Ренфрю все-таки может оказаться верной, даже если аграрии-индоевропейцы не превосходили числом европейских аборигенов. Европейские охотники-собиратели могли перенять язык этих аграриев вместе с новыми технологиями производящего хозяйства. Если говорить о численности населения, то относительно немногочисленные аграрии, зашедшие в Европу с Ближнего Востока, могли стать своеобразным катализатором распространения как своего языка, так и новых методов хозяйствования. Может быть, они покупали или захватывали себе жен из палеолитических аборигенных популяций, и следующее поколение продвигалось еще на несколько километров вглубь Европы, также находя жен в местных собирательских племенах. Чем дальше продвигалась эта волна аграриев по Европе, тем сильнее ее неолитические гены разбавлялись местными палеолитическими. Но, как бы ни менялся генотип, каждое поколение аграриев говорило на языке родительского сообщества, скорее всего, индоевропейском.
При таком сценарии новые способы ведения хозяйства могли бы вызвать подвижки в языковой картине по всей территории, где они стали применяться, но понадобилось бы для этого лишь малое число анатолийских иммигрантов, породнившихся с местным населением. Это могло бы объяснить, почему народы Европы говорят на индоевропейских языках, но при этом их гены лишь на 20 % унаследованы от тех, кто предположительно, принес эти языки на континент.
Можно ли измерить возраст языка?
На сегодня генетика европейцев, пожалуй, согласуется с обеими гипотезами распространения языков индоевропейской семьи. Выбрать одну из них ученые смогли бы, если бы знали, в какой период на земле звучал праиндоевропейский язык, ведь гипотезы предлагают очень разную датировку экспансии. Походы курганных воинов начинаются приблизительно 6000 лет назад, экспорт сельского хозяйства с Ближнего Востока – около 9500 лет назад.
Как научная дисциплина датирование в языкознании еще не устоялось. Один из подходов состоит в том, чтобы оценить ход исторических трансформаций в родственных языках путем сравнения общих единиц словаря. Глоттохронология, один из методов такого подхода, основан на подсчете когнатов, общих для выбранной пары языков (когнатами называют слова, произошедшие от общего предка: apple – когнат немецкому Apfel, но не французскому pomme).
Когнаты, с которыми работает глоттохронология, выбираются не случайно, это слова из специального списка, составленного автором метода Моррисом Сводешем, особенно устойчивые к языковым изменениям. Туда относятся числительные, местоимения, названия частей тела. Чаще всего используется список из 100 слов.
Сравнивая два языка, лингвист решает, сколько слов из списка Сводеша в этих языках действительно когнаты по отношению друг к другу. Чем меньше обнаружится когнатов, тем раньше языки разошлись, и есть различные техники, позволяющие по проценту когнатов установить дату разделения языков. По мнению Ирета, пятипроцентное совпадение указывает на срок 10 000 лет, 22 % совпадающих когнатов означают 5000 лет, а у языков, разделившихся лишь 500 лет назад, общими будут 86 % списка Сводеша.
При всей простоте этой методики глоттохронология дает удивительно правдоподобные результаты. Но есть и недостатки. Лингвисты потратили немало сил на развенчание глоттохронологии, но, пожалуй, меньше, чем на ее усовершенствование. В итоге лингвистика никак не может прийти к единому мнению, насколько эта техника применима. На конференции, состоявшейся в Кембриджском университете в 1999 г., мнения высказывались самые полярные. Роберт Бласт из Гавайского университета представил доклад, в котором объясняется, почему глоттохронологические методы «неприменимы» к австронезийским языкам, а Джеймс Мэтисофф из Калифорнийского университета в Беркли говорил о «бесполезности глоттохронологии при классификации тибето-бирманских языков». После них выступал Ирет, описавший, насколько успешно глоттохронология помогает датировать разделение языков в семито-хамитской семье{277}.
Гораздо больше воодушевляет компаративистов другая технология датировки – лингвистическая палеонтология. Суть ее в том, чтобы реконструировать слова, называющие в языковой семье различные предметы материальной культуры, и датировать появление языков моментом, когда называемые объекты впервые возникают в археологических находках.
Например, во многих индоевропейских языках слова для названия колеса – явные когнаты. В греческом это kuklos (слово, от которого происходит английское circle (круг)), в санскрите – cacras, в тохарском – kukäl и в древнеанглийском – hweowol (праиндоевропейское начальное k в языках германской ветви переходят в звук h). Поскольку в языках, произошедших от праиндоевропейского, слова, называющие колесо, – когнаты, они должны происходить из общего источника, и лингвисты считают, что этим источником было праиндоевропейское слово, которое они реконструируют как *kwekwlos (звездочкой помечаются слова-реконструкции).
Самые ранние известные ныне археологам колеса датируются 3400 г. до н. э. (5400 лет назад). Значит, праиндоевропейский язык должен был разделиться на дочерние уже после этой даты, считают лингвопалеонтологи, ведь как иначе языки, разбросанные по необъятному пространству, все имеют для колеса слова-когнаты?
Подобные рассуждения применяются и к словам типа «ярмо», «ось» и «шерсть». Работа строящих эту гипотезу ученых, например Билла Дардена из Чикагского университета, укрепила многих лингвистов в уверенности, что индоевропейский был единым языком еще 5500 лет назад и что прежде этого рубежа языки-потомки не могли существовать{278}.
Лингвистическая палеонтология – высший пилотаж в области языкознания. Но у нее есть две принципиальных уязвимости. Первая заключается в том, что столь выдающееся изобретение, как колесо, скорее всего, распространилось от культуры к культуре со скоростью лесного пожара и несло с собой свое имя. Лингвистические палеонтологи заверяют, что умеют распознавать такие заимствования. Конечно, в слове «кока-кола» легко опознать иностранное заимствование, вошедшее во многие языки, но чем старше заимствование, тем сильнее оно сливается с фоном принимающего языка. Один из аргументов академического сообщества против глоттохронологии состоит в том, что нераспознанные заимствования могут смешать всю картину.
Другая уязвимость палеонтологии – риск реконструировать весьма убедительно выглядящие слова, которых на деле не существовало. Лексемы, подобные слову «епископ», существуют в греческом (episkopos), латыни (episcopus), древнеанглийском (bisceop), испанском (obispo) и французском (evêque), из этого ряда можно реконструировать праиндоевропейское слово-предок *apispek, но в языке, на котором говорили 5000 лет назад, таких слов не было. Что касается колеса, то установлено, что в праиндоевропейском языке было слово *kwel со значением «вращаться», от которого, как считается, произведено *kwekwlos. Но могло быть и так, что в праиндоевропейском не было слова со значением «колесо» и на самом деле дочерние языки просто произвели свои названия для этого предмета от унаследованного ими всеми слова *kwel – «вращаться». В таком случае время существования праиндоевропейского отодвигается от момента изобретения колеса на несколько тысяч лет в прошлое.
Новая датировка праиндоевропейского языка
Более надежный и последовательный способ датировки языков, в котором давно нуждается наука, предлагают ученые, взявшие за основу технологию выстраивания филогенетических деревьев. Этот способ именуют «методом наибольшего правдоподобия»: он начинается с вопроса, какова наиболее вероятная форма дерева, объединяющего наблюдаемые факты. В случае языковых семей фактами служат разноязыковые списки Сводеша с уточнением, какие слова в них когнаты, а какие нет.
Применить метод наибольшего правдоподобия к истории языков впервые предложил Марк Пейгл, биолог из Университета Рединга (Англия). Он показал, что, располагая списком всего из 18 слов, можно составить максимально правдоподобное дерево для семи языков (валлийского, румынского, испанского, французского, немецкого, голландского и английского), и его дерево оказались ровно таким же, какое получили компаративисты чисто лингвистическими методами{279}.
Недавно метод наибольшего правдоподобия усовершенствовал биолог из Оклендского университета Рассел Грэй. Он тщательно разобрал слабые места глоттохронологии и усовершенствовал метод именно с тем, чтобы компенсировать их. Одна из проблем – неопознанные заимствования. Из-за них язык может показаться моложе, чем он есть. Но вместе с тем они связывают побочные ветви языка, создавая сетевидную структуру. Такие структуры можно выявить, и затем отсеять неопознанные заимствования.
Другое узкое место глоттохронологии – то, что языки эволюционируют в разном темпе. Современные исландский и норвежский происходят от древнескандинавского, на котором люди говорили между 800 и 1050 гг. н. э. У норвежского с древнескандинавским 81 % слов из списка Сводеша – когнаты, что верно указывает на разделение 1000 лет назад. Однако современный исландский, развивающийся более обособленно, на 99 % состоит из слов древнескандинавского – ложное указание на то, что языки разошлись всего 200 лет назад{280}.
Математические методы для выявления заимствований и учета колебаний в темпах языковой эволюции уже существовали, потому что с теми же трудностями сталкивались и биологи, составлявшие генеалогии на основе данных ДНК. Как и языки, некоторые гены эволюционируют быстрее прочих. И как слова могут быть унаследованы либо заимствованы, гены тоже достаются организму не только от родителей, но и «со стороны»: например, бактерии умеют обмениваться сериями генов и именно поэтому так быстро приобретают устойчивость к антибиотикам.
Одна из форм метода наибольшего правдоподобия, так называемый байесов метод Монте-Карло с цепями Маркова, на который сегодня делают ставку биологи, состоит в том, что последовательности ДНК разных генов вводят в компьютер и получают большое множество деревьев, которые могли бы связывать эти гены. Затем программа берет образцы из тех групп деревьев, которые выглядят наиболее перспективными (задача проверить каждую пока не под силу даже самым быстрым компьютерам), и раз за разом повторяет тот же алгоритм. С каждой итерацией перспективных деревьев становится все меньше, и в итоге процесс выдаст одно, наиболее вероятное дерево, объясняющее наличные данные.
При помощи этой мощной технологии Грей и его коллега Квентин Аткинсон нарисовали фамильное древо индоевропейских языков. В качестве контрольных данных они взяли список Сводеша из 200 слов для 84 индоевропейских языков, составленный лингвистом Исидорой Дайен, и дополнили его примерами из трех мертвых языков: хеттского и двух разновидностей тохарского, так называемых тохарского A и тохарского Б.
В генетике генеалогическое древо зачастую можно привязать к ленте времени, соотнеся одну из его ветвей с датами палеонтологических находок. То же самое можно проделать и с деревьями языков, сконструированными по методу наибольшего правдоподобия. Обнаружив статистически наиболее вероятное дерево для данных индоевропейской семьи, Грей произвольно совмещал определенные развилки на нем с подтвержденными датами расподобления языков. Хеттский, несомненно, был самостоятельным языком к 1800 г. до н. э., которым датируется старейшая из известных хеттских надписей. Древнегреческий отделился к 1500 г. до н. э., времени создания надписей линейным письмом Б[11]. Латинский и румынский языки начали разделяться в 274 г., когда римские войска ушли из нижнего Подунавья.
Древо индоевропейской языковой семьи составлено Расселом Греем и Квентином Аткинсоном с применением передового статистического метода. Древо соотнесено с 14-ю известными датами возникновения недавно появившихся языков, что позволило приблизительно датировать и древние ветви. Цифры обозначают, сколько лет прошло с того момента, когда язык ответвился от родительской линии.
Согласно Аткинсону и Грею, язык-прародитель, в лингвистике называемый праиндоевропейским, 8700 лет назад разделился на две ветви, и первым ответвлением стал хеттский. Ранняя дата появления праиндоевропейского языка свидетельствует о том, что говорил на нем народ, принесший земледелие с Ближнего Востока в Европу.
Английский входит в германскую языковую ветвь, так же как голландский, шведский и исландский. Романская ветвь включает в себя французский, итальянский и испанский. Русский, чешский и литовский относятся к балто-славянской ветви. Хеттский, ныне исчезнувший, был языком хеттской империи, располагавшейся на территории нынешней Турции; тохарский бытовал в западном Китае.
Источник: автор Квентин Аткинсон, Оклендский университет, Новая ЗеландияВсего Грей использовал 14 известных дат, составив древо так, чтобы оно соответствовало этим датам статистически наиболее вероятным образом. Поскольку длина основных ветвей на древе пропорциональна истекшему времени, его привязка к историческим событиям позволяет датировать и остальные ответвления. Составленное Греем древо опубликовал в ноябрьском номере 2003 г. журнал Nature, довольно лаконично описав весьма непростую технологию, использованную ученым{281}. Поначалу многие компаративисты не увидели в работе Грея ничего нового: его древо индоевропейской семьи в точности совпадало с тем, которым пользуется лингвистика. Однако, по мнению Грэя, сам этот факт и был лучшим признанием его метода.
Новым в древе Грея была не форма, но даты. Они далеко расходились со всеми представлениями лингвистов. Согласно генеалогии Грея, праиндоевропейский язык звучал на земле еще 8700 лет назад, а вернее, в этот момент он уже переживал первый раскол, когда от языка-родителя отошла ветвь, ставшая хеттским языком. Это примерно на 3000 лет раньше того времени, к которому относили распад общего праязыка на отдельные ветви многие компаративисты.
Датировка Грея, если она верна, – это своего рода переворот, потому что при таком раскладе корни индоевропейцев много старше, а историю языка можно проследить значительно глубже, чем то допускает большинство лингвистов. К тому же, имея надежный метод датировки, можно будет, наконец, соотнести трансформации языков с данными археологии и популяционной генетики.
Многие лингвисты считают, что данные Грея не могут быть верными прежде всего потому, что расходятся с данными лингвистической палеонтологии. Однако лингвистическая палеонтология – это приблизительная и субъективная методика, уязвимая для нераспознанных заимствований и искусственных реконструкций. Метод Грея прибегает к тонким статистическим технологиям, доказавшим свою ценность в филогенетике, и к проверенному массиву данных, списку Дайен, продукту серьезного научного исследования в индоевропеистике. Да, новаторская система может потребовать дальнейшей доработки или обнаружить какие-то неожиданные огрехи. Но в сравнении с лингвистической палеонтологией она не выглядит менее надежной.
Грей с огромным уважением относится к работам и методам компаративистов и надеется, лингвисты рано или поздно примут его древо всерьез: когда поймут, что метод свободен от известных ошибок глоттохронологии.
Прибегнув к не менее сложной филогенетической технологии, археолог из Кембриджского университета Питер Форстер составил родословное древо нескольких кельтских языков, включая галльский в изводе, на котором говорили в древней Франции, валлийский, бретонский и гэльский. Кельтские языки – крупная ветвь индоевропейской семьи. Древо Форстера предполагает, что раздел общего праязыка на ветви произошел около 10 000 лет назад, а кельтская ветвь разошлась на галльскую и британские подветви около 5200 лет назад{282}. У этих данных возможна серьезная погрешность, но они лежат в той же области, что даты Грея.
Датировка первого раскола в праиндоевропейском языке по Грею – 8700 лет назад – значительно добавляет основательности гипотезе Ренфрю о сельском хозяйстве как двигателе экспансии индоевропейцев.
Выводы касаются не только индоевропейской семьи. Успешное вычерчивание языковых генеалогий с помощью методов биологии могло бы означать, что в историю языка можно проникнуть на 9000 лет – значительно глубже, чем полагали многие ученые. И даже реконструировать еще более древнее состояние языкового древа человечества.
Синтез Гринберга
Исследования Грея имеют отношение к спору, давно разделившему компаративистику на два лагеря. Это спор о том, как оценивать отношения между нынешними языками при той скорости, с которой меняется язык. Сегодняшние 6000 живых языков рассыпаны по периферии давно исчезнувшего древа. Можно ли его восстановить и для других семей помимо индоевропейской? Объединить их в надсемьи и проникнуть в пласты времени, более глубокие, чем праиндоевропейская эпоха?
Классификация языков – область, в которой нет согласия. Многие лингвисты, знающие, насколько изменчив человеческий язык, смотрят на попытки восстановить древние связи нынешних языков с недоверием. Языки меняются так быстро, считают ученые, что корпус общих слов, которые можно признать истинными когнатами в двух расходящихся языках, очень скоро убывает практически до нуля. Действительно, число когнатов может упасть до того уровня, на котором находятся слова, между которыми возникло чисто случайное сходство. Не понимая этого, исследователь может увидеть связи там, где их нет. Единственный способ обойти такие ловушки – это сравнительно-исторический метод. Сравнительно-исторический метод весьма надежен. Но есть недостаток: он слишком строгий, и это не позволяет ему проникать слишком далеко вглубь истории.
Часть лингвистов считает, что сравнительно-исторический метод хорош для подтверждения предполагаемой связи между языками, но не позволяет такие связи обнаруживать. Главным представителем этой школы был покойный Джозеф Гринберг из Стэнфордского университета. Гринберг за годы научной работы успел классифицировать почти все мировые языки и показал, как они соединяются в 14 макросемей.
Систему макросемей, разработанную Гринбергом и его коллегой Мерритом Руленом, приветствовали генетики: такая таксономия языков хорошо накладывается на карту популяционных ветвлений, составленную по данным генетической генеалогии. Но многие лингвисты отвергли классификацию Гринберга на том основании, что его метод неточен, а в данных встречаются ошибки.
Формально Гринберг был связан с языкознанием. Он занимал пост председателя Американского лингвистического общества и избирался в Национальную академию наук. Помимо генетической классификации языков Гринберг создал особый раздел лингвистики – типологию, которая занимается поиском общих закономерностей в грамматическом строе языка. Статья Гринберга о типологии 1962 г. считается самым цитируемым источником в истории языкознания.
Языковые макросемьи Старого Света по классификации Джозефа Гринберга и Меррита Рулена. Баскский и бурушаский, показанные стрелками 1 и 2, абсолютно не родственны языкам-соседям и могут быть реликтами более древних языков. Кетский (стрелка 3) может быть прародителем североамериканской языковой семьи на-дене.
Источник: Merritt Ruhlen: A Guide to the world's languages, pp. 284–285. Stanford U Press 1991. ©1987 Board and Trustees of the Leland Stanford Jr. University.Вместе с тем по основному образованию Гринберг был не лингвистом, а социальным антропологом. Он изучал языческие культы, проводя полевые исследования среди хаусаговорящих народов на западе Африки, с 1940 по 1945 г. служил в радиоэлектронной разведке, а после войны заинтересовался родственными связями между африканскими языками.
Эта область лингвистики была тогда прерогативой английских и французских ученых, прибегавших для классификации языков к самым разнородным критериям вроде фенотипа носителей. Гринберг считал, что эти критерии не имеют отношения к происхождению языка. Он разработал собственный языковедческий метод, который позже назвал методом массового сравнения. Суть метода – в сопоставлении около 300 лексических единиц, главным образом из местоимений и названий частей тела: тех слов, которые, как установил Сводеш, меньше всего подвержены языковым трансформациям. Гринберг составлял таблицы, слева в столбец записывал названия языков и сверху в строку значения слов, а затем искал в полученной картине связи.
Он начал с языков хауса, пытаясь установить, каким другим языками они могут быть родственны, для этого сравнивал общеупотребительные слова и увидел, что языки распадаются на группы. В течение пяти лет Гринберг раскладывал 1500 известных на тот момент африканских языков по все более обширным группам, пока, наконец, не распределил их сначала по 16, а затем и вовсе по четырем макросемьям. Странные и древние щелкающие языки Южной Африки он поместил в группу, которую назвал койсанской. Центральноафриканские языки, в том числе широко распространенные языки банту, Гринберг отнес в группу под названием нигеро-кордофанская. Он решил, что языки банту должны были возникнуть на западе Африки, потому что именно там наблюдается их наибольшее многообразие. Отсюда он заключил, что современные языки банту, распространенные вдоль восточного и западного побережий материка, возникли в результате миграции, которая разделилась на два потока, и один двинулся прямиком на западное побережье, а второй пересек Африку поперек и затем двинулся по ее восточному берегу на юг. Этот вывод Гринберга подтверждается данными археологии.
Третьей из четырех макросемей у Гринберга стала нило-сахарская, к которой принадлежат языки нилотских народов, например динка и нуэр, языки, распространенные на территориях Сахары и сонгайские языки из Западной Африки. Четвертую семью, объединившую языки, распространенные по всему северу Африки, Гринберг назвал афразийской. Сюда вошли берберские языки с северо-запада континента, древнеегипетский и семитские, к которым относятся арабский, иврит и аккадский, вымерший язык ассирийцев и вавилонян.
Всеобщая классификация африканских языков, предложенная Гринбергом, выдержала проверку временем и сегодня широко признается, хотя ученые не перестают ее совершенствовать. Африканские языки вызывают особый интерес из-за их большого разнообразия и предполагаемой древности. По последним оценкам, сегодня в Африке существует около 2035 языков, 35 из которых принадлежат койсанской семье, 1436 – нигеро-конголезской (новое название гринберговой нигеро-кордофанской), 196 – нило-сахарской и 371 – афразийской{283}.
Установить период, когда на земле звучали праязыки, давшие начало четырем семьям Гринберга, попытался Кристофер Ирет. Опираясь на археологические свидетельства, он установил, что протокойсанский язык появился около 20 000 лет назад. Язык-прародитель нигеро-конголезской семьи, вероятно, возник около 15 000 лет назад, поскольку младшая ее ветвь стала распространяться на западе Африки 8000 лет назад. Нило-сахарский праязык, по глоттохронологическим оценкам, мог родиться 12 000 лет назад{284}.
Основные ветви семито-хамитской языковой семьи. В области, показанной как ареал древнеегипетского языка, сегодня говорят на арабском.
Источник: Merritt Ruhlen: A Guide to the world's languages, pp. 284–285. Stanford U Press 1991. ©1987 Board and Trustees of the Leland Stanford Jr. University.Общий интерес вызывает афразийская семья: к ее западной семитской ветви принадлежат иврит, арамейский и арабский – языки трех мировых религий. Многие считали, что колыбель протоафразийцев находилась на Ближнем Востоке: кто-то по разнообразным ненаучным причинам, кто-то потому, что Ближний Восток известен как ранний очаг сельского хозяйства, откуда растущее население должно было двинуться в Африку и принести туда свой язык. Однако, по мнению Ирета, более вероятным представляется африканское происхождение. Из шести основных ветвей афразийской семьи пять – африканские: берберская на северо-западе материка; чадская, локализованная вокруг озера Чад, лежащего на южной границе Центральной Сахары; кушитская с Африканского Рога; омотская с абиссинского высокогорья и древнеегипетская.
Если вспомнить правило, что территория наибольшего многообразия обычно и есть прародина, такое распределение ветвей убедительно указывает на север Африки как область происхождения афразийской семьи, откуда семитоговорящий народ вторгся, предположительно 9000 лет назад, на Ближний Восток{285}. (Позже, приблизительно 7000 лет назад, часть этих людей вернулась из Йемена в Африку, принеся в Эфиопию ее основный сегодня язык, амхарский.) Также на африканскую родословную указывает порядок расщепления: первой от единого праязыка отошла омотская ветвь, затем кушитская. Поскольку и та и другая ветви не выходят за пределы Африки, это, как пишет Ирет, «устраняет всякие сомнения в том, что афразийский язык-предок существовал именно в Африке»{286}.
Хотя классификация африканских языков Гринберга сегодня признана, британские африканисты долго отвергали ее. В лингвистике, как и в других науках, специалисты склонны отвергать «универсалов», показывающих, как отдельные исследования из разных дисциплин складываются в целостную картину. Языковед из Университета Индианы Пол Ньюман вспоминает, как около 1970 г., спустя полтора десятка лет после первой публикации Гринберговской африканской генеалогии, приехал в лондонский Институт изучения стран Востока и Африки. Его предупредили, что он может без опаски входить в профессорскую комнату, только если ни разу не упомянет имени Гринберга{287}.
Завершив классификацию африканских языков, Гринберг переключился на языки американских индейцев. Опираясь на археологические данные о том, что Америка заселена совсем недавно, Гринберг ожидал обнаружить там много меньше языковых семей, чем в Африке. Однако американская лингвистика на конференции 1976 г. признала, что на территории Американского континента существует не менее 63 отдельных языковых семей. Гринберг, применив разработанный для Африки метод массового сравнения, объявил, что языковых семей в Америке всего три: америндская, на-дене и эскимосско-алеутская{288}.
Заключение Гринберга так же возмутило американских лингвистов, как его африканская генеалогия – британских. И несмотря на то что академическое сообщество в основном приняло его классификацию американских языков, лингвисты в Штатах Гринберга по-прежнему отвергают, в отличие от генетиков, которые начали проявлять интерес к его наследию. Знаменитый генетик из Стэнфордского университета Лука Кавалли-Сфорца писал, как его огорчили нападки лингвистов на Гринберга{289}.
Лука Кавалли-Сфорца в общих чертах смог подтвердить метод Джозефа Гринберга собственным исследованием. Когда анализ ДНК еще не практиковался, Кавалли-Сфорца с коллегами составили генетическое родословное древо человечества, ориентируясь на различия в белках. Сравнивая свое древо со списком крупных языковых семей Гринберга, Кавалли-Сфорца увидел, что народы, которые на его древе оказались родственниками, обычно находятся в одной языковой семье согласно таксономии Гринберга{290}. Дальнейший анализ подтвердил, что соответствие между генеалогическим древом человечества и классификацией языков по Гринбергу статистически значимо{291}.
Сравнительно-исторический метод vs метода массового сравнения
Подтверждение находок Гринберга Кавалли-Сфорцей не остановило лингвистов: они продолжали ниспровергать его работу, ссылаясь на ошибки в данных и оспаривая методологию.
Даже сторонники Гринберга соглашаются, что его интересовала общая картина, а не частности. Многочисленные мелкие ошибки проскальзывали в его построениях. Это были ошибки транскрипции или следствие спешки, ведь Гринберг анализировал грамматику и словарь сотен языков, собственноручно транскрибируя все слова. Были эти ошибки критическими, как считают американские неприятели Гринберга, или не особенно значимыми, как думают его сторонники? Вывод африканистов, согласных с теорией Гринберга: ошибки несущественны. «Ошибок в данных там слишком много для такой серьезной работы, – пишет Лайонел Бендер, африканист из Университета Южного Иллинойса, о книге Гринберга по африканским языкам. – Но все же он по большей части рассуждает верно, и его африканская классификация, описанная в монографии 1963 г., – это огромный рывок вперед»{292}.
Более веский аргумент критиков Гринберга – то, что, изучая родственные связи языков, он не прибегал к сравнительно-историческому методу, принятому у компаративистов. Сравнительно-исторический метод основан на выявлении цепочек родственных слов в разных языках одной семьи, видоизменяющихся от языка к языку по предсказуемой модели. Французское и итальянское слова, обозначающие козла, не очень похожи, но, сравнив другие слова двух языков, мы увидим, что звук k в итальянских словах соответствует ch во французских, а итальянский p во французском меняется на f или v{293}. Эти звуковые соответствия существуют, потому что многие французские и итальянские слова – когнаты, иначе говоря, потомки одного и того же слова-родителя из общего языка-предка – латыни.
Когда звуковые соответствия между современными языками выявлены, можно реконструировать слово в языке-предке. Ученые уже восстановили обширный корпус лексики праиндоевропейского языка, гипотетического предка многих языков, существующих ныне в Европе и в Индии. Принадлежность любого языка к индоевропейской семье можно подтвердить или опровергнуть, проверив, возводится ли его грамматика и лексика по регулярным правилам к праиндоевропейским. Судя по табличке (см. выше), у английского шансов не много, однако начальный k в латыни регулярно переходит в германских языках в h, и английское head, как и немецкое haupt (ныне означающее голову в переносном смысле) – когнаты латинского caput. Согласно тому же правилу латинское canis родственно немецкому hund и английскому hound, и все они происходят от праиндоевропейского *kwon.
Педантичное применение сравнительно-исторического метода спасло лингвистику от множества ложных теорий. Многие ученые настаивают, что сравнительно-исторический метод – единственно приемлемый инструмент для проверки родства языков. Они исходят из предпосылки, что слова меняются слишком быстро, и у двух языков, произошедших от одного родителя, общая часть словаря очень скоро будет составлять совсем незначительную долю, и тогда настоящих когнатов будет едва ли не меньше, чем случайно совпадающих пар и слов, звучащих сходно потому, что оба языка их заимствовали из одного источника.
Поскольку сигнал настоящих когнатов скоро забивается шумом мнимых связей, корни языковых семей, как считают лингвисты, можно проследить не глубже, чем примерно на 6000 лет в прошлое, до времени, когда, по мнению большинства компаративистов, праиндоевропейский был живым языком.
Гринберг с его методом массового сравнения не искал звуковые соответствия и не пытался в доказательство своей теории реконструировать праязыки. Поэтому, с точки зрения многих языковедов, ни его методу, ни его выводам доверять нельзя.
Каковы бы ни были теоретические претензии к методу Гринберга, ключевым является эмпирический вопрос: работает ли метод? Африканисты пришли к выводу, что для языков Африки метод работает успешно. Однако это, казалось бы, убедительное обстоятельство не поменяло взглядов академического сообщества на ценность лингвистических исследований Гринберга. В недавней статье об афразийской семье Ричард Хейвард из лондонского Института изучения стран Востока и Африки пишет, что «единственно приемлемые свидетельства», позволяющие судить об общем происхождении языков, могут предоставить лишь сравнительно-исторический метод и фонетические соответствия. «Канон афразийских языков, составленный Гринбергом, основан им не на сравнительно-историческом методе, а на "массовом сравнении", и, хотя эта методика… по мнению автора этих строк, привела к верным выводам, подход, не опирающийся на точный принцип, упомянутый выше [т. е. сравнительно-исторический метод], не способен прогнозировать, а значит, не дотягивает до статуса настоящей научной теории», – пишет Хейвард{294}. Иначе говоря, даже если Гринберг получил верные ответы, он пользовался для этого порочным методом.
Если бы язык был дарован человеку в незапамятные времена, а человеческие популяции сильно перемешаны, вероятность того, что языки, существующие на одном континенте, родственны между собой, была бы невелика, и стоило бы считать эти языки не связанными, пока не доказано обратное. Но полностью современный язык появился, видимо, всего 50 000 лет назад, а нынешнее расселение народов все еще четко отражает пути первых человеческих миграций, и значит, дело обстоит наоборот: все языки, скорее всего, ответвления одного языка-родителя и связаны между собой на том или ином уровне. Там, где история и археология позволяют считать родство языков вероятным и естественным, – например, в Америке – пожалуй, и стандарты установления этого родства могли бы быть менее строгими. Именно в Африке, где языки расподоблялись дольше всего, Гринбергов метод массового сравнения имел меньше всего шансов на успех, и при этом лингвисты признают, что там он оправдал себя наилучшим образом.
Упорство, с которым лингвисты не признают иных инструментов классификации языков кроме сравнительно-исторического метода, огорчает ученых, которые хотели бы интегрировать древо языковых семей с открытиями археологии и популяционной генетики. Без помощи традиционной лингвистики во всем, что касается глубинных межъязыковых связей, популяционным генетикам остается полагаться на работы Гринберга и его коллеги из Стэнфордского университета Меррита Рулена – лучших из доступных путеводителей по общей структуре мировых языков.
Евразийская макросемья
Классифицируя языки Америки, Гринберг понял, что если Америку действительно заселили люди, пришедшие из Сибири, то американские языки должны быть как-то связаны с языками Евразийского континента. Чтобы лучше понять ситуацию, он принялся составлять списки слов из языков Евразии, в первую очередь личных и вопросительных местоимений.
«Выстроив их все, я увидел, что в Северной Азии просматривается группа родственных языков, – рассказывал Гринберг в интервью 1999 г. – Я должен был это заметить еще двадцать лет назад. Но я понимал, каким презрением встретят мою идею, и отложил глубокое изучение темы, пока не закончу книгу об американских языках»{295}.
Это было началом следующей большой классификации Гринберга, связавшей многие крупные языковые семьи Европы и Северной Азии в одну макросемью, которую Гринберг назвал евразийской. По его мнению, евразийский праязык дал начало восьми языковым семьям, ныне распространенным на огромных пространствах Евразии от Португалии до Японии и, поскольку эскимосские языки туда входят, от Аляски до Гренландии.
Индоевропейская языковая семья, по теории Джозефа Гринберга, принадлежит к древнейшей макросемье, евразийской. Другие ее члены – уральская и алтайская семьи, корейско-японско-айнская группа и эскимосско-алеутские языки.
Источник: Joseph Greenberg: Indo-European and Its Closest Relatives, Stanford University Press, 2002.Самый известный участник евразийской макросемьи – индоевропейская семья, насчитывающая 11 ветвей:
A: Анатолийская ветвь, малоизвестная, поскольку все ее языки вымерли. Главным среди них был хеттский, язык Хеттской империи, располагавшейся в Анатолии (ныне Турция) и сопредельных землях и достигшей расцвета между 1680 и 1200 гг. до н. э.
B: Армянская.
C: Тохарская – пара языков, тохарский А и тохарский Б, существовавших на северо-западе Китая во второй половине 1 тысячелетия н. э.; хотя тохарские языки бытовали на востоке индоевропейского ареала, похоже, что более тесными были их связи с западными языками; происхождение и история носителей тохарского мало изучены.
D: Индоиранская ветвь, включающая санскрит и множество языков современной Индии, в том числе урду и хинди, а также древние и современные языки Ирана.
E: Албанская.
F: Греческая.
G: Романская, куда относятся латынь и ее современные потомки: итальянский, французский, испанский, португальский, румынский и пр.
H: Кельтская, объединяющая ирландский и шотландский.
I: Германская: датский, шведский, норвежский и исландский, немецкий, голландский и идиш, английский и др.
J: Балтийская, включающая латышский и литовский.
K: Славянская ветвь, состоящая из русского, польского, чешского и сербохорватского.
Вторая крупная семья евразийской макросемьи – уральско-юкагирская, включающая венгерский, финский и эстонский языки на Западе и множество сибирских языков на Востоке. Эта семья, по мнению Гринберга, включает кетский – трудно классифицируемый сибирский язык, который мог быть прародителем семьи на-дене, второй из трех американских семей.
Третья семья – алтайская, куда входят тюркская и монгольская ветви.
Четвертая – корейский, японский и айнский, ветвь, не имеющая родового названия. Айнский – язык аборигенов северной Японии.
Пятая ветвь – нивхский язык, носители которого – исчезающий народ, обитающий на севере острова Сахалин и в небольшой области на материке напротив острова.
Шестая ветвь – чукотская, объединяющая ряд языков Восточной Сибири, в том числе чукотский и корякский.
Седьмая – эскимосско-алеутская, на языках которой говорят от Сибири до Гренландии.
Восьмая – вымерший этрускский язык, на котором говорили соперники римлян, жившие в древности на Апеннинском полуострове.
Книга Гринберга о грамматике реконструированной им евразийской семьи вышла в 2000 г., второй том, посвященный сквозной лексике, вышел в 2002 г. уже после смерти автора. Классификация Гринберга, хотя создавалась независимо, в значительной степени совпадает со структурой гипотетической ностратической надсемьи, предложенной русскими лингвистами. В отличие от евразийской ностратическая семья, по крайней мере в ранних ее версиях, включает в себя афразийские языки, кроме того, некоторые ностратисты не принимают в семью японский и айнский языки. Важная разница в методологии: сторонники ностратической гипотезы считают необходимым реконструировать праязыки для дальнейшего сравнения, а Гринберг обходится без этой процедуры.
Носителям английского, возможно, не так просто увидеть, как их язык может иметь что-то общее с финским, турецким или эскимосским, не говоря уже про японский, а именно это предполагает евразийская теория. При той скорости, с которой меняются языки, и с учетом того, что от евразийского прародителя языки-потомки отделены десятью тысячами, если не больше, лет, рассчитывать можно лишь на какие-то редкие переклички. Как справедливо указывают критики Гринберга, трудно быть уверенным, что сигнал этих негромких перекличек не растворился в шуме случайных подобий.
Но давайте обратимся к сравнению английского с тем же японским. Если wakaru по-японски означает «понимать», попробуйте догадаться о значении формы wakaranai. Если не считать странного расположения отрицания в конце, кажется вполне логичным, чтобы wakaranai означало «не понимать», как оно и есть на самом деле.
Во многих индоевропейских языках вопросы задаются с помощью специальных слов, начинающихся со звука k или kw, но в английском это kw превратилось в w. Во французском мы видим quoi (что?), в итальянском come (как?) и в латыни quando, quis и quid pro quo. А теперь wakaranaika? Не понимаете?
Возможно, это вышло случайно, что в индоевропейской семье и в японском для вопросительных слов используется звук k. Но интеррогативы на k обнаруживаются, как утверждает Гринберг, в каждой ветви евразийской надсемьи{296}. В уральской семье есть финское слово ken (кто?). В алтайской – тюркское kim с тем же значением. Во всех диалектах эскимосского кто? будет kina.
Вопросительных слов существует множество, и если хорошенько пошарить по всем языкам предполагаемого семейства, может быть, не так уж трудно будет найти несколько штук на k. То же может быть справедливо и про начальный n– в словах отрицания. Гринберг аргументирует существование евразийской семьи не каким-то одним совпадением, но сочетанием огромного числа обнаруженных им сходств. Всего речь идет о 72 типах грамматических универсалий, хотя большинство из них охватывает лишь какую-то свою часть из восьми предполагаемых семей евразийской макросемьи. Тем не менее «это грамматическое свидетельство само по себе достаточно для подтверждения единства евразийской семьи», – говорит Гринберг.
Если обратиться не к грамматике, а к словам, вероятно, разумно будет предположить, что тот или иной звуковой комплекс со временем утрачивает связь с исконным набором смыслов. И есть риск, что мы увидим не только проявления родства между разными языковыми семьями, но и случайные совпадения. Одна группа когнатов не говорит ни о чем, и только их заметное число сигнализирует о возможной близости семей. Гринберг для евразийской макросемьи обнаружил 437 групп когнатов, хотя лишь единичные из них были представлены в каждой из семей{297}. Одна из наиболее интересных групп обслуживает набор смыслов, связанных с гипотетическим евразийским словом для обозначения пальца, которое Гринберг реконструировал как tik. Поднимите указательный tik, и вы получите повсеместно понимаемый знак числа 1. Направьте его горизонтально – и вы к чему-то привлекаете внимание. Отталкиваясь от этого, Гринберг перечисляет следующие отзвуки гипотетического древнего слова.
В индоевропейской семье ученые реконструировали праиндоевропейский корень *deik со значением показывать, от которого происходят латинское слово digitus (палец) и английские digit и digital. В алтайской языковой семье есть тюркское слово tek, означающее одинокий или единственный. В корейско-японско-айнской ветви – айнское tek и японское te, оба означающие руку. В эскимосско-алеутской ветви существуют гренландское слово tikiq – указательный палец, а в сиреникском и в аляскинском юпикском этот смысл передается словом tekeq.
Особое значение Гринберг придавал другой группе когнатов, которая, по его мнению, представляла собой мост между евразийской макросемьей и америндскими языкам. Это группа смыслов, построенных вокруг слова «рука» и включающих такие значения, как «давать» (давать – это протягивать что-то в руке) и «мерить» (ширина ладони во многих культурах использовалась как мера, а в английском языке ладонь – это единица, в которых мерят высоту в холке у лошадей и пони). Во многих индейских языках кисть руки обозначается словами с созвучием ma или mi (алгонкинский: *mi, юто-ацтекский: *ma, текистлатекский: mane, гуато: mara). В евразийской макросемье есть общеиндоевропейский корень *me– со значением меры, откуда происходит слово «метрический», есть латинское слово manus (рука); в нивхском языке man означает «измерять пядями», а слог -ma добавляется к числительным, когда речь идет о мерах в пядях; по-корейски мера или объем называются mān.
По мнению Гринберга, евразийская и америндская были родственными макросемьями, более молодыми, чем оригинальные языки Старого Света, реликты которых мы наблюдаем в виде странных изолятов вроде баскского или бурушаски (бытует в небольшой области на северо-западе Индийского субконтинента). «Евразийско-америндская семья отражает относительно недавнюю (около 15 000 [лет до наших дней]) экспансию человека в области, освободившиеся после таяния арктической ледовой шапки. Эта семья отличается от всех других семей Старого Света, между которыми различия более глубоки и свидетельствуют о более древнем разделении», – писал Джозеф Гринберг в своей последней работе{298}. Наверное, это его последняя шпилька в адрес критиков, утверждавших, что в историю языка нельзя проникнуть глубже чем на 5000 лет или около того: Гринберг настаивал, что может видеть в три раза дальше[12]{299}.
Эхо первого языка
Ни одна тема не вызывает у лингвистов таких сомнений, как разговор о первом человеческом языке. Заводить его, по мнению ученых, бессмысленно, потому что каждый серьезный специалист знает, что историю языков нельзя реконструировать дальше, чем на 5000 лет, в самом лучшем случае – на 10 000. «С тем, что мы сегодня знаем об изменчивости языков и о вероятности, – пишет Джоанна Николс, – происхождение языков и их прошлое состояние могут быть прослежены не далее чем приблизительно на 10 000 лет назад. Сейчас разрабатываются методы, которые позволяют заглянуть в гораздо более ранние эпохи, но они не просматривают наследования. Это означает, помимо прочего, что лингвистика никогда не сможет применить филогенетический анализ в вопросе о том, когда возник язык и восходят ли все человеческие языки к единому корню»{300}.
Возможно, прогноз Николс оправдается, однако у биологов взгляд на будущее несколько бодрее. ДНК позволяет строить филогенетические деревья, уходящие вглубь времен на сотни миллионов лет, и расстояние в 50 000 лет – для нее все равно что вчера. Если индоевропейский язык действительно начал разделяться 8700 лет назад, как показывают подсчеты Грея, то языки, возможно, реконструируемы до значительно более ранних стадий, чем считали лингвисты.
Самое существование списка Сводеша доказывает, что есть слова, сохраняющиеся дольше других. Могут ли какие-то слова сохраниться неизменными настолько долго, чтобы мы смогли воссоздать дерево языков в 5 раз древнее того, которое составил Грей, т. е. почти дотягивающееся до единого праязыка? У некоторых слов – новый, язык, где, ты, один, что, имя, как – период полураспада превышает 13 000 лет, а семь слов – я, мы, кто, два, три, четыре, пять – по расчетам Марка Пейгла, еще более устойчивы к изменениям. Такие слова, по мнению Пейгла, «потенциально могут пронизывать очень мощные толщи времени», глубже, чем слой в 5000–10 000 лет, которым часто ограничивают возможности сбора языковых данных{301}. Слово со значением «один», отмечает Пейгл, имеет период полураспада 21 000 лет, а это означает, что с 22 %-ной вероятностью оно и за 50 000 лет не изменилось.
Могут ли эти слова-долгожители обнажить генеалогию языков, единый праязык? Гринберга забавляла мысль о том, что ему удалось найти слово, которое может быть реликтом первого языка человечества. Это упомянутая уже группа когнатов со значением «один/палец/показывать» и произведенная от корня *tik. Гринберг нашел, что во многих из выделенных им макросемей когнаты этого слова присутствуют по меньшей мере в одном языке. Он рассказывал об этой группе в лекции 1977 г., но никогда печатно, может быть, из-за каких-то сомнений, может, из опасения очередного града насмешек со стороны коллег-лингвистов.
В евразийской семье, как мы отметили, к гнезду *tik относятся слова от английского digital и греческого daktulos до эскимосского tiqik (указательный палец). По данным Меррита Рулена, Гринберг сначала заметил, что в нескольких языках нило-сахарской семьи, которую он тогда описывал, есть слова с общей фонетической структурой t-k и со значением «один»{302}. Праафразийское слово «один», согласно реконструкции, звучало как *tak. В австроазиатской семье есть кхмерское слово tai – кисть руки и вьетнамское tay с тем же значением. Несколько слов со звуковым комплексом tik и со значениями «палец» или «один» существуют в америндских языках.
Даже сторонники Гринберга досадливо морщились от предположения, что слово *tik может быть отголоском того самого, первого языка. Но очень возможно, что некоторые слова, используемые сегодня, имеют чрезвычайно древнюю родословную, и *tik – это и в самом деле слабый, но отчетливый шепот из тех далеких дней, когда мир был единым.
11. История
Успех англичан-колонистов сравнительно с другими европейцами, лучшим примером которого может служить сравнение благосостояния канадцев английского и французского происхождения, благосостояние англичан обыкновенно приписывается их «отваге и энергии»; но кто может сказать, каким образом англичане приобрели свою энергию? По-видимому, много справедливого в мнении, что изумительное процветание Соединенных Штатов, равно как и характер населения, представляют следствия естественного отбора, потому что наиболее энергичные, предприимчивые и смелые люди всех частей Европы выселялись в продолжение последних десяти или двенадцати поколений в эту обширную страну и преуспевали здесь наилучшим образом… При неясности вопроса о прогрессе цивилизации мы можем по крайней мере убедиться в том, что народ, производивший в течение долгого времени наибольшее число высокоинтеллектуально одаренных, энергичных, храбрых, патриотических и доброжелательных людей, одерживает обыкновенно верх над менее одаренными народами.
Естественный отбор проистекает из борьбы за существование, а последняя есть следствие быстрого размножения. Невозможно не сожалеть горьким образом (но разумно или нет – это другой вопрос) о той пропорции, в которой человек стремится размножиться. Эта быстрота ведет у диких племен к детоубийству и многим другим преступлениям, приводит цивилизованные народы к крайней бедности, безбрачию или поздним бракам предусмотрительных людей. Но так как человек страдает от тех же внешних влияний, как и другие животные, то он не имеет права ожидать пощады от пагубных последствий борьбы за существование. Не будь он подвержен в первобытные времена естественному отбору, он, наверное, не достиг бы никогда высокого достоинства человека.
Чарльз Дарвин. Происхождение человека и половой отборС началом оседлости и зарождением сельского хозяйства человеческие сообщества выбрали путь, разительно отличный от собирательского кочевья – единственного дотоле известного людям образа жизни. Новые формы поведения, сложившиеся у человека, позволили ему строить сложноорганизованные общества и городские цивилизации.
Люди научились обходиться с чужаками, как с родней: по крайней мере в ситуациях взаимного обмена и торговли. Они управляли жизнью общества с помощью религиозных ритуалов. Защищали территорию от соседних племен или сами нападали на них, если момент казался удобным. Оседлость потребовала разделения функций: чиновники распоряжаются излишками, жрецы устраивают религиозные церемонии, вожди и короли управляют внешней торговлей и обороной.
Первые города появляются в Южной Месопотамии около 6000 лет назад. Урук, город с большими общественными зданиями на территории нынешнего Ирака, занимал площадь более 200 га. Городу требовались множество работников и администрация, чтобы их вербовать и кормить. Чем сложнее становились общественные механизмы, тем более тонких умений, а возможно, и особых когнитивных способностей – таких, которые собиратели точно не имели возможности развить, – требовало управление ими. Изобретение письменности, датируемое приблизительно 3400 г. до н. э., открыло дорогу историческим хроникам. В Египте, Месопотамии, Индии и Китае возникли первые великие городские цивилизации. Эксперимент с человечеством перешел в новую фазу.
Генетика, проливающая свет на многие обстоятельства доисторического времени, приносит еще более богатые плоды, когда применяется к историческому прошлому, поскольку ее данные можно соотнести с известными людьми и событиями. ДНК позволяет изучать популяции, узнавать, кто откуда происходит, а это помогает понимать смешение племен, подобное тому, что произошло, например, на Британских островах. ДНК педантично записывает, кто с кем спит на протяжении эпох, а в случаях типа тайной семьи Томаса Джефферсона эти данные представляют исторический интерес. А в популяциях, где браки заключаются только внутри, как, например, у евреев, ДНК может довести до самых прародителей.
В будущем генетика, наверное, сможет проследить линии человеческих родословных во всех временах и локациях, составив матрицу для изучения практически любого исторического периода. А пока мы видим многообещающее начало, о котором свидетельствуют приведенные в этой главе примеры.
Секретная стратегия Чингисхана
Монгольский завоеватель Чингисхан умер в 1227 г., предположительно, после падения с любимого жеребца. Его империя простиралась от Каспийского моря до Тихого океана, включая в себя огромные территории России, Китая и Средней Азии. Приближенные привезли его тело на родину, решив погрести на холме в северо-восточной Монголии. По легенде, чтобы сохранить место погребения в тайне, всех, кто предавал Чингисхана земле, убили, а затем разделались и с их убийцами.
Правда это или нет, гробница Чингисхана не найдена, и недавно потерпели неудачу еще две экспедиции, искавшие ее, японская и американская. Но пока археологи не могут добраться до клада, генетики, решая совершенно иную задачу, наткнулись на куда более важную часть наследства великого завоевателя.
Группа ученых, возглавляемая Крисом Тайлер-Смитом из Оксфордского университета, исследовала Y-хромосому примерно 2000 мужчин из разных концов евразийского материка. Ученые заметили, что многие хромосомы попадают в некий общий кластер. Часть хромосом из этого кластера оказались идентичными на всех 15 проверяемых участках, другие отличались лишь на один мутационный шаг. Удивительной особенностью кластера было то, что носители этих хромосом представляли не один народ, как логично было бы ожидать, но жили в самых разных концах Евразии.
Ключ к их общей родословной обнаружился во Внутренней Монголии – именно там особенно часто встречается отмеченная последовательность единиц. Четверть исследованных жителей этой области оказались носителями Y-хромосомы с той же последовательностью или ее близкой производной. Другим ключом оказалось то, что мужчины с повторяющейся последовательностью представляют лишь 16 из 50 с лишним охваченных популяций, и эти 16 располагаются в границах Монголии, какими они были на момент смерти Чингисхана. Единственным исключением были хазарейцы, народ, живущий в Афганистане и Пакистане и считающийся потомком монгольских воинов.
Группа Тайлер-Смита считает, что обнаруженная ими хромосома, скорее всего, принадлежала монгольской правящей династии. Это хромосома Чингисхана и его мужских родственников, которые управляли разными провинциями бескрайней империи. Датировка, проведенная различными методами, указывает на то, что этот кластер начал формироваться около 1000 лет назад, именно в те дни, когда династия Чингизидов начала восхождение к власти{303}.
Несомненно, во время необычайно жестоких и кровавых завоеваний монгольские воины насиловали многих женщин. Но причина существования на земле такого большого числа мужчин с хромосомой монгольских ханов может быть и другой: Темуджин собрал огромный гарем и, похоже, с удивительным прилежанием в нем трудился. Персидский историк XIV в. Рашид ад-Дин, служивший визирем у монгольских правителей Персии, писал, что у Чингисхана было почти 500 жен и наложниц и что он брал в гарем, как трофеи, по женщине из каждого покоренного народа.
Другой персидский историк Монгольской империи Ата Малик Джувейни в своем труде «История завоевателя мира», завершенном в 1260 г., отмечает: «Что до народа и потомков Чингисхана, то сейчас в богатстве и изобилии благоденствуют больше 20 000 его детей. Я не буду продолжать эту тему, чтобы читатели не обвинили меня в преувеличении и краснобайстве и не спросили, как это силою одного мужчины в столь короткое время могло явиться на свет столь обильное потомство»{304}.
Активно продолжали род и сыновья Чингисхана, об одном из которых известно, что он, в свою очередь, был отцом сорока сыновей. Похоже, что это была преднамеренная политика: породить как можно больше потомков. «Кажется, мы хорошо знаем, чем они заполняли время между сражениями», – комментирует историк монгольского периода Дэвид Морган из Университета Висконсина{305}.
Зная долю хромосомы Чингисхана в исследуемой выборке, группа Тайлер-Смита сумела подсчитать, насколько Чингисхан преуспел в своей демографической программе. Невероятно: на бывших землях Монгольской империи 8 % мужского населения носят гены Чингисхана. Это общим счетом 16 млн мужчин, или около 0,5 % всего мужского пола планеты.
После Чингисхана вторая по распространенности в Восточной Азии Y-хромосома принадлежит, предположительно, Гиочанге, патриарху маньчжурских правителей, управлявших Китаем с 1644 по 1912 г. и известных как династия Цин. Знать династии Цин состояла из мужских потомков Гиочанги и его внука Нурхаци. Знать обладала многими привилегиями и могла содержать множество наложниц. Кроме того, аристократия Цин использовала брачные союзы для укрепления политических альянсов с другими народами Северного Китая, например с монголами.
Тайлер-Смит обнаружил маньчжурскую хромосому у семи северокитайских народов, но не нашел ее у хань, основного китайского этноса. Вывод о том, что хромосома принадлежит маньчжурским монархам, Тайлер-Смит делает на основе ее частотности, географического распределения и того обстоятельства, что ее первый носитель, согласно генетическим показателям самой хромосомы, жил около 500 лет назад – а Гиочанга умер в 1582 г. По подсчетам Тайлер-Смита, маньчжурскую Y-хромосому носит 1,6 млн живущих сегодня мужчин{306}.
Третий патриарх, чьи потомки сегодня на земле составляют от 2 млн до 3 млн человек, обнаружился в процессе изучения ирландских Y-хромосом. Им мог быть Ниалл Девять Заложников, верховный король Ирландии из V в., по мнению многих историков, фигура скорее легендарная{307}.
Геном открывает новое окно в человеческое прошлое, и он особенно полезен историкам в случаях, когда ДНК могут быть сопоставлены с историческими свидетельствами. Истории Чингисхана, Гиочанги и Ниалла Девять Заложников наводят на мысль, что грандиозная плодовитость, возможно, не просто одна из выгод обладания властью, но важная, хотя и неосознанная попытка укрепить ее.
История Британии с точки зрения генома
Геном нередко дает удивительные ответы на исторические загадки, связанные с генеалогией. Вот, к примеру, английские фамилии. У простолюдинов фамилии появились между 1250 и 1350 гг., очевидно, для удобства феодальной канцелярии, чтобы легче различать крестьян-арендаторов с одинаковыми именами. Фамилии не блистали оригинальностью. Чаще всего они отражали либо профессию носителя (Кузнец, Мясник), либо имя по отцу (Джонсон, Питерсон), либо какие-то особенности местности (Холм, Пустошь). Историки полагали, что одну и ту же фамилию изобретали одновременно во множестве мест, и нет смысла думать, что носители одной фамилии имели в XIII в. общего предка. Однако историк британских фамилий и топонимов Джордж Редмондс пришел к выводу, что многие фамилии все же произошли от уникальных родоначальников. «Но доказать это генеалогически не было возможности, потому что у нас не хватало данных», – говорит он{308}.
Все стало меняться, когда к Редмондсу обратился за помощью генетик из Оксфордского университета Брайан Сайкс. Сайкса однажды пригласили прочесть лекцию ученым из Glaxo-Wellcome, крупной британской фармацевтической компании, в которой с середины 1990-х возник интерес к человеческому геному. Организаторы конференции несколько раз уточнили, не родственник ли он тогдашнему президенту компании сэру Ричарду Сайксу. Брайан отвечал, что, насколько ему известно, они не родственники. Даже водитель, присланный из компании, чтобы отвезти ученого на конференцию, задал этот вопрос.
Сайкс хотел ответить отрицательно, как обычно, но тут ему в голову внезапно пришла мысль. «Возможно, мы с сэром Ричардом и впрямь родственники, но не знаем об этом, – пишет Брайан Сайкс. – И, что важнее, может, я смогу установить это по генетическому анализу». Сайкс попросил шофера подождать и поспешил к себе в лабораторию за набором для взятия проб генетического материала. На конференции он познакомился со своим однофамильцем и попросил разрешения взять анализ{309}.
Оба Сайкса выросли в разных частях Англии. Семья Брайана с юга, из Хэмпшира, Ричард рос на севере, в Йоркшире. Кроме того, что оба стали учеными, ничего общего в их биографиях не просматривалось. Но оказалось, что общее есть: одинаковая Y-хромосома.
Разумеется, Y-хромосома передается от отца к сыну, как и фамилия. Обнаружив родство с одним однофамильцем, Брайан задумался, не родня ли друг другу и остальные Сайксы. Изучение вопроса показало, что много Сайксов живет в Йоркшире, и сама фамилия происходит от йоркширского слова sike, означающего луговой ручей. Сайкс беспорядочно выбрал около 250 однофамильцев-йоркширцев и отправил им письма с просьбой предоставить образец ДНК. Примерно четверть ответили согласием, и после исследования проб обозначились кое-какие связи. У половины протестированных оказалась одна и та же Y-хромосома или та же, но с единственным мутационным отклонением. У остальных были разные, не связанные между собой Y-хромосомы.
Из этого Сайкс сделал несколько интересных выводов. Во-первых, была только одна настоящая Y-хромосома Сайксов. И все ее носители закономерно происходят от одного первого обладателя фамилии. И значит, фамилию придумали лишь однажды, или, если не однажды, то все другие линии на каком-то этапе не дали мужского потомства и пресеклись.
Что до той половины Сайксов, которые не обнаружили титульной Y-хромосомы, то у них в роду, скорее всего, имели место так называемые «неотцовские события», т. е. на каком-то этапе отцом оказался не тот человек, что значился по бумагам. Усыновление – также возможная разновидность неотцовского события, но, вероятно, им объясняется лишь малая часть несовпадений.
Если же часть из живущих мужчин Сайксов в истории рода имеет неотцовское событие, не заставляет ли это всерьез задуматься о том, что жены Сайксов не расположены были все эти века хранить супружескую верность? Брайан Сайкс опровергает эту мысль. Если считать, что со времен первого мистера Сайкса из XIII в. сменилось 23 поколения, уровень неверности всего в 1,3 % на поколение означал бы, что из нынешних Сайксов лишь половина мужчин обладает истинной Y-хромосомой. Таким образом, Сайксы по «неотцовскому проценту» заметно отличаются в лучшую сторону, поясняет Брайан Сайкс, от других современных популяций, где доля варьирует от 1,4 до 30 %, у большинства – от 2 до 5 %{310}.
Когда Брайана спросили, настоящий ли Сайкс он сам, тот ответил: «С гордостью скажу: у меня оригинальная хромосома». Его дальние предки, похожи, были довольно неуживчивыми людьми: они то и дело возникают в судебных протоколах XIV столетия как получатели штрафов то за спиленное дерево, то за украденную овцу. «Но при всем этом жены хранили им верность», – отмечает Брайан{311}.
Историк Редмондс проследил самых ранних Сайксов до деревень Флоктон, Слейтвейт и Сэддлуорт в Западном Йоркшире. Впервые фамилия упоминается в судебных отчетах от 1286 г., где фигурирует некто Генри дель Сайк из Флоктона. И во Флоктоне Сайксы живут поныне. Редмондсу удалось найти даже участок земли, арендатором которого был Генри. Редмондс привез туда своего друга-генетика. «От дома, где жил мой предок, самый первый Сайкс, не осталось и следа, но все равно очутиться там было удивительно, – пишет Брайан Сайкс. – Посмотришь вокруг, на старую мельницу, на проселок, на ручей, и кажется, что здесь с тех пор ничего особо не изменилось. И так оно и есть. Границы поля и огорода там же, где были в конце XIII в., когда здесь жил Генри дель Сайк. И стоя там, я как будто слышал голоса детей – своих предков – со смехом бросающих в ручей камешки»{312}.
Сайкс разобрал Y-хромосомы еще трех английских фамилий и обнаружил, что, как и в случае с его собственной, каждую можно отследить до первого единственного обладателя. Благодаря его работе стало ясно, что многие английские фамилии в прошлом начинались с единственного носителя и даже самые распространенные типа Смита или Кларка могут происходить от весьма немногочисленных родоначальников.
Генетический анализ – инструмент для историков, и, возможно, однажды из него возникнет новая разновидность исторической науки, не исключено, что не во всем согласная с традиционной историей. В английских школах детей учат, что их история начинается с римского нашествия 55 г. до н. э. и победы Цезаря над войском кельтов, пытавшимся его остановить. Настоящие носители английского наследия, как явствует из учебников, – англосаксы, вторгшиеся на Британские острова позже и говорившие на германском языке, из которого возник английский. Побежденные кельтские племена Британии, как считается, отступили вглубь Шотландии и Уэльса, после чего практически исчезли со страниц большинства исторических пособий.
Однако изучение британских Y-хромосом показывает: Y-хромосомы, характерные для кельтоязычных мужчин, не просто не исчезли – они обнаружены у большого процента мужского населения Великобритании. Получается, что коренное население не истребили ни англосаксы, в VI и VII вв. вторгшиеся из Дании и Северной Германии, ни датские и норвежские викинги, захватчики IX–X столетий{313}. (Две другие волны завоевателей, римляне и норманны, вероятно, были недостаточно многочисленны для того, чтобы оставить демографический след.)
Обычная кельтская Y-хромосома отличается особым набором ДНК-маркеров, который генетики называют атлантическим модальным гаплотипом, иначе АМГ. АМГ-хромосомы, как оказалось, встречаются еще в Испании, в Стране басков, обитатели которой считаются коренными европейцами. Y-хромосомы с АМГ особенно частотны в центральной Ирландии, куда не дошел никто из захватчиков. Это позволяет заключить, что АМГ-хромосома – «подпись» первых охотников и собирателей, прибывших в Англию и Ирландию 10 000 лет назад перед окончанием плейстоценового оледенения.
Некоторые генетики, ссылаясь на родство баскской и ирландской Y-хромосом, выдвигают гипотезу, что люди, укрывшиеся в Испании во время последнего ледникового максимума, после ухода ледников начали двигаться на север, и многие из них, двигаясь водой вдоль западного побережья Европы, заплыли в пролив, разделяющий Англию и Ирландию и осели по обоим его берегам{314}.
Носители Y-хромосомы с АМГ предположительно говорили на языке, похожем на баскский, или на каком-то другом из языков первых палеолитических обитателей Европы. Остается загадкой, почему эта хромосома сегодня связана с носителями кельтского, индоевропейского языка, который пришел в Британию только в I в. до н. э., вместе с сельским хозяйством и технологией обработки железа. Возможно, дело в том, что кельтский образ жизни распространился на Британских островах не за счет массового вторжения кельтов, а главным образом через культурное влияние. Частью которого стало то, что местное население заговорило на кельтском.
Но есть и другая загадка: британская митохондриальная ДНК – элемент генетики, наследуемый только по женской линии, – показывает совершенно иную картину, чем Y-хромосома. Митохондриальная ДНК здесь, в общем, не отличается от североевропейской. Вероятно, кельтоговорящие британцы многих своих жен завозили из Северной Европы: может быть, в рамках добрососедских отношений с континентальными кельтами, а может быть, как пленниц из набегов{315}.
Историк Норман Дэвис начинает свою недавно изданную историю Британских островов с упоминания о том, что митохондриальная ДНК, обнаруженная в человеческих костях возрастом 8000 лет из пещеры в Чеддерском ущелье, и митохондриальная ДНК директора школы из ближайшей деревни совпадают, что говорит о постоянстве человеческой популяции в тех местах{316}. Историки уже видят в геноме новый богатый источник удивительных данных.
Происхождение исландцев
Викинги, вторгшиеся в Англию, приплыли из Дании и из Норвегии. Последствия датского нашествия особенно хорошо заметны в распределении Y-хромосом на территории от Йорка до Норфолка: в восточных областях, принявших на себя основной удар данов. Норвежцы действовали севернее. В IX в. они захватили Оркнейские острова, что лежат к северо-востоку от Шотландии, и устроили там свою базу. До XVIII в. на островах говорили на норне, разновидности старонорвежского языка. Норвежские викинги оставили заметный генетический след в оркнейцах и гораздо дальше – к примеру, в Исландии.
От своих гаваней на Оркнейском архипелаге норвежские викинги ходили вдоль северного берега Шотландии и по проливу между Англией и Ирландией, основав поселения и на английском, и на ирландском берегах. В 870 г. викинги открыли Исландию, лежавшую в нескольких днях пути на север от Шотландии. Не считая нескольких ирландских отшельников, которые поспешили отчалить, остров был необитаем. Новости о девственной земле без враждебных аборигенов скоро разошлись повсюду, и 60 лет в Исландию постоянно прибывали новые поселенцы. В 930 г. поток прибывающих внезапно оборвался, возможно, из-за того, что на острове срубили все леса и больше не осталось свободной пахотной земли. После этого остров был, по сути, закрыт для иммиграции вплоть до нового времени.
Генетическая история Исландии вызывает особый интерес и как образец эволюции изолированной популяции, и по той причине, что изучение генетики исландцев помогло обнаружить генетические корни многих распространенных болезней: от рака и сердечно-сосудистых патологий до астмы и шизофрении. Ученые полагают, что эти болезни возникают, когда налицо сочетание нескольких поврежденных генов. Эти неправильные гены крайне трудно обнаружить: каждый вносит лишь небольшой вклад в общий характер заболевания. По ряду причин, в том числе благодаря превосходной системе медицинской документации, Исландия особенно удобна для поиска этих генов. В 1996 г. исландский врач-невролог Кари Стефанссон основал мощную компанию генетических исследований DeCode Genetics, которая добилась серьезных успехов в обнаружении патологических генов как у исландцев, так и в других популяционных группах. Компания и ее партнеры, крупные фармацевтические фирмы, надеются разработать на базе исландских открытий методы диагностики и лекарства. В этом плане важно знать, насколько исландцы генетически сходны с другими народами, в частности живущими в США и Европе, и насколько открытия о генетической природе заболеваний у исландцев применимы в остальном мире.
Исландские хроники XII–XIII столетий показывают: хотя колонизацией Исландии управляли норвежцы, среди иммигрантов были выходцы из норвежских поселений на Оркнейском архипелаге и на побережьях Шотландии, северной Англии и Ирландии, где викинги после победы над аборигенами охотно брали в жены местных девушек. И если эти переселенцы ехали в Исландию с семьями, выходит, многие, и даже, вероятно, большинство женщин в первой исландской популяции были британских или ирландских, в любом случае – кельтских кровей. В «Книге о заселении Исландии» лишь малая часть первых колонистов упоминается по именам, но из тех, чья родословная записана, с Британских островов прибыли всего 5 % мужчин и целых 17 % женщин. Кроме того, в обеих странах викинги захватывали пленников и превращали их в рабов, и среди пленных, конечно, было немало женщин.
Исландские историки сходятся во мнении, что их страну, вероятно, основали мужчины преимущественно из Норвегии и женщины преимущественно с Британских островов, прежде всего ирландки. Своим заявляемым происхождением от двух великих народов, викингов и кельтов, исландцы в XIX–XX вв. отделяли себя от ненавистных угнетателей-датчан. «Итог этого слияния – доминирующая сегодня теория о происхождении исландцев, соединяющая благородство и героизм норвежцев с литературной и широкой культурной традицией ирландцев и других народов "кельтской окраины"», – пишет группа исландских и иностранных авторов{317}.
Современная генетика способна разбирать на фракции сложные смешанные популяции типа населения Британии, и, пожалуй, для нее не составит труда разобраться в генофонде исландцев и проверить обоснованность теории, предложенной историками. Хотя это не так уж просто. Сравнение исландских Y-хромосом с британскими и скандинавскими подтверждает, что большинство мужчин-основателей были норвежцами, но не такое уж подавляющее большинство: 20–25 % исландских пионеров имели гэльское, т. е. кельтское происхождение, остальные были родом из Норвегии{318}.
С женщинами картина далеко не столь ясная. Структуры митохондриальных ДНК, сегодня наблюдаемые в Исландии, выглядят европейскими, но ни с какой отдельной страной строгого подобия не просматривается{319}. Их правильнее всего назвать исландскими. Причина, видимо, в дрейфе генов, т. е. неупорядоченной утрате и приобретении генетических сигнатур при смене поколений, усугубленном резкими флуктуациями в демографии острова. В 1402–1404 гг. Великая чума унесла 45 % его населения. Эпидемия оспы 1708 г. убила 35 % исландцев. В 1784–1785 гг. неурожай, вызванный извержением вулкана, обернулся 20 %-ной убылью населения. После каждой потери и восстановления сложившийся набор сигнатур митохондриальной ДНК обновлялся, с каждым разом все больше отодвигая исландцев от их родительской популяции.
При столь непроницаемой генетической картине группа ученых решила прибегнуть к старой доброй краниометрии. Сделали замеры исландских черепов периода колонизации и сравнили со средневековыми черепами из ирландских и норвежских хранилищ. Увы, исландские черепа были не в той сохранности, чтобы можно было определить пол их обладателей. Они выглядели весьма схоже с норвежскими и меньше походили на ирландские. Ученые заключили: «Хотя полученные результаты не исключают заметного присутствия ирландцев или других народов среди тех, кто осваивал Исландию, мы склоняемся к выводу, что первая популяция была преимущественно (на 60–90 %) норвежского происхождения»{320}.
Компания DeCode Genetics, исследующая генетику различных заболеваний, составила генеалогическую базу данных населения Исландии, охватывающую 1100 лет. В нее вошли сведения, записанные на пергамент в первые триста лет исландской истории, церковные книги и данные трех полных переписей населения, предпринятых с 1703 г. до наших дней. Генеалог из DeCode Тордур Кристйенссон полагает, что база содержит имена примерно половины всех когда-либо существовавших исландцев, 85 % исландцев, родившихся в XIX в., и практически всех, живших в XX в.{321} Эта база позволила ученым из DeCode в удивительных подробностях рассмотреть историческую динамику отдельной человеческой популяции.
Одним из открытий стало то, что в женских наследственных линиях расстояние между поколениями меньше, чем в мужских. Средний интервал между поколениями матерей и дочерей в период от наших дней до 1698 г. – 29 лет, а между поколениями отцов и сыновей – 32 года. Скорее всего обнаруженная разница отражает тот простой факт, что в семьях жены обычно моложе мужей.
Немало удивил ученых тот факт, что заметная доля людей в каждом поколении не продолжает рода. Команда DeCode проследила родословные 131 060 исландцев, рожденных в период с 1972 по 2002 г., до двух разнесенных по времени когорт. 92 % всех исландских женщин, рожденных после 1971 г., происходят от 22 % исландок, рожденных в период 1848–1892 гг., и от 26 % мужчин из этой когорты происходят 86 % нынешних исландцев.
С переходом к еще более ранним поколениям предков – когорте 1698–1742 гг. – пирамида наследования сужается еще резче. Поскольку полными генеалогическими данными о столь отдаленных временах наука не располагает, далеко не у всех современных исландцев родословную можно проследить до этого периода. Невзирая на это, команда DeCode установила: родословные линии 62 % современных исландок восходят всего к 7 % женщин, родившихся в начале XVIII в., и 10 % тогдашних исландских мужчин являются предками 71 % современных{322}. Иначе говоря, родовые древа большинства людей рано или поздно пресекается – по крайней мере это верно для популяций, численно сравнимых с исландской, – и вся последовательность демографических когорт в основном происходит от нескольких пращуров.
Такая разница в репродуктивной успешности, вероятно, объясняется действием дрейфа генов, сила которого зависит от размера популяции. Население Исландии после эпидемии оспы 1708 г. сократилось до 33 000 душ, но с начала XIX в. неуклонно росло и достигло нынешнего уровня в 290 000 человек. Но даже в период роста генетический дрейф не прекращался. В конце плейстоцена на земле, должно быть, существовало много крупных популяций, и дрейфу генов было где проявить себя.
Происхождение евреев
Популяционная история евреев изучается пристальнее, чем история большинства народов, и не перестает удивлять ученых. Первая их особенность – то, что век за веком евреи практически не смешивались с другими этносами. Иначе говоря, еврейские сообщества до недавнего времени в целом сохраняли эндогамию, а значит, их генофонд имел время приобрести собственную историю, и эта генетическая хроника проливает свет на целый ряд исторических событий.
Важное следствие эндогамии: генофонд не разбавляется вливаниями извне, и селективное давление, действующее на популяцию, может со временем закрепить какие-то вариации генов. Есть удивительная гипотеза, еще не подтвержденная, но весьма правдоподобная, о том, что одна из еврейских общностей – ашкенази, евреи Северной и Центральной Европы – долгое время жила под весьма суровым давлением среды, которое повысило у них частотность определенных измененных генов. Эти гены хорошо известны врачам из-за серьезных побочных эффектов: если человек наследует их от обоих родителей, они вызывают ряд серьезных заболеваний. Но вряд ли эти модификации генов так широко распространились из-за их способности вызывать болезни. Они должны нести какое-то особое преимущество, и, согласно одной гипотезе, это преимущество – повышенный интеллект.
Согласно этой гипотезе, селективным давлением, закрепившим у ашкенази особые гены, был запрет на профессии, который устанавливали для иудеев европейские правительства, позволяя лишь узкий круг занятий, требовавших особого развития умственных способностей. Это давление действовало примерно с 800 до 1700 г. И если так, то гипотеза, описываемая ниже, подразумевает несколько интересных следствий: в частности, представляет нам пример совсем недавних и динамичных эволюционных изменений в человеке.
Иудаизм – открытая религия, принимающая новообращенных, и долго считалось, что именно религия и культура, а вовсе не генетика задают общность внутри и между различными еврейскими субэтносами. Однако в 2000 г. группа генетиков под руководством Майкла Хаммера из Университета Аризоны установила, что мужчины во всех разбросанных по миру еврейских общинах имеют в Y-хромосоме один и тот же набор генов. Это не исключительно еврейский набор, он типичен для всего Ближнего Востока{323}. Отсюда следует, что отцы-основатели еврейских общин по всему миру вышли из той же популяции, существовавшей 4000 лет назад на Ближнем Востоке, которая породила также арабов, тюрков и армян. Эти ближневосточные Y-хромосомы, располагающиеся на ветви J всемирного генеалогического дерева Y-хромосомы, не только связывают между собой различные еврейские субэтносы, но и доказывают, что эти субэтносы генетически не уподобились неближневосточным народам, на территории которых живут.
Но совершенно иную историю генетика рассказывает о еврейских женщинах. Группа Дэвида Голдстайна из Лондонского городского университета изучала еврейские общины Германии и Восточной Европы (ашкенази), Марокко, Ирака, Ирана, Грузии, Бухары, Йемена, Эфиопии и Индии. Ученые обнаружили, что генетика митохондриальной ДНК, в отличие от Y-хромосомы, в каждом из этих субэтносов своеобразна, и значит, еврейские женщины, в отличие от мужчин, не происходят из одной популяции.
Митохондриальные ДНК в еврейских сообществах не похожи на ДНК никаких других народов, и значит, географическое происхождение еврейских праматерей точно установить не удастся. Однако в ряде случаев есть указания на то, что женщины происходили из местного нееврейского населения. Например, у бней-исраэль, бомбейских евреев, самый распространенный рисунок митохондриальной ДНК лишь на одну мутацию отличается от типично индийского.
Голдстайн с коллегами предлагают объяснять это тем, что отцы-основатели еврейских общин пришли с Ближнего Востока, а праматери были всегда из местного населения{324}. Еврейские мужчины, вероятно, прибывали по торговым делам, не были женаты и в каждой стране находили себе жен из местных, а потом, очевидно, обращали их в иудаизм. Сложившись и достигнув определенного размера, община становилась закрытой: больше на местных женщинах не женились, браки заключались только внутри. Без свежего притока генов из местной популяции митохондриальная ДНК в каждом из еврейских сообществ под влиянием дрейфа генов становилась все менее похожей на ту, от которой когда-то произошла.
Если это объяснение верно, то евреи диаспоры – это, в общем, генетическая смесь выходцев с Ближнего Востока (мужская линия) и местного населения страны проживания (женская линия). Тогда логично, что евреи часто схожи с народом, среди которого живут, но одновременно схожи с евреями из других частей мира.
Генетические данные, в принципе, согласуются с еврейскими историческими преданиями, хотя не в каждой детали. Предки нынешних евреев – древний народ, но произошел он, как свидетельствуют гены, не от одного патриарха, а от группы родоначальников ближневосточного генезиса. У многих еврейских субэтносов есть предания или традиции, объясняющие их возникновение, и зачастую у истоков субэтноса, согласно фольклору, лежит бегство от преследований или приглашение дружественного монарха. Еврейская община Ирака (сегодня в основном переселившаяся в Израиль) возникла, по легенде, после разрушения Первого Храма в 586 г. до н. э. Бомбейские бней-исраэль рассказывают, что их предки бежали в Индию от притеснений Антиоха Эпифана, царствовавшего в 175–163 гг. до н. э. Анализ ДНК, в принципе, подтверждает почтенный возраст еврейских субэтносов, хотя и не может точно датировать их возникновение. Но характер их формирования – одинокие еврейские мужчины прибывают в регион и женятся на местных девушках – говорит о том, что по крайней мере некоторые еврейские общины начинались с торговых факторий, а не с массовой эмиграции семейных людей.
Современный еврейский этнос делится, в зависимости от географии происхождения, на три главные популяции. Ашкенази живут преимущественно в Германии и Восточной Европе и по крайней мере с VI в. говорят на своем отдельном языке – идише. Сефарды – евреи, изгнанные в 1492 г. из Испании и Португалии испанской инквизицией. Мизрахи, или восточные евреи, – популяция, не покидавшая Ближнего Востока. Из 5,7 млн евреев, живущих в США, около 90 % по происхождению ашкенази; из 4,7 млн евреев Израиля 47 % – ашкенази, 30 % – сефарды и 23 % – мизрахи{325}.
Сейчас принадлежность к евреям, кроме случаев обращения, определяется по матери. Но эта практика не старше талмудических времен (приблизительно 200–500 гг.), а в древнем Израиле принадлежность кланам задавалась отцовской линией, как то было в двух кастах потомственных священнослужителей – коэнов и левитов. После разрушения Храма коэны остались не у дел, и власть перешла к раввинату. Раввины установили систему матрилинейной передачи национальной идентичности. Есть версия, что это было сделано потому, что материнство – это факт, а отцовство лишь предположение, но современный ученый Шейн Коэн из Гарвардского университета считает, что, скорее, все же дело в традиции раввинов и влиянии римского права{326}.
Патрилинейная традиция преемственности священства существует поныне, и благодаря ей генетика смогла еще кое-что извлечь из глубин еврейской истории. Коэны и левиты продолжали совершать некоторые культовые действия. Коэны первыми призываются на чтение Торы в синагоге и в особых случаях благословляют паству. (Благословение коэна – поднятая ладонь, сжатые указательный и средний отставлены от безымянного и мизинца – знакома многим неевреям{327}.) Устное предание гласит, что все коэны происходят от Аарона, брата Моисея и первого верховного жреца. Священство у евреев возникло где-то 3300 лет назад и с тех пор передается от отца к сыну. Об этом думал ученый-медик Карл Скореки из Израильского технологического института в Хайфе, сидя как-то раз утром в синагоге и слушая чтение Торы. Коэн, читавший в тот момент, был сефардом. Скореки – ашкеназ и сам происходит из рода коэнов. Он подумал, что при всей заметной внешней разнице между ним и сефардом, у них, если предание не врет, должна быть одинаковая Y-хромосома, унаследованная от Аарона{328}.
Скореки позвонил генетику из Аризонского университета Майклу Хаммеру, который согласился с его выводом и принялся собирать Y-хромосомы коэнов из сефардских и ашкеназских общин. Несмотря на добрую тысячу лет, минувших с момента разделения этих субэтносов, и разделяющие их расстояния, Хаммер с помощниками обнаружили, что в обоих общинах коэны действительно отличаются особой генетической сигнатурой.
Эта сигнатура – последовательность ДНК на двух определенных участках Y-хромосомы. Генетики называют ее модальным гаплотипом коэнов (МГК), подразумевая типичные для коэнов модификации ДНК. Команда Хаммера обнаружила МГК у 45 % коэнов-ашкеназов и у 70 % сефардских{329}. Эти цифры вполне согласуются с преданием о том, что все коэны происходят от одного прародителя. Это был, предположительно, первый верховный жрец и, возможно, действительно сам Аарон, если он на самом деле существовал: многие современные ученые полагают, что великие патриархи Израиля – фигуры скорее легендарные, чем исторические{330}.
Чтобы точнее понять, когда мог жить прародитель всех коэнов, другая группа генетиков, куда вошли Скореки и Дэвид Голдстайн, изучила вариативные разновидности МГК. По оценке этой группы, наблюдаемый спектр вариаций гаплотипа мог сложиться примерно за 106 поколений. Считая по 30 лет на поколение, получаем, что первый коэн жил 3180 лет назад (или 2650 лет назад, если отвести на поколение 25 лет){331}. Примерная датировка около 3000 лет назад интересна тем, что жизнь первого коэна как раз приходится на начало эпохи Первого Храма в еврейской истории.
То, что лишь около 50 % коэнов (больше или меньше – зависит от популяции) носят оригинальную Y-хромосому, означает, что в остальных случаях в какой-то момент родословной имеется несовпадение номинального и биологического отцов. Случаи приемных детей не могут быть объяснением, поскольку священство передавалось только по крови, и значит, единственная причина – супружеская неверность. Но, как и в случае с английскими Сайксами, совсем небольшой процент неотцовских случав в каждом поколении дает через много поколений весьма заметную долю мужчин с чужой Y-хромосомой.
Поскольку родословная коэнов в три раза старше, чем Сайксов, получается, что их жены хранили верность еще старательнее. Антрополог из Университета штата Коннектикут Джеймс Боастер, взяв данные группы Скореки, подсчитал, что у ашкеназских коэнов процент неотцовских случаев составлял 1,2 % на поколение, а у сефардских – 0,4 %. (Конечно, учету не поддаются те случаи, когда жена коэна имела любовником коэна.)
Это необыкновенно низкий уровень, если сравнить его с 5 % или больше, считающимися нормой в современных западных обществах. Исследовательская группа Боастера задалась вопросом, как удавалось коэнам из века в век добиваться от жен такой образцовой верности, не прибегая к известным в других культурах средствам принуждения типа чадры или пояса верности. Ответом может служить еврейский обычай, объявляющий ритуально нечистыми контакты с женщиной с первого дня менструации и еще неделю по ее окончании, после чего мужу предписывалось совершить половой акт. Он должен был брать жену немедленно по ее возвращении с ритуального омовения. Это мудрое религиозное предписание имело значительные последствия в биологическом аспекте: оно гарантирует, что первый половой контакт после нескольких дней воздержания у женщины совпадает с трехдневным периодом максимальной способности к зачатию, после которого наступает овуляция. «Такая практика в сочетании с жестокими карами за супружескую неверность могла быть причиной столь высокого процента настоящего отцовства», – отмечают исследователи{332}.
Левиты, как показывает их генетика, имеют более сложную историю. Левиты – это младшая по отношению к коэнам жреческая каста, у которой было меньше обязанностей и задач. Согласно традиции, левиты – это мужские потомки Левия, не принадлежащие коэнам. Оговорка объясняется тем, что Левий, третий сын патриарха Иакова, был предком Аарона. Около 4 % еврейских мужчин относятся к левитам, таков же и процент коэнов.
Y-хромосомы ашкеназских и сефардских левитов не схожи между собой. Поэтому, в отличие от коэнов, здесь нет четкой мужской линии, начавшейся до разделения ашкенази и сефардов. Есть, однако, устойчивая генетическая сигнатура, общая для 52 % ашкеназских левитов. Это набор аллелей, располагающийся на так называемой линии R1a1 родословного древа Y-хромосомы. Судя по истории генетических вариаций в левитских хромосомах, родоначальник ветви R1a1, скорее всего, появился среди еврейского народа около 1000 лет назад, примерно в те дни, когда евреи начали селиться в северо-западной Европе, т. е. в момент рождения субэтноса ашкенази{333}.
Генетики, обнаружившие у левитов сигнатуру R1a1, – группа, куда входят Скореки, Хаммер и Голдстайн, – отмечают, что, помимо еврейского этноса, хромосома R1a1 относительно частотна на Кавказе, в области к северу от Грузии, где некогда располагался Хазарский каганат. Хазары были тюркоязычным народом, чей монарх в VIII или IX в. обратился в иудаизм.
Генетики предположили, что один или двое из обращенных хазар могли стать левитами и послужить причиной распространения сигнатуры R1a1 среди сегодняшних ашкеназских левитов. Однако специалист по религиозной истории евреев Шейн Коэн считает, что обращенные иноверцы вряд ли могли стать левитами, тем более – основателями левитской линии в Европе. Связь с хазарами, по мнению Шейна, это «всего лишь гипотеза».
Генетические открытия, касающиеся происхождения коэнов и левитов, – это факт генетики: они никак не диктуют, кого считать или не считать коэном или левитом. «В глазах раввинистического закона генетика не относится к действительности», – замечает Коэн{334}.
Этническое происхождение и наследуемое жречество открыли ученым два окна в историю евреев; третье окно обнаружилось при изучении генетических расстройств. У каждого народа есть свой набор генетических заболеваний, но у еврейского населения США и Израиля он особенно тщательно изучался медиками, и поэтому столь многие случаи там документированы. Подобные болезни называются менделевскими, потому что вызываются одной мутацией и передаются потомству по очевидной схеме; но есть еще так называемые комплексные расстройства, например рак или диабет, которые, возможно, вызываются действием целого множества генов и не наследуются ни по какой из известных схем{335}.
На сегодня в еврейских популяциях выявлено по меньшей мере 40 менделевских болезней. Какие-то из них встречаются и у других народов, какие-то – в нескольких еврейских субэтносах, а какие-то ограничены только одним. Разумеется, болезни изучают, чтобы успешно их лечить, но попутно открывается немало важных знаний из области истории популяций.
Заболевание под названием «семейная средиземноморская лихорадка» вызывается мутацией гена, встречающейся у ашкенази, иракских и марокканских евреев. Еще ей подвержены армяне, мусульмане-друзы и турки. Все нынешние формы вызывающего заболевание гена, по-видимому, происходят от единственного первого носителя, который жил около 3000 лет назад на Ближнем Востоке, древнее население которого разветвилось на ряд этносов, среди которых был еврейский.
Позже, когда возник иудаизм, его последователи начали собственную генетическую историю, поскольку не заключали браков с иноверцами. Евреи, по-видимому, достигли численности в миллион человек перед катастрофической убылью в 70 г., когда римляне разрушили Иерусалимский Храм. С этого события начинается расселение еврейских общин по всему Средиземноморью. Численность крупнейшего еврейского субэтноса – осевших в Центральной и Восточной Европе ашкеназов – предположительно составляла около 150 000 человек к 1095 г., году первого крестового похода и начала гонений на евреев в христианских странах.
Ашкенази представляют особенный интерес, потому что многие из них – как в Европе, так и в США и других странах, куда евреи бежали от нацизма, – прославились выдающимися интеллектуальными достижениями. Помимо этого, у ашкенази примечателен набор менделевских болезней. Мутации, которые их вызывают, могут случайно возникать в любом месте генома, и нет оснований ожидать, что они будут последовательно происходить с какой-то определенной категорией генов. При этом не меньше четырех менделевских болезней, свойственных ашкенази, вмешиваются в клеточный обмен сфинголипидов – веществ, названных так потому, что их открытие не разрешило «загадку сфинкса» относительно их предназначения. Четыре упомянутых сфинголипидных расстройства – это болезнь Тея – Сакса, болезнь Гоше, болезнь Ниманна – Пика и муколипидоз IV типа. Другая группа из четырех болезней – расстройства клеточного механизма восстановления ДНК. Мутации генов BRCA1 и BRCA2, повышающие риск рака груди и яичников, анемия Фанкони по типу C и синдром Блума.
Сфинголипидные расстройства особенно напоминают группу мутаций, вызывающих патологии крови, такие как серповидно-клеточная анемия, и считающихся защитным механизмом против малярии. Когда около 5000 лет назад малярия внезапно стала для человека угрозой, естественный отбор закреплял любые мутации, дававшие защиту, даже если они несли серьезные неудобства. Болезни типа серповидно-клеточной анемии – следствие такой экстренной «генетической починки». Мутация серповидной клетки, хотя губительна для индивидов, которым не повезло унаследовать ее от обоих родителей, хорошо защищает от малярии огромную часть людей, унаследовавших только одну ее копию.
Скорее всего, эволюция оставила в человеческом геноме еще немало таких экстренных мутаций. Сменялись поколения, возникали более безобидные мутации, и у эволюции была возможность усовершенствовать временное решение или закреплять те вариации генов, которые ослабляли побочный эффект первой мутации. Именно поэтому серия вредных мутаций, нарушивших ход развития, обычно свидетельствует о недавнем ответе эволюции на какое-то внезапно возникшее селективное давление.
Что касается упомянутых четырех сфинголипидных расстройств, то они чрезвычайно похожи на такой «быстрый ремонт» – набор мутаций, закрепленных ради каких-то преимуществ, обеспеченных ценой нарушения сфинголипидного метаболизма. Но если это преимущество состояло в защите от болезни, то какой? Загадка в том, что носители сфинголипидных мутаций не обнаруживают никакого необычного иммунитета ни к одной из известных болезней.
«Другая версия, – пишет Джаред Даймонд, изложив гипотезу о том, что эти вариации генов давали повышенный иммунитет к туберкулезу, – это отбор, закреплявший интеллектуальные способности, предположительно полезные для выживания в условиях гонений, а также для успешного ведения коммерции: евреям были запрещены занятия, связанные с сельским хозяйством и доступные местному нееврейскому населению».
Предполагать, что некая общность людей может быть генетически умнее, чем другие, – скользкий путь, потому что дальше открывается возможность объявить какую-то другую общность менее интеллектуально одаренной, чем остальные. Идея, запущенная Даймондом, не снискала много сторонников, и, кроме того, генетики, разбиравшие сфинголипидные расстройства позже, сделали вывод, что причиной их возникновения был не естественный отбор, а совсем другой механизм – так называемый эффект основателя.
Когда популяция после какого-либо бедствия редеет до критически малого числа, а потом восстанавливается, новый генофонд будет представлять собой масштабированную версию генофонда тех немногих индивидов, которые пережили бедствие. Если у кого-то из них окажется некая редкая мутация, то в новой восстановившейся популяции эта мутация будет гораздо более распространена, чем в человеческой расе вообще. Такая относительно высокая частотность редкой мутации, наблюдаемая в некоторой разросшейся популяции, и называется эффектом основателя, а под основателем здесь понимается тот самый первый носитель редкой мутации.
Нейл Риш, ныне работающий в Калифорнийском университете в Сан-Франциско, недавно пришел к выводу, что четыре сфинголипидных расстройства, вероятнее всего, распространились среди ашкеназских евреев именно из-за эффекта основателя. Риш отмечает, что эти болезни имеют общие черты с другими менделевскими болезнями ашкенази: например, они появились совсем недавно, в последние 1100 лет. Из этого явствует, что все менделевские болезни появились в популяции после какого-то одного толчка, и этим толчком, рассуждает Риш, мог быть только эффект основателя, потому что естественный отбор не смог бы закрепить такое разнообразие мутаций{336}.
К такому же заключению пришел Монтгомери Слаткин из Калифорнийского университета в Беркли{337}. Он рассчитал, что если в истории евреев было две демографические ямы – в 70 г. после разрушения Храма и вскоре после 1100 г., – эффект основателя, вызванный этими двумя провалами, мог бы объяснить, как поврежденные гены ашкенази столь широко распространились. Слаткин не исключает действие естественного отбора, но, поскольку эффект основателя был возможен, он, по мнению Слаткина, будет более рациональным объяснением.
Вместе с тем недавно двое ученых из Университета Юты, генетик и врач Грегори Кокран и антрополог Генри Харпендинг, представили новую, обоснованную теорию о том, что мутации закрепил естественный отбор, а его «целью» было именно развитие когнитивной способности{338}. Кокран и Харпендинг соглашаются с Ришем, что был единый толчок к возникновению менделевских болезней у ашкенази. Но называют причиной их закрепления не эффект основателя, а естественный отбор, поскольку разбирая другие, не связанные с болезнями гены ашкенази, Кокран и Харпендинг не обнаружили никаких следов падения численности популяции, необходимого для возникновения эффекта основателя по Ришу. Также нет никаких четких исторических свидетельств о том, что популяция ашкенази когда-либо падала в числе до того порога, за которым проявляется эффект основателя.
Доказывая, что за распространением ашкеназских мутаций стоит именно естественный отбор, Кокран и Харпендинг далее исключают возможность того, что инструментом отбора была болезнь. Ашкенази, отмечают ученые, жили в тех же городах, что и принявшие их народы, и страдали от тех же самых болезней, однако у европейцев ашкеназского набора мутаций не появилось.
Между европейцами и ашкенази была другая существенная разница, пишут Кокран и Харпендинг, и она состоит в том ограниченном и особенном круге занятий, к которым христиане допустили иудеев.
Происхождение ашкеназских евреев неясно, но они появились в северной Франции вскоре после 900 г. Большинство из них к 1100 г. были ростовщиками, потому что католическая вера запрещала давать деньги в рост, и так продолжалось несколько веков. Ростовщичество требовало недюжинных умственных способностей, потому что индийские цифры, используемые сегодня, а главное – понятие нуля, Европа широко освоила только к концу XV в. Высчитать проценты от суммы, не используя нуля, – не такая уж простая арифметика.
Изгонять евреев из христианских стран начали после Первого крестового похода, объявленного в 1095 г. В 1290 г. их вытеснили из Англии, в 1394 г. – из Франции, из германских княжеств – в XV в. Многие переехали в Польшу, где сначала жили ростовщичеством, а затем стали исполнять управленческие функции при польской аристократии, например обслуживать откуп налогов (система, при которой аристократ уплачивает налог сюзерену, а затем с лихвой возмещает убыток сборами с крестьян). Для еврейских семей, вынужденных часто переезжать и начинать на пустом месте, постоянное давление среды заключалось в необходимости выживать и находить способы быть полезными для непредсказуемых соседей-хозяев. «Приблизительно с 800 г. и по 1650 или 1700 г. ашкеназские евреи в большинстве своем занимались финансовыми и управленческими профессиями, решая задачи высокой сложности, и не были ни крестьянами, ни ремесленниками. Этим они отличались от всех остальных известных нам оседлых народов», – пишут Кокран и соавторы.
Запреты на виды деятельности для евреев в Европе исчезли около 1700 г., с чем и окончился девятивековой период, в течение которого большинство ашкенази было вынуждено добывать пропитание занятиями, требующими особых умственных способностей. Опираясь на то, что известно науке о наследовании интеллектуальных особенностей, группа Кокрана заключила, что уже через 500 лет когнитивный аппарат ашкенази мог ощутимо усилиться.
Авторы приводят данные в пользу того, что сфинголипидные мутации способствуют росту нейронов и развитию нейронных связей и даже устраняют естественные ограничения этого роста. Группа Кокрана считает, что все патогенные мутации у ашкенази посредством не известных пока науке механизмов способствовали развитию дополнительных интеллектуальных возможностей, которые требовались ашкенази для выживания.
В итоге, считают ученые, средний IQ у ашкенази составляет 115 – на одно среднее отклонение больше, чем у жителей Северной Европы, хотя по некоторым замерам превышение выходит лишь на половину стандартного отклонения. Это самый высокий средний IQ из всех этнических групп, по которым есть данные. Подобное преимущество, возможно, не особенно сказывается на среднем уровне, где располагается большинство людей, но обеспечивает заметную фору при сравнении пиковых показателей. В Северной Европе на тысячу человек приходится четверо с IQ выше 140, а у ашкенази таких 23 на тысячу – в шесть раз больше.
Может быть, этим объясняется и то, что в США ашкенази составляют лишь 3 % населения, но к ним принадлежат 27 % американских нобелевских лауреатов. Более половины чемпионов мира по шахматам тоже ашкенази.
«Евреи и полуевреи, составляющие около 0,2 % населения планеты, получили 155 Нобелевских премий в разных областях, в том числе 117 по физике, химии и медицине», – пишет антрополог Мелвин Коннер{339}. Еврейский фольклор утверждает, что интеллект воспитывался не родом занятий, а тем, что самые умные дети отбирались и готовились в раввины. Раввины могли иметь много детей, потому что были желанными мужьями для девушек из богатых семей. «Талмудические школы служили системой отбора, – пишет Коннер. – Что бы мы ни думали о содержании иудейского образования, сам процесс в течение тысячелетия отбирал лучшие умы каждого поколения. Восходящие звезды из числа этих одаренных молодых людей были вхожи в дома богатых коммерсантов, что заканчивалось нередко брачным сговором между молодым человеком и дочерью коммерсанта».
Однако Кокран отказывается от этой версии, замечая, что раввинов было слишком мало – они составляли всего 1 % от популяции, – чтобы оформились заметные генетические последствия.
Далее, доказывая свой тезис, группа Кокрана ссылается на пример двух других основных еврейских субэтносов – сефардов и мизрахов, – живших преимущественно под властью мусульманских монархов, которые нередко вынуждали евреев заниматься только черной работой. По данным IQ-тестов, сефарды и мизрахи ничуть не превосходят североевропейцев, что и должно следовать из тезиса группы Кокрана.
Сфинголипидные или ДНК-репарационные мутации есть примерно у 15 % ашкенази, 60 % из них отмечены мутациями тех или иных генетических заболеваний (эти мутации по большей части опасны лишь тогда, когда человек наследует поврежденные гены от обоих родителей, а некоторые просто «не полностью пенетрантные», как говорят генетики, т. е. обладание мутацией не обязательно вызывает патологию).
Группа Кокрана взяла два хорошо известных феномена – необычное распространение менделевских болезней среди ашкеназских евреев и замечательные интеллектуальные достижения этого народа – и попыталась установить между ними связь. «Это, безусловно, добросовестная и хорошо аргументированная статья», – замечает гарвардский психолог Стивен Пинкер. Хотя некоторые моменты рассуждения выходят за пределы строго научного дискурса (авторы полагают, что интеллектуальные способности наследуются, а тесты на IQ – надежный показатель умственного развития), его достоинство в том, что он позволяет сделать четкий и проверяемый прогноз: люди, обладающие какой-то из ашкеназских мутаций, должны показывать результаты IQ выше среднего. На момент написания этих строк таких экспериментов не проводилось.
Несмотря на существование генетических болезней, которые можно было бы назвать еврейскими, в широком контексте евреи, несомненно, практически не отличаются от других народов из западно-евразийской или европеоидной ветви человечества. История их оформления в особое сообщество схожа с историей исландцев. Как евреи представляют собой смесь одной ближневосточной этнической группы с другими различными народами Ближнего Востока и Европы, так исландцев, по-видимому, следует считать сплавом двух европеоидных народов – норвежцев и кельтов. И евреи, и исландцы придерживались эндогамии, составляющей необходимое условие для сохранения генофонда в изоляции: первые по религиозным причинам, вторые по географическим. Исландцы сохраняли генетическую обособленность в течение 1000 лет, но и поныне так похожи на других европейцев, что могут служить опытным материалом для выявления европейских генов болезней; евреи жили в изоляции на 2000 лет больше.
ДНК и тайная семья Томаса Джефферсона
Ведущие американские историки долгие годы отрицали одно скандальное обстоятельство, четко подтвержденное историческими данными, а именно, что третий президент Соединенных Штатов Томас Джефферсон жил с черной рабыней Салли Хемингс и имел от нее детей.
Вот некоторые факты, которым историки Джефферсона находят причины не верить.
«Широко известно, – писал 1 сентября 1802 г., во второй год первого президентства Джефферсона, репортер Джеймс Т. Коллендер, – что человек, которого народ отличает почестью, имеет, и уже много лет, любовницей одну из своих рабынь. Ее имя Салли. Ее старшего сына зовут Том. Говорят, что чертами он, хотя темный, безошибочно напоминает самого президента».
В 1873 г. сын Салли Хемингс Мэдисон подробно описал свою биографию в одной из газет. Он рассказал, как его мать в 13-летнем возрасте послали в Париж, где Джефферсон, тогда вдовец, служил послом. Салли должна была прислуживать Марии, одной из дочерей Джефферсона.
«Они (моя мать и Мария) прожили там примерно полтора года, – рассказывал Мэдисон Хемингс. – Но за это время моя мать стала любовницей мистера Джефферсона и, когда его отозвали на родину, она была уже беременна от него. Он намеревался вернуться в Виргинию вместе с Салли, но та не хотела. Она только более-менее освоила французский язык, к тому же во Франции она была свободной, а дома в Виргинии снова стала бы рабыней. И она отказалась возвращаться. Чтобы убедить ее, Джефферсон обещал Салли небывалые привилегии и торжественно поклялся, что ее дети по достижении возраста 21 года получат свободу. После этих обещаний, на которые она молчаливо положилась, Салли вернулась с Джефферсоном в США. Вскоре по возвращении Салли родила ребенка, отцом которого был Томас Джефферсон. Но этот ребенок прожил недолго. Затем Салли родила еще четверых, и все были от Джефферсона. Их звали Беверли, Хэрриэт, Мэдисон (это я) и Эстон – три сына и дочь. Мы все получили свободу, согласно договору, заключенному родителями до нашего рождения».
Трудно представить, чтобы 68-летний плотник из Огайо Мэдисон Хемингс, случайно встретившись с журналистом, придумал столь детализированную и душещипательную легенду. Многие подробности рассказа вполне можно было проверить. Джефферсон редко освобождал своих рабов, но освободил всех детей Салли. Историк Уинтроп Джордан из Университета Миссисипи в 1968 г. установил, что Джефферсон при всех его частых отлучках из Монтичелло присутствовал в резиденции в периоды зачатия всех известных историкам детей Салли Хемингс.
Однако, кроме Джордана, который заключил, что связь между Джефферсоном и Салли Хемингс вполне могла быть, длинная череда историков и биографов Джефферсона не признавали рассказ Мэдисона Хемингса правдивым. Меррил Петерсон, первый историк, проверивший его, заключил, что воспоминания Мэдисона «замечательно точно совпадают с тем, что известно историкам о домашней жизни Джефферсона и о рабах из Моничелло». Однако главное заявление Мэдисона – о том, что Джефферсон его отец – Петерсон предпочел отбросить, на том неубедительном основании, что врагам Джефферсона на руку, чтобы история Мэдисона была правдой, и значит, на самом деле она лжива. Связь Джефферсона и Салли Хемингс – это легенда, писал Петерсон, подпираемая ненавистью федералистов, британской пропагандой. «Есть море свидетельств о домашней жизни Джефферсона, опровергающих эту легенду», – заверил историк своих читателей в 1960 г.{340}.
Треть века спустя такую же позицию занял историк Джозеф Эллис. Он высмеял историю Мэдисона Хемингса как «скандальную сплетню». Биографы Джефферсона не желают знать, что могло быть в той банке: они хотят только отшвырнуть ее как можно дальше. «В среде специалистов по Джефферсону, в общем, есть четкое понимание, что эта история практически наверняка вымысел, – писал Эллис в 1996 г. – После пятилетнего осмысления того гигантского объема данных, которые у нас есть о взглядах и характере исторического Джефферсона, я пришел к выводу, что вероятность любовной связи президента и Салли Хемингс ничтожна»{341}.
Анализ Y-хромосомы семьи Томаса Джефферсона, проведенный Юджином Фостером и Крисом Тайлер-Смитом, показал, что Эстон Хемингс, сын рабыни Салли Хемингс, обладал той же самой Y-хромосомой, что и мужские родственники Джефферсона, и значит, с высокой вероятностью приходился Джефферсону сыном.
На определенных участках хромосом, как на участке ATATAT, короткие блоки повторяются несколько раз. Число повторов довольно часто колеблется со сменой поколений, и потому может служить для определения разных родословных линий. В данном случае для идентификации разных Y-хромосом использовались повторы на 11 участках. Естественный сдвиг в числе повторов на 9-м участке происходит в самом правом из потомков Филда Джефферсона.
У Эстона Хемингса те же 11 повторов, что и у потомков Филда Джефферсона, то есть вероятно Эстон приобрел свою Y-хромосому от кого-то из семейства Джефферсонов, и этим человеком, если принять во внимание исторические данные, был практически несомненно Томас Джефферсон, третий президент США. Это открытие – серьезное подтверждение слухов, ходивших при жизни Джефферсона о том, что у него есть непризнанные дети от любовницы-рабыни Салли Хемингс.
Источник: M.A. Jobling et al: Human Evolutionary Genetics, Garland Publishing 2004.В среде специалистов по Джефферсону гораздо больше по вкусу пришлась история, созданная семьей Джефферсона для спасения его репутации. Двое из внуков Джефферсона распустили слух, будто отцами светлокожих рабов в Монтичелло были племянники президента Питер и Сэмюэль Карры. Это сыновья сестры Томаса Джефферсона, и так можно было объяснить, отчего молодые рабы похожи на президента.
Эта версия вполне могла бы укрепиться как общепринятый и незыблемый факт, если бы на тщательно ухоженную поляну историков не ступила пара энтузиастов-дилетантов. Чернокожая юристка Аннет Гордон-Рид рассмотрела те же данные, которыми манипулируют историки, но пришла к противоположному выводу. Любовная связь между президентом и Салли Хемингс, утверждает она, скорее всего, имела место, хотя доказать это невозможно. У Аннет Гордон-Рид не было в руках никаких генетических данных, она просто проанализировала имеющиеся факты более умело, чем когорта профессиональных историков.
Вторым дилетантом-посторонним был Юджин Фостер, патологоанатом{342}, недавно уволившийся из Университета Тафтса и перешедший в Университет Виргинии в Шарлоттсвиле. Фостер прежде не интересовался историей Джефферсона, однако Шарлоттсвиль – это графство Джефферсона, и однажды приятель спросил Фостера, может ли генотипоскопия прояснить историю Салли Хемингс. Фостер решил, что это невозможно – экспертиза ДНК способна идентифицировать личность и установить отцовство, но не в далеком прошлом: препятствует рекомбинация фрагментов генов, происходящая при смене поколений. Но позже Фостер узнал об исследованиях Y-хромосомы, которая передается от отца к сыну без изменений, не считая модификации самых крайних участков, и понял, что она может дать ответ.
Нужен был образец Y-хромосомы Томаса Джефферсона. К сожалению, третий президент США не оставил мужского потомства, однако его дядя по отцу Филд Джефферсон обладал той же самой Y-хромосомой при условии, если в мужской линии Джефферсонов не было детей, рожденных от внебрачной связи. С помощью биографа семьи Джефферсонов Герберта Барджера Фостер обнаружил пятерых мужских потомков Филда Джефферсона и разослал им письма с объяснением своего замысла и с просьбой сдать кровь для ДНК-анализа.
Далее нужен был образец Y-хромосомы братьев Карр, главных, в глазах историков и семьи, подозреваемых. Фостер собрал образцы у трех потомков Джона Карра, деда Питера и Сэмюэля.
Из потомков Салли Хемингс Фостер взял кровь у мужчины из линии Эстона, младшего сына Салли, рожденного в 1808 г. и, по слухам, очень похожего на Томаса Джефферсона.
Кроме того, Фостер собрал образцы крови у пяти потомков по мужской линии Томаса Вудсона. В давно разделившихся ветвях рода Томаса Вудсона живет стойкое поверье, что Томас родился от президента Джефферсона, который еще мальчиком услал его из Монтичелло. Помимо заявления Джемса Коллендера было еще одно упоминание ребенка по имени Том, рожденного рабыней от президента Джефферсона, но нет никаких документальных подтверждений тому, что Том Вудсон когда-либо находился в Монтичелло; не называет его в числе детей Салли и Мэдисон Хемингс.
Фостер отдал образцы биологического материала в лабораторию оксфордского специалиста по Y-хромосоме Криса Тайлер-Смита и получил следующие результаты:
• Все 5 потомков Филда Джефферсона по мужской линии, как оказалось, имеют в Y-хромосоме одинаковый характерный набор маркеров, и, весьма вероятно, такой же набор был и у третьего президента США.
• Все 5 потомков Томаса Вудсона по мужской линии имеют неджефферсоновскую Y-хромосому, и, значит, Томас Вудсон не мог быть сыном Джефферсона.
• Все три потомка Карра имеют одну и ту же Y-хромосому, из чего следует, что это оригинальная Y-хромосома линии Карров.
• Y-хромосома потомков Эстона Хемингса точно соответствует Y-хромосоме семьи Джефферсонов и отличается от Y-хромосомы Карров.
«Простейшие и самое вероятное объяснение наших находок, – пишут Фостер с соавторами, – таково, что Томас Джефферсон, а не один из братьев Карр, был отцом Эстона Хемингса, а Томас Вудсон не приходился Томасу Джефферсону сыном».
Нельзя исключить возможность, что Эстона зачал не Томас, но кто-то из его мужских родственников, добавляют авторы. «Но в отсутствие исторических свидетельств в пользу такого варианта мы считаем его маловероятным»{343}.
Сама по себе генотипоскопия не может окончательно доказать, что Томас Джефферсон имел детей от Салли Хемингс. Однако, если два совершенно независимых анализа определенно диктуют один и тот же вывод, это уже весомое доказательство. Историк Джозеф Эллис согласен с этим и, к его чести, признал свою ошибку. «Новые свидетельства убедили меня: я заблуждался, и считаю своим моральным и профессиональным долгом об этом объявить», – говорит он{344}.
Герберт Барджер, историк, помогавший Фостеру, не обрадовался итогам работы. Он не признал выводы Фостера и предположил, как до него внуки Томаса Джефферсона, что отцом Эстона был кто-то другой из мужской части Джефферсонов. Но ни об одном из этих подставных кандидатов нельзя утверждать, что он находился в Монтичелло в моменты всех зачатий Салли Хемингс, а о самом Джефферсоне это точно известно.
Между Джефферсоном и Салли Хемингс была странная, своеобразная связь, возможная только в разделенном мире свободных и рабов. Портретов Салли не сохранилось, но, возможно, она была похожа на любимую жену Джефферсона Марту, ведь они приходилось друг другу единокровными сестрами. Марта и Салли были дочерьми Джона Уэйлза, Марта – от его жены Марты Эппс, Салли – от рабыни Элизабет Хемингс, которая стала Уэйлзу любовницей, когда он овдовел.
Чувства Джефферсона к Салли нам просто неизвестны. В переписке он упоминает о ней лишь один раз. В Монтичелло белая семья Джефферсона и не признаваемая черная жили бок о бок, но, похоже, даже дома президент не оказывал никакого особого внимания детям Салли. Мэдисон, по его воспоминаниям, учился читать, «уговаривая белых детей показать буквы и объяснить что как». Что касается Джефферсона, «у него не было привычки выказывать нам, детям, привязанность или отеческую заботу. Мы были всего-навсего детьми рабыни».
Есть тайны, которые даже генетика разгадать не в силах.
12. Эволюция
Основное заключение, к которому приводит это сочинение, что человек произошел от какой-то низко организованной формы, покажется многим крайне неприятным. Но едва ли можно усомниться в том, что мы произошли от дикарей. Удивление, которым я был охвачен, увидев в первый раз кучку туземцев Огненной Земли на диком, каменистом берегу, никогда не изгладится из моей памяти, потому что в эту минуту мне сразу пришла в голову мысль: вот каковы были наши предки. Эти люди были совершенно обнажены и грубо раскрашены; длинные волосы их были всклокочены, рот покрыт пеной, на лицах их выражались свирепость, удивление и недоверие. Они не знали почти никаких искусств и, подобно диким животным, жили добычей, которую могли поймать; у них не было никакого правления, и они были беспощадны ко всякому, не принадлежавшему к их маленькому племени.
Человеку можно простить, если он чувствует некоторую гордость при мысли, что он поднялся, хотя и не собственными усилиями, на высшую ступень эволюционной лестницы; и то, что он на нее поднялся, может внушать ему надежду на еще лучшую участь в отдаленном будущем. Но нас интересуют не надежды или опасения, а истина, насколько наш ум позволяет ее обнаружить, и я старался по мере моих сил привести доказательства в ее пользу. Мы должны, однако, признать, что человек со всеми его благородными качествами, сочувствием, которое он распространяет и на самых отверженных, доброжелательством, которое он простирает не только на других людей, но и на последних из живых существ, с его божественным умом, который постиг движение и устройство Солнечной системы, человек со всеми его высокими способностями – тем не менее носит в своем физическом строении неизгладимую печать своего низкого происхождения.
Чарльз Дарвин. Происхождение человека и половой отборОглянемся на 5 млн лет, прошедших с того момента, когда человек отделился от обезьян. Новые возможности генетики открыли нам множество деталей этой давней истории, более чем подтверждающих великое открытие, о котором Дарвин заговорил в «Происхождении видов» (1859) и которое развернуто изложил в «Происхождении человека» (1871). Человек – лишь одна из бесчисленных ветвей на древе жизни, он подчиняется тем же фундаментальным генетическим законам, что и все живое на земле, и его так же формируют механизмы эволюции. Такова истина, насколько наш разум позволяет ее видеть. Любые иные концепции происхождения человека, сколь бы долго они ни служили религиозной догмой и сколь бы широко в них ни верили по сей день, – это миф.
Прозрение Дарвина тем более удивительно, что в его время наука еще ничего не знала о генах, не говоря уже про ДНК, химическом сценарии, в котором содержатся все генетические инструкции. Только в 1953 г. ученые поняли, что ДНК – это наследственный материал, и лишь в 2003 г. был полностью расшифрован человеческий геном.
Зная его набор, ученые могут приступить к отслеживанию тончайших взаимодействий того великого процесса, который Дарвин мог видеть лишь в общих чертах. Картина еще далеко не полна. Но, как мы рассказываем в этой книге, обширный массив данных уже проступил из темноты. Наука понимает, как формировался облик человека, шаг за шагом отдаляясь от анатомии обезьяноподобного пращура. Человеческое поведение, идет ли речь о поиске репродуктивного преимущества или о защите территории, показывает явную преемственность с поведением обезьян. Однако в нем появилось и своеобразие, начало которому дали два поворотных момента в эволюции человека: формирование устойчивых брачных союзов-пар, произошедшее около 1,7 млн лет назад, и появление 50 000 лет назад языка. Язык – новая эволюционная возможность, позволившая индивидам с помощью знаков обмениваться последовательностями точных смыслов, – вывел человечество на новый уровень социального взаимодействия. В ранних человеческих сообществах сложились институты, которые поныне определяют жизнь даже самых крупных и сложных городских цивилизаций. К этим институтам относятся военное дело, взаимность и альтруизм, обмен и торговля, религия. Все эти явления в зачаточном виде прослеживаются уже у охотников и собирателей позднего палеолита. Однако потребовался еще один эволюционный шаг: снижение внутривидовой агрессии и, возможно, формирование новых когнитивных способностей, чтобы 15 000 лет назад возникли первые оседлые поселения, и уже в условиях оседлого образа жизни военное дело, торговля и религия вышли на новый уровень сложности и эффективности.
Человеческая природа – это резвившийся в человеческом геноме набор форм адаптивного поведения для жизни в условиях современного общества. Люди усвоили и способны инстинктивно задействовать поведенческие схемы, нужные для войны, для торговли и общения, для помощи ближнему, даже не родному, для распознания чужаков и мошенников и для отказа от части собственной независимости ради принятой в сообществе религии.
Человеческий геном рассказывает о нашем происхождении, о нашей истории и природе, но многое в этой повести людям не нравится. «Человеческий разум запрограммирован эволюцией верить в бога. Он не запрограммирован верить в биологию», – пишет Эдвард О. Уилсон{345}. Религия – не единственная область, где эволюция наделила нас противоречивыми воззрениями. Генетика, вероятно, может еще более подробно объяснить, чем отличаются друг от друга отдельные индивидуумы, где и как расходятся интересы и возможности мужчин и женщин, в чем своеобразие рас. Возможно, придет час, и исследователи генома откроют, что многие наши особенности, от брачного поведения до черт характера, диктуются генетически сформированными нейронными структурами, и поставят под сомнение свободу воли. Но сколь бы неприятными ни были для нас эти открытия, отступаться от научного поиска – значит, пятиться во тьму.
Одна из самых неудобных посылок дарвиновской теории в том, что человек – это случайный продукт действия слепых и стихийных процессов. В сравнении с ближайшей родней, шимпанзе, мы кажемся значительно более развитыми, как будто созданными для высокого назначения. Но это иллюзия, создать которую помогли наши воинственные пращуры, истребившие все прочие виды человека. Чем больше мы узнаем о шимпанзе, тем более очевидной становится наша к ним близость. Мы вылеплены из одной глины – генофонда нашего общего предка. Около 99 % последовательности ДНК шимпанзе практически точно соответствует человеческой{346}. У шимпанзе развитый интеллект, они умеют сопереживать, изготавливают разные инструменты и ведут сложную общественную жизнь. Однако по воле случая и обстоятельств наши тропы в поле эволюции разошлись. Наверное, путь шимпанзе не требовал больших перемен, а вот предки человека, выйдя из-под сени леса, так значительно изменились, потому что жизнь непрерывно требовала обновляться.
Неустанный поиск новых решений вызвал к жизни не один вид, а целую серию архантропов. По меньшей мере три – неандерталец, человек прямоходящий и человек флоресский – еще жили на земле, когда прародители человечества покинули Африку. Если бы эти архаичные виды просуществовали до наших дней, то и наш вид не казался бы столь уникальным, и всем было бы ясно, что мы лишь один из многих вариантов, в каких эволюция модифицировала базовую линию высших приматов.
Если же для производства новых биологических видов эволюция прибегает к механизмам, действующим без всякого порядка, следует ли считать существование человечества следствием длинной цепи случайных событий? В процитированном выше фрагменте, которым завершается «Происхождение человека», Дарвин дает ответ – да, но с одной оговоркой. Человек поднялся на вершину лестницы организмов, говорит Дарвин, «но не собственными усилиями». Однако «определенную гордость» за этот успех можно оправдать. Но почему так, если человек не тратил никаких усилий? Упомянутые человеческая способность к сочувствию, великодушие и интеллект, очевидно, и есть ответ Дарвина, и, пожалуй, мы наконец, начали понимать, что он имел в виду.
Хотя эволюция, осуществляемая путем естественного отбора, зависит от стихийных процессов – мутаций и дрейфа генов, – ее направление задает среда, в которой биологическим видам приходится выживать. Притом у общественных животных важнейшей составляющей среды обитания служит их общественное устройство. И значит, насколько люди организовали свое общество, настолько они определили векторы собственной эволюции.
Природа этого взаимодействия культуры и эволюции еще не ясна: оно лишь недавно исследуется. Историки, археологи, обществоведы долгое время считали, что эволюция человека завершилась еще в далеком прошлом, видимо, еще до того, как возникли какие-либо культуры, и что никаких эволюционных изменений, кроме, разве что, совсем ничтожных, человек не претерпевал последние 50 000 или около того лет. Даже эволюционные психологи, последовательно объясняющие наш разум с точки зрения того, к чему ему готовила эволюция, считают, что работа эволюции окончилась еще в досельскохозяйственную эпоху, более 10 000 лет назад{347}.
Однако данные, сегодня получаемые из человеческого генома, показывают, что эволюция человека продолжается все последние 50 000 лет. Недавнее прошлое человечества – особенно после появления первых оседлых поселений, возникших 15 000 лет назад, – это время, когда человеческое общество необычайно усложнялось, создавались новые экологические ниши и факторы эволюционного давления. До сих пор считалось, что геном человека «закрепился» и не мог отвечать на это давление. Сейчас стало ясно, что все наоборот. Человеческий геном все время активно развивался. И значит, мог приспосабливаться и приспосабливался к трансформациям общества. Следовательно, люди могли в различных аспектах, позитивных и негативных, приспосабливаться к типу общественного устройства, в котором жили.
Далее мы приведем свидетельства того, что эволюция ныне активно и эффективно действует в человеческой популяции, краткий обзор выводов и некоторые догадки о том, в каком направлении она может двинуться в будущем.
Эволюция в недавнем прошлом
В упрощенном виде процесс эволюции – это просто изменение частотности генов в следующих друг за другом поколениях: иначе говоря, какая-то версия гена становится в популяции более распространенной, частота остальных падает{348}. Вместе с тем может потребоваться много поколений, чтобы сдвиг в частотности стал заметен или чтобы одна версия гена окончательно вытеснила все альтернативные. То мнение, что эволюция завершилась, опирается на предположительную оценку ее скорости: никакие заметные перемены в недавнее время, скажем в последние 50 000 лет, просто не успели бы произойти.
Но геном человека, как любого другого биологического вида, способен очень быстро реагировать на изменения внешней среды. Будь это иначе, человек давным-давно бы исчез с лица земли. Сегодня уже очевидны по меньшей мере четыре типа недавних эволюционных трансформаций; несомненно, обнаружатся и многие другие. Свежие генетические изменения, замеченные учеными, включают в себя защиту от болезней, увеличение детородного возраста, ответ на культурные сдвиги, влияющие на условия жизни, модуляции в когнитивном поведении.
Болезни и паразиты – одна из самых больших опасностей, подстерегающих крупных животных, и мало есть болезней, угрожавших самому существованию человека больше, чем малярия. Хотя возбудитель малярии – организм весьма древний, сама болезнь стала распространяться среди людей, как считается, только в последние 10 000 лет, а возможно, лишь в последние 5000 лет, когда в Западной Африке распространилась система подсечно-огневого земледелия. Согретые солнцем лужи на просеках – идеальное место для размножения комаров, переносчиков малярийного плазмодия.
Столкнувшись с такой внезапной и грозной опасностью, как малярийный комар, естественный отбор закрепил бы любые спасительные мутации, какие только обозначились бы. Некоторые заболевания крови, такие как серповидноклеточная анемия, появились вследствие модификаций гемоглобина, обеспечивших защиту от малярии. Другой естественный способ защиты от паразита крови: недостаточность фермента G6PD (глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа), запускающего цепь реакций, обслуживающих обмен глюкозы. Вариации гена, резко снижающие эффективность фермента, дают волшебную защиту от малярийного паразита, но попутно вызывают серьезную патологию крови.
У гена G6PD есть два основных варианта, которые, похоже, возникли независимо друг от друга. Один распространен в Африке, другой – у средиземноморских народов. Сара Тишкофф из Университета Мэриленда установила возраст обоих аллелей. Примененный ею статистический метод дает большой разброс возможных дат, но эти даты вполне согласуются с той концепцией, что человеческий геном лишь недавно разработал сопротивляемость малярии. По расчетам Тишкофф, африканский вариант гена G6PD возник где-то между 4000 и 12 000 лет назад. Средиземноморский начал распространяться между 2000 и 7000 лет назад{349}.
И еще более поздний защитный механизм против болезни сформировался примерно 1300 лет назад у населения Северной Европы. Защиту обеспечивает модификация белка, называемого рецептором CCR5, который участвует в строительстве оболочки белых кровяных клеток. Аллель этого гена, CCR5-дельта-32, именованный так потому, что он утратил 32 единицы ДНК, встречается у 14 % шведов, у средиземноморских народов его частотность падает до 5 %, а у неевропейских он не встречается или крайне редок{350}. Своим внезапным восхождением он, вероятно, обязан каким-то серьезным эпидемиям, опустошавшим Европу в те дни.
Обнаружили этот аллель благодаря тому, что он дает защиту от СПИДа. Но СПИД слишком недавно возникшая угроза, чтобы встречаемость аллеля CCR5-дельта-32 достигла среди европейцев такой частоты. Сначала ученые решили, что стимулом был великий чумной мор, унесший в период с 1346 по 1352 г. от 25 до 40 % европейского населения и затем еще 15–20 % в 1665–1666 гг. Сегодня, однако, более вероятным кажется, что механизмом отбора была оспа, в долгосрочной перспективе убившая больше народу, хотя и не столь впечатляющим образом{351}. Надо полагать, утрата 32 единиц гена изменила структуру белка, сквозь который вирусы СПИДа и оспы проникали в клетку.
Болезни, особенно те, что убивают людей, не достигших репродуктивного возраста, – мощное орудие отбора. То же можно сказать о генах, влияющих на детородную способность. У европейских народов отмечено широкое распространение генной модификации, способствующей фертильности. Эта модификация редко встречается у африканцев, но обладает признаками, указывающими на интенсивный ее отбор в Европе, как будто ее провоцируют европейские условия обитания. Модификация затрагивает крупный участок 17-й хромосомы длиной примерно 900 000 единиц ДНК: он инвертируется, то есть переворачивается. Этот «перевертыш» несет несколько генов, но неясно, какие из них способствуют повышению фертильности{352}. Очевидно, эта аномалия распространилась среди европейцев после исхода из Африки и, возможно, в последние 10 000 лет.
С точки зрения историка, самый интересный тип эволюционных перемен – те, которые произошли под влиянием культуры. Когда люди 15 000 лет назад стали отходить от охотничье-собирательского образа жизни, у них резко убыла нужда в двух типах генов: в обонятельных генах, что обеспечивали восприятие запахов, и в генах, которые помогали печени обезвреживать природные токсины, которыми растения защищаются от поедания. Если ген жизненно важен для организма, любая мутация в нем будет убийственна, и модифицированная версия гена не удержится в популяции. Но, когда мутации возникают в генах, которые больше не важны, гены могут сохраниться, хотя утратят прежние функции.
Такова и была судьба человеческих обонятельных генов. У млекопитающих стандартный комплект этих генов состоит примерно из 1000 единиц. Белки, производимые каждым из них, строят оболочку клеток, изнутри выстилающих нос и служащих для распознавания запахов. С тех пор, как люди стали жить оседло и сами выращивать себе еду, они больше не зависели от умения чуять, насколько зрелы плоды или какие из диких растений можно без опаски есть. Согласно эволюционному принципу «пользуйся-или-откажись», у людей более 60 % обонятельных генов сегодня неактивны. Группа ученых во главе с Иоавом Гиладом из Лейпцигского института эволюционной антропологии Общества Макса Планка обнаружила, что люди утрачивают гены обонятельных рецепторов в четыре раза быстрее, чем другие высшие приматы. «Этот процесс у людей, вероятно, еще продолжается», – резюмируют ученые{353}. Как бы огорчительна ни была эта новость для гурманов и энофилов, плата за приобщение к цивилизации включает в себя неизбежное притупление чувствительности к запахам.
Параллельно с отключением обонятельных генов человек утрачивает и те, что помогают связывать натуральные растительные яды. Ферменты, кодируемые этими генами, больше не используются по первоначальному назначению, но в современных сообществах приобрели новую неожиданную функцию: они помогают расщеплять лекарственные препараты. Однако это внеприродное использование случается достаточно нечасто, и многие гены от долгого неупотребления утрачиваются. (Этим объясняется широкое разнообразие реакций на препараты, в том числе серьезные побочные эффекты у некоторых людей или потребность в особой дозировке. У людей, утративших ген, ответственный за расщепление того или иного соединения, оно попадает в кровь в высокой концентрации, а у тех, кто пока не лишился этого гена, препарат быстро выводится из организма.)
После перехода к оседлости и зарождения земледелия начинается скотоводство. Переносимость лактозы, как мы уже говорили, – это ответ генофонда на доступность животного молока. Эта мутация появилась около 6000 лет назад среди скотоводов Северной Европы, а чуть позже – у пастушеских народов Африки и Ближнего Востока.
Ответом на развитие культуры были и два недавних эволюционных изменения в когнитивных способностях человека. Первое – гипотетическое появление генов, усиливающих интеллектуальные возможности у евреев-ашкеназов в средневековой Европе. Как мы отмечали в прошлой главе, гипотеза гласит: поскольку евреям девять веков разрешали заниматься только интеллектуальными профессиями, любые мутации, ослаблявшие ограничения на рост мозга, закреплялись, и это те самые мутации, которые известны ученым как причина различных генетических болезней среди людей ашкеназского происхождения.
Вторая когнитивная мутация – та, которую можно предположить за внезапным распространением определенных аллелей двух мозговых генов. Как описывается в главе 4, эти гены привлекли внимание ученых прежде всего тем, что их мутированные версии вызывают микроцефалию – отклонение в развитии, когда человек рождается с необыкновенно маленькой головой и мозгом. Новая версия гена микроцефалина появилась приблизительно 37 000 лет назад и под действием мощного селективного давления стала быстро распространяться, а сегодня ей отмечено большинство населения Европы и Восточной Азии{354}. Другой ген, модернизация ASPM, возник 6000 лет назад, и сегодня есть у 44 % европеоидов{355}. Ученые полагают, что при участии этих генов задается число нейронов, формирующихся в коре головного мозга на ранних стадиях эмбрионального развития. Скорое распространение этих двух аллелей доказывает, что человеческий мозг в недавнем прошлом подвергался интенсивной эволюционной «обработке» и, не исключено, подвергается и поныне.
Эти примеры недавних эволюционных модификаций человека, возможно, лишь первые из многих, которые предстоит открыть. Поскольку все они произошли после выхода из Африки и расселения по земле, аллели, вызвавшие их, в разных человеческих популяциях представлены в разной мере. Таким образом, разнообразие человеческих популяций не может быть исключительно культурным феноменом, как, похоже, считают многие представители общественных наук. В этом разнообразии есть и генетический компонент. Его еще предстоит определить и измерить, но он может оказаться весомым.
Эволюция в истории
Обращаясь к недавним примерам эволюционных трансформаций, мы ясно понимаем, что эволюция человека продолжалась по меньшей мере до самого недавнего прошлого и что нет никаких причин думать, будто она когда-нибудь прекратится. Отсюда следует очевидный, но далеко идущий вывод. Эволюция и история – не два раздельных процесса, сменяющих друг друга подобно монаршим династиям. Они, скорее, переплетаются, историческая периодизация накладывается сверху на бесконечную череду эволюционных перемен.
Дальнейшие следствия, несомненно, могут интересовать историков и обществоведов. Ученые ищут движущие пружины событий, но редко рассматривают в числе мотивов государственной политики половой отбор. Специалисты по Монгольской империи предлагали множество объяснений ее экспансии: например, предполагаемое стремление Чингисхана не позволить иным группам степных кочевников в будущем усилиться и выстроить империю по подобию монголов. Открывшееся обстоятельство, что 8 % азиатских мужчин на землях, где правил Чингисхан, носят Y-хромосому чингизидов, добавляет совсем иной мотив, притом весьма необычный.
Половой отбор – в упомянутом случае стремление одного мужского индивида распространить свои гены за счет ущемления других – был мощным инструментом эволюции всю историю приматов от шимпанзе до яномамо. Почти не меняясь, он работал и в более сложных сообществах, особенно в те эпохи, когда доступ к женщинам был одной из общепризнанных привилегий власти. Даже в современных западных обществах, где от правителей ожидается хотя бы показная моногамия, старые инстинкты не отмирают. Да, инстинкт продолжения рода, очевидно, не был заметной составляющей в стремлении к власти диктаторов типа Гитлера и Сталина. А вот Мао Цзэдун, как явствует из мемуаров его личного врача Ли Чжисуя, жил как император, имея виллы с бассейнами и постоянный поток девушек, поставляемых из танцевального ансамбля Центрального полка охраны. «Он был всего довольнее и счастливее, когда в его постели оказывались одновременно несколько молодых женщин», – без восторга сообщает нам биограф{356}.
Джон Кеннеди и Билл Клинтон заводили внебрачные связи на президентском посту. «Я не знаю ни одного руководителя государства, который не поддался бы так или иначе плотскому соблазну, большому или малому. Ведь затем-то вообще и нужна власть», – говорил Франсуа Миттеран, французский президент, на похоронах которого присутствовали и вдова, и любовница{357}. И все же тяга к репродуктивному успеху редко упоминается в истории как ее движущий мотив. Видно, мысль, что животное стремление продолжить род может направлять государственные дела, кажется историкам не вполне пристойной.
Мы видим, что некоторые физические особенности человеческого организма, например переносимость лактозы, сформировались уже в недавнее историческое время – значит, и многие другие черты, в том числе особенности социального поведения, могут быть продуктом недавней эволюции. Для того чтобы человеческий геном заметно изменился, нужны как минимум два условия: должно быть существенное селективное давление, непрерывно действующее в течение нескольких поколений, а люди, лучше других приспособившиеся к этому давлению, должны производить больше детей, чем прочие. Такие обстоятельства, скорее всего, наступали, в прошлом нередко, хотя сегодня их обнаружить трудно.
Даже эволюционные трансформации не обязательно закрепляются навсегда. Агрессивность яномамо, вероятно, во многом объясняется маргинальным характером среды, в которой многие из них живут. В условиях, когда воинственные мужчины имеют больше потомства, гены, поощряющие агрессивность, становятся все более частотными. Если яномамо вдруг на несколько поколений станут мирными торговцами, приоритет получит иной расклад генов. Свирепые викинги X в. стали сегодняшними пацифистами-скандинавами. Обычно здесь без вопросов принимается культурное объяснение, поскольку гены, будто бы, не могут меняться так быстро. Но ученые вполне могут недооценивать скорость действия естественного отбора в человеческих популяциях. Биологи только-только начали разбираться в генетических основах социального поведения и выявили около 30 программирующих его генов – преимущественно у разных видов лабораторных животных. Одна из самых интересных находок – генетический механизм, вызывающий быстрые эволюционные изменения в одном из поведенческих генов[13]{358}.
Возможное направление дальнейшего изучения: могут ли многовековые черты, свойственные разным сообществам, иметь эволюционные корни, например, если там в течение многих поколений носителям определенного склада личности гарантирован больший репродуктивный успех, чем всем остальным? Ученые рассуждают о разнице между обществами Запада и Востока. Ричард Е. Нисбетт, социопсихолог из Университета штата Мичиган, считает, что «существуют резкие различия в мыслительном процессе азиата и европейца», прежде всего в том, что для западного человека поведением физических объектов и живых организмов управляют точные законы, а в Азии люди понимают события через сложную паутину связей между ними. Общественные структуры в Европе и в Китае, по Нисбетту, создаются с учетом того, что азиатские социумы строятся на взаимных зависимостях, а западные – на индивидуализме{359}.
Другой ученый, военный историк Виктор Дэвис Хенсон, объясняет последовательную успешность западных армий, начиная с Древней Греции (2500 лет назад), демократическими институтами и тем, что свободные крестьяне охотно принимали строгую воинскую дисциплину, но сохраняли независимость и инициативу. «Западные идеи свободы, происходящие из раннеэллинистического понимания политики как консенсусного правления и из открытой экономики… лежали на чаше весов почти в каждой кампании, где сражались воины Запада», – пишет Хенсон{360}.
В той степени, в которой эти долговременные культурные черты на самом деле существуют, каково может быть их происхождение? Нисбетт упоминает о том, что китайская цивилизация выросла на возделывании риса, которое требует ирригационной инженерии и централизованного контроля, и поэтому простые китайцы жили в сложной системе общественных ограничений, а экология античной Греции поощряла такие занятия, как охота, скотоводство, рыбалка и торговля, которые не требуют развитой общественной структуры. Способствовало ли рисоводство конформизму, которым знамениты восточные культуры, а частное крестьянское хозяйство – крайнему индивидуализму Запада?
Учитывая склонность человеческого генома подстраиваться под среду обитания, в том числе под социальные условия, логично предположить, что многие общества оставили следы в генетике составляющих их людей и что характер того или иного общества отражает склад личности наиболее репродуктивно успешной его части. Возможно, именно это имел в виду Дарвин, говоря, что какую-то заслугу в своем эволюционном прогрессе люди могут приписать себе.
Насколько широко подобного рода процесс разворачивался в историческое время, мы пока не можем узнать. Вместе с тем новое знание о недавних эволюционных модификациях человека вызывает особый интерес, потому что наталкивает на вопрос, какое направление эволюция человека может принять в будущем. Как отмечал Дарвин, сам факт, что человек эволюционировал до своего нынешнего состояния, «может дать надежду и на лучшую судьбу в далеком будущем».
Будущие пути человеческой эволюции
Самый невероятный элемент в научно-фантастическом кино – не путешествия со сверхсветовой скоростью и не телепортация, а то, чего публика просто не замечает, – люди. Обитатели далекого будущего всегда выглядят и ведут себя точно так же, как сегодняшние мы.
О будущей эволюции человека мы можем точно сказать одно: он не останется таким, каков сейчас. Люди станут другими, потому что среда обитания изменится, и человечеству придется приспособиться или исчезнуть.
Будущее может быть разным. Возможно, человек продолжит грацилизироваться: наверное, сообщества, предпочитающие сотрудничество и торговлю, будут преобладать над теми, которые склонны к агрессии. Возможно, наши далекие потомки будут гораздо умнее нас, ведь им придется эволюционировать в условиях усложняющегося общества, которое будет требовать все более развитых интеллектуальных способностей. Возможно, люди станут более коренастыми, их руки и ноги укоротятся – это стандартный эволюционный механизм приспособления к холодному климату, который придет с неизбежным вступлением Земли в следующую ледниковую эпоху. Возможно, человечество возобновит видообразование, разделившись на две или более касты, занимающие разные социальные ниши. И если постоянные колонии когда-нибудь возникнут на Марсе или на Европе, у тех популяций будут свои эволюционные траектории: физиология и социальное поведение людей будут подчинены условиям их новой планеты.
Ученые еще не пришли к согласию относительно дальнейшей эволюции нашего вида. Рональд Фишер и Сьюэлл Райт, двое из основателей популяционной генетики, резко не сходятся в оценке условий, необходимых для эволюционного прогресса. Райт считает, что эволюция работает лучше всего, когда популяция разбита на небольшие независимые группы с ограниченным обменом генетическим материалом; инновации, возникающие в генофонде одной группы, могут затем распространиться и в другие. В то же время Фишер полагал, что благотворные модификации чаще происходят в крупных популяциях с высокой степенью смешения. «Кто из них прав? Никто не знает», – комментирует популяционный генетик из Университета Юты Алан Роджерс.
Строго говоря, под условия, описанные Райтом, отлично подпадает основной период недавней истории человечества ранее 10 000 лет назад: человеческий род представлял собой множество мелких групп, далеко разбросанных по земному шару. Но сегодняшний мир, где люди все больше перемещаются и мигрируют, больше похож на идеальные условия для эволюционных перемен по Фишеру. «Раньше ты находил невесту в своей деревне, – говорит эволюционный биолог из Редингского университета Марк Пейгл, – а теперь можешь жениться на любой, кого только найдешь через Интернет»{361}.
В главной работе Фишера «Генетическая теория естественного отбора», опубликованной в 1929 г., автор рассуждает о том, что гены хороших умственных способностей чаще встречаются у богатых людей, которые рожают меньше, чем бедные, не одаренные особыми когнитивным талантами: выходит, естественный отбор не поддерживает гены интеллекта. Этот аспект наследия Фишера не особенно обсуждают, так как он служил обоснованием бесчеловечных евгенических программ начала XX в. Но, по мнению ряда популяционных генетиков, этот тезис, в принципе, так и не был опровергнут: по крайней мере в развитых странах интеллектуально одаренные люди не склонны иметь много детей, и выходит, их гены не смогут получить широкого распространения в следующих поколениях. Другие ученые возражают, что бедные люди имеют тенденцию производить больше детей не по недостатку ума, а по необразованности. «Эмпирическое наблюдение Фишера верно: низшие классы рожают больше, но это не означает, что их генотипы хуже», – пишет Пейгл.
Объем мозга и умственные способности человека на большей части его эволюционного пути последовательно увеличивались, и было бы странно, если бы этот вектор сошел на нет теперь, когда и общества, и компетенции, необходимые для успеха в обществе, усложнились, как никогда. Тем более странно, чтобы люди, на всем протяжении эволюции проходившие отбор по критерию максимальной приспособленности, умению оставлять как можно больше потомства, вдруг да отказались от столь глубоко укорененного поведения. Нет никаких данных IQ-тестов, которые показывали бы, что когнитивные способности человека деградируют, как предсказывал Фишер. Следовательно, при всей очевидной верности его предпосылки – в современных обществах богатые и более умные, как правило, не рожают много – заключение Фишера о неизбежном интеллектуальном упадке, похоже, каким-то образом оказывается неверным.
Причина, предполагают эволюционные психологи, в том, что богатые люди могут больше вкладывать в детей – образование сильно влияет на будущий успех в жизни, – и таким образом они, даже сами рожая немного, в долгосрочной перспективе оставляют больше потомков. Подразумевается, что хорошо образованные и обеспеченные дети воспитают таких же, и это продолжится поколение за поколением, тогда как на определенном уровне бедности деторождение станет падать. Следовательно, на каком-то уровне благополучия лучший способ для родителей добиться максимальной дарвиновской приспособленности – это иметь меньше детей в расчете на численное превосходство в поколении праправнуков. Так ли это обстоит на практике, неизвестно. Изучать взаимосвязи между обеспеченностью и плодовитостью не просто, и демографических сведений, которые могли бы тут внести ясность, не хватает. «Тонкое и запутанное дело, – пишет эволюционный психолог Бобби Лоу, – а имеющиеся на сегодня данные по большей части собирались для ответов на другие вопросы и не годятся»{362}.
Один из аспектов, в которых дальнейшая эволюция человека будет отличаться от прошлой: в крупных популяциях заметно снизится эффект от дрейфа генов. Чем популяция многочисленнее, тем дольше одна версия гена будет вытеснять альтернативные. Поскольку дрейф – это главный механизм, обуздывающий разнообразие постоянных мутаций, человеческий геном будет накапливать нейтральные мутации и усложняться. Чрезмерное разнообразие генома, согласно теоретической модели, может в конце концов обернуться тем, что давать потомство смогут только люди с одинаковыми генотипами{363}. Тогда разные человеческие популяции не смогут смешиваться, как смешиваются сейчас, и людям придется искать брачных партнеров среди генетически подобных. Такое развитие событий может быть прологом разделения единого человечества на разные биологические виды.
Ослаблению дрейфа генов, снижающего число мутаций, до какой-то степени может помешать вмешательство самого человека, т. е. генная инженерия. Биологи, вероятно, скоро научатся модифицировать яйцеклетки и сперматозоиды или эмбрион на ранних сроках жизни, подсаживая корректирующие гены для выправления потенциальных дефектов здоровья. Новые гены, в промышленных масштабах вживляемые в человеческий геном вместо оригинальных, могут обеспечить тот же эффект усмирения мутаций, что сегодня дает дрейф.
С другой стороны, представьте себе генетические модификации посредством присадки целой серии новых генов, объединенных в дополнительную хромосому, которая добавляется в сперматозоид и яйцеклетку перед оплодотворением in vitro, которое через несколько десятилетий заменит отсталый и рискованный метод случайного зачатия.
В дополнительной хромосоме будет особая последовательность генов для нейтрализации генетических болезней, диагностированных у будущих родителей. Там будут гены, укрепляющие иммунную систему, защищающие от рака и борющиеся с жестокими дегенеративными процессами в старости. Экстракорпоральное оплодотворение и генная инженерия по индивидуальному плану – дорогостоящие процедуры, но критики, пишущие, будто воспользоваться этим смогут лишь богатые, растерянно смолкнут, если государства поймут, что эти процедуры обходятся дешевле лечения и профилактики человека в течение жизни, и будут предлагать их всем гражданам бесплатно.
Если пофантазировать еще немного, первые версии искусственных хромосом будут включать в себя только гены, устраняющие угрозы здоровью. Но, когда первое поколение людей с 24 парами хромосом окажется абсолютно нормальным и безупречно здоровым, генетике разрешат усиливать различные полезные качества. Тогда в дополнительной хромосоме появятся гены, программирующие долголетие, симметрию и красоту тела, заостряющие разум, – хотя все это в пределах тщательно просчитанных лимитов. После разного рода усовершенствований технологию выведут на высокий уровень точности и эффективности. Единственный ее недостаток в том, что люди с двадцатью четырьмя хромосомными парами не смогут давать общего потомства с теми, кто носит устаревший хромосомный набор, если только те не согласятся на генетическую модификацию, которой многие будут сопротивляться. И вновь незапланированным последствием будет видообразование, т. е. деление человечества на два или больше разных биологических вида.
Человечеству предстоит сделать два выбора. Первый – между искусственно направляемой эволюцией и стихийной, второй – разрешить ли видообразование и способствовать ли ему. Идея направлять ход эволюции путем вмешательства в зародышевые клетки может показаться заманчивой, но работа эволюции основана на двух хаотичных процессах, мутациях и дрейфе. Можно утверждать, что при всем безумии такого метода эволюция до сих пор справлялась весьма неплохо. Только вот она действует с геологической скоростью. А модификация зародышевых клеток позволит, как при селекции домашних животных, получить нужный результат гораздо быстрее.
Пожалуй, самый серьезный недостаток активного вмешательства в зародышевые клетки – это риск невзначай подавить великую способность эволюции изобретать новое. Создавая случайные мутации и проверяя каждую, есть ли в ней какая-то польза, эволюция порождает такие новшества, до которых ни один человек не может додуматься. Вместе с тем люди, ответственные за модификацию зародышевых клеток, безусловно, ограниченные медицинской этикой и старающиеся избежать любого риска, неминуемо опутают геном своими консервативными предпочтениями.
Другой важный аспект эволюционного будущего человечества – видообразование – тоже представляет собой мощный генератор новшеств, и значит, удачный способ улучшить в принципе невысокие шансы человечества просуществовать подольше. Прежде наше отношение к родственным видам было простым – истребить. Однако за последние 40 000 лет мы значительно смягчились. Разделение человечества на людей суши и людей моря – млекопитающие уже неоднократно возвращались в океан – не обязательно приведет к розни, так же как и существование двух независимо развивающихся популяций на Земле и на Марсе. Более проблемной представляется ситуация, когда разные человеческие виды занимают одну и ту же экологическую нишу, особенно если один из них почему-либо считается низшим по отношению к другому или находится в подчинении.
У человечества нет единого эволюционного будущего, но много возможных дорог, какие-то из них прокладываются волей случая, другие – выбором самого человека. Мы прошли большой путь. И пойдем дальше.
Благодарности
Эта книга выросла из бесед со многими учеными, которых я интервьюировал, готовя для The New York Times статью о генетике и о происхождении человека. Я глубоко благодарен этим людям, поделившимся со мной знаниями и видением вещей.
Спасибо Питеру Мэтсону из издательства Sterling Lord Literistic, оформившему идею этой книги, и моему редактору из Penguin Press Эмили Луз, оформившей ее структуру. Я также благодарен The New York Times за отпуск, который мне предоставили для работы над рукописью.
Генри Харпендинг, антрополог из Университета Юты, Ричард Клейн, палеоантрополог из Стэнфордского университета и Кари Стефанссон из исландской компании DeCode Genetics любезно согласились прочесть фрагменты рукописи. Я благодарю их за ценные поправки: а в ошибках, что могли остаться, эти люди не виноваты. Я обязан друзьям, прочитавшим книгу в черновике, тем, что они спасли меня от многих ляпсусов. Это были Нэнси Стернголд из Лос-Анджелеса, Джереми Дж. Стоун из компании Catalytic Diplomacy, Ричард Л. Тэппер из Института изучения Востока и Африки Университета города Лондона, моя жена Мэри Л. Уэйд и другие.
Благодарю братьев Веласко из компании 5W Infographic, нарисовавших значительную часть иллюстраций, и Стивена Дьюнса из The New York Times за консультации по инфографике.
Сноски
1
Здесь и далее цит. по: Дарвин Ч. Сочинения. Т. 5. – М., 1953. – Прим. ред.
(обратно)2
Генетическое древо можно укоренить во времени, если хотя бы одно из его разветвлений датировать по окаменелостям. В нашем случае палеонтология может датировать выделение в особый вид орангутана: это произошло от 12 до 16 млн лет назад. Отсюда можно вывести момент разделения человека и шимпанзе. Гориллы появились 7,3 млн лет назад, примерно за 2 млн лет до разделения человека и шимпанзе. – Прим. авт.
(обратно)3
Объем мозга – грубый индикатор, поскольку он связан не только с производительностью интеллекта, но и с рядом других факторов, включая общий размер тела и климатические условия. Из всех современных людей самый крупный мозг у иннуитов (эскимосов), а самый крупный мозг из всех видов людей был у неандертальца. Палеонтологи более склонны использовать другую меру – так называемый коэффициент энцефализации (КЭ), т. е. отношение массы тела к массе мозга. Здесь цифры будут таковы: шимпанзе 2, австралопитеки 2,5, Homo habilis 3,1, Homo ergaster 3,3, современный человек 5,8. Источник: прим. 9.
(обратно)4
Гены – это нити ДНК, на которых записана информация, кодирующая производство белков, а белки – это рабочие механизмы живой клетки. Но не вся ДНК в гене содержит код какого-то белка; есть и такие, которые называются некодирующими ДНК. Мутации в кодирующей ДНК обычно влияют на структуру белка. В некодирующей же мутации, как правило, никак не сказываются на белках и называются нейтральными, или молчащими, мутациями. – Прим. авт.
(обратно)5
Человеческая генетика одним абзацем: геном человека, состоящий из 2,85 млрд единиц ДНК, существует в живой клетке в форме 23 структурных групп, называемых хромосомами. Человек наследует от каждого из родителей набор в 23 хромосомы, так что каждая клетка нашего организма содержит 46 хромосом. Этот набор должен разделиться пополам у сперматозоида и яйцеклетки, поскольку после оплодотворения хромосомный набор удваивается. Однако перед разделением в гамете каждая хромосома, унаследованная от отца должна соединиться с соответствующей материнской. Затем каждая пара обменивается соответствующими друг другу единицами ДНК, так что возникает новая пара хромосом, в которой материнские и отцовские гены перемешаны по-новому. Участники этих новых пар затем отодвигаются друг от друга в противоположные концы клетки, которая делится, чтобы произвести сперматозоиды или яйцеклетки. У этого процесса есть особенность, касающаяся 23-й пары хромосом, т. е. половых хромосом Х и Y. Поскольку Y-хромосома несет ген, задающий мужской пол особи, который не должен попасть в Х-пару, половые хромосомы не обмениваются генами, не считая самых периферийных участков. В далеком прошлом Y-хромосома была такой же длины, как X, но утратила некоторые гены по той причине, что от недостатка разнообразия, создаваемого межхромосомным обменом, многие ее гены лишились функций. Сперматозоид несет в себе либо X-, либо Y-хромосому, а яйцеклетки – только X. Оплодотворение дает либо особь с парой X – Y (мужскую), либо с парой X–X (женскую). Вследствие такого механизма люди носят в своих клетках отдельно набор хромосом, унаследованный от матери, и отцовский набор: только когда запускается производство яйцеклеток и сперматозоидов, отцовские и материнские гены рекомбинируются в новый хромосомный набор. – Прим. авт.
(обратно)6
Символом «!» в бушменских языках обозначают щелкающие согласные. – Прим. ред.
(обратно)7
Каждая особь получает половину отцовских генов и половину материнских. Что же происходит с той половиной, которую мы не наследуем? Она отбрасывается. Каждый ген «производится» в одном из варьируемых исполнений, называющихся аллелями. Больший или меньший процент тех или иных аллелей переходит в следующее поколение – зависит целиком от случая. Поэтому встречаемость некоторого аллеля в популяции может существенно разниться от поколения к поколению: 5 % сменяются 33, затем 13, затем 55 и т. д. без всякой закономерности. Но это не может продолжаться вечно. Рано или поздно частота аллеля в популяции придет к одному из двух значений: 0 или 100 %. В первом случае аллель полностью исчез в данной популяции. Во втором – стал универсальным, т. е. остался единственной версией данного гена, встречающейся в популяции, утратившей все прочие его разновидности. Когда аллель становится универсальным, генетики говорят, что он «зафиксировался». Время, за которое тот или иной аллель успевает зафиксироваться в популяции, зависит от числа поколений и размера популяции: оно тем меньше, чем малочисленнее популяция. После того как аллель зафиксировался, маршрут популяции по эволюционному полю изменяется: он уже не таков, каким был бы, если бы популяции были доступны другие разновидности гена. – Прим. авт.
(обратно)8
Следы работы естественного отбора можно обнаружить, сравнивая молчащие мутации в блоках ДНК (не меняющие структуры белка) с активными мутациями (теми, которые меняют в белках аминокислотные блоки). – Прим. ред.
(обратно)9
На определенном участке прионового гена, кодоне-129, возможны две формы. Поскольку особь получает две копии гена, по одной от каждого родителя, есть возможность унаследовать: 1) обе формы кодона 129 или 2) две копии одной и той же формы. Две копии одной и той же формы прионового гена – фактор риска, повышающий вероятность заболеть коровьим бешенством или подобной болезнью. Унаследовать две разные формы – защитная комбинация. – Прим. авт.
(обратно)10
Власть большинства – форма общественного управления, в которой правит большинство в интересах общей пользы. – Прим. ред.
(обратно)11
Линейное письмо Б – позднейшая форма критского письма (XV–XII вв. до н. э.). Использовалась для записи текстов на древнегреческом языке в эпоху микенской культуры. – Прим. ред.
(обратно)12
Гринберг умер в возрасте 85 лет, через год после выхода первого тома его монографии о евразийской макросемье. Лингвист из Университета Индианы Пол Ньюман вспоминает, как посетил его незадолго до кончины. Гринберг сожалел, что не успел приступить к систематизации языков Юго-Восточной Азии. «Он посмотрел на меня, – говорит Ньюман, – и почти со слезами на глазах сказал, что без классификации этих языков его работа не закончена». Другой близкий друг, Гарольд Флеминг из Бостонского университета, лингвист-африканист, нанес Гринбергу прощальный визит вместе со старым коллегой Мерритом Руленом. Они были последними из ученых, кто разговаривал с Джозефом Гринбергом. Беседа коснулась недавних исследований нивхского – загадочного языка на севере Сахалина. Флеминг вспомнил, что в нивхском есть слово irf, означающее лису или шакала. Гринберг знал это слово и заметил, что звук r в нем дрожащий, как во французском языке. «Какая память! – писал Флеминг в статье-трибьюте. – Какая эрудиция! И какой стыд, что мы лишились его глубочайшего и уникального знания о человеческих языках, не могли сохранить его на электронных устройствах и что великий ученый ушел в облаке несправедливой критики!» – Прим. авт.
(обратно)13
Упомянутый ген программирует родительскую заботливость у самцов прерийной полевки. Перед этим геном располагается участок ДНК, легко меняющий длину со сменой поколений. В популяции степных полевок этот участок широко варьирует по длине. Самцы с длинным участком ДНК заботливо опекают детенышей, самцы с короткими вариантами менее чадолюбивы. В той среде обитания, где родительская забота оборачивается выгодой, более успешными будут самцы первого типа. Но в обстоятельствах, при которых опекать потомство невыгодно, будут превалировать самцы с коротким геном. Речь идет о гене рецептора вазопрессина. Он есть и у человека и также содержит участок вариативной длины, но эффект этого варьирования у человека еще предстоит выяснить. – Прим. авт.
(обратно)(обратно)Комментарии
1
Genesis 3: 7, 21.
(обратно)2
Ralf Kitiler, Manfred Kayser, and Mark Stoneking, "Molecular Evolution of Pediculus Humanus and the Origin of Clothing," Current Biology 13:1414–1417 (2003). Ряд специалистов оспаривает точность описанного исследования. Если их возражения обоснованы, дата изобретения одежды и появления платяной вши должна значительно отодвинуться вглубь времен, вплоть до 500 000 лет назад.
David L. Reed et al., "Genetic Analysis of Lice Supports Direct Contact between Modern and Archaic Hu mans," Public Library of Science Biology 2:1972–1983 (2004); Nicholas Wade, «What a Story Lice Can Tell,» New York Times, October 5, 2004, p. F1.
(обратно)3
Feng-Chi Chen and Wen-Hsiung Li, «Genomic Divergences between Humans and Other Hominoids and the Effective Population Size of the Common Ancestor of Hu mans and Chimpanzees,» American Journal of Human Genetics 68:444–456 (2001).
(обратно)4
Pascal Gagneux et al., «Mitochondrial Sequences Show Diverse Evolutionary Histories of African Hominoids,» Proceedings of the National Academy of Sciences 96:5077–5082 (1999).
(обратно)5
Richard G. Klein, The Human Career, 2nd ed., University of Chicago Press, 1999, p. 251. Если не указано иначе, палеоантропологические и археологические факты почерпнуты в основном из этой всеобъемлющей и ясной книги или из основанного на ней более популярного сочинения, The Dawn of Human Culture by Richard G. Klein and Blake Edgar, John Wiley & Sons, 2002.
(обратно)6
Chen and Li, «Genomic Divergences.» Число различий в ДНК между двумя видами зависит от размера предковой популяции и от срока (в поколениях), в течение которого виды расходятся. Если продолжительность поколения и период в годах, истекший после разветвления, известны, генетики могут оценить так называемый эффективный размер популяции. Это теоретическая величина, которую нужно умножать на коэффициент от двух до пяти, чтобы получить реальную численность.
(обратно)7
P S. Rodman, in Adaptations for Foraging in Non-human Primates, Columbia University Press 1984, pp. 134–160, cited in Robert Foley, Humans before Humanity, Black-well, 1995, p. 140.
(обратно)8
Richard G. Klein, The Human Career, 2nd ed., University of Chicago Press, 1999, figure 8.3, p. 580.
(обратно)9
Roger Lewin and Robert A. Foley, Principles of Human Evolution, 2 nd ed., Blackwell 2004, p. 450.
(обратно)10
Robert Foley, Humans before Humanity, Blackwell, 1995, p. 170.
(обратно)11
Richard G. Klein, The Human Career, p. 292.
(обратно)12
Richard Wrangham, «Out of the Pan, Into the Fire,» in Frans В. M. De-Waal, ed., Tree of Origin, Harvard University Press, 2001, p. 137.
(обратно)13
Richard G. Klein and Blake Edgar, The Dawn of Human Culture, Wiley, 2002, p. 100; Robert A. Foley, «Evolutionary Perspectives,» in W. G. Runciman, ed., The Origin of Human Social Institutions, Oxford University Press, 2001, pp. 171–196.
(обратно)14
Richard G. Klein, The Human Career, p. 292.
(обратно)15
Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, 2nd edition 1874, p. 58.
(обратно)16
Mark Pagel and Walter Bodmer, «A Naked Ape Would Have Fewer Parasites,» Proceedings of the Royal Society В (Suppl.) 270: S117-S119 (2003).
(обратно)17
Rosalind M. Harding et al., «Evidence for Variable Selective Pressures at MC1R,» American Journal of Human Genetics 66:1351–1361 (2000).
(обратно)18
Nina G. Jablonski and George Chaplin, «The Evolution of Human Skin Coloration,» Journal of Human Evolution 39:57–106 (2000).
(обратно)19
Alan R. Rogers, David Litis, and Stephen Wooding, «Genetic Variation at the MC1R Locus and the Time Since Loss of Human Body Hair,» Current Anthropology 45:105–108 (2004).
(обратно)20
Nina G. Jablonski and George Chaplin, «Skin,» Scientific American 74:72–79 (2002).
(обратно)21
Arthur H. Neufeld and Glenn C. Conroy, «Human Head Hair Is Not Fur,» Evolutionary Anthropology 13:89 (2004); B. Thierry, «Hair Grows to Be Cut,» Evolutionary Anthropology 14:5 (2005); Alison Jolly, «Hair Signals,»Evolutionary Anthropology 14:5 (2005).
(обратно)22
Hermelita Winter et al., «Human Type I Hair Keratin Pseudogene phihHaA. Has Functional Orthologs in the Chimpanzee and Gorilla: Evidence for Recent Inactivation of the Human Gene After the Pan-Homo Divergence.» Human Genetics 108:37–42 (2001).
(обратно)23
R. X. Zhu et al., «New Evidence on the Earliest Human Presence at High Northern Latitudes in Northeast Asia,» Nature 431:559–562 (2004).
(обратно)24
Robert Foley, Humans before Humanity, Blackwell, 1995, p. 75.
(обратно)25
Richard G. Klein, «Archeology and the Evolution of Human Behavior,» Evolutionary Anthropology 9 (1): 17–36 (2000).
(обратно)26
Richard Klein and Blake Edgar, The Dawn of Human Culture, p. 192.
(обратно)27
Richard Klein, The Human Career, p. 512.
(обратно)28
Ian McDougall et al., «Stratigraphic Placement and Age of Modern Humans from Kibish, Ethiopia,» Nature 433:733–736 (2005).
(обратно)29
Из списка 15 поведенческих моделей, составленного Полом Мелларсом в «The Impossible Coincidence – A Single-Species Model for the Origins of Modern Human Behavior in Europe,» Evolutionary Anthropology 14:12–27 (2005).
(обратно)30
Richard Klein, The Human Career, p. 492.
(обратно)31
Sally McBrearty and Alison S. Brooks, «The Revolution That Wasn't: A New Interpretation of the Origin of Modern Human Behavior,» Journal of Human Evolution 39:453–563 (2000).
(обратно)32
Christopher Henshilwood et al., «Middle Stone Age Shell Beads from South Africa,» Science 304:404 (2004).
(обратно)33
James M. Bowler et al., «New Ages for Human Occupation and Climatic Change at Lake Mungo, Australia,» Nature 421:837–840 (2003).
(обратно)34
Michael C. Corballis, «From Hand to Mouth: The Gestural Origins of Language,» in Morten H. Christiansen and Simon Kirby, Language Evolution, Oxford University Press, 2003, pp. 201–219.
(обратно)35
Marc D Hauser, The Evolution of Communication, MIT Press, 1996, p. 309.
(обратно)36
Там же, с. 38.
(обратно)37
Steven Pinker, The Language Instinct, William Morrow, 1994, p. 339.
(обратно)38
Marc D Hauser, Noam Chomsky, and W. Tecumseh Fitch, «The Faculty of Language: What Is It, Who Has It, and How Did It Evolve?» Science 298:1569–1579 (2002).
(обратно)39
Derek Bickerton, Language and Species, University of Chicago Press, 1990, p. 105.
(обратно)40
Ray Jackendoff, Foundations of Language, Oxford University Press, 2002, p. 233.
(обратно)41
Frederick J. Newmeyer, «What Can the Field of Linguistics Tell Us about the Origins of Language?» in Language Evolution, by Morten H. Christiansen and Simon Kirby, Oxford University Press, 2003, p. 60.
(обратно)42
Nicholas Wade, «Early Voices: The Leap of Language,» New York Times, July 15, 2003, p. F1.
(обратно)43
Steven Pinker, e-mail, June 16, 2003, quoted in part in Wade, «Early Voices.»
(обратно)44
Steven Pinker and Paul Bloom, «Natural Language and Natural Selection,»Behavioral and Brain Sciences 13 (4):707–784 (1990).
(обратно)45
Derek Bickerton, Language and Species, p. 116.
(обратно)46
Ray Jackendoff, Foundations of Language, p. 240.
(обратно)47
Ann Senghas, Sogaro Kita, and Asli Ozyurek, «Children Creating Core Properties of Language: Evidence from an Emerging Sign Language in Nicaragua,» Science 305:1779–1782 (2004).
(обратно)48
Wendy Sandler et al., «The Emergence of Grammar: Systematic Structure in a New Language,» Proceedings of the National Academy of Sciences 102:2661–2665 (2005).
(обратно)49
Nicholas Wade, «Deaf Children's Ad Hoc Language Evolves and Instructs,»New York Times, September 21, 2004, p. F4.
(обратно)50
Michael C. Corballis, «From Hand to Mouth,» p. 205.
(обратно)51
Louise Barrett, Robin Dunbar, and John Lycett, Human Evolutionary Psychology, Princeton University Press, 2002.
(обратно)52
Geoffrey Miller, The Mating Mind, Random House, 2000.
(обратно)53
Steven Pinker, «Language as an Adaptation to the Cognitive Niche,» in Morten H. Christiansen and Simon Kirby, Language Evolution, Oxford University Press, 2003, p. 29.
(обратно)54
Paul Mellars, «Neanderthals, Modern Humans and the Archaeological Evidence for Language,» in Nina G. Jablonski and Leslie C. Aiello, eds., The Origin and Diversification of Language, California Academy of Sciences, 1988, p. 99.
(обратно)55
Faraneh Vargha-Khadem, interview, October 1, 2001.
(обратно)56
Faraneh Vargha-Khadem, Kate Watkins, Katie Alcock, Paul Fletcher, arid Richard Passingham, «Praxic and Nonverbal Cognitive Deficits in a Large Family with a Genetically Transmitted Speech and Language Disorder,» Proceedings of the National Academy of Sciences 92:930–933 (1995).
(обратно)57
Faveneh Vargha-Khadem et al., «Neural Basis of an Inherited Speech and Language Disorder,» Proceedings of the National Academy of Science 95:12659–12700 (1998).
(обратно)58
Многие гены открыли биологи, ставящие опыты на плодовых мушках, а у этих ученых принято давать генам яркие названия. Такие странные названия нередко присваивают открытым позже эквивалентным человеческим генам; отсеиваются лишь слишком яркие типа «олуха» или «страхолюдины». Вилоголовый (forkhead) ген получил такое прозвание потому, что, когда он мутирует, у личинки плодовой мушки на голове образуются своего рода шипы. Обнаружены и другие гены подобной структуры, у них в ДНК есть сигнатурный бокс, названный вилоголовым (forkhead box), он помечает участок в forkhead-белке, который привязывается к той или иной последовательности ДНК. Дело в том, что этот белок контролирует работу других генов, присоединяясь к участкам ДНК, следующим сразу за этими генами. У человека оказалось целое семейство генов с боксом вилоголовости, его подгруппы обозначаются буквами латинского алфавита. Ген FOХP2 – второй в подгруппе. P. Gary F Marcus and Simon К Fisher, «FOXP2 in locus: What Can Genes Tell Us About Speech and Language?» Trends in Cognitive Sciences 7:257–262 (2003).
(обратно)59
Cecilia S. L. Lai, Simon E. Fisher, Jane A. Hurst, Faraneh Vargha-Khadem, and An thony P Monaco, «A Forkhead-Domain Gene Is Mutated in a Severe Speech and Language Disorder,» Nature 413:519–523 (2001).
(обратно)60
Faraneh Vargha-Khadem et al., «FOXP2 and the Neuroanatomy of Speech and Language,» Nature Reviews Neuroscience 6:131–138 (2005).
(обратно)61
Wolfgang Enard et al., «Molecular Evolution of FOXP2, a Gene Involved in Speech and Language,» Nature 418:869–872 (2002).
(обратно)62
Svante Paabo, interview, August 10, 2002.
(обратно)63
Richard Klein, The Human Career, University of Chicago Press, 1999, p. 492.
(обратно)64
Причина, вероятно, в том, что соперничество между митохондриями внутри клетки было бы слишком разрушительным. Митохондрии сперматозоида как бы несут на себе химический ярлык «Убей меня». Лишь только сперматозоид проникнет в яйцеклетку, его митохондрии разрушаются. В яйцеклетке имеется около 100 000 своих митохондрий, и она не нуждается в сотне, предлагаемых сперматозоидом. Douglas C. Wallace, Michael D. Brown, and Marie T Lott, «Mitochondrial DNA Variation in Human Evolution and Disease,» Gene, 238:211–230 (1999).
(обратно)65
Peter A. Underhill et al., «Y Chromosome Sequence Variation and the History of Hu man Populations,» Nature Genetics, 26:358–361 (2000).
(обратно)66
S. T. Sherry, M. A. Batzer, and H. C. Harpending, «Modeling the Genetic Architecture of Modern Populations,» Annual Review of Anthropology 27:153–169 (1968).
(обратно)67
Jonathan K. Pritchard, Mark T. Seielstad, Anna Perez-Lezaun, and Marcus W. Feldman, «Population Growth of Human Y Chromosomes: A Study of Y Chromosome Micro-satellites,» Molecular Biology and Evolution 16:1791–1798 (1999).
(обратно)68
P A. Underhill, G. Passarino, A. A. Lin, P Shen, M. Mirazon-Lahr, R. A. Foley, P J. Oefner, and L. L. Cavalli-Sforza, «The Phylogeography of Y Chromosome Binary Haplotypes and the Origins of Modern Human Populations,» Annals of Human Genetics 65:43–62 (2001).
(обратно)69
S. T. Sherry et al., «Modeling the Genetic Architecture of Modern Populations,» p. 166.
(обратно)70
Richard Borshay Lee, The iKung San, Cambridge University Press, 1979, p. 31.
(обратно)71
Tom Giildemann and Rainer Vossen, «Khoisan,» in Bernd Heine and Derek Nurse, eds., African Languages, Cambridge University Press, 2000.
(обратно)72
Yu-Sheng Chen et al., "mtDNA Variation in the South African Kung and Khwe – and Their Genetic Relationships to Other African Populations, "American Journal of Human Genetics 66:1362–1383 (2000). The team sampled a group of IKung from the northwestern Kalahari Desert known as the Vasikela IKung.
(обратно)73
Alec Knight et al., «African Y Chromosome and mtDNA Divergence Provides Insight into the History of Click Languages,» Current Biology 13:464–473 (2003).
(обратно)74
Nicholas Wade, "In Click Languages, an Echo of the Tongues of the Ancients, "New York Times, March 18, 2003, p. F2.
(обратно)75
Ornella Semino et al., «Ethiopians and Khoisan Share the Deepest Clades of the Human Y-Chromosome Phylogeny,» American Journal of Human Genetics 70:265–268 (2002).
(обратно)76
Donald E. Brown, Human Universals, McGraw-Hill, 1991, p. 139.
(обратно)77
Henry Harpending and Alan R. Rogers, «Genetic Perspectives on Human Origins and Differentiation,» Annual Review of Genomics and Human Genetics 1:361–385 (2000).
(обратно)78
Richard Borshay Lee, The IKung San, Cambridge University Press, 1979, p. 135.
(обратно)79
Jon de la Harpe et al., «Diamphotoxin, the Arrow Poison of the IKung Bushmen,» Journal of Biological Chemistry 258:11924–11931 (1983).
(обратно)80
Richard Borshay Lee, The IKung San, p. 440.
(обратно)81
Nancy 1 lowell, Demography of the Dohe IKung, Academic Press, 1979, p. 119.
(обратно)82
«Безобидные», как отмечает Элизбет Маршалл Томас в своей новой книге The Old Way, – один из возможных переводов самоназвания бушменского племени жуцъоан. Томас пишет, что в свете его экологической устойчивости и продолжительности существования минимум в 35 000 лет образ жизни бушменов был «самой успешной культурой, которую только знало человечество». Яркий рассказ от первого лица о жизни охотников и собирателей, содержащийся в книге Томас, дополняет антропологическое исследование Ричарда Борсей Ли. Elizabeth Marshall Thomas, The Old Way – A Story of the First People, Farrar Strauss Giroux," 2006.
(обратно)83
Steven A. LeBlanc, Constant Battles, St. Martin's Press, 2003, p. 116.
(обратно)84
Lawrence H. Keeley, "War before Civilization," Oxford University Press, 1996, p. 134.
(обратно)85
Richard Borshay Lee, The IKung San, p. 399. The odd symbols represent different kinds of click.
(обратно)86
Frank W. Marlowe, «Hunter-Gatherers and Human Evolution,» Evolutionary Anthropology 14:54–67 (2005).
(обратно)87
M. Siddall et al., «Sea-Level Fluctuations during the Last Glacial Cycle,» Nature 423:853–858.
(обратно)88
Exodus 15:8.
(обратно)89
Sarah A. Tishkoff and Brian C. Verrelli, «Patterns of Human Genetic Diversity: Implications for Human Evolutionary History and Disease,» Annual Review of Genomics and Human Genetics 4:293–340 (2003).
(обратно)90
Jeffrey I. Rose, «The Question of Upper Pleistocene Connections between East Africa and South Arabia,» Current Anthropology 45:551–555 (2004).
(обратно)91
Luis Quintana-Murci et al., «Genetic Evidence of an Early Exit of Homo sapiens from Africa through Eastern Africa,» Nature Genetics 23:437–441 (1999).
(обратно)92
Martin Richards et al., «Extensive Female-Mediated Gene Flow from Sub-Saharan Africa into Near Eastern Arab Populations,» American Journal of Human Genetics 72:1058–1064 (2003).
(обратно)93
John D. H. Stead and Alec J. Jeffreys, «Structural Analysis of Insulin Minisatellite Alle les Reveals Unusually Large Differences in Diversity between Africans and Non-Africans,» American Journal of Human Genetics 71:1273–1284 (2002).
(обратно)94
Nicholas Wade, «To People the World, Start with 500,» New York Times, November 11, 1997, p. F1.
(обратно)95
Vincent Macaulay et al., «Single, Rapid Coastal Settlement of Asia Revealed by Analysis of Complete Mitochondrial Genomes,» Science 308:1034–1036 (2005). Генетики полностью расшифровали митохондриальные ДНК людей, принадлежащих к ветвям M и N, которые первыми вышли за пределы Африки, и сравнили их с L3, внутриафриканской линией, от которой те две ответвились. Зная темп, в котором митохондриальная ДНК накапливает мутации, ученые подсчитали, что линии M и N отделились от L3 826 поколений или 20 650 лет назад. Время, необходимое для такого рода трансформаций, зависит от численности популяции, и если оно известно, размер исходной популяции можно установить. Получается, что это были 550 женщин репродуктивного возраста, если популяция не менялась в размере в течение 20 000 лет, а если росла, как оно, несомненно, было, то и того меньше.
(обратно)96
T. Kivisild et al., «The Genetic Heritage of the Earliest Settlers Persists Both in Indian Tribal and Caste Populations,» American Journal of Human Genetics 72:313–332 (2003).
(обратно)97
Richard G. Roberts et al., «New Ages for the Last Australian Megafauna: Continent-Wide Extinction About 46,000 Years Ago,» Science 292:1888–1892 (2001).
(обратно)98
Vincent Macaulay et al., «Single, Rapid Coastal Settlement of Asia.»
(обратно)99
Kirsi Huoponen, Theodore G. Schurr, Yu-Sheng Chen, and Douglas C. Wallace, "Mitochondrial DNA Variation in an Aboriginal Australian Population: Evidence for Genetic Isolation and Regional Differentiation, "Human Immunology 62:954–969 (2001).
(обратно)100
Max Ingman and Ulf Gyllensten, «Mitochondrial Genome Variation and Evolutionary History of Australian and New Guinean Aborigines,» Genome Research 13:1600–1606 (2003).
(обратно)101
Steven A. LeBlanc, Constant Battles, St. Martin's Press, 2003, p. 121.
(обратно)102
Manfred Kayser et al., «Reduced Y-Chromosome, but Not Mitochondrial DNA, Diversity in Human Populations from West New Guinea,» American Journal of Human Genetics 72:281–302 (2003).
(обратно)103
Steven A. LeBlanc, Constant Battles, p. 151.
(обратно)104
Nicholas Wade, «An Ancient Link to Africa Lives On in the Bay of Bengal,» New York Times, December 10, 2002, p. A14.
(обратно)105
Kumarasamy Thangaraj et al., «Genetic Affinities of the Andaman Islanders, a Vanishing Human Population,» Current Biology 13:86–93 (2003).
(обратно)106
Philip Endicott et al., «The Genetic Origins of the Andaman Islanders,» American Journal of Human Genetics 72:1590–1593 (2003).
(обратно)107
Madhusree Mukerjee, The Land of Naked People, Houghton Mifflin, 2003, p. 240.
(обратно)108
Stephen Oppenheimer, The Real Eve, Carroll & Graf, 2003, p. 218.
(обратно)109
David L. Reed et al., «Genetic Analysis of Lice Supports Direct Contact Between Mod ern and Archaic Humans,» Public Library of Science Biology 2. 1972–1983 (2004); Nicholas Wade, «What a Story Lice Can Tell,» New York Times, October 5, 2004, p. F1. Второй подвид вшей обнаруживается только в Америке, как если бы современные люди заразились им от Homo erectus на Дальнем Востоке или в Сибири перед миграцией через плейстоценовый перешеек, соединявший Сибирь и Северную Америку. Вероятно, этот подвид вши доминировал в Америке, пока европейские колонисты не завезли туда другой, «стандартный» для остального мира.
(обратно)110
P. Brown et al., «A New Small-Bodied Hominin from the Late Pleistocene of Flores, Indonesia,» Nature 431:1055–1091 (2004); Nicholas Wade, «New Species Revealed: Tiny Cousins of Humans,» New York Times, October 28, 2004, p. A1; Nicholas Wade, «Miniature People Add Extra Pieces to Evolutionary Puzzle,» New York Times, November 9, 2004, p. F2. M. J. Morwood et al., «Further evidence for small-bodied hominims from the Late Pleistocene of Flores, Indonesia,» Nature 437, 1012–1017, 2005.
(обратно)111
Спор о том, к какому виду нужно отнести малюток-флоресийцев, достиг пика, когда несколько ученых предположили, что череп принадлежал патологически мелкогабаритному современному человеку. Новый взгляд, предложенный учеными из Австралийского национального университета и Сиднейского университета, предполагает, что флоресийцы не были ни патологической формой Homo sapiens, ни уменьшенной разновидностью Homo erectus, а произошли от другой, много более ранней трансафриканской миграции, возможно, еще в то время, когда остров Флорес был частью материка. Эта позиция основана на сходстве черепа по объему мозга и другим чертам с предшественником Homo erectus, Homo ergaster. Debbie Argue, Denise Don-Ion, Colin Groves, and Richard Wright, Homo floresiensis: Microcephalic, pygmoid, Australopithecus, or Homo?" Journal of Human Evolution 51, 360–374 (2006).
(обратно)112
Roger Lewin and Robert A. Foley, Principles of Human Evolution, Blackwell Science, 2004, p. 387.
(обратно)113
Richard G. Klein, The Human Career, 2nd ed., University of Chicago Press, 1999, p. 470.
(обратно)114
Christopher Stringer and Robin McKie, African Exodus, Henry Holt, 1996, 1999, p. 106.
(обратно)115
Richard G. Klein, The Human Career, p. 477.
(обратно)116
Matthias Krings et al., «Neanderthal DNA Sequences and the Origin of Modern Hu mans,» Cell 90:19–30, 1997.
(обратно)117
David Serre et al., «No Evidence of Neanderthal mtDNA Contribution to Early Mod ern Humans,» Public Library of Science Biology 2:1–5 (2004).
(обратно)118
Новая теория происхождения человека предполагает, что современные люди, покинув Африку, поначалу скрещивались с архантропами, когда волна миграции встречала на пути их племена. Теория прогнозирует, что на большинстве участков нуклеарного генома обнаружатся какие-нибудь архаические аллели. Vinyarak Eswaran, Henry Harpending, and Alan R. Rogers, «Genomics Refutes an Exclusively African Origin of Humans,» Journal of Human Evolution 49:1–18 (2005).
(обратно)119
Происхождение ориньякской культуры до сих пор темно. Если современные люди, как подсказывают данные генетики, пришли в Европу из Индии, то на Индийском субконтиненте должны сохраниться следы предшествующих культур. Однако пока археологические памятники Индии не особенно богаты свидетельствами сложного поведения, свойственного ориньякцам. (Hannah V A. James and Michael D. Petraglia, «Modern Human Origins and the Evolution of Behavior in the Later Pleistocene Record of South Asia,» Current Anthropology, 46 [Supplement]: 3–27 [2005]). Возможно, элементы ориньякской культуры сформировались в какой-то момент миграции из Индии в Европу, когда первые современные люди, жившие до того в субтропиках, адаптировались к климату европейского ледникового периода.
(обратно)120
Сегодня предполагается, что ориньякские орудия из этого памятника изготовлены современным человеком, жившим здесь в промежутках между периодами неандертальского владычества. Brad Gravina, Paul Mellars and Christopher Bronk Ramsey, «Radiocarbon Dating of Interstratifi ed Neanderthal and Early Modern Human Occupations at the Chatelperronian Type-Site,» Nature 438:51–56 (2005).
(обратно)121
Martin Richards, «The Neolithic Invasion of Europe,» Annual Review of Anthropology 32:135–162 (2003).
(обратно)122
Существенный пересмотр радиоуглеродной датировки показывает, что ориньякцы пришли в Европу раньше и распространились гораздо быстрее. Пересмотр был вызван: а) появлением новых методов отсева посторонних веществ, из-за которых древние источники углерода кажутся моложе, и б) новыми оценками количества атмосферного углерода-14 в далеком прошлом. С учетом этих двух поправок Пол Мелларс пересмотрел дату прибытия современных людей в Европу. По оценке Мелларса, они появились к западу от Черного моря уже 46 000 лет назад, а не 40 000–44 000 лет назад, как показано на рис. 5.2, и достигли северной Испании 41 000, а не 36 000 лет назад. Мелларс утверждает, что неандертальские останки из пещер Зафаррая в Испании и Виндия в Хорватии, возраст которых сегодня определен приблизительно в 30 000 лет, окажутся гораздо старше. Если так, то согласно новому расписанию неандертальцы исчезли много быстрее, чем считалось, – возможно, всего за 5000 лет. Быстрому продвижению современного человека могло поспособствовать улучшение климата, наблюдавшееся между 43 000 и 41 000 лет назад. Paul Mellars, «A New Radiocarbon Revolution and the Dispersal of Modern Humans in Eurasia,» Nature 439:931–935 (2006).
(обратно)123
Ofer Bar-Yosef, «The Upper Paleolithic Revolution,» Annual Review of Anthropology 31:363–393 (2002).
(обратно)124
Agnar Helgason et al., «An Icelandic Example of the Impact of Population Structure on Association Studies,» Nature Genetics 37:90–95, 2005; Nicholas Wade, «Where Are You From? For Icelanders, the Answer Isin the Genes,» New York Times, December 28, 2004, p. F3.
(обратно)125
Patrick D. Evans et al., «Microcephalia a Gene Regulating Brain Size, Continues to Evolve Adaptively in Humans,» Science 309:1717–1220 (2005); Nitzan Mekel-Bobrov, «Ongoing Adaptive Evolution of ASPM, a Brain Size Determinant in Homo sapiens,» Science 309:1720–1722 (2005).
(обратно)126
Nicholas Wade, «Brain May Still Be Evolving, Studies Hint,» New York Times, September 9, 2005, p. A14.
(обратно)127
Steve Dorus et al., «Accelerated Evolution of Nervous System Genes in the Origin of Homo sapiens,» Cell 119:1027–1040 (2004).
(обратно)128
Два Ланновых гена микроцефалина не проявились в пангеномном анализе, проведенном группой Джонатана Притчарда (см. прим. 256). Возможно, тест просто не сумел их выявить: нет идеальных методов анализа на отбор. Притчард обнаружил признаки отбора у двух других генов, частично виновных в микроцефалии, и в нескольких других группах мозговых генов. Какие-то из этих генов подвергались отбору у африканцев, другие у азиатов, свои – у европейцев, что и говорит в пользу теории Ланна о параллельной эволюции когнитивных способностей в этих трех популяциях. Многие генетические изменения, происходившие независимо в основных континентальных расах, вероятно, были конвергентными, то есть эволюция в разных популяциях прибегала к разным доступным ей мутациям, чтобы получить одни и те же механизмы приспособления.
(обратно)129
Недавняя корректировка радиоуглеродного метода (см. прим. 122) показывает, что наскальные росписи в Шове значительно древнее, чем предполагалось. Сегодня можно сказать, что первые обитатели появились в пещере 36 000 лет назад.
(обратно)130
Richard G. Klein, The Human Career, 2nd edition, University of Chicago Press 1999, p. 540.
(обратно)131
Martin Richards et al., «Tracing European Founder Lineages in the Near Eastern mtDNA Pool,» American Journal of Human Genetics 67:1251–1276 (2000); Martin Richards, «The Neolithic Invasion of Europe,» Annual Review of Anthropology 32:135–162 (2003).
(обратно)132
Antonio Torroni et al., «A Signal, from Human mtDNA, of Postglacial Recolonization in Europe,» American Journal of Human Genetics 69:844–852 (2001).
(обратно)133
Ornella Semino et al., "The Genetic Legacy of Paleolithic Homo sapiens in Extant Europeans: A Y Chromosome Perspective," Science 290:1155–1159, 2000.
(обратно)134
Colin Renfrew, «Commodification and Institution in Group-Oriented and Individualizing Societies,» in The Origin of Human Social Institutions, Oxford University Press 2001, p. 114.
(обратно)135
Carles Vila et al., «Multiple and Ancient Origins of the Domestic Dog,» Science 276:1687–1689 (1997).
(обратно)136
Peter Savolainen et al., «Genetic Evidence for an East Asian Origin of Domestic Dogs,» Science 298:1610–1616 (2002).
(обратно)137
Lyudmila N. Trut, Early Canid Domestication: The Farm-Fox Experiment, "American Scientist 17:160–169 (1999).
(обратно)138
Brian Hare, Michelle Brown, Christine Williamson, and Michael Tomasello, «The Domastication of Social Cognition in Dogs,» Science 298:1634–1636 (2002).
(обратно)139
Nicholas Wade, «From Wolf to Dog, Yes, but When?» New York Times, November 22, 2002, p. A20.
(обратно)140
Jennifer A. Leonard et al., «Ancient DNA Evidence for Old World Origin of New World Dogs,» Science 298:1613–1616 (2002).
(обратно)141
Joseph H. Greenberg, Language in the Americas, Stanford University Press, 1987, p. 43.
(обратно)142
Vivian Scheinsohn, «Hunter-Gatherer Archaeology in South America,»Annual Review of Anthropology 32:339–361 (2003).
(обратно)143
Yelena B. Starikovskaya et al., «mtDNA Diversity in Chukchi and Siberian Eskimos: Implications for the Genetic History of Ancient Beringia and the Peopling of the New World,» American Journal of Human Genetics 63:1473–1491 (1998).
(обратно)144
Mark Seielstad et al., «A Novel Y-Chromosome Variant Puts an Upper Limit on the Timing of First Entry into the Americas,» American Journal of Human Genetics 73:700–705 (2003).
(обратно)145
Maria-Catira Bortolini et al., «Y-Chromosome Evidence for Differing Ancient Demographic Histories in the Americas,» American Journal of Human Genetics 73:524–539 (2003).
(обратно)146
Michael D. Brown et al., «mtDNA Haplogroup X: An Ancient Link between Europe/Western Asia and North America?» American Journal of Human Genetics 63:1852–1861 (1998).
(обратно)147
Ripan S. Malhi and David Glenn Smith, «Haplogroup X Confirmed in Prehistoric North America,» American Journal of Physical Anthropology 119:84–86 (2002).
(обратно)148
Eduardo Ruiz-Pesini et al., «Effects of Purifying and Adaptive Selection on Regional Variation in Human mtDNA,» Science 303:223–226; Dan Mishmar et al, «Natural Se lection Shaped Regional mtDNA Variation in Humans.» Proceedings of the National Academy of Sciences 100:171–176 (2003).
(обратно)149
Mark T. Seielstad, Erich Minch, and L. Luca Cavalli-Sforza, «Genetic Evidence for a Higher Female Migration Rate in Humans,» Nature Genetics 20:278–280 (1998).
(обратно)150
Kennewick Man, the 9,000-year-old, non-Mongoloid-looking skeleton discovered in Washington state and claimed by sinodont American Indians as their intimate ances tor, is a sundadont.
(обратно)151
Marta Mirazon Lahr, The Evolution of Modern Human Diversity, Cambridge University Press, 1996, p. 318.
(обратно)152
Ученые все больше убеждаются, что светлая кожа как модификация темной прародительской появилась в западной и восточной половине Евразии независимо, хотя причина в обоих случая была, очевидно, одна – ослабление солнечной радиации. Пять генов, влияющих на цвет кожи, несут на себе признаки недавнего отбора у европейцев, но не у азиатов (см. прим. 241 и 256). Это означает, что в азиатской популяции светлокожесть сформирована другим набором генов, либо азиаты приобрели ее намного раньше европейцев. При втором сценарии признаки селекции просто угасли, и потому тест Притчарда не подсвечивает эти гены.
(обратно)153
В Африке и в Европе ушная сера у большинства людей влажная. Но в восточной Азии правилом будет сухая. Группа японских ученых установила, что разница объясняется мутацией в гене ABCC11. (Koh-ictum Yoshiura et al., «A SNP in the ABCC11 Gene Is the Determinant of Human Earwax Type,» Nature Genetics 38:324–330 [2006].) Мутация, скорее всего, возникла в северной части восточной Азии и распространилась быстро – она практически универсальна у северных хань и у корейцев. Какой фактор отбора вызвал столь быстрое распространение новой версии гена? Ушная сера играет довольно скромную роль биологической мушиной липучки: она препятствует попаданию в ухо насекомых и грязи, и не похоже, чтобы изменение ее консистенции могло принести сколько-нибудь значимое преимущество. Похоже, что новая версия гена утвердилась потому что он, как предполагается, также уменьшает потоотделение, а следовательно, ослабляет запах тела. Видимо, какое-то из этих двух усовершенствований, если не оба, и обеспечили гену такое значительное преимущество.
(обратно)154
Richard G. Klein, The Human Career, p. 502.
(обратно)155
Ofer Bar-Yosef, «On the Nature of Transitions: The Middle to Upper Paleolithic and the Neolithic Revolution,» Cambridge Journal of Archaeology 8: (2): 141–163 (1998).
(обратно)156
Ofer Bar-Yosef, «From Sedentary Foragers to Village Hierarchies,» The Origin of Human Social Institutions, Oxford University Press, 2001, p. 7.
(обратно)157
Peter M. M. G. Akkermans and Glenn M. Schwartz, The Archaeology of Syria, Cambridge University Press, 2003, p. 45.
(обратно)158
Brian M. Fagan, People of the Earth, 10th ed., Prentice Hall, 2001, p. 226.
(обратно)159
The evidence included a Natufian skeleton with a Natufian type arrow point embedded in the thoracic vertebrae. Fanny Bocquentin and Ofer Bar-Yosef, «Early Natufian Remains: Evidence for Physical Conflict from Mt. Carmel, Israel,» Journal of Human Evolution 47:19–23 (2004).
(обратно)160
Akkermans and Schwartz, The Archaeology of Syria, p. 96.
(обратно)161
Colin Renfrew, «Commodification and Institution in Group-Oriented and Individualizing Societies,» in W. G. Runciman, ed., The Origin of Social Institutions, Oxford University Press, 2001, p. 95.
(обратно)162
Natalie D. Munro, «Zooarchaeological Measures of Hunting Pressure and Occupation Intensity in the Natufian,» Current Anthropology 45: S5–33 (2004).
(обратно)163
Akkermans and Schwartz, The Archaeology of Syria, p. 70.
(обратно)164
Daniel Zohary and Maria Hopf, Domestication of Plants in the Old World, 3rd ed., Ox ford University Press, 2000, p. 18.
(обратно)165
Robin Allaby, «Wheat Domestication,» in Archaeogenetics: DNA and the Population Prehistory of Europe, McDonald Institute for Archaeological Research, 2000, pp. 321–324.
(обратно)166
Francesco Salamini et al., «Genetics and Geography of Wild Cereal Domestication in the Near East,» Nature Reviews Genetics 3:429–441 (2002).
(обратно)167
Manfred Heun et al., «Site of Einkorn Wheat Domestication Identified by DNA Fin gerprinting,» Science 278:1312–1314 (1997); Daniel Zohary, and Maria Hopf, Domestication of Plants in the Old World, p. 36.
(обратно)168
Francesco Salamini et al, «Genetics and Geography of Wild Cereal Domestication in the Near East.»
(обратно)169
Christopher S. Troy et al., «Genetic Evidence for Near-Eastern Origins of European Cattle,» Nature 410:1088–1091 (2001).
(обратно)170
Carlos Vila et al., «Widespread Origins of Domestic Horse Lineages,» Science 291:474–477 (2001).
(обратно)171
Вместе с тем Y-хромосома лошади повествует, похоже, о другом. Пробы из небольшого ее участка у 15 разных пород европейской и азиатской лошади оказались, не в пример митохондриальной ДНК, идентичными. Gabriella Litidgien et al., «Limited Number of Patrilines in Hotse Domestication,» Nature Genetics 36:335–336 (2004). Отсюда следует, что древние коневоды, как и нынешние, часто давали одному жеребцу покрывать множество кобыл. А независимое одомашнивание лошадей, вероятно, не было таким уж распространенным явлением, как подсказывает анализ митохондриальной ДНК.
(обратно)172
Такой вывод подтверждается непосредственным изучением первых неолитических аграриев, поселившихся в Европе. Ученые извлекли митохондриальную ДНК из костей, обнаруженных в археологических памятниках самых ранних (7500 лет назад) сельскохозяйственных сообществ из Германии, Австрии и Венгрии. Четверть всех образцов принадлежала подветви Nla на митохондриальном древе, а этот тип сегодня крайне редок среди европейцев. Следовательно, хотя неолитические сельскохозяйственные практики распространялись стремительно, сами аграрии не привнесли заметного генетического влияния. Авторы придерживаются мнения, что «сельское хозяйство в Европу принесли небольшие группы пионеров, и когда оно утвердилось, соседствующие собирательские сообщества переняли новую культуру и численно подавили исконных аграриев, размыв частотность Nla-ветви до современного низкого уровня». Wolfgang Haak et al., «Ancient DNA from the First European Farmers in 7500-Year-Old Neolithic Sites,» Science 310:1016–1018 (2005).
(обратно)173
Ornella Semino et al., "The Genetic Legacy of Paleolithic Homo sapiens sapiens in Extant Europeans: AY Chromosome Perspective," Science 290:1155–1159 (2000).
(обратно)174
Roy King and Peter A. Underhill, «Congruent Distribution of Neolithic Painted Pottery and Ceramic Figurines with Y-Chromosome Lineages,» Antiquity 76:707–714 (2002).
(обратно)175
Благодарю свою читательницу, кулинарного обозревателя Энн Мендельсон, обратившую мое внимание на то, что во многих частях мира люди потребляют молоко только в сквашенном виде, в продуктах вроде йогурта, где лактоза уже трансформировалась благодаря работе бактерий в молочную кислоту. В таких условиях не возникает стимула для развития переносимости лактозы. Тем не менее она у человека возникла, так что люди культуры воронкообразных кубков, видимо, употребляли молоко парным, возможно, потому, что не умели сквашивать.
(обратно)176
Albano Beja-Pereira et al., «Gene-Culture Coevolution between Cattle Milk Protein Genes and Human Lactase Genes,» Nature Genetics 35:311–315 (2003).
(обратно)177
Nabil Sabri Enattah et al., «Identification of a Variant Associated with Adult-type Hypolactasia,» Nature Genetics 30:233–237 (2002).
(обратно)178
Todd Bersaglieri et al., «Genetic Signatures of Strong Recent Positive Selection at the Lactase Gene,» American Journal of Human Genetics 74:1111–1120 (2004).
(обратно)179
Charlotte A. Mulcare et al., «The T Allele of a Single-Nucleotide Polymorphism 13.9 kb Upstream of the Lactase Gene (LCT) (C-13.9kbT) Does Not Predict or Cause the Lactase-Persistence Phenotype in Africans,» American Journal of Human Genetics 74:1102–1110 (2004).
(обратно)180
Napoleon Chagnon, «Life Histories, Blood Revenge, and Warfare in a Tribal Population,» Science 239:985–992 (1988).
(обратно)181
Anne E. Pusey, in Frans В. M. de Waal, ed., Tree of Origin, Harvard University Press 2001, p. 21.
(обратно)182
John C. Mitani, David R Watts, and Martin N. Muller, «Recent Developments in the Study of Wild Chimpanzee Behavior,» Evolutionary Anthropology 11:9–25 (2002).
(обратно)183
Anne E. Pusey, Tree of Origin, p. 26.
(обратно)184
Julie L. Constable, Mary V. Ashley, Jane Goodall, and Anne E. Pusey, «Noninvasive Paternity Assignment in Gombe Chimpanzees,» Molecular Ecology 10:1279–1300 (2001).
(обратно)185
Anne Pusey, Jennifer Williams, and Jane Goodall, «The Influence of Dominance Rank on the Reproductive Success of Female Chimpanzees,» Science 277:828–831 (1997).
(обратно)186
A. Whiten et al., «Cultures in Chimpanzees,» Nature 399:682 (1999).
(обратно)187
W. C. McGrew, «Tools Compared,» in Richard W. Wrangham et al., eds.,Chimpanzee Cultures, Harvard University Press, 1994, p. 25.
(обратно)188
Richard W. Wrangham et al., Demonic Males, Houghton Mifflin, 1996, p. 226.
(обратно)189
Some experts argue that chimps are derived from bonobos, but the direction of change makes no difference here.
(обратно)190
Frans de Waal, Our Inner Ape, Riverhead Books, 2005, p. 221.
(обратно)191
John C. Mitani, David R Watts, and Martin N. Muller, «Recent Developments in the Study of Wild Chimpanzee Behavior,» Evolutionary Anthropology 11:9–25 (2002).
(обратно)192
Napoleon A. Chagnon, Yanomamo, 5th ed., Wadsworth, 1997, p. 189.
(обратно)193
Там же, с. 97.
(обратно)194
Lawrence H. Keeley, War before Civilization, Oxford University Press, 1996, p. 174.
(обратно)195
Там же, с. 33.
(обратно)196
Steven A. LeBlanc, Constant Battles, St. Martin s Press, 2003, p. 8.
(обратно)197
Simon Mead et al., «Balancing Selection at the Prion Protein Gene Consistent with Prehistoric Kurulike Epidemics,» Science 300:640–643 (2003).
(обратно)198
Edward O. Wilson, On Human Nature, Harvard University Press, 1978, p. 114.
(обратно)199
Louise Barrett, Robin Dunbar, and John Lycett, Human Evolutionary Psychology, Princeton University Press, 2002, p. 64.
(обратно)200
Napoleon A. Chagnon, Yanomamo, 5th ed., Wadsworth, 1997, p. 76.
(обратно)201
Napoleon Chagnon, «Life Histories, Blood Revenge, and Warfare in a Tribal Population,» Science 239:985–992 (1988).
(обратно)202
Napoleon A. Chagnon, Yanomamo, p. 77.
(обратно)203
David M. Buss, Evolutionary Psychology, 2nd ed., Pearson Education, 2004, p. 257.
(обратно)204
Robert L. Trivers, «The Evolution of Reciprocal Altruism,» Quarterly Review of Biology 46:35–57, 1971.
(обратно)205
Following Steven Pinker, How the Mind Works, W. W. Norton, 1997, pp. 404–405.
(обратно)206
Matt Ridley, The Origins of Virtue, Viking, 1996, p. 197.
(обратно)207
Paul Seabright, «The Company of Strangers: A Natural History of Economic Life,» Princeton University Press, 2004, p. 28.
(обратно)208
Michael Kosfeld et al., «Oxytocin Increases Trust in Humans,» Nature 435:673–676 (2005).
(обратно)209
Roy A. Rappaport, «The Sacred in Human Evolution,» Annual Review of Ecology and Systematics 2:23–44 (1971).
(обратно)210
Joyce Marcus and Kent V. Flannery, «The Coevolution of Ritual and Society: New HC Dates from Ancient Mexico,» Proceedings of the National Academy of Sciences 18252–18261 (2004).
(обратно)211
Richard Sosis, «Why Aren't We all Hutterites?» Human Nature 14:91–127 (2003).
(обратно)212
Edward O. Wilson, On Human Nature, Harvard University Press, 1978, p. 175.
(обратно)213
Frank W Marlowe, «A Critical Period for Provisioning by Hadza Men: Implications for Pair Bonding,» Evolution and Human Behavior 24:217–229 (2003).
(обратно)214
Tim Birkhead, Promiscuity, Harvard University Press, 2000, p. 41.
(обратно)215
Nicholas Wade, «Battle of the Sexes is Discerned in Sperm,» New York Times February 22, 2000, p. F1.
(обратно)216
Alan F. Dixson, Primate Sexuality, Oxford University Press, 1998, p. 218.
(обратно)217
Gerald J. Wyckoff, Wen Wang, and Chung-I Wu, «Rapid Evolution of Male Reproductive Genes in the Descent of Man,» Nature 403:304–309 (2000).
(обратно)218
В репродуктивном тракте женщины сперматозоиды обычно живут не дольше 48 часов, хотя бывают случаи, когда они выживают и до пяти дней. Tim Birkhead, Promiscuity, p. 67. Tim Birkhead, Promiscuity, p. 67.
(обратно)219
Robin Baker, Sperm Wars, Basic Books, 1996, p. 38. Baker has contributed several novel findings to this field but some have not survived challenge by other researchers; see Birkhead, as cited, pp. 23–29.
(обратно)220
W H. James, «The Incidence of Superfecundation and of Double Paternity in the General Population,» Acta Geneticae Medicae et Gemellologiae 42:257–262 (1993).
(обратно)221
R. E. Wenk et al., «How Frequent is Heteropaternal Superfecundation?» Acta Geneticae Medicae et Gemellologiae 41:43–47 (1992).
(обратно)222
Louise Barrett, Robin Dunbar, and John Lycett, Human Evolutionary Psychology, Princeton University Press, 2002, p. 181.
(обратно)223
Bobbi S. Low, Why Sex Matters, Princeton University Press, 2000, p. 80.
(обратно)224
David M. Buss, Evolutionary Psychology, 2nd ed., Pearson Education, 2004, p. 112.
(обратно)225
Там же, с. 117.
(обратно)226
Geoffrey Miller, The Mating Mind: How Sexual Choice Shaped the Evolution of Human Nature, Doubleday, 2000.
(обратно)227
Marta Mirazon Lahr, The Evolution of Modern Human Diversity: A Study of Cranial Variation, Cambridge University Press, 1996, p. 263.
(обратно)228
Там же, с. 337.
(обратно)229
Marta Mirazon Lahr and Richard V. S. Wright, "The Question of Robusticity and the Relationship Between Cranial Size and Shape in Homo sapiens," Journal of Human Evolution 31:157–191 (1996).
(обратно)230
Helen M. Leach, «Human Domestication Reconsidered,» Current Anthropology 44:349–368 (2003).
(обратно)231
Там же, с. 360.
(обратно)232
Richard Wrangham, interview, Edge, February 2, 2002, .
(обратно)233
Allen W. Johnson and Timothy Earle, The Evolution of Human Societies, 2nd ed., Stan ford University Press, 2000.
(обратно)234
.
(обратно)235
Derek V. Exner et al., «Lesser Response to Angiotensin-convertingenzyme Inhibitor Therapy in Black as Compared with White Patients with Left Ventricular Dysfunction,» New England Journal of Medicine 344:1351–1357 (2001).
(обратно)236
Anne L. Taylor et al., «Combination of Isosorbide Dinitrate and Hydralazine in Blacks with Heart Failure,» New England Journal of Medicine 351:2049–2057, 2004; Nicholas Wade, "Race-Based Medicine Continued, "New York Times November 14, 2004, Section 4, p. 12.
(обратно)237
Robert S. Schwartz, «Racial Profiling in Medical Research,» New England Journal of Medicine 344:1392–1393 (2001).
(обратно)238
«Genes, Drugs and Race,» Nature Genetics 29:239 (2001).
(обратно)239
Neil Risch, Esteban Burchard, Elav Ziv, and Hua Tang, «Categorization of Ilumans in Biomedical Research: Genes, Race and Disease,» genomebiology.com/2002/3/7/comment/2007.
(обратно)240
Agnar Helgason et al., «An Icelandic Example of the Impact of Population Structure on Association Studies,» Nature Genetics 37:90–95 (2005); Nicholas Wade, «Where Are You From? For Icelanders, the Answer Is in the Genes,» New York Times, December 28, 2004, p. F3.
(обратно)241
Rebecca L. Lamason et al., «SLC24A5, a Putative Cation Exchanger, Affects Pigmentation in Zebrafish and Humans,» Science 310:1782–1786 (2005).
(обратно)242
Noah A. Rosenberg et al., «Genetic Structure of Human Populations,» Science 298:2381–2385 (2002).
(обратно)243
Nicholas Wade, «Gene Study Identifies 5 Main Human Populations, Linking Them to Geography,» New York Times, December 20, 2002, p. A37.
(обратно)244
В американской судебно-медицинской экспертизе у подозреваемого исследуются 13 участков генома и подсчитывается число повторов. Немало людей могут иметь одно и то же число повторов на одном участке. Заметно меньше имеют поровну повторов на двух участках. Вероятность того, что в США найдется два человека, обладающих одинаковым числом повторов на всех 13 участках, столь ничтожна, что набор повторов можно считать неповторимым, исключение – однояйцевые близнецы. (Число повторов на каждом участке – это фактически два числа: одно – повторы в хромосоме, унаследованной от матери, второе – в отцовской, но внутри пары числа часто бывают равные).
(обратно)245
Nicholas Wade, «For Sale: A DNA Test to Measure Racial Mix,» New York Times, October 1, 2002, p. F4.
(обратно)246
Nicholas Wade, «Unusual Use of DNA Aided in Serial Killer Search,» New York Times, June 2, 2003, p. A28.
(обратно)247
Richard Lewontin, Human Diversity, W. H. Freeman, 1995, p. 123.
(обратно)248
Statement adopted by the council of the American Sociological Association, August 9, 2002; available on .
(обратно)249
American Anthropological Association statement on «Race,» May 17, 1998; .
(обратно)250
Quoted by Henry Harpending and Alan R. Rogers in «Genetic Perspectives on Human Origins and Differentiation,» Annual Review of Genomics and Human Genetics 1:361–385 (2000).
(обратно)251
David L. Hartl and Andrew G. Clark, Principles of Population Genetics, 3rd ed., Sinauer Associates, 1997, p. 119.
(обратно)252
Patrick D. Evans et al., «Microcephalin, a Gene Regulating Brain Size, Continues to Evolve Adaptively in Humans,» Science 309:1717–1720 (2005).
(обратно)253
Nitzan Mekel-Bobrov, "Ongoing Adaptive Evolution of ASPM, a Brain Size Determinant in Homo sapiens," Science 309:1720–1722 (2005).
(обратно)254
John H. Relethford, «Apportionment of Global Human Genetic Diversity Based on Craniometries and Skin Color,» American Journal of Physical Anthropology 118:393–398 (2002).
(обратно)255
Henry Harpending and Alan R. Rogers, «Genetic Perspectives on Human Origins and Differentiation,» 1:380.
(обратно)256
Анализ, проведенный группой Притчарда, основан на том обстоятельстве, что благоприятные мутации наследуются в составе крупных блоков ДНК, каждый из которых несет индивидуальную «подпись» из ДНК-модификаций. Если ген с полезной мутацией распространяется быстро, то распространяется и блок, следовательно, ДНК на этом участке хромосомы в популяции становится менее разнообразной: все больше особей носят в этом участке хромосомы одинаковую последовательность блоков ДНК. Анализ Притчарда показывает уровни этого разнообразия у тех, кто обладает новой версией гена, и тех, кто не обладает. Малое разнообразие в масштабах популяции считается признаком отбора. Когда ген становится универсальным, разница в вариативности исчезает: все люди носят новый блок. Таким образом тест выявляет только новые мутированные гены, которые еще не стали универсальными, то есть недавно отобранные.
Блоки с мутированными генами Притчард искал в материале, собранном проектом Hap Map у африканцев (нигерийских йоруба), восточных азиатов и европейцев. Для африканских генов время селективного давления определено в 10 800 лет назад, для азиатских и европейских – в 6600 лет назад.
Схема показывает, что у африканцев обнаружено 206 закрепляющихся кодирующих областей, у азиатов – 185 и у европейцев – 188. Лишь небольшая часть закрепляющихся генов совпадает: значит, каждая из популяций эволюционировала независимо от других. Общие для двух рас отобранные гены могут объясняться миграцией или конвергентной эволюцией.
Закрепляющиеся гены разбиваются на отдельные категории. Особенно четко сигнализируют об отборе четыре гена цвета кожи, закрепляющиеся только у европейцев. Другая категория закрепляющихся генов относится к строительству скелета (возможно, это след грацилизации человеческих популяций). Остальные категории: гены детородности, гены вкуса и обоняния и гены, связанные с усваиванием пищи. Две последние группы, вероятно, отражают резкую перемену в рационе, которая произошла после неолитической революции.
Источник: Benjamin F. Voight; Sridhar Kudaravalli; Xiao-quan Wen; Jonathan K. Pritchard. «A Map Of Recent Positive Selection In The Human Genome», PloS Biology 4:446–458 (2006).
Гены, подвергшиеся недавним эволюционным трансформациям в геномах жителей восточной Азии (ASN), европейцев (CEU) и африканцев (YRI).
(обратно)257
Nicholas Wade, «Race-Based Medicine Continued,» New York Times, November 14, 2004, Section 4, p. 12.
(обратно)258
Jon Entine, Taboo, Public Affairs, 2000, p. 34.
(обратно)259
Там же, с. 39–40.
(обратно)260
Jon Entine, «The Straw Man of 'Race,'» World 6I, September 2001, p. 309.
(обратно)261
John Manners, Kenya's Running Tribe, available online at .
(обратно)262
Там же.
(обратно)263
Jared Diamond, Guns, Germs, and Steel, W. W. Norton, 1997, p. 25.
(обратно)264
Richard Klein, The Human Career, 2nd ed., University of Chicago Press, 1999, p. 502.
(обратно)265
Robin I. M. Dunbar, «The Origin and Subsequent Evolution of Language,» in Morten H. Christiansen and Simon Kirby, Language Evolution, Oxford University Press, 2003, p. 231.
(обратно)266
Judges 12:5–6.
(обратно)267
Denis Mack Smith, Medieval Sicily, Chatto & Windus, 1968, p. 71.
(обратно)268
William A. Foley, «The Languages of New Guinea,» Annual Review of Anthropology 29:357–404 (2000).
(обратно)269
Jonathan Adams and Marcel Otte, «Did Indo-European Languages Spread before Farming?» Current Anthropology 40:73–77 (1999).
(обратно)270
Jared Diamond and Peter Bellwood, «Farmers and Their Languages: The First Expansions,» Science 300:597–603 (2003).
(обратно)271
Christopher Ehret, O. Y. Keita, and Paul Newman, «Origins of Afroasiatic,» Science 306:1680–1681 (2004).
(обратно)272
Christopher Ehret, «Language Family Expansions: Broadening Our Understandings of Cause from an African Perspective,» in Peter Bellwood and Colin Renfrew, eds., Examining the Farming/Language Dispersal Hypothesis, McDonald Institute for Archaeological Research, 2002, p. 173.
(обратно)273
Colin Renfrew, Archaeology and Language, Jonathan Cape, 1987.
(обратно)274
L. Luca Cavalli-Sforza, Paolo Menozzi, and Alberto Piazza, The History and Geography of Human Genes, Princeton University Press, 1994, pp. 296–299.
(обратно)275
Там же, с. 299.
(обратно)276
Marek Zvelebil, «Demography and Dispersal of Early Farming Populations at the Mesolithic-Neolithic Transition: Linguistic and Genetic Implications,» in Peter Bellwood and Colin Renfrew, ed., Examining the Farming/Language Dispersal Hypothesis, McDonald Institute for Archaeological Research, 2002, p. 381.
(обратно)277
Colin Renfrew, April McMahon, and Larry Trask, eds., Time Depth in Historical Linguistics, McDonald Institute for Archaeological Research, 2000.
(обратно)278
Bill J. Darden, «On the Question of the Anatolian Origin of Indo-Hittite,» in Great Anatolia and the Indo-Hittite Language Family, Journal of Indo-European Studies Monograph No. 38, Institute for the Study of Man, 2001.
(обратно)279
Mark Pagel, «Maximum-Likelihood Methods for Glottochronology and for Reconstructing Linguistic Phylogenies,» in Colin Renfrew, April McMahon, and Larry Trask, eds., Time Depth in Historical Linguistics, McDonald Institute for Archaeological Research, 2000, p. 198.
(обратно)280
K. Bergsland and H. Vogt, «On the Validity of Glottochronology,» Current Anthropology 3:115–153 (1962).
(обратно)281
Russell D. Gray and Quentin D. Atkinson, «Language-Tree Divergence Times Support the Anatolian Theory of Indo-European Origin,» Nature 426:435–439 (2003).
(обратно)282
Peter Forster and Alfred Toth, «Toward a Phylogenetic Chronology of Ancient Gaulish, Celtic and Indo European,» Proceedings of the National Academy of Sciences 100:9079–9084 (2003).
(обратно)283
Bernd Heine and Derek Nurse, eds., African Languages, Cambridge University Press 2000, p. 1.
(обратно)284
Christopher Ehret, «Language and History,» in Bernd Heine and Derek Nurse, eds., African Languages, Cambridge University Press, 2000, pp. 272–298; «Testing the Expectations of Glottochronology against the Correlations of Language and Archaeology in Africa,» in Colin Renfrew, April McMahon, and Larry Trask, eds., Time Depth in Historical Linguistics, McDonald Institute for Archaeological Research 2000 pp. 373–401.
(обратно)285
Richard J. Hayward, «Afroasiatic,» in Bernd Heine and Derek Nurse, eds., African Languages, Cambridge University Press, 2000, pp. 79–98.
(обратно)286
Christopher Ehret, «Language and History,» in Bernd Heine and Derek Nurse, eds., African Languages, Cambridge University Press, 2000, p. 290.
(обратно)287
Nicholas Wade, «Joseph Greenberg, 85, Singular Linguist, Dies,» New York Times May 15, 2001, p. A23.
(обратно)288
Joseph H. Greenberg, «Language in the Americas,» Stanford University Press, 1987.
(обратно)289
L. Luca Cavalli-Sforza, Paolo Menozzi, and Alberto Piazza, The History and Geography of Human Genes, Princeton University Press, 1994, pp. 317, 96.
(обратно)290
Там же, с. 99.
(обратно)291
L. L. Cavalli-Sforza, Eric Minch, and J. L. Mountain, «Coevolution of Genes and Languages Revisited,» Proceedings of the National Academy of Sciences 89:5620–5624 (1992).
(обратно)292
M. Lionel Bender, in Bernd Heine and Derek Nurse, eds., African Languages, Cambridge University Press, 2000, p. 54.
(обратно)293
Пример взят из Lyle Campbell, Historical Linguistics, MIT Press 1999 p. 111.
(обратно)294
Richard Hayward, in Bernd Heine and Derek Nurse, eds., African Languages, Cam bridge University Press, 2000, p. 86.
(обратно)295
Nicholas Wade, «Scientist at Work: Joseph H. Greenberg; What We All Spoke When the World Was Young,» New York Times, February 1, 2000, p. F1.
(обратно)296
Joseph H. Greenberg, Indo-European and Its Closest Relatives, Volume 1: Grammar, Stanford University Press, 2000, p. 217.
(обратно)297
Joseph H. Greenberg, Indo-European and Its Closest Relatives, Volume 2: Lexicon, Stanford University Press, 2002.
(обратно)298
Там же, с. 2.
(обратно)299
Nicholas Wade, «Joseph Greenberg, 85, Singular Linguist, Dies,» New York Times, May 15, 2001, p. A23; Harold C. Fleming, «Joseph Harold Greenberg: A Tribute and an Appraisal,» Mother Tongue: The Journal VI: 9–27 (2000–2001).
(обратно)300
Johanna Nichols, «Modeling Ancient Population Structures and Movement in Linguistics,» Annual Review of Anthropology, 26:359–384 (1979).
(обратно)301
Mark Pagel, «Maximum-Likelihood Methods for Glottochronology and for Reconstructing Linguistic Phylogenies.»
(обратно)302
Merritt Ruhlen, The Origin of Language, Wiley, 1994, p. 115.
(обратно)303
Tatiana Zerjal et al., «The Genetic Legacy of the Mongols,» American Journal of Hu man Genetics 72:717–721 (2003).
(обратно)304
Ala-ad-Din 'Ata-Malik Juvaini, The History of the World Conqueror, trans. J. A. Boyle, Manchester University Press, 1958, vol. 2, p. 594.
(обратно)305
Nicholas Wade, «A Prolifi c Genghis Khan, It Seems, Helped People the World,» New York Times, February 11, 2003, p. F3.
(обратно)306
Yali Xue et al., «Recent Spread of a Y-Chromosomal Lineage in Northern China and Mongolia,» American Journal of Human Genetics, 77:1112–1116 (2005).
(обратно)307
В северо-западной Ирландии целых 20 % мужчин обладают особенным набором мутаций в Y-хромосоме, известным как ирландский модальный гаплотип. Фамилии у многих из них восходят к Уи Нейллам, группе династий верховных королей Ирландии, правивших северо-западом и другими областями страны приблизительно с 600 по 900 г. Имя Уи Нейлл переводится как «потомки Ниалла». Историки были склонны считать их политическим образованием, а патриарха Ниалла Девять Заложников – легендарной фигурой. Генетическое исследование дает четкие доказательства того, что Ниалл Девять Заложников существовал в действительности: это открытие столь же поразительное, как если бы легенды о короле Артуре оказались исторической правдой. Ирландский модальный гаплотип, ярлык потомков Ниалла, чаще всего встречается в северо-западной Ирландии, но кроме того – в ирландской диаспоре: им обладают не менее 1 % жителей Нью-Йорка европейского происхождения. Очевидно, не стоит воспринимать слишком скептически слова ирландцев, когда они говорят, что в их жилах течет королевская кровь. Laoise T. Moore et al., «A Y-Chromosome Signature of Hegemony in Gaelic Ireland,» American Journal of Human Genetics 78:334–338 (2006).
(обратно)308
George Redmonds, interview, April 5, 2000.
(обратно)309
Bryan Sykes, Adam's Curse, W. W. Norton, 2004, p. 7.
(обратно)310
Bryan Sykes and Catherine Irven, «Surnames and the Y Chromosome,» American Journal of Human Genetics 66:1417–1419 (2000).
(обратно)311
Nicholas Wade, «If Biology Is Ancestry, Are These People Related?» New York Times, April 9, 2000, Section 4, p. 4.
(обратно)312
Bryan Sykes, Adam's Curse, p. 18.
(обратно)313
Cristian Capelli et al., «A Y Chromosome Census of the British Isles,» Current Biology 13:979–984 (2003).
(обратно)314
Emmeline W. Hill, Mark A. Jobling, and Daniel G. Bradley, «Y-chromosome Variation and Irish Origins,» Nature 404: 351 (2000); Nicholas Wade, «Researchers Trace Roots of Irish and Wind Up in Spain,» New York Times, March 23, 2000, p. A13; Nicholas Wade, «Y Chromosomes Sketch New Outline of British History,» New York Times, May 27, 2003, p. F2.
(обратно)315
James F. Wilson et al., «Genetic Evidence for Different Male and Female Roles During Cultural Transitions in the British Isles,» Proceedings of the National Academy of Science 98:5078–5083 (2001).
(обратно)316
Norman Davies, The Isles, Oxford University Press, 1999, p. 3.
(обратно)317
Benedikt Hallgrimsson et al, «Composition of the Founding Population of Iceland: Biological Distance and Morphological Variation in Early Historic Atlantic Europe,» American Journal of Physical Anthropology 124:257–274 (2004).
(обратно)318
Agnar Helgason et al., «Estimating Scandinavian and Gaelic Ancestry in the Male Settlers of Iceland,» American Journal of Human Genetics 67:697–717 (2000).
(обратно)319
Agnar Helgason et al., «mtDNA and the Origin of the Icelanders: Deciphering Signals of Recent Population History,» American Journal of Human Genetics 66:999–1016 (2000).
(обратно)320
Benedikt Hallgrimsson et al., «Composition of the Founding Population of Iceland.»
(обратно)321
Nicholas Wade, «A Genomic Treasure Hunt May Be Striking Gold,» New York Times, June 18, 2002, p. F1.
(обратно)322
Agnar Helgason et al., «A Population-wide Coalescent Analysis of Icelandic Matrilineal and Patrilineal Genealogies: Evidence for a Faster Evolutionary Rate of mtDNA Lineages than Y Chromosomes,» American Journal of Human Genetics 72:1370–1388 (2003).
(обратно)323
M. F. Hammer et al, "Jewish and Middle Eastern Non-Jewish Populations Share a Common Pool of Y-chromosome Biallelic Haplotypes, "Proceedings of the National Academy of Sciences 97:6769–6774 (2000).
(обратно)324
Mark G. Thomas et al., «Founding Mothers of Jewish Communities: Geographically Separated Jewish Groups Were Independently Founded by Very Few Female Ancestors,» American Journal of Human Genetics 70:1411–1420 (2002).
(обратно)325
Harry Ostrer, «A Genetic Profile of Contemporary Jewish Populations,» Nature Review Genetics 2:891–898 (2001).
(обратно)326
Shaye J. D. Cohen, The Beginnings of Jewishness, University of California Press, 1999, p. 303.
(обратно)327
Denise Grady, «Father Doesn't Always Know Best,» New York Times, July 7, 1988, Section 4, p. 4.
(обратно)328
Yaakov Kleiman, «The DNA Chain of Tradition,» -levi.org.
(обратно)329
Karl Skorecki et al., «Y Chromosomes of Jewish Priests,» Nature 385:32 (1997).
(обратно)330
Israel Finkelstein and Neil Asher Silberman, The Bible Unearthed, Free Press, 2001, p. 98.
(обратно)331
Mark G. Thomas et al., «Origins of Old Testament Priests,» Nature 394:138–139 (1998).
(обратно)332
James S. Boster, Richard R. Hudson, and Steven J. C. Gaulin, «High Paternity Certain ties of Jewish Priests,» American Anthropologist 111 (4):967–971 (1999).
(обратно)333
Doron M. Behar et al., «Multiple Origins of Ashkenazi Levites: Y Chromosome Evidence for Both Near Eastern and European Ancestries,» American Journal of Human Genetics 73:768–779 (2003).
(обратно)334
Nicholas Wade, «Geneticists Report Finding Central Asian Link to Levites,» New York Times, September 27, 2003, p. A2.
(обратно)335
Harry Ostrer, «A Genetic Profile of Contemporary Jewish Populations,» 336. Jared M. Diamond, «Jewish Lysosomes,» Nature 368:291–292 (1994).
(обратно)336
Neil Risch et al., «Geographic Distribution of Disease Mutations in the Ashkenazi Jewish Population Supports Genetic Drift over Selection,» American Journal of Human Genetics 72:812–822 (2003).
(обратно)337
Montgomery Slatkin, «A Population-Genetic Test of Founder Effects and Implications for Ashkenazi Jewish Diseases,» American Journal of Human Genetics 75:282–293 (2004).
(обратно)338
Gregory Cochran, Jason Hardy, and Henry Harpending, «Natural History of Ashkenazi Intelligence,» Journal of Biosocial Science, in press (2005).
(обратно)339
Melvin Konner, Unsettled: An Anthropology of the Jews, Viking Compass, 2003, p. 198.
(обратно)340
Merrill D. Peterson, The Jefferson Image in the American Mind, Oxford University Press, 1960, p. 187.
(обратно)341
Joseph J. Ellis, American Sphinx: The Character of Thomas Jefferson, Knopf, 1997.
(обратно)342
Annette Gordon-Reed, Thomas Jefferson and Sally Hemings: An American Controversy, University of Virginia Press, 1997, p. 224.
(обратно)343
Eugene A. Foster et al., «Jefferson Fathered Slave's Last Child,» Nature 396:27–28 (1998).
(обратно)344
Nicholas Wade, «Defenders of Jefferson Renew Attack on DNA Data Linking Him to Slave Child,» New York Times, January 7, 1999, p. A20.
(обратно)345
Edward O. Wilson, Consilience, Alfred A. Knopf 1998, p. 286.
(обратно)346
The Chimpanzee Sequencing and Analysis Consortium, «Initial Sequence of the Chimpanzee Genome and Comparison with the Human Genome,» Nature 436:69–87 (2005). 99 %-ное совпадение показывает сравнение тех последовательностей ДНК в геноме человека и шимпанзе, которые напрямую соответствуют друг другу. Совпадение уменьшается до 96 %, если учесть вставки и исключения, то есть участки ДНК, встречающиеся только в одном из геномов.
(обратно)347
Louise Barrett, Robin Dunbar, and John Lycett, Human Evolutionary Psychology, Princeton University Press, 2002, p. 12.
(обратно)348
349 Mark Pagel, in Encyclopedia of Evolution, p. 330.
(обратно)349
Sarah A. Tishkoff et al., «Haplotype Diversity and Linkage Disequilibrium at Human G6PD: Recent Origin of Alleles That Confer Malarial Resistance,» Science 293: 455–462 (2001).
(обратно)350
J. Claiborne Stephens et al., «Dating the Origin of the CCR5-A32 AIDS Resistance Allele by the Coalescence of Haplotypes,» American Journal of Human Genetics 62:1507–1515 (1998).
(обратно)351
Alison P. Galvani and Montgomery Slatkin, «Evaluating Plague and Smallpox as Historical Selective Pressures for the CCR5-A32 HIV Resistance Allele,» Proceedings of the National Academy of Sciences, 100:15276–15279 (2003).
(обратно)352
Hreinn Stefansson et al, «A Common Inversion under Selection in Europeans,» Nature Genetics 37:129–137 (2005); Nicholas Wade, «Scientists Find DNA Region That Affects Europeans' Fertility,» New York Times, January 17, 2005, p. A12.
(обратно)353
Yoav Gilad et al, «Human Specific Loss of Olfactory Receptor Genes,» Proceedings of the National Academy of Sciences 100:3324–3327 (2003).
(обратно)354
Patrick D. Evans et al., «Microcephalin, a Gene Regulating Brain Size, Continues to Evolve Adaptively in Humans,» Science 309:1717–1720 (2005).
(обратно)355
Nitzan Mekel-Bobrov et al., "Ongoing Adaptive Evolution of ASPM, a Brain Size Determinant in Homo sapiens," Science 309:1720–1722 (2005).
(обратно)356
Li Zhisui, The Private Life of Chairman Mao, Random House, 1994.
(обратно)357
Quoted in Bobbi S. Low, Why Sex Matters, Princeton University Press, 2000, p. 57.
(обратно)358
Elizabeth A. D. Hammock and Larry J. Young, «Microsatellite Instability Generates Diversity in Brain and Sociobehavioral Traits,» Science 308:1630–1634 (2005).
(обратно)359
Richard E. Nisbett, The Geography of Thought, Free Press (2003).
(обратно)360
Victor Davis Hanson, Carnage and Culture, Doubleday, 2001, p. 54.
(обратно)361
Nicholas Wade, «Can It Be? The End of Evolution?» New York Times, August 24, 2003, Section 4, p. 1.
(обратно)362
Bobbi S. Low, Sex, Wealth, and Fertility, in Adaptation and Human Behavior, edited by Lee Cronk, Napeoleon Chagnon and William Irons, Walter de Gruyter, 2000, p. 340.
(обратно)363
Дело в том, что для производства сперматозоидов или яйцеклеток хромосома, полученная от матери, должна соединиться с соответствующей отцовской. Чтобы объединение прошло успешно, ДНК обеих хромосом должны достаточно полно совпадать по всей длине. Если хромосомы слишком различаются, содержат много несовпадающих блоков ДНК, они не смогут слиться, полноценные сперматозоиды или яйцеклетки не образуются, и особь останется бесплодной. M. A. Jobling et al., Human Evolutionary Genetics, Garland, 2004, p. 434.
(обратно)(обратно)






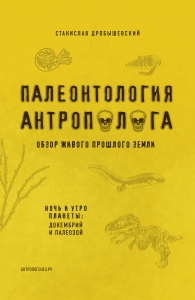



Комментарии к книге «На заре человечества. Неизвестная история наших предков», Николас Уэйд
Всего 0 комментариев