Джон Тёрни Я – суперорганизм! Человек и его микробиом
Когда узнаёшь больше, отвращение иногда сменяется восхищением.
Теодор Розбери.Жизнь на человекеCopyright © 2015 Jon Turney
© Перевод на русский язык, оформление. Лаборатория знаний, 2016
Введение
Организм, познакомься с суперорганизмом
Кто я? Зеркало всегда готово напомнить. Вот он я без всякой одежды (не беспокойтесь, я буду смотреть на это сомнительное зрелище один, чтобы вам этого делать не пришлось). Я вижу перед собой бледное прямоходящее двуногое. Средних лет, мужского пола, со светлой кожей. Сравнительно высокое по человеческим меркам. С небольшой склонностью к сутулости. Мою жизнь (по крайней мере до сих пор) вполне можно назвать благословенной с медицинской точки зрения, что вообще свойственно поколению бэби-бумеров Запада. Пока еще не видно особых признаков износа. Если вспомнить, каким я видел свое отражение 30 лет назад, можно заключить, что нынешняя моя версия делается всё упитаннее в поясе (и ногти на ногах тоже, как я замечаю, становятся толще), а вот волосы редеют. В остальном же я, пожалуй, выгляжу почти как прежде.
Такая преемственность тела, такая его неизменность – одна из составляющих моего ощущения собственного Я. Человеческое тело, довольно крупное по масштабам земных существ, служит единицей индивидуальности. Нет-нет, я не имею в виду какие-то философские смыслы. Я – автономный субъект-человек, и это мое тело. Или тут уже начинается философия? Во всяком случае, я не рассматриваю сейчас мое индивидуальное Я как нечто уникальное.
Однако я чувствую (уж не знаю, насколько это важно), что мельчайшую, ничтожнейшую, исчезающе малую долю вещества и энергии Вселенной, ту долю, которая и является мною, можно отделить от всего прочего. У той порции биомассы, которую я таскаю на себе (или которая таскает меня на себе), имеются вполне обыкновенные отверстия, куда поступают вещества, а также отверстия, откуда вещества выходят. Если я хочу и дальше оставаться живым, это должно происходить с известной регулярностью. Но мне представляется, что у данного тела есть довольно отчетливые границы. Похоже, оно довольно резко отличается от остального мира. Да, я поддерживаю сознательную связь с другими людьми главным образом благодаря языку. Более того, современные технологии позволяют мне связываться с тысячами людей, иной раз находящихся от меня очень далеко; возможности моих предков были в этом смысле куда скромнее. Однако Я, связанное с другими, имеет и телесное воплощение. Я – биологическая сущность, человеческий организм.
Признаться, я всегда ощущал это организменное Я (сейчас нас таких около 7 миллиардов) как корабль, выстроенный для одиночного плавания. Такое же интуитивное представление разделяют со мной художники и поэты. Как выражался Орсон Уэллс, мы рождаемся в одиночку, живем в одиночку, умираем в одиночку. Далее он замечает, что любовь и дружба все-таки иногда делают жизнь сносной. Что ж, это верно. Однако, как выясняется, сама его предпосылка совершенно неверна. Наука вначале потихоньку, исподволь, а в последние десятилетия всё более настойчиво возражает этому мнению. Вы, как и я, являетесь отдельным, индивидуальным человеком. Но мы не одни. У каждого из нас всегда есть спутники. И весьма многочисленные.
Взгляните еще раз
Вы когда-нибудь заглядывали себе в рот? Нет, не с помощью зеркальца – с помощью микроскопа? Возможно, вы проделывали это в школе. Если забыли, то вот как это делается. Осторожно поскребите внутреннюю поверхность щеки чистой ватной палочкой, плоским концом зубочистки или просто ногтем, если у вас нет под рукой никаких других инструментов. Перенесите этот комочек слизи на предметное стекло микроскопа, добавьте каплю красителя «метиленовый синий», накройте покровным стеклом, поместите под линзы микроскопа и наведите прибор на резкость.
Даже при небольшом (скажем, десятикратном) увеличении вы увидите некоторые клетки. Они плоские – и не только из-за того, что расплющены между стеклами. Плоское состояние вообще свойственно клеткам такого типа, принадлежащим ткани, которая называется чешуйчатым эпителием. Можно увидеть ядро, отвечающее за передачу наследственных инструкций (краситель помечает, в частности, ДНК) и отделенное от всего остального, то есть от цитоплазмы. Отдельная клетка при таком увеличении выглядит не очень-то впечатляюще. Тем не менее всякая клетка напоминает нам о потрясающем факте: каждый из нас – громадная высокоорганизованная коалиция множества таких клеток, крошечных частичек куда более крупного организма, которые, как правило, способны самостоятельно расти и делиться. Таким образом, каждое прямоходящее млекопитающее состоит из своего рода элементарных частиц жизни, нужно лишь отойти от привычных нам повседневных масштабов. Начало этим частицам кладет одна-единственная – оплодотворенная яйцеклетка. Она растет и делится, в итоге порождая триллионы клеток[1] и играя роль в поддержании существования высокоорганизованного ансамбля, то есть вас или меня.
Мало того. Прибавьте увеличение, и вы обнаружите под комьями эпителиальных клеток и вокруг них мелкие точки, окрашенные синим (мы ведь добавили краситель). Это бактерии. Они окажутся в этой пробе, даже если вы используете не палец, а чистый ватный тампон. У вас во рту (на внутренней поверхности щек, на языке, на зубах, деснах и т. п.) их полным-полно. Там тепло и влажно, к тому же вы постоянно добавляете туда питательные вещества. Да, полость рта – всего лишь промежуточная станция на пути в желудок. Но все равно это отличное местечко для жизни, правда? Бактерии можно найти на любых других поверхностях вашего тела, в том числе на внутренних (скажем, в кишечнике).
До самого недавнего времени мало кто особенно задумывался о бактериях и других микробах, которым мы даем пристанище. Однако они сопровождают нас в течение всей нашей эволюции. Собственно бактерии вообще появились первыми. Они вплетены в нашу жизнь гораздо теснее, чем нам казалось до недавних пор. Они образуют сложные, меняющиеся сообщества, формируемые под влиянием жизни других наших клеток и сами влияющие на их жизнь. Они играют неожиданно значительную роль в нашем пищеварении. Они вырабатывают необходимейшие витамины и другие ценные молекулы. Они расщепляют токсины и метаболизируют лекарства. Они оказывают невидимое воздействие на наши гормоны, на нашу иммунную систему, а может быть, и на наш мозг. Кроме того, они совместными усилиями вытесняют другие, потенциально опасные микроорганизмы, заполняя собой экологические ниши, которые эти наши враги охотно заняли бы сами. Не будь у нас этих многочисленных защитников, мы остро ощущали бы их отсутствие.
Ученые называют весь этот ансамбль микробов, существующих как постоянные попутчики более крупного организма, микробиотой. В наши дни всё чаще употребляется термин «микробиом»[2]. Мой микробиом в такой же степени живой, как и я сам. Он развивается, реагирует на изменения, приспосабливается к окружающим условиям по мере того, как жизнь идет вперед; точно так же ведут себя собственные клетки моего организма. И у вас происходит то же самое. Мы только-только начинаем разбираться в том, как это влияет на нашу жизнь и как вообще следует относиться к расширенному сообществу клеток, из которых мы состоим (к сообществу, которое и является нами). И тут нам помогают современные технологии, которые, прямо скажем, мощнее любого микроскопа.
Покажи-ка нам свою ДНК
Мы рассматриваем микроскопические организмы уже лет триста, но лишь совсем недавно взглянули на них по-новому. Впервые геном человека (полный набор генов, имеющийся в каждой нашей клетке) был полностью прочитан, то есть секвенирован, лишь чуть больше десяти лет назад. Это достижение позволило специалистам начать заниматься полномасштабным секвенированием в рутинном порядке. Конечно, нам предстоит еще многое узнать о наших генах и о том, как они функционируют. Но уже сейчас мы точно знаем, как секвенировать большие количества ДНК. А это в свою очередь открывает нам удивительные возможности исследования мира микробов.
Раньше биологи изучали микробы (главным образом бактерии и вирусы) по отдельности, одного за другим. В основе наших знаний о ДНК и о функционировании генов лежат исследования, предметом которых вначале служили бактерии, особенно одна лабораторная «рабочая лошадка» – Escherichia coli (кишечная палочка). «Что верно для E. coli, то верно и для слона», – гласил веселый девиз пионеров молекулярной генетики 1960-х. Сей девиз показывает, сколько усилий они вложили в изучение одного крошечного организма.
Эти исследования базировались на солидной микробиологической практике, берущей начало еще в XIX столетии. Поколения молекулярных генетиков XX века работали с колониями бактерий, выращенных из одной-единственной клетки в плоской чашке с питательным желе. В нелабораторных условиях микробы, разумеется, живут иначе. Поэтому такой исследовательский подход пригоден лишь для небольшой доли разновидностей микробов. Обычно бактерии, как и мы, обитают в мире, кишащем другими формами жизни. На теоретическом уровне мы давно это знали. ДНК-анализ принес нам множество новых открытий. Особенно это касается разнообразия и сложности микробной жизни.
В наши дни уже неважно, есть ли у вас чистый образец одной культуры. Достаточно взять любую доступную вам биологическую смесь, извлечь из нее генетический материал – и его можно исследовать. Этим занимается новая наука метагеномика. Всё начинается с отбора пробы, в которой могут присутствовать живые клетки (или, возможно, вирусы). Затем все содержащиеся в ней ДНК нарезаются на фрагменты и секвенируются. Весьма годятся в этом смысле морская вода, почва, экскременты. Результат анализа обычно дает громадный неупорядоченный список всевозможных генов. А уж потом ученые пытаются выяснить, что это за гены и кому они принадлежат.
Такое «генетическое окно» позволяет совершенно по-новому взглянуть на совокупность клеток, человеческих и микробных, из которых состоит существо, наблюдаемое мною в зеркале. И это весьма современный подход. В моей толстой кишке, к примеру, содержится около килограмма бактерий. И это значительная клеточная масса. В ней очень много информации.
Насколько много? Ответ может вас шокировать, если вы думаете, что Я, изучаемое вами в зеркале, и есть вы. Видите ли, ваши гены по большей части вам не очень-то и принадлежат.
Проект «Геном человека» обращал главное внимание на наши собственные хромосомы – аккуратно упакованные цепочки двойной спирали ДНК, располагающиеся в ядре каждой человеческой клетки и помогающие формированию нашей индивидуальности. Как выяснилось, всего в них 24 тысячи генов. Это намного меньше, чем «около ста тысяч» – величины, которую регулярно приводили в научной литературе совсем недавно. Но и такое количество, оказывается, вполне достаточно, дабы поддерживать существование сложного организма, состоящего из триллионов клеток примерно двухсот различных типов.
Наши микробы организуют свои гены совсем не так, как это приучились делать клетки крупного многоклеточного организма, использующие подход, который можно свести к коммерческой формуле «Одна модель подходит всем». Начнем с того, что микробных клеток попросту больше. Подсчитать их нелегко. Следует учитывать микробное население кишечника, рта, носа, половых органов, кожи. В литературе встречаются разные оценки количества наших бактериальных клеток – от 30 до 400 триллионов. Если бы имеющиеся у нас клетки принимали решения касательно нашей жизни большинством голосов, бактерии наверняка бы побеждали[3].
Но это лишь половина дела. Сколько у нас микробных генов? Опять-таки здесь трудно дать точную цифру. ДНК-анализ показывает, что общее количество генов в типичном микробиоме человека составляет около 2 миллионов – в 100 раз больше, чем в наших собственных клетках. Более того, у всех людей на Земле одно и то же количество генов, но микробиомы у всех разные. Количество известных нам микробных видов и микробных генов, сопутствующих человеку, растет по мере того, как исследуются новые образцы. Общее число всех генов, когда-либо обнаруженных в человеческих микробиомах, впятеро превышает число генов в микробиоме любого отдельного человека. Напомним: в человеческих клетках 24 тысячи генов. А все микробы, живущие на человеческих существах и внутри них, имеют около 10 миллионов генов[4].
Гены позволяют организмам делать самые разные вещи, и эти 10 миллионов – невероятно богатый генетический ресурс. Мы лишь сейчас начинаем понемногу понимать, что он способен нам дать. Мы уже знаем, что наш персональный набор бактерий помогает нам переваривать пищу, усваивать лекарства, активировать иммунную систему. Эти бактерии играют роль в развитии целого ряда заболеваний, особенно затрагивающих кишечник. Косвенно они могут влиять на то, разовьется у вас ожирение или онкологическое заболевание, даже на то, будете ли вы страдать от повышенного кровяного давления, грозит вам инфаркт или инсульт. Похоже, астма тоже возникает не без их участия. Есть указания на то, что состав бактериального населения нашего кишечника может влиять даже на развитие мозга и наше поведение.
Но это лишь начало. Мы пока не знаем функций многих микробных генов, уже обнаруженных нами, но при этом продолжаем находить новые виды, новые гены, новые взаимодействия. В микробиоме содержатся не только бактерии, но и другие одноклеточные организмы. Так, многочисленные грибки считают человека очень удобным хозяином. Кроме того, с нами сосуществуют самые разные вирусы (по большей части еще не классифицированные), что лишь добавляет богатства нашему совокупному генофонду. Мы покрыты живыми существами, завалены ими, пропитаны ими. И их колоссальное разнообразие трудно себе представить.
Как выясняется, наш микробиом – это не только впечатляющий генетический ресурс, но и неисчерпаемый (и по большей части не исследованный) источник человеческого многообразия. У разных людей набор видов и штаммов бактерий может очень сильно отличаться. Даже близкие родственники или просто совместно проживающие люди обладают микробными различиями. Кроме того, в разных частях нашего тела – от подмышек до анального отверстия – имеются разные популяции микробов. Они меняются с течением времени: мы едим различную пищу, стареем, перемещаемся, моемся, дезинфицируемся, глотаем антибиотики. Наука в кои-то веки показала нам поистине новый мир. Этот мир – наше внутреннее пространство. Этот мир – часть нас самих.
Как насчет меня?
Иногда наука развивается благодаря какому-то революционному открытию, теоретическому прорыву (вспомните Ньютона или Эйнштейна). Но чаще она движется вперед куда медленнее: мелкие наблюдения постепенно, шаг за шагом меняют картину реальности, которую мы выстраиваем в своем сознании. В наши же дни мы наблюдаем совсем другое: прогресс в микробиологии служит одним из примеров того, как внезапное, резкое усовершенствование методов наблюдения преображает научный подход и приводит к своего рода научной революции.
Это восхищает и воодушевляет, но и немного озадачивает – по мере того как новости с переднего края науки доходят до нас, простых смертных. Перед нами понемногу вырисовывается картина микробиома, и мне хочется понять, что она означает лично для меня. Наука получает сигналы, позволяющие узнать о происхождении Вселенной. Наука открывает мельчайшие частицы вещества. Но удивительно то, что невероятное многообразие жизни, которое мы несем (и всегда несли) на себе и в себе, так долго ускользало от внимания исследователей. А ведь оно всё время находилось, можно сказать, на самом виду. Если наука – один из путей самопознания, то эту часть себя мы начали познавать далеко не сразу.
Обычно я с большой осторожностью отношусь к историям о том, что принесла нам та или иная научная революция. Что означают для человечества новейшие открытия в области космологии, физики частиц или наук о Земле? Однако революция в области понимания человеческого микробиома действительно имеет ко всем людям и лично ко мне самое непосредственное отношение. В данном случае вполне резонно задаться вопросом: каково это – быть живым в нашем мире и вообще – быть человеком?
Тут нет и не может быть одного универсального ответа. Поток новых научных публикаций о наших бесчисленных микроскопических компаньонах грозит перерасти в настоящее наводнение. Всё больше лабораторий подключается к выяснению того, какие микроорганизмы с нами сосуществуют и каковы их намерения. Можно прикинуть масштаб таких исследований. Поисковая машина Google Scholar, индексирующая статьи в научных журналах, выдает лишь 15 результатов на слово микробиом для 1995 года и 30 – по прошествии 5 лет. К 2005 году наблюдается небольшое увеличение (до 76), а затем мы видим поистине фантастический рост: 2190 работ в 2010 году, 9300 – к 2013 году. В наши дни за микробиомными исследованиями просто невозможно уследить: тут вы уже не наблюдаете неспешную перестановку вех, а пытаетесь поймать взглядом стартовавшую ракету, которая неуклонно набирает скорость.
Изучение микробиома наверняка изменит наш подход ко многим проблемам, особенно медицинским. А еще изменит наше восприятие себя. Да, мы по-прежнему остаемся прямоходящими приматами, имеющими общего предка с шимпанзе и при помощи языка проложившими путь к тому новому типу культуры, цивилизации и технологии, который мы гордо именуем человеческим. Но теперь мы сами себе кажемся несколько другими. Как полагают некоторые специалисты, теперь нам следует заботиться о нашем неведомом прежде «органе» – микробиоме. Теперь мы можем воспринимать себя как ходячие говорящие биореакторы, несущие на себе и в себе тысячи других видов и выращивающие тысячи видов у себя в кишечнике. Весь этот ансамбль легко описать как экосистему или скорее как набор экосистем, активно действующих на клеточном уровне. Однако есть и другое описание: не исключено, что оно лучше всего показывает, каково это – иметь столь гигантское количество микроспутников. Такое описание подразумевает, что многие из них полезны, а то и жизненно нам необходимы. Это не комменсалы (так биологи называют сосуществующие организмы, которые просто не причиняют друг другу вреда; сам термин происходит от латинского слова, означающего «сотрапезники»), это полноправные наши партнеры, и мы постоянно поддерживаем друг друга. У такой взаимной поддержки есть другое название – симбиоз. Как показывают микробиомные исследования, у нас куда больше симбионтов, чем мы могли бы себе представить. Вместе со мной (или с вами) они составляют единый ансамбль – суперорганизм[5].
Всматриваясь внимательнее
В своей книге я пытаюсь разобраться, что же это такое – мое новое Я – суперорганизм. К проблеме можно подойти с разных сторон. «Суперорганизменное Я» – понятие не совсем новое, так что вас ждет небольшой исторический экскурс. Ученые еще не до конца поняли, как исследовать суперорганизмы; чтобы получше узнать свой суперорганизм, следует взглянуть на то, каким образом они раскрывают загадки его функционирования. Кроме того, сама постановка суперорганизма во главу угла меняет научный метод. Для изучения микробиома требуется множество дисциплин. Молекулярные генетики, экологи-микробиологи, инфекционисты, иммунологи учатся по-новому общаться друг с другом, порой не без труда. И всем им приходится налаживать общение с представителями новейшей отрасли – биоинформатики, которые занимаются базами данных и программами, помогающими осмысливать микробиом с информационной точки зрения. Междисциплинарное взаимодействие становится всё интенсивнее, и сами дисциплины в ходе такого общения меняются. В частности, иммунология переживает собственную научную революцию. Как выясняется, наша иммунная система сформировалась главным образом для того, чтобы управлять этим новым, осторожно поддерживаемым в равновесии комплексом, который и составляет суперорганизм.
Остальная часть книги посвящена целому ряду вопросов, вытекающих из вопроса основного. Что это означает – быть суперорганизмом? Некоторые ответы получить легко, другие же лишь начинают вырисовываться…
В главе 1 я расскажу о том, каким образом люди впервые узнали о невидимом мире микробов. Удивительно, как простой с виду инструмент – микроскоп – помог ученым столь сильно расширить наши представления о жизни, ведь человек сотни тысяч лет даже не подозревал о существовании микроорганизмов. Первой реакцией стало, конечно. изумление. Затем героические ученые выдвинули микробную теорию, которая помогла спасти миллионы жизней, однако не принесла репутации микробов ничего хорошего.
Глава 2 повествует о том, с какими микроорганизмами мы сосуществуем. Нам предстоит ответить на вопрос, что еще способны делать микробы, кроме как вызывать болезни. Оказывается, даже простые микроорганизмы – бактерии – могут делать всё, что и многоклеточная жизнь (разве что только вот книг они не пишут). Они правят миром – и всегда правили!
В главе 3 – о том, каким образом сегодня изучают микробиом. Почему нам вообще понадобилось столько времени, чтобы осознать, что он представляет собой важнейшую часть человеческой жизни? Виной тому – в том числе несовершенство техники. Ошеломляющий прогресс в методах ДНК-секвенирования и генетического анализа позволил по-новому взглянуть на жизнь внутри нас. Теперь, когда уже известно, что внутри нас есть микрожизнь, ученым предстоит разработать новые методы для изучения того, чем же эта жизнь на самом деле занимается. В экспериментах используются, к примеру, мыши, намеренно освобожденные от микробов и аккуратно снабженные новыми кишечными бактериями в определенных комбинациях, или искусственные экосистемы, тихо живущие в лабораторных сосудах, или кусочки специально выращенной кишечной ткани, на которой должны жить и размножаться микроорганизмы. Многочисленные варианты таких методик, применяемые в огромном количестве лабораторий, помогают выстраивать новую картину жизни наших микроскопических спутников.
Главы 4 и 5 отвечают на простой вопрос «Кто здесь?» главным образом при помощи ДНК-анализа. Ответы для разных людей различны, к тому же зависят от того, куда смотреть. Можно представлять себе единый микробиом или же множество: микробиомы губ и зубов, микробиомы каждого пальца, коленного сгиба, пупка, подмышки, паха. Я немного расскажу о некоторых хорошо изученных местах – рте, коже, вагине, легких. А затем, в главе 5, мы заглянем на более изобильные пастбища, обратившись к кишечнику – органу, где обитает самое крупное микробное сообщество. Это своего рода центр суперорганизма (если такой центр вообще можно выделить).
А когда мы уже кое-что узнаем о том, с какими мельчайшими существами делим свою жизнь, логично задаться вопросом: как же они все сюда попали? Глава 6 отвечает на этот вопрос двумя способами. Она повествует о том, как эти микробные сообщества обустроились в каждом из нас; как рождается микробиом, как он развивается. Но есть и более долгая история – о том, как человек и все его предки эволюционировали вместе со своими микроскопическими сообщниками. Подробности этой истории приходится собирать по кусочкам. Какие микробиомы есть у других современных приматов? Кого наши человекообразные предки невольно выкармливали в своих кишках? Отсюда вырастает вопрос, очень беспокоящий сегодня ученых: как современная жизнь (с кесаревым сечением при родах, антибиотиками, фастфудом) изменила наш микробный состав? Мы открываем по-настоящему значимые свойства собственного микробиома, но при этом, возможно, мы всё больше его портим?
В главе 7 подробно рассматривается вопрос о том, как все эти микробы взаимодействуют с нашими собственными клетками, тканями и органами. В центре этого взаимодействия – иммунная система. Мысль о том, что иммунные клетки постоянно ведут войну с чужеродными болезнетворными агентами, многие десятилетия доминировала в научных и обывательских рассуждениях об иммунитете. Как увязать эту идею с тем фактом, что внутри нас преспокойно обитают триллионы микробов? Сейчас более реалистичным представляется образ тонкого, постоянно меняющегося, но при этом тщательно выстраиваемого взаимодействия нашего организма с микробами. Такой сдвиг восприятия этого сложнейшего аспекта человеческого существования – пожалуй, пока самое серьезное научное достижение, порожденное микробиомными изысканиями.
Но и самое тщательно организованное взаимодействие может нарушаться. В главе 8 мы зададим вопрос: что происходит, когда наши колонисты-микробы разрывают свои жилищные контракты и начинают буйствовать? Медицинские последствия изменений микробных популяций многочисленны и разнообразны. Пока мы их не до конца понимаем, однако есть четкие указания на то, что эти последствия имеют немалое значение. Можно показать, что микробиом человека меняется при кишечных, онкологических, аутоиммунных заболеваниях, при ожирении и многих других отклонениях и недугах.
Многие из таких отклонений связаны с кишечным микробиомом. На что еще он способен влиять? Могут ли эти крошечные компоненты нашего суперорганизма воздействовать на вместилище разума – мозг? Глава 9 вступает на эту территорию, где куда меньше фактов и куда больше предположений и догадок, чем в предыдущих главах. Микробиом Я здесь взаимодействуют по-настоящему. Мы зададимся вопросом, как микробы могут влиять на наш мозг и наше поведение, и попробуем выяснить, что же сейчас известно о возможной связи микробиома с такими психическими расстройствами, как депрессия.
Если бактерии и правят миром, им в этом кое-кто помогает. Не многоклеточные организмы, а еще более простые объекты – вирусы. По оценкам специалистов, на каждую бактерию приходится по десятку вирусов (где бы то ни было). Наш организм – не исключение. Что же известно об этой стороне существования нашего микробиома? Об этом – в главе 10. Исследования нашего вирусного сообщества только начинаются, но могут оказаться не менее важными, чем исследования прочих составляющих микробиома.
Похоже, в современную эпоху наш микробиом изменился. Но, может быть, следовало бы попытаться вернуть наш микробиом в некое счастливое первобытное, первозданное состояние? Или проявить изобретательность и начать подгонять персональные экосистемы под наши собственные нужды? Об этом – в главе 11. Сегодня рынок предлагает два, казалось бы, диаметрально противоположных метода: фекальную трансплантацию (для того, чтобы заново заселить кишечник микроорганизмами) и потребление пробиотических продуктов вроде йогурта или кислой капусты (способ не столь радикальный, но и не очень эффективный). Оба метода можно совершенствовать. Мы уже умеем проводить генную инженерию множества бактерий в собственных интересах. И кто знает, а вдруг уже в нынешнем веке появятся микробиомы, изготовляемые на заказ?
Для последней главы остается один вопрос, тот самый, с которого мы начали. Что это означает – быть суперорганизмом? Я не в силах дать общий ответ на этот общий вопрос, так что придется вам удовольствоваться множеством коротеньких ответов. Проводимые сейчас исследования позволяют сформулировать кое-какие рекомендации насчет того, как нам заботиться о собственном микробиоме. Я рассмотрю некоторые возможные перспективы изысканий, некоторые вопросы, пока остающиеся без ответа, и прогнозы относительно того, как все-таки найти эти ответы в будущем. А затем я снова обращусь к зеркалу, дабы созерцать мое новое, комплексное Я.
Как бы то ни было, наша телесная жизнь теснейшим образом сплетена с бесчисленным множеством маленьких жизней. Мы уже знаем, что у нас с прочими формами жизни есть общие гены. А познакомившись с нашими собственными микробами, мы, очень может быть, начнем больше ценить их или даже восхищаться ими. И более того, живя в мире антибиотиков, антисептиков, дезинфекции и пастеризации, мы попытаемся больше о них заботиться? А может быть, суперорганизм способен заботиться о себе сам?
Но прежде чем я попытаюсь дать обзор нынешнего состояния науки о микробиоме, давайте вернемся к самой первой встрече человека с микробами – событию столь недавнему по историческим меркам, что мы можем датировать его довольно точно.
Глава 1. Странный новый мир
1676 год. Антони ван Левенгук, преуспевающий голландский торговец мануфактурой, вот уже 10 лет предается одному из самых захватывающих «запойных наблюдений» в истории науки. До того он с увлечением рассматривал иллюстрации из знаменитой «Микрографии» Роберта Гука (1665), дивясь невиданным изображениям вещей, которые никто раньше не видел в таких подробностях: вот фасеточный глаз мухи, а вот – волоски на пчелином жале, вошь, вцепившаяся в человеческий волос.
Вдохновленный этими работами, Левенгук усовершенствовал способ изготовления простых переносных микроскопов с небольшими сферическими линзами. Вскоре он сам увидел то же, что видел Гук, но его более совершенные инструменты позволили ему пойти дальше. Да, он убедился, что у крупных организмов есть чрезвычайно сложно устроенные мелкие части. Но, как выяснилось, за гранью обычного человеческого зрения происходит куда больше, чем казалось. Так, в капле воды из пруда Левенгук разглядел крошечных одноклеточных существ. Он назвал их анималькулами. Увидел он и еще более мелких существ, вначале – в воде, где размалывал перец в попытке выяснить, откуда берется его жгучий вкус. Выводы, изложенные в письме, которое Левенгук в 1676 году направил в лондонское Королевское научное общество, казались странными, но сам Гук вернулся к своим микроскопам и подтвердил: так оно и есть. Когда открытия голландца опубликовали в Proceedings [«Трудах»] Общества, анималькулы Левенгука произвели настоящую сенсацию, позволив зачарованному человечеству впервые заглянуть в микромир. Так были заложены основы микробиологии[6].
Семь лет спустя в одном из своих писем в Королевское научное общество (ставших регулярными) Левенгук описывал, что он увидел, когда, соскоблив немного белого вещества, скопившегося у него между зубами и «густого, словно подмокшая мука», смешивал его с дождевой водой или слюной и затем рассматривал под микроскопом при большом увеличении. «К моему великому изумлению… указанная субстанция содержала чрезвычайно много мелких живых существ, которые передвигались самым необычайным образом».
Движение служило для Левенгука признаком жизни. Он предположил, что многие небольшие объекты, которых он наблюдал и которые казались ему неподвижными, – неживая материя. Теперь-то мы знаем, что это просто менее подвижные микробы. Но левенгуковское описание этого миниатюрного зоопарка все-таки можно считать настоящим открытием. Так обнаружились новые формы жизни, которые оставались невидимыми и невообразимыми на протяжении всей предыдущей истории человечества. Как выяснилось, они не просто пребывают «где-то там, в неизвестности»; они в буквальном смысле живут на нас.
Любознательный голландец без устали разглядывал живность, которую извлекал из собственного рта. Он восторженно описывал «прелестнейшие движения» анималькул, способы, какими они перемещаются, разнообразие их форм, само их невероятное изобилие. Мельчайшие существа были «подобны стайке мух или комаров, летящих и обращающихся друг вокруг друга на весьма небольшом пространстве». Их количество оказалось таким большим, что Левенгук решил: «Многие тысячи их могут содержаться в капле воды объемом не более песчинки».
Таких же обитателей он нашел во рту у двух дам (вероятно, его жены и дочери), которые, как и Левенгук, регулярно чистили зубы. В другом месте он сообщает, что, поскребя зубы «престарелого джентльмена, весьма небрежно относящегося к чистоте своих зубов», он обнаружил «невероятное число живых анималькул, плавающих куда быстрее, чем я когда-либо наблюдал прежде, и в таких количествах, что вода, их содержащая (хотя с нею смешана была лишь небольшая доля субстанции, взятой с зубов), сама казалась живой». Извещая о своем умозаключении Королевское научное общество, он снова ищет подходящее сравнение: «Количество животных, обитающих в зубном налете человека, столь велико, что превышает даже, по моему мнению, число людей, живущих в каком-нибудь королевстве».
Открытие того факта, что мы буквально кишим какой-то «другой» жизнью, стало сенсацией в целой череде других чудес, которые позволил увидеть микроскоп. Наряду с открытиями Галилея, сделанными при помощи телескопа, эти изыскания, позволившие натурфилософам заглянуть уже не только в макро-, но и в микромир, со всей очевидностью показали: наука лишь выиграет, применяя новые инструменты для того, чтобы выйти за пределы, которые кладут нашему восприятию невооруженные органы чувств. Поначалу не все признавали, что явления, скрытые от человеческого глаза, реальны в той же степени, что и те, которые спокойно проходят испытания нашим зрением, идущие под девизом «Видеть – значит верить». Однако большинство полагало, что благодаря таким методам наука действительно обретает немыслимый прежде доступ к ценнейшим знаниям о мире и о том, что в нем находится. Можно сказать, что наши собственные микробы сыграли ключевую роль в зарождении современного научного метода. Даже удивительно, что до самых недавних пор столь многое о них оставалось неизвестным.
Молекулярный зверинец
Через три с небольшим века после Левенгука еще один любознательный человек скреб собственные зубы в поисках жизни. Впрочем, он привлек к сему почтенному занятию своего дантиста. А звали этого естествоиспытателя Дэвид Релман, и работал он в Стэнфордском университете. Итак, вместо того чтобы выкинуть дрянь, извлеченную из трещин в деснах Релмана, доктор поместил ее в стерильные пробирки, которые Релман, истинный ученый, предусмотрительно захватил с собой.
В то время он осваивал новые генные методики обнаружения патогенных бактерий, которые сопротивлялись традиционным способам идентификации, поскольку отказывались расти в виде лабораторной культуры. Ученый задался вопросом: может быть, по той же причине многие виды остаются незамеченными и в нашей обычной микробиоте, которая представляет собой сложную смесь разных популяций микроорганизмов? Вернувшись к себе в лабораторию, он, следуя привычным микробиологическим методам, которые вскоре усовершенствовал[7], стал выращивать культуры из принесенной от дантиста пробы. Часть образцов он подверг новейшим на тот момент процедурам ДНК-анализа, ища небольшие фрагменты генетической последовательности, характерные для бактерий, и сравнивая найденные фрагменты с известными последовательностями из существующих баз данных.
Казалось бы, что нового можно было обнаружить в пространстве между зубами и деснами (в поддесневых карманах)? За много лет ученые, методично культивирующие микроорганизмы, уже описали почти 500 видов бактерий, извлеченных из этого густонаселенного региона ротовой полости.
Однако, изучая образец, взятый с двух зубов из одного рта, группа Релмана выявила 31 новый штамм бактерий. Еще 6 штаммов обнаружилось на пластинках с выращиваемой культурой, а значит, удалось найти 37 новых разновидностей бактерий (в общей же сложности после анализа всех образцов выявили аж 77).
В 1999 году Релман с коллегами опубликовали статью в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, где приличествующим этому изданию сухим научным языком сообщали: «Наши данные заставляют предположить, что значительная часть нормальной бактериальной флоры человека остается плохо охарактеризованной даже в этой хорошо изученной и хорошо знакомой специалисту микробной среде». Позже Релман заявил в интервью San Francisco Chronicle: «При помощи молекулярных методов мы нашли куда больше, чем посредством культивации. А значит, ученые в течение века с лишним невольно игнорировали огромную долю микробного мира. Недавние открытия учат нас смирению. До сих пор мы, так сказать, играли всего лишь половиной колоды».
Осознание этого факта побудило многочисленных ученых обратиться к применению новых технологий секвенирования ДНК для анализа микробных образцов, взятых из всевозможных мест человеческого тела, куда только можно забраться, чтобы наскрести, наскоблить, намести или намыть пробу. Результаты этих усилий перевернули наши представления о человеческом микробиоме и о том, как человек сосуществует с мириадами других видов.
Но прежде чем пристальнее взглянуть на результаты этих более глубоких, чем прежде, исследований незримого мира и рассмотреть терзающий сегодняшних ученых вопрос о том, что всё это означает, давайте сделаем шаг назад. Ибо за 3 века, разделяющих Левенгука и Релмана, этих двух отважных исследователей зубов, человечество еще кое-что узнало о микробах.
Хорошие парни и плохие парни
В эпоху Просвещения анималькулы Левенгука поразили общество, но казались по сути лишь безвредной новинкой. Тогда же несложные эксперименты с блеском продемонстрировали, что новомодный (для XVII века) напиток кофе или небольшое количество уксуса уничтожают живых существ в поле зрения микроскопа. Кроме того, современникам представлялась фантастической сама идея о том, что столь ничтожные существа могут оказывать сколько-нибудь существенное влияние на большой организм, служащий для них пристанищем.
Теперь-то мы знаем, что дело обстоит иначе. Самые значительные перемены в наших познаниях о микромире произошли в XIX веке. Микробная теория заболеваний возникла, когда на помощь исследователям инфекций пришла новая наука микробиология. Долгое время считалось, что заражение, возникающие при тесном контакте с больным, и обуславливает распространение некоторых болезней. Но заражение чем? Становилось всё очевиднее, что главный контакт здесь происходит с микробами, а значит, можно с уверенностью предполагать, что микроскопическая жизнь оказывает громадное влияние на куда более крупные организмы и что именно микробы – главная причина некоторых смертельных недугов. Благодаря этому стало возможным принципиально новое объяснение того, как эти недуги возникают и развиваются.
Кроме того, эти открытия оказали большое влияние на отношение людей к микроорганизмам. Здесь можно выделить два эффекта – научный и культурный. Оба в значительной мере проявляются и поныне.
С научной точки зрения микробная теория заложила основу для размышлений о причинно-следственных связях в этой важной, запутанной области биологии – основу «микробной» логики. Она до сих пор во многом определяет наше понимание причин болезней, хотя, как показывают недавние исследования, применима не всегда.
Тогда, в XIX столетии, загадочные организмы, обнаруживаемые под микроскопом, извлекались главным образом из среды вне человека. Внутри же они обнаруживались учеными в основном при изучении заболеваний. Но вызывались ли симптомы недуга этими крошечными созданиями, извлекаемыми из пациентов или больных животных (а иногда, возможно, сохраняемыми в виде лабораторных культур)? Многие имели основания усомниться в новой теории. Ее критиковали немало скептиков. Чтобы убедить их в справедливости теории, требовалось множество экспериментальных подтверждений, а кроме того, четкие правила построения умозаключений. Только так можно построить доказательную теорию.
Микробная теория сформулировала эти правила. Упрощая картину, можно сказать, что теория приняла форму принципа «Один микроб – одна болезнь» (ОМОБ) (позже из этого выросло правило «Один ген – одна болезнь», но это уже другая история)[8].
Если гипотеза ОМОБ верна, то как доказать, что выявлен действительно организм-виновник? Ведь вокруг столько микробов… В основе соответствующих правил лежит общий подход к научным экспериментам, который мы сейчас принимаем как нечто само собой разумеющееся. Впервые его формально описал в XIX веке философ Джон Стюарт Милль, назвавший его методом сходства и различия. Этот рецепт идеального эксперимента мы проходим в школе. Определите все условия в контролируемой среде. Варьируйте их по одному и посмотрите, что будет происходить. Если переменная X вызывает изменение результата Y, значит, X и Y как-то связаны друг с другом. Простой пример – выяснение того, почему на вечеринке некоторые отравились: следует установить, кто ел и кто не ел какие-то блюда.
Многое поведал о микробах жаждущему человечеству выдающийся немецкий бактериолог Роберт Кох. В начале 1880-х годов он и его великий соперник француз Луи Пастер установили связь некоторых заболеваний (главным образом, у животных) и определенных инфекционных агентов. Коху хотелось сделать обобщающие выводы и посрамить сомневающихся[9]. Наряду с невероятно энергичной работой в лаборатории и методическими усовершенствованиями (так, он стал первым, кто использовал для выращивания колоний микробиологические пластинки, а не сосуды с субстратом) он прославился тем, что сформулировал так называемые «постулаты Коха». Их всего 4. По сути это своеобразные инструкции, помогающие доказать, что данный микроб действительно вызывает определенное заболевание. Следуйте им и можете быть уверены, что вы получите ответ и убедите всех остальных.
Итак:
1. Найдите данный микроорганизм у всех (животных и/или людей), кто страдает соответствующим заболеванием. Убедитесь, что его не удается обнаружить у здоровых существ.
2. Выделите микроорганизм из зараженного организма и затем вырастите этот возбудитель заболевания в лаборатории.
3. Заразите этим выращенным микробом здоровое существо.
4. Снова выделите микроб уже из этого зараженного существа и покажите, что он такой же, с какого вы начинали.
Никакая из этих процедур в те времена не была простой даже в опытах с подопытными животными, не говоря уж о пациентах-людях (особенно большие затруднения вызывала стадия 2). Однако по мере усовершенствования методов эти 4 постулата доказали свою полезность, поспособствовав прогрессу науки и заслужив благодарность миллионов. Испытательным полигоном для постулатов Коха стал страшный бич человечества – туберкулез. В последующий десяток лет их проверили на примере холеры, тифа, столбняка и чумы.
Эта логика остается незыблемой, если в заболевание вовлечен микроб, и лишь микроб. Многие более поздние случаи (и целый ряд классических, вроде того же туберкулеза) оказываются куда более сложными. Однако правила Коха часто приводятся как своего рода золотой стандарт для выяснения звеньев причинно-следственных цепочек, описывающих воздействие различных микроорганизмов на человека.
Мощь коховской логики усилила культурное воздействие микробной теории. Новое поколение микробиологов XIX века, облаченных в белые халаты, добилось впечатляющих успехов на медицинском поприще, а также показало благотворную роль микробов. Так, Пастер интересовался не только инфекциями, но и процессами ферментации. Однако гром фанфар, сопровождавший демонстрацию того, что микробы могут вызывать болезни, как-то заглушал новости о микроскопических «хороших парнях», делающих сыр или вино. В общественном сознании укоренилось представление о том, что микробы – зло (ну не считая немногочисленные почетные исключения).
Не трогать – грязно!
Банка персикового компота открывается так. Удалите бумажную этикетку, затем тщательно поскребите банку, чтобы устранить все следы бумаги и грязи. Открыв крышку, перелейте компот в чашку. Банка НЕ ДОЛЖНА касаться чашки.
Так инструктировали персонал кухни Говарда Хьюза, пионера авиации 1920-х, кинопродюсера, миллиардера-отшельника, долгое время страдавшего обсессивно-компульсивным расстройством[10]. Кроме того, персоналу предписывалось мыть руки, пока те не начнут зудеть, и обертывать их бумажными полотенцами при подавании блюд Хьюзу. Существовали подробные инструкции на предмет того, как открывать упаковку бумажных полотенец.
Губительный психический недуг Хьюза – крайний случай вполне распространенной боязни. Этот баснословный богач перенес ряд черепно-мозговых травм в ходе нескольких авиакатастроф, а в юности заразился сифилисом. Но еще до всех этих приключений в нем укоренился постоянный страх перед микробами. Позже у него развилась настоящая болезненная фиксация на опасностях, которые бактерии могут в себе заключать. И он был такой не один.
Причины этого понятны. Микробная теория заболеваний появилась как раз в ту эпоху, когда жители больших городов очень страдали от инфекций, распространявшихся из-за скученности населения и общей антисанитарии мест человеческого обитания. Теория имела колоссальный успех. Когда Кох, Пастер и другие показали, что причиной самых страшных болезней являются крошечные организмы, микробную теорию приняли множество ученых. Ее приняли и люди, далекие от науки, поскольку теория эта оказалась легкой для понимания и поскольку (благодаря вакцинации и постройке нормальной канализационной системы) она проложила путь к предотвращению и лечению самых разных недугов. Некоторые опаснейшие болезни даже удалось победить, полностью подавив их распространение. Микробная теория остается краеугольным камнем здравоохранения – отрасли, которая тогда же и возникла.
Короче говоря, появление этой теории ознаменовалось научным и медицинским триумфом, и ученые, которые ввели ее в оборот, почитались, как герои. Классическая научно-популярная книга Поля де Крюи «Охотники за микробами», вышедшая в 1920-х годах, принадлежит перу автора, который провел некоторое время в нью-йоркском Рокфеллеровском институте медицинских исследований. Пионеры бактериологии изображены здесь как раз в таком свете. В подобном же тоне рассказывалось о бактериологах в бесчисленных газетных статьях того времени и в беллетризованных биографиях, выходивших позже.
Они стали героями, поскольку вели войну против болезней, то есть против микробов, и победили. Торжество науки закрепило в общественном сознании прочную ассоциативную связь между микробами, грязью и болезнями. К тому же практическое применение антисептиков, дезинфектантов и антибактериальных средств весьма впечатляло.
Избегать микробов – значит не только сторониться очевидных источников «неприятного» (понятно, что не следует размазывать экскременты по стенам туалета или есть тухлое мясо). Нужно уметь справляться и с невидимыми опасностями.
Этот набор взаимосвязанных идей оказался чрезвычайно перспективным и влиятельным. Итак, микробы вызывают болезни, берутся из грязи и могут распространяться путем загрязнения (заражения), которое вы даже не замечаете. Что ж, в общем-то это правда. Некоторые микробы действительно служат причиной недугов. Микробы нельзя увидеть невооруженным глазом. Строгие меры профилактики помогают избежать беды. И при посещении больницы нужно использовать дезинфектор для рук[11].
Кроме того, эту теорию очень широко пропагандируют и службы здравоохранения, и производители антимикробных товаров. И те и другие постоянно выискивают всё новые объекты для дезинфекции: туалеты, ванные комнаты, кухни, бутылочки с детским питанием, продуктовые упаковки, телефоны, компьютерные клавиатуры. К числу таких объектов, конечно, принадлежат и сами люди.
Ход этой непрекращающейся кампании изложен в книге историка Нэнси Томс «Микробное евангелие» (Nancy Tomes, The Gospel of Germs, 1998). В США первыми встрепенулись защитники общественного здоровья, – они кинулись требовать, чтобы все (особенно домохозяйки и матери) соблюдали новые стандарты чистоты и гигиены. Позже медицинские эксперты уже меньше подчеркивали значимость чистоты как таковой: главным считалось избегать контакта с инфекцией и препятствовать тому, чтобы инфицированные передавали возбудитель заболевания другим. А там уж за дело взялась промышленность.
Война с микробами считалась всеобщей обязанностью, однако на передовой по-прежнему сражались женщины. Американская реклама лизола, выпущенная в 1941 году, показывает это со всей очевидностью. Изящно соединяя домашние и патриотические обязанности, она изображает улыбающуюся домохозяйку, вскинувшую руку в воинском салюте. «Вы тоже служите в армии, – гласит надпись. – Записывайтесь в ряды бойцов с микробами… Женщина со шваброй, ведром воды и бутылкой лизола может разгромить целую армию бактерий, которые вызывают инфекцию… Лизол – оружие хозяйки, защита вашего дома»[12].
Дезинфицирующие жидкости, аэрозоли и мази по-прежнему производятся в огромных количествах, достаточно заглянуть в соответствующий отдел супермаркета. Дезинфицирующий аэрозоль «Лизол» выпускается ныне с десятью разными ароматами, но его реклама по-прежнему упирает на то, что это средство позволит «защитить семью от микробов, которые каждый день контактируют с вами». Защитить, убивая их.
Пожалуй, многие из нас, жителей западных стран, в последнее время стали куда небрежнее относиться к применению таких средств у себя дома (за исключением разве что туалета). Во всяком случае, со мной произошло именно так. Однако мы по-прежнему воротим нос от публичных мест, которые кажутся нам явно негигиеничными. А чуть только начинаем опасаться нового (или снова вспыхнувшего) заболевания, как к нам возвращаются подзабытые идеи насчет заражения и загрязнения.
Томс заканчивает экскурс в историю, вспоминая о реакции на одно из первых проявлений эпидемии СПИДа еще в 1984 году. Тринадцатилетний мальчик, страдавший гемофилией, заразился ВИЧ после регулярных переливаний крови. Когда новость о диагнозе распространилась в городке Кокомо (штат Индиана), где он жил, с ним перестали здороваться за руку; более того, жители города предпочитали не посещать туалет, которым он пользовался, и даже распространяли слухи, будто он нарочно плюет на овощи в лавках. Мальчика и его семью заставляли сидеть в церкви на дальней скамье, «вне досягаемости кашля». После того как мальчик решил вернуться в школу, кто-то выстрелил в окно их гостиной, и тогда семье пришлось уехать из города. Даже в наше время страх заразиться может превратить законопослушных граждан в сущих линчевателей.
Микробы в лаборатории
Общество стремилось держаться от микробов подальше, однако в то же самое время ученые все пристальнее исследовали микробную жизнь. На протяжении последующего столетия исследователи, охотно знакомящиеся с микробами вблизи, узнали огромное количество сведений о разновидностях микроскопических существ и отыскали новые способы их изучения.
Здесь уже оказалось недостаточно микроскопа, этого простейшего инструмента для наблюдений. Понадобилось разработать новые методы препарирования и окрашивания клеток (чтобы подчеркнуть их детали), научиться выращивать культуры микробов для долговременных исследований, проникнуть в их химию и в конце концов – в их гены.
После Левенгука микробиология сначала развивалась неспешно, а с середины XIX века – все интенсивнее и плодотворнее. Появлялись новые методики и технологии, значительно более тонкие и изощренные, чем прежде. Каталог микробов невероятно разросся. Все больше их видов обнаруживается в новых местах – от горячих источников до холодных океанских глубин.
Эти неутомимые исследования касаются и микробов, которые живут вместе с нами. Не раз предполагалось: поскольку это наши постоянные компаньоны и они так многочисленны, подавляющее их большинство не причиняет нам вреда, а может быть, даже приносит пользу. (Собственно, Пастер предположил это еще в 1885 году, но современники его не услышали[13].)
Такая точка зрения снова появилась много лет спустя, еще до наступления эры ДНК-анализа. В 1960-е годы ее высказал в провидческой книге Теодор Розбери, признанный авторитет в области исследований микроорганизмов человека. Написав по данному вопросу учебник, он в 1969 году выпустил наделавшую много шума научно-популярную книгу «Жизнь на человеке» (Theodor Rosebury, Life on Man, 1969)[14]. Сейчас ее тоже очень интересно читать – отчасти благодаря тем знаниям, которые мы успели приобрести за прошедшие десятилетия. Книга дает сжатое описание состояния области науки, которую Розбери знал как никто другой. Он описывает некоторые виды микробов и их распространение, однако почти не погружается в детали микробиома (особенно кишечного). Он рассматривает основную массу бактерий просто как безвредных пассажиров, учитывая кое-какие побочные выгоды, которые они нам приносят (например, затрудняют проникновение в наше тело организмов-колонизаторов, способных вызывать заболевания). Автор приводит и другие гипотезы (например, о возможном влиянии микробов на развитие кишечника), но лишь как вопросы, заслуживающие дальнейшего рассмотрения. Его краткое изложение важнейших фактов, которые следует знать о реальной «жизни на человеке», занимает всего-навсего 24 страницы, а остальные страницы посвящены увлекательному обсуждению антропологии отвращения (автор явно подходит к проблеме со знанием дела). С тех пор прошло не так уж много времени, но микробиология успела многое узнать о бесчисленных видах мелких существ, кишащих в нашем мире.
Так каково это – разделять жизнь с целой армией микроорганизмов? Для начала давайте посмотрим, как они живут. И пока основное внимание уделим бактериям.
Глава 2. Микробы – не мы… или все-таки мы?
Рассмотрим единичную бактерию. Пусть это будет все та же Escherichia coli. На краткий миг она оказывается в воздухе и затем падает на поверхность теплого, желеобразного, свежеприготовленного субстрата, богатого питательными веществами и находящегося в специальной лабораторной чашке для выращивания бактериальных культур. Бактерия может делать самые разные вещи, но главнейший приоритет для нее – при первой же возможности превратиться в две бактерии. В этих идеальных условиях, когда есть куда распространяться и нет конкуренции, такой процесс занимает всего 20 минут.
За это время бактерия полностью копирует ДНК своей единственной хромосомы и вырабатывает достаточно белков, каркасов клеточных стенок и других компонентов клетки, чтобы создать двойной запас всего необходимого. Затем она делится на две клетки, причем обе идентичны исходной. Спустя еще 20 минут каждая из новых клеток делится опять.
Этот процесс будет повторяться снова и снова. Микроб так стремится воспроизводить себя, что новая хромосома, полученная в результате удвоения, начинает очередной этап репликации еще до того, как происходит деление клетки, иначе ферменты, копирующие ДНК, не смогли бы делать свою работу с нужной быстротой.
Такой бешеный рост (в данном случае он называется экспоненциальным) приводит к весьма впечатляющим результатам – во всяком случае, с математической точки зрения. Через 7 часов у нас будет уже миллион E. coli, и они будут продолжать делиться. Один из персонажей «Штамма „Андромеда“» Майкла Крайтона говорит: «Можно показать, что всего за сутки одна клетка E. coli способна дать суперколонию, равную Земле по размерам и весу». Неверно: потребуется примерно два дня.
Впрочем, такого никогда не происходит, поскольку E. coli довольно скоро истощит запасы пищи и начнет задыхаться в собственных выделениях. Она среагирует на изменившуюся ситуацию, прекратив деление и перейдя в стационарную фазу, когда многие жизненные системы останавливают свою работу (или просто работают вхолостую), ожидая, пока представится новая возможность начать триумфальный рост.
Высочайшая скорость воспроизводства – одна из особенностей микробов, придающая им такую высокую приспособляемость. Существуют многие тысячи разновидностей бактерий. И любое конкретное место, будь то глубины океанских гидротермальных источников или глубины нашего кишечника, по существующим в нем условиям подходит для тех или иных бактерий. Другие бактерии тоже будут здесь присутствовать, но в значительно меньших количествах. Их обойдут конкуренты, лучше приспособленные к данной среде обитания. Но если условия изменятся, то эти неудачники, быть может, сами получат шанс совершить свой экспоненциальный рывок.
Эти две крайности – быстрое размножение и «сон» с почти полной остановкой жизненных процессов – помогают бактериям приспосабливаться к самым разным условиям и быть практически вездесущими. Они могут обитать едва ли не повсюду, питаясь едва ли не чем угодно. Они живут на Земле почти с самого начала и успели за это время перепробовать всевозможные метаболические фокусы. Даже если никто из них не интересовался бы жизнью на нас, о них стоило бы узнать побольше – хотя бы для того, чтобы понять основную часть истории жизни на Земле. Но их история не отделима от нашей. Есть большое искушение считать, что они очень отличаются от нас. Однако, как выясняется, у нас гораздо больше общего с нашими спутниками-микробами, чем мы думали.
Доминирующие виды
Крупное животное вроде Homo sapiens способно предоставлять убежище множеству других существ – желанных и нежеланных. Наше отношение к ним сложилось под влиянием ряда паразитов и червеобразных «пассажиров», которые слишком велики, чтобы стать частью микробиома, – от вшей до ленточных червей. На микроуровне, где численность населения гораздо больше, обнаруживается множество самых простых форм жизни – вирусов (о них позже). Попадаются и представители сравнительно сложной жизни – одноклеточные эукариоты (простейшие, протисты), клетки которых, судя по всему, являются более «организованными»: они снабжены ядром и другими субклеточными структурами, видимыми под микроскопом. Однако самый большой вклад в микробиом (как по совокупной массе, так и по количеству генов) вносят бактерии и в чем-то сходные с ними археи.
Мы склонны воспринимать их как что-то довольно простое, нечто среднее между забавной диковинкой и досадной помехой. Ну да, это прокариоты[15]. Их ДНК не упакована в клеточное ядро, они обладают единственной круговой хромосомой и обычно некоторыми другими разрозненными кусочками ДНК, и все это худо-бедно размещается в теле клетки. Кроме тела клетки у прокариот больше ничего и нет. Под микроскопом (при небольшом увеличении) прокариоты выглядят значительно менее сложными, чем одноклеточные эукариоты, внутренности которых устроены более изощренно. К появлению высокоразвитых многоклеточных организмов вроде нас с вами привели именно эукариоты.
Мнимая простота бактерий вроде бы отвечает их малым размерам. Бактерии – своего рода микромикроорганизмы. Объем типичной прокариоты в тысячи раз меньше, чем средней эукариотической клетки. У нее имеется геном, но он примерно в 10 тысяч раз меньше, чем у эукариоты. При беглом взгляде она вообще кажется менее организованной по внутренней структуре. Но дело в том, что эта структура оставалась по большей части невидимой вплоть до появления мощных электронных микроскопов. Долгое время внутренняя часть этих крошечных одноклеточных считалась по сути просто сосудом, где протекают реакции. Бактерию рассматривали как мешочек с биологически активными веществами; не более того.
В исторической перспективе бактерии тоже кажутся не такими уж интересными объектами. Эволюцию часто представляют в виде непрерывного и неуклонного прогрессивного развития, начавшегося с примитивных микробов и достигшего кульминации с появлением разумных приматов. Бактерии выполнили кое-какую тяжелую работу на заре жизни, но их подлинная судьба определилась, лишь когда они каким-то непонятным скачком превратились в клетки с ядрами, затем – в многоклеточные организмы, потом – в действительно интересные формы жизни, наделенные мозгом. Но как бы ни зародилась жизнь, на протяжении двух миллиардов лет бактерии наряду с другой разновидностью одноклеточной жизни, археями, оставались единственными игроками на поле. На смену поколений таким существам требуются лишь минуты, так что у них нашлось время для того, чтобы перепробовать невообразимое количество эволюционных стратегий.
Еще важнее то, что более сложная жизнь их не вытеснила. Они продолжали жить и развиваться в собственных экологических нишах, где в конце концов оказались и другие, более крупные организмы. Во многих отношениях они остались доминирующими формами жизни. Их совокупная биомасса сравнима с общей биомассой всех растений и животных на Земле. До тех пор пока некий высокоразвитый примат не начал извлекать из земли полезные ископаемые, получать из них топливо и сжигать его, обеспечивая энергией свою цивилизацию, жизнь влияла на окружающую среду в планетарном масштабе именно посредством деятельности этих видов[16].
Такой взгляд на значимость бактерий для биосферы в целом сложился лишь в последние десятилетия. Особенно этому способствовало то, что бактерии стали обнаруживать во все более экстремальных средах. В расширении наших знаний о бактериях есть два ключевых аспекта, важных для восприятия этих организмов как части нашего широкого клеточного сообщества. Во-первых, теперь мы лучшие понимаем, как они живут и на что способны. А во-вторых, мы стали лучше разбираться в том, что общего между нами и этими мельчайшими существами. Как подметил биолог и эссеист Льюис Томас, слова humus (гумус, изготовляемый триллионами бактерий почвы) и human (человек) не зря имеют от один корень.
Маленький – не значит простой
Чем так уж важны бактерии? Начнем с того, что это микробы, то есть существа очень-очень маленькие. Длина типичной бактерии по самой длинной оси – от одной до нескольких тысячных миллиметра. А значит, их легко не заметить. Почти все время нашего собственного (сравнительно краткого) пребывания на планете мы понятия не имели, что они вообще существуют. Судя по вполне достоверным оценкам, на Земле сейчас обитает около 1030 (миллиона триллионов триллионов) бактерий. Однако среди них есть крупные группы, о которых мы почти ничего не знаем. Возможно, мы никогда не установим не только общее количество микроорганизмов на Земле, но даже общее количество их видов.
С другой стороны, раз уж нам известно об их существовании, небольшие размеры и быстрый рост этих существ делают некоторых из них подходящими объектами для исследования – по одному виду в один прием. Поэтому при сравнительно скудных сведениях о глобальной бактериосфере ученые успели в невероятных подробностях изучить некоторые микроорганизмы, особенно всеобщую лабораторную любимицу – E. coli.
Достаточно хотя бы немного познакомиться с ней, и вы, пусть и не узнав всех бактерий на свете, проникнетесь немалым уважением к тому, на что бактерии способны[17]. Ну да, они могут расти и размножаться, это и делает их живыми. У них имеется полный набор крошечных наноустройств для создания копий собственной ДНК, считывания информации, которую та в себе хранит, и для передачи ее белковым молекулам. Они умеют переваривать молекулы пищи, извлекать энергию при их расщеплении и использовать полученные фрагменты молекул для создания новых.
Основную часть того, что нам известно об этих процессах – от подробностей генетического кода (одного и того же у всех организмов на Земле) до сети химических трансформаций, служащих основой метаболизма, – мы узнали из экспериментов над бесчисленными колониями E. coli в лабораторных чашках. Но вклад данного микроорганизма в науку этим далеко не ограничивается. Дальнейшие опыты, зачастую проводимые в условиях, более приближенных к жизни в природе, нежели к существованию в лабораторной чашке, и не имеющих в этой чашке конкурентов, показали, что бактерии способны на еще очень многое.
На молекулярном уровне у них имеются своего рода органы чувств. Нет, они не умеют видеть или слышать, однако E. coli и другие микробы умеют обнаруживать изменение концентрации значимых молекул вокруг себя. Они могут самостоятельно перемещаться, используя активно вращающийся миниатюрный жгутик, как своего рода сверхподвижный хвост. Они меняют курс, чтобы приблизиться к молекулам, которые им нравятся (то есть к пище), или чтобы отдалиться от молекул, которые им не нравятся. Они адаптируются к среде, замечая ее изменения (скажем, температурные перепады или уровень доступности определенных питательных веществ). Реакция на меняющиеся условия приводит к включению (или выключению) определенных генов, причем такое включение (выключение) организовано при помощи сложных биохимических цепочек, где связываются друг с другом молекулы, выстроенные особым образом. Одноклеточные реагируют на присутствие других клеток благодаря так называемому «чувству кворума», которое проявляется в том, что определенные функции активируются, лишь когда плотность клеточного населения достигает заданного порогового значения. Одни бактерии ведут химические войны с другими или же налаживают с ними тесные метаболические отношения, при которых один вид пожирает молекулярную пищу, уже частично обработанную другим в процессе потребления. Зачастую они объединяются в огромные клеточные ансамбли. Это еще не многоклеточная жизнь, но что-то очень похожее на нее по функциям. Бактерии вырабатывают клейкие молекулы, создающие единую слизистую «биопленку», которая удерживает ансамбль вместе. Подобные пленки часто покрывают поверхности, представляющие собой пригодную для обитания экологическую нишу (скажем, ваши зубы), и поддерживают существование долговечной бактериальной системы с изощренным механизмом разделения биохимического труда.
Более того; как показал Джошуа Ледерберг в работах 1940-х годов, принесших ему Нобелевскую премию, они занимаются сексом. Вообще-то, честно говоря, E. coli и другие бактерии преотлично умеют размножаться без помощи чего-либо, даже отдаленно напоминающего секс: они могут создавать клоны генетически идентичных клеток (правда, изредка при этом случаются мутации). Но бактерии не отметают и другие варианты. Время от времени две бактериальные клетки соединяются, и ДНК передается от одной к другой. Благодаря такому обмену генами микробный мир выглядит совершенно иным по сравнению с миром многоклеточных эукариотических организмов с их четким разграничением на виды. В мире микробов постоянно происходит обмен генетическими фрагментами посредством переноса кусков бактериальной хромосомы или движения небольших колец ДНК (плазмид), имеющихся у большинства бактерий, либо при помощи бактериальных вирусов. Если ничего такого не происходит, бактерия может даже захватить свободную ДНК из окружающего пространства и включить какую-то ее часть в состав своей хромосомы (этот процесс именуется трансформацией). Кроме того, при мутации бактериальная ДНК обычно меняется быстрее, чем ДНК в хромосомах других организмов, и не только из-за высокой скорости размножения. Микробы в стрессовых ситуациях (например, когда мало пищи) копируют ДНК менее точно и чинят ее хуже. Что это – просто побочное следствие стресса или же хитроумный эволюционный трюк, позволяющий быстро дать множество всевозможных ответов на возникшую проблему? Биологи продолжают об этом спорить, но в любом случае такая гипермутация позволяет осуществлять стремительные изменения.
С течением времени все эти обмены генами и перемены в ДНК приводят к появлению самых разнообразных штаммов бактерий, хотя эти новые штаммы похожи друг на друга и описываются как один и тот же вид. Однако пристальное изучение бактерий, с которыми мы успели хорошо познакомиться, заставляет сделать вывод, что «вид» для микробов – понятие расплывчатое и во многом загадочное. Одна и та же разновидность бактерий может пользоваться обширным генетическим ресурсом, основная часть которого обычно находится в резерве. Конечно же, наиболее изученной бактерией здесь опять-таки является звезда микробиологии – E. coli. У различных ее штаммов имеется общий набор генов. Однако по мере детального изучения все большего числа штаммов выясняется, что существует куда больше таких генов, которые имеются лишь у некоторых штаммов E. coli. По словам Карла Циммера, «список генов, общих для всех E. coli, все укорачивается, тогда как совокупный список генов, имеющихся по меньшей мере у одного штамма, удлиняется». В типичном штамме E. coli (если таковой вообще существует) содержится 4–5 тысяч генов. Но общее число всех генов, которые когда-либо обнаруживали у E. coli (так называемый пангеном, хотя можно называть его просто генофондом), составляет в настоящее время 16 тысяч. Это чуть меньше количества генов в человеческом геноме. Впечатляющее число для столь «простого» организма!
Человекоподобные бактерии, бактериеподобные люди
Итак, бактерии сложнее, чем кажутся на первый взгляд. Они обладают приспособляемостью и изобретательностью, как и подобает форме жизни, которой как-то удается уцелеть на протяжении трех-четырех миллиардов лет. Жизнь и эволюционная история этих наших предков (а ныне – и современников) переплетены с нашей собственной жизнью и эволюционной историей, соединены с ними бесчисленными связями, разбираться в которых мы начали только недавно.
Взять хотя бы неудобный для кого-то факт, побудивший меня написать эту книгу: они живут внутри нас. И тут Escherichia coli не исключение. Первые образцы данной бактерии выделены еще в 1885 году Теодором Эшерихом – из первых испражнений новорожденных младенцев. Эти бактерии оказалось легче изолировать, чем большинство других кишечных бактерий, поскольку они живут как в присутствии, так и в отсутствие кислорода. Целый ряд невиннейших штаммов E. coli обитает в нашей толстой кишке. Они прекрасно приспособились к жизни в кишечнике теплокровных существ. С другой стороны, существует такой же разнообразный набор штаммов E. coli, вызывающих неприятные симптомы – пищевого отравления или чего-нибудь похуже.
Есть и куда более странная форма совместного проживания, в которую ученые много лет отказывались верить. Мы знаем, что основа всей биосферы – одноклеточные прокариоты. И более сложные формы жизни вроде нас с вами, со всеми «добавлениями», пришедшими с появлением эукариотической клетки, наделенной ядром, несут в себе потомков древних бактерий.
Наши высокоорганизованные, крупные по объему эукариотические клетки обладают значительно большей энергетической подпиткой по сравнению с прокариотами, даже если пересчитать энергию на их размеры. Кардинально новый взгляд на эволюцию клеток помогает понять, как такое могло получиться[18]. Эукариоты получают энергию от внутриклеточных «электростанций» – митохондрий. Митохондрии чем-то похожи на бактерии. Почему? Потому что это и есть бактерии. Точнее, когда-то они были бактериями. Они давно утратили способность к независимому существованию, но по-прежнему обладают небольшим собственным геномом, кодирующим (помимо всего прочего) копирование ДНК и аппарат чтения информации; это больше напоминает бактериальные механизмы, а не те сильно отличающиеся от них макромолекулярные чудеса, которые выполняют ту же работу в клеточном ядре.
Объяснение предложила выдающийся американский биолог Линн Маргулис (1938–2011) еще в 1960-е годы. По ее мнению, некий бактериальный флирт миллиарды лет назад привел к симбиозу, при котором одна бактерия стала жить внутри другой. Внутренний колонист затем адаптировался к новым условиям: получает все необходимое для жизни из окружающей его клетки в обмен на ту энергию, которую он высвобождал, химически расщепляя сахара с помощью кислорода. Результатом стало появление специализированной органеллы («очень маленького органа») в самой настоящей, вполне полноценной эукариотической клетке. Эта органелла – митохондрия – действовала как своего рода миниатюрная электростанция. То, что когда-то было бактерией, сперва стало внутриклеточным паразитом, а затем – более простым по структуре мешочком складчатых мембран, предназначенным для выработки энергии.
Маргулис рассматривала эту необратимую кооперацию (эндосимбиоз) как один из ключевых эволюционных механизмов и полагала, что некоторые другие части эукариотических клеток имеют такое же происхождение. Гипотеза по-прежнему считается противоречивой, но сейчас уже мало кто спорит с тем, что и митохондрии, и хлоропласты (выполняющие сходные задачи у растений) возникли именно так. Странно думать, что все наши клетки содержат эти древние останки. Иной раз число таких реликтов доходит до тысяч. Они до сих пор делятся и размножаются независимо. Все мы до сих пор живы благодаря этой колоссальной коллекции деградировавших бактерий.
Наконец, есть бактериальные останки, выполняющие другую важную работу во всех прочих разновидностях клеток. В сущности это просто следствие хода истории жизни и эволюции по нисходящей. Все дарвиновские «бесконечные прекраснейшие формы жизни» имеют общего предка; он, вероятно, весьма походил на некоторые бактерии, существующие и поныне. Этот наш древний прародитель уже успел приобрести многие необходимые гены и многие важные функции, которые белки выполняют в клетках; это говорит, что белки, а значит, и гены, где хранится информация для их синтеза, очень мало меняются в ходе эволюции. Когда белки уже действуют, любые изменения, происходящие посредством мутаций ДНК, имеют тенденцию ухудшать их работу, так что это изменение исчезает в ходе естественного отбора, неустанно отсеивающего неподходящие новые идеи.
В принципе-то мы все это знали, но недавние подвиги генных расшифровщиков, давшие нам возможность исследовать целые геномы крупных и малых организмов, показали, сколь важны эти факторы и как тесно взаимосвязаны все обитатели нашей планеты. Сравните генетические цепочки и вы обнаружите, что 37 % генов человека очень похожи на гены бактерий. А значит, эти гены уже появились у нашего общего предка больше двух миллиардов лет назад. Между тем мы делим с другими эукариотами 28 % генов, с другими животными – 16 % генов, а с другими приматами (у нас тоже есть соответствующий общий предок) – всего 6 %[19]. Так что какой бы вклад сожительствующие с нами бактерии ни вносили в нашу жизнь сегодня, в эволюционном смысле более трети наших генов (в числе прочих даров) предоставлены нам бактериями.
Как давать имена
Человек узнал о бактериях достаточно много, чтобы с легкостью скроить пеструю систему впечатляющих обобщений. Мы уже познакомились с некоторыми из таких систем. Впрочем, более подробное их описание может оказаться куда труднее не только из-за присущей им сложности, не только из-за того, что многие виды бактерий часто путают друг с другом. Нет, дело тут главным образом в названиях. Вот где настоящая путаница. Мне, как вы понимаете, в дальнейшем неизбежно придется использовать и другие названия, кроме E. coli. Так что позвольте вкратце объяснить, почему такая номенклатура – дурная реклама для науки.
Сегодня нам известно, что вид для бактерий – несколько иная номенклатурная единица по сравнению с другими организмами, у которых термин «вид» означает некую отдельную совокупность похожих существ. (Честно говоря, определение вида для других организмов тоже не очень-то прямолинейно, но сейчас не об этом речь.) Тем не менее система номенклатуры бактерий следует общепринятым в биологии правилам. Иными словами, каждый вид получает название из двух слов, как и предложил Линней еще в XVIII столетии. Первое слово пишется с большой буквы и обозначает род (набор родственных видов). Второе слово более… э-э… специфично.
Линнеева система классификации создавалась для растений. Многие из них тогда уже обладали общепринятыми названиями, которые в той или иной форме перекочевали в новую систему. Микроорганизмы тоже постепенно получали имена, по мере того как все новые обитатели микромира идентифицировались в течение столетия, прошедшего после самого первого включения микробов в Линнееву систему («инфузории», 1758 год). Бактерии, существа, которых явно никто не наблюдал прежде, именовались довольно-таки произвольно, как кому взбредет в голову: латинским словом, описывающим их форму, видимую под микроскопом, или ссылкой на то, где их впервые обнаружили, или именем их первооткрывателя, или чем-нибудь более причудливым.
В некоторых таких названиях все-таки содержатся крупицы полезной информации. Скажем, bacillus – палочкообразное существо, coccus – сферическое, vibrio – напоминающее запятую. Так что холерный вибрион Vibrio cholerae – это организм, имеющий форму запятой и как-то связанный с холерой. Большое спасибо за такие невероятно подробные сведения.
Лишь немногие описательные названия приносят еще кое-какие данные. Виды, образующие цепочку сфер наподобие ожерелья, именуются Streptococci, но если они соединяются в своего рода виноградную гроздь, это уже Staphylococci; обе разновидности широко распространены, большинство из вас наверняка о них слышали.
Но это лишь начало. Названий видов, конечно, неизмеримо больше. Есть и названия для более высоких классификационных уровней. Например, филум – набор родов. К примеру, филум Firmicutes (имеющих относительно твердую (firm) кутикулу[20] или клеточную стенку) включает такие роды, как Lactobacillus, Clostridium, Eubacterium и Ruminococcus, в каждом из которых имеется свой набор видов. При этом у каждого вида может иметься множество подвидов, или штаммов. На этом этапе наступает своего рода таксономическая усталость, и новоописанной разновидности обычно просто присваивают порядковый номер.
Разнообразие известных нам бактерий неуклонно растет. А значит, соответствующих названий требуется много. И я намерен использовать их здесь, чтобы интересующиеся могли потом почитать о них подробнее. Впрочем, обычно вполне достаточно представлять себе этих существ как бактерии X, Y или Z. Их названия зачастую почти ничего вам не скажут. Важно то, что делают эти бактерии и какие у них гены. К тому же, откровенно говоря, иногда микроорганизмы носят совершенно идиотские названия. Вряд ли мы наградим похвальными баллами того, кто решил дать одному из родов филума Bacterioidetes название Bacterioides (за этим наверняка стоит какая-то своя история, но мне на нее, признаться, наплевать). Стоило бы снять баллы с того, кто назвал род, чьей метаболической виртуозности нам еще предстоит подивиться в главе 5. Род этот именуется так: Bacteroides thetaiotaomicron. Звучит красиво, если вы не знаете, что Тета-Йота-Омикрон – название одного из студенческих братств американского Виргинского политехнического института.
Специалистов учат ориентироваться в этой трясине исторических палимпсестов и мелких тщеславий. Всем остальным приходится справляться с таксономической неразберихой по мере своих скромных сил. Но в наши дни, как правило, незачем сопоставлять названия: у нас имеются куда более точные методы выяснения того, насколько тесны родственные связи между теми или иными бактериями, где они обитают и за счет чего живут. Быстрое появление целого ряда новых методов позволило нам в полной мере оценить богатство собственного микробного груза. Давайте же обратимся к имеющимся в нашем распоряжении инструментам, которые позволяют ученым исследовать микробиом, а потом уж подробнее поговорим о том, какие открытия сделаны с их помощью.
Глава 3. Невидимые жизни
Микроскопы показали, что бактерии существуют. Но простое разглядывание этих существ дает лишь ограниченную информацию. Совершенно различные бактерии зачастую кажутся с виду очень похожими. Чтобы понять, с какими разновидностями бактерий мы имеем дело, как они живут и что способны делать, требуются новые способы разглядывания. Нужно заглянуть внутрь клеток или по крайней мере изучить материал, извлеченный из них. Наука, развиваясь бок о бок с технологией, учится по-новому видеть изучаемые объекты[21]. За последние два десятка лет ученые многое узнали о нашем микробиоме.
До этого в микробиологии человека существовала одна досадная проблема. Ученые знали, что в нас обитает множество микробов, особенно в кишечнике. Однако большинство из них сопротивлялось попыткам перенести их в лабораторию. Их убивало присутствие кислорода, либо им требовалось для выживания какое-то таинственное вещество, которое никак не удавалось выявить.
Проблему, можно сказать, обнаружили и проигнорировали – как в науках о человеке, так и в микробиологии как таковой. В середине 1980-х на нее вновь обратили внимание. Джеймс Стейли из Вашингтонского университета назвал ее «великой аномалией подсчета микробов в чашке Петри»[22]. Вместе с коллегой он напомнил научной общественности, что количество бактерий, видимое под микроскопом, к примеру, в свежеотобранном образце почвы, тысячекратно превышает количество бактерий из того же образца, которое удается заставить расти на чашке Петри. Дав обзор других методов оценки микробного разнообразия, появившихся в начале 1930-х годов, Стейли и его соавтор призвали специалистов как можно внимательнее относиться к описанию всего набора изучаемых разновидностей микробов. Однако их обзор, ориентированный на микробиологов, касался в основном лишь водных и почвенных экосистем. Специалистам же по медицинской микробиологии приходилось иметь дело с другими (весьма многочисленными) научными работами, касающимися относительно небольшого набора патогенов. При таком различии в подходах науке удивительно ловко удавалось проявлять избирательное отношение к предметам исследования, при котором известные расхождения или аномалии остаются неизученными.
Теперь дело обстоит иначе. В наши дни все сходятся во мнении, что человеческий микробиом – штука сложная и важная. И нам уже мало изучения лишь тех видов, которые легко вырастить в культуре. Придумываются все новые способы изучения более капризных микробов. Такие методы как раз и позволили Дэвиду Релману добавить множество новых видов в каталог бактерий, найденных во рту при первом, сравнительно простом, анализе.
Видеть невидимое
Исследователи микробиома имеют дело не с самыми мелкими объектами. Это прерогатива физиков – изучение частиц и взаимодействий, совершенно недоступных нашим органам чувств и потому вызывающих понятную озадаченность. Но и микробиомная наука по сути делает видимыми те вещи, о которых мы никогда бы иначе не узнали. И каждый раз, когда ученые видят нечто новое, рождается целый ряд гипотез насчет того, что же найдено и что оно делает. Эти гипотезы в свою очередь требуют новых видов экспериментов. Начиная с рубежа веков, над этим успели потрудиться многие изобретательные умы. Вот вам краткий рассказ об инструментарии исследователей микробиома и о том, чего удалось достичь при помощи этих инструментов.
Новый мир первым делом следует нанести на карту. Эти работы активно ведутся. Микробиология сейчас переживает ту же стадию, что и науки о живом в период, когда писком моды считалась естественная история (естествознание). В течение нескольких веков биология сводилась к присваиванию организмам названий, классификации животных, записыванию их повадок и особенностей поведения.
На этом уровне биологи добыли массу данных. Современные технологии отлично умеют хранить и обрабатывать информацию. Ключевая технология здесь – ДНК-секвенирование, позволяющее узнать порядок следования нуклеотидных оснований («химических букв») в каждой нити ДНК; они-то и кодируют хранящуюся в ней генетическую информацию. Скорость развития этого метода превосходит скорость развития любых других технологий в истории. Часто отмечают, что рост производительности компьютеров за последние полвека (обычно выражаемое как количество процессоров в одной микросхеме) следует так называемому закону Мура. Гордон Мур, один из основателей компании Intel, в 1965 году предположил, что число транзисторов в интегральной микросхеме удваивается каждые 2 года и в дальнейшем растет теми же темпами. Пока его «закон» соблюдается. Результат – резкое увеличение вычислительной мощи компьютеров и резкое падение их стоимости.
Но секвенсоры ДНК развиваются куда стремительнее компьютерных чипов. Разработчики проекта «Геном человека» рассчитывали, что процесс секвенирования ДНК будет непрерывно ускорятся, однако действительность превзошла самые смелые ожидания.
На то, чтобы полностью (более или менее точно) расшифровать человеческий геном с его 3 миллиардами пар нуклеотидных оснований ушло 13 лет, и на всю эту гигантскую работу затратили почти 4 миллиарда долларов. Сегодня производители обычных ДНК-секвенсоров предлагают устройства, проделывающие ту же работу за один день и всего за тысячу долларов.
Основное продвижение на этом пути приходится на сравнительно недавнее время. В американском Национальном институте исследований человеческого генома построили логарифмический график, отражающий зависимость стоимости ДНК-секвенирования от времени, и сравнили его с аналогичным графиком для закона Мура. Уменьшающаяся стоимость процессора отражается на таком графике прямой линией с небольшим отклонением от горизонтали. Стоимость же ДНК-анализа начинает падать быстрее, чем муровская стоимость, уже в 2007 году, а затем ее скорость падения все больше растет (это продолжается до сих пор). Исходная расшифровка мегабазы (1 миллиона оснований) ДНК-последовательности стоила чуть меньше 10 тысяч долларов в 2001 году, нырнула под тысячедолларовую планку в 2004 году, а в 2014 году обходится… всего в полцента.
Быстрое, дешевое, надежное секвенирование – технология, коренным образом меняющая положение в науке. Количество архивируемой информации, которую получают из цепочек ДНК, растет с невообразимой скоростью. Хороший современный секвенсор, продающийся уже полностью подготовленным для работы в лаборатории, при идеальных условиях способен выявлять до 100 миллиардов пар нуклеотидных оснований в сутки. По оценкам специалистов, за 2013 год лабораториям всего мира удалось расшифровать 15 петабаз, то есть тысячу миллионов миллионов букв ДНК[23].
Что ж, ДНК-секвенирование стало весьма доступным методом. И все равно в каждом конкретном исследовании встречаются трудности, вынуждающие ученых идти на те или иные компромиссы.
Секвенирование отдельного генома в наши дни – рутинная работа, успех которой зависит главным образом от тщательности подготовки образцов, которые закладываются в секвенсор. ДНК должна быть чистой, то есть происходить от одного организма.
Если речь идет о ваших собственных клетках, особых проблем не возникает, достаточно поскрести пальцем внутри щеки. В проекте «Геном человека» у добровольцев брали пробы крови. Человеческая ДНК обладает сравнительно крупными размерами, поэтому ее после извлечения расщепляли с помощью ферментов на более «удобоваримые» куски (примерно по сотне тысяч нуклеотидных пар в каждом), а затем их «клонировали» – воспроизводили при помощи послушных лабораторных бактерий, которые, благодаря своему быстрому росту, давали большое количество искусственной бактериальной хромосомы (ИБХ) ДНК. Затем эти ИБХ извлекались из бактерий для секвенирования.
Геномы бактерий меньше, но их труднее получить в чистом виде. С теми бактериями, которые удается выращивать в виде культуры, можно разобраться достаточно легко. Прочие же так и остаются в виде непонятной смеси, содержащей неизвестно сколько различных организмов, каждый из которых добавляет в общую сумму очень небольшое количество ДНК.
Эту трудность можно обойти, прибегнув к так называемому внекультурному анализу. Он объединяет в себе растущие возможности ДНК-секвенирования с ширящимся знанием биологии бактериальной жизни. Возьмите пробу микрожизни откуда угодно: это может быть ведро морской воды, пригоршня почвы или (как раз для наших целей) кучка человеческих экскрементов. Там вы, помимо всего прочего, обнаружите массу бактерий, вирусов и (возможно) других, более крупных организмов. Не трудитесь отделять их друг от друга. Просто извлеките все ДНК, расщепите их на удобные для анализа куски и затем проведите общее секвенирование.
Появление геномики, действующей в промышленных масштабах, предоставляет ученым доступ к постоянно расширяющейся базе данных ДНК-последовательностей. А поскольку вся эта информация хранится в электронной форме (а не только в самой ДНК), компьютеры могут легко анализировать ее, сравнивая новые образцы ДНК с теми, что уже имеются в хранилище данных. Порой они находят ряд тех же букв, следующих в том же порядке; иными словами, выявляется полное совпадение данных. Иногда это часть гена, чья функция нам уже известна (зачастую она состоит в том, чтобы руководить синтезом определенного белка). Иногда этот фрагмент чуть отличается от какого-то существующего гена. Иногда он похож на ген, но содержит неизвестный компонент. Так, фрагменты ДНК, отвечающие за кодирование белков, заключают в себе особые сигналы, показывающие, где клеточная аппаратура для чтения ДНК должна прекращать работу, а где должна снова ее начинать. При тщательно продуманной интерпретации такое секвенирование «всего, что попало в ведро» способно многое поведать о населении ведра.
Впрочем, пока все равно не так-то просто осмыслить, что же присутствует в ключевых областях человеческого микробиома. Толстая кишка человека – вероятно, самая богатая и разнообразная экосистема на планете. Выделите из нее все гены, и вы обнаружите множество таких, которых никто никогда раньше не видел. Однако подобное массовое секвенирование отделяет ген от организма, которому он принадлежит; поэтому нельзя сказать, какие разновидности бактерий (или других существ) присутствуют в данном месте.
Биологи подчас пренебрегают этими подробностями, чтобы хотя бы понять, сколько различных видов имеется в образце. Для этого они сосредотачивают внимание лишь на одном определенном гене каждой бактерии. Подход действенный: у разных бактерий этот ген почти один и тот же, если не считать небольших его участков, где наблюдаются существенные отличия. Этот ген отвечает за формирование участка РНК, молекулярной кузины ДНК, а РНК входит в состав незаменимой наномашины – рибосомы, получающей генетическое послание от участка ДНК и на основе этой инструкции собирающей аминокислоты в белковую молекулу.
Один из таких генов отвечает за 16S рРНК (рибосомную РНК, названную так по скорости седиментации – скорости, с которой она движется, если поместить суспензию с ней в центрифугу. Стандартная лабораторная методика разделения крупных фрагментов клеток).
16S рРНК приносит исследователям неоценимую пользу. Она имеется лишь у бактерий, поскольку эукариотические рибосомы устроены иначе. В клетке она присутствует в больших количествах, а значит, ее можно сравнительно легко оттуда извлекать. А 1500 нуклеотидных оснований[24], из которых она состоит, можно было секвенировать уже несколько лет назад.
Как анализировать гены – по одному, все одновременно или же вид за видом?
Последовательность 16S рРНК занимает важное место в новейшей истории биологии: этот фрагмент стал стандартным инструментом первой стадии анализа микробиома. Собственно, первые работы с 16S рРНК начались еще до того, как можно было секвенировать всю последовательность. Карл Вёзе, умерший в 2012 году, давно использовал ее для того, чтобы заново нарисовать всю карту жизни. Еще в 1970-е годы он начал сравнивать последовательности коротких фрагментов РНК – олигонуклеотидов – у различных бактерий. Выстраивая взаимосвязи между микроорганизмами и «генеалогическими деревьями» этих последовательностей, в конечном счете удалось кардинальным образом пересмотреть всю структуру жизни на Земле. Вёзе обнаружил существование третьего домена (надцарства) живых организмов (входящие в него существа теперь именуются археями), довольно сильно отличающегося от двух доменов, которые уже были известны, – бактерий и эукариот (существ более крупных, имеющих клеточное ядро). Археи, как и бактерии, являются прокариотами. Раньше ученые полагали, что все прокариоты – сравнительно близкие родственники. Но археи заметно отличаются от бактерий. Поначалу их считали существами экзотическими, обитающими лишь в самых необычных местах, но теперь-то нам известно, что археи есть повсюду, в том числе в нашем микробиоме.
Добавление нового подразделения в совокупность всех живых организмов заставило переписать учебники и утвердило секвенирование 16S рРНК в качестве одного из ключевых методов микробиологического анализа. Однако первые работы Вёзе основывались на секвенировании фрагментов РНК, полученных из чистых культур. Более современный 16S-анализ идет еще дальше, позволяя исследователям отбирать ДНК-последовательности, создающие 16S рРНК, из невероятной мешанины живых организмов.
Основная идея остается той же, однако на практике осуществить ее непросто. Работа состоит из нескольких стадий: клетки образца «вскрывают», из них извлекают ДНК, затем обнаруживают все 16S-гены при помощи ДНК-праймеров, распознающих участки в начале или в конце гена, совершенно одинаковые для всех видов. Затем ДНК-фрагменты, помеченные этими праймерами, проходят циклическую обработку. Метод, изобретенный в 1980-х и названный полимеразной цепной реакцией (ПЦР), позволяет быстро и многократно копировать небольшие количества ДНК. И наконец – собственно секвенирование.
Финальная стадия – сравнение изменчивых участков генетических последовательностей 16S с уже известными нам участками (можно сравнивать как один участок, так и несколько) – сегодня отдана компьютерным программам, имеющим базы данных ДНК, где содержатся десятки тысяч таких последовательностей. То, над чем некогда мучились бесчисленные аспиранты, теперь автоматизировано (как и большинство рутинных процедур современной молекулярной генетики). Можно прикрепить небольшие отрезки многих таких последовательностей к «биочипу» – ДНК-аналогу микросхемы – и проводить сравнение непосредственно в образце. То, что некогда требовало отдельной лаборатории и усилий высококвалифицированных специалистов, теперь проделывает машина, хотя исследователям все равно требуется знать конкретные детали тех стадий, что приводят к получению результатов. Кроме того, следует знать много тонкостей: как обрабатывать пробу, как извлекать ДНК, какие именно участки последовательностей сравнивать. Ген 16S содержит в себе 9 из важнейших гипервариабельных участков ДНК; их многочисленные различия неоднородно распределены среди бактериальных видов. Поэтому от того, какие участки вы изучаете, многое зависит. Современные методы ДНК-анализа, особенно способность «размножать» сверхмалые количества ДНК, снова и снова копируя эту молекулу, имеют оборотную сторону. Эти методы чувствительны к загрязняющим компонентам, заносимым в ходе анализа, не меньше, чем к компонентам пробы, присутствовавшим в ней изначально. Это большая помеха на пути развития микробиомных исследований. Так, тщательная проверка, выполненная в 2014 году, показала, что стандартные наборы для выделения ДНК, которыми пользуются сегодня многие специалисты, зачастую не являются стерильными (вопреки рекламе). Если исходный образец взят из области с низкой плотностью микробного населения, результаты могут легко искажаться из-за микробов, невольно вносимых исследователями в процессе работы[25].
Как пишет в связи с этим журнал Nature, такая подверженность риску загрязнения «лишь усиливает озабоченность научного сообщества тем, что технология секвенирования развивается столь быстро, что в некоторых случаях она даже обгоняет возможности ученых пользоваться ею»[26]. Однако хотя получаемые данные всегда несколько расплывчаты и неопределенны, 16S-анализ всё же сообщает нам об образце «диких» (не выращенных в культуре) бактерий то, что прежде не удавалось узнать из исследования мешанины всевозможных ДНК. И хотя этот метод используется сейчас весьма широко, он – лишь первый уровень анализа. Чтобы получить более ясную картину того, что содержится в образце, не ограничиваясь грубой оценкой структуры микробной популяции, следует глубже проникнуть в ДНК.
Теперь возможно и это. В таких случаях опять же исследуются фрагменты ДНК, выделенные из «цельного» (неразделенного) образца. При таком подходе систему настраивают на секвенирование всех кусочков ДНК, какие только удастся найти. Изначально это секвенирование (так называемый «метод дробовика») применялось к отдельному виду: ученые пытались собрать воедино геномную последовательность из всех попадающихся фрагментов (какие-то повторялись, какие-то встречались лишь один раз).
Теперь же технологии настолько развиты, что мы можем позволить себе грубый силовой подход. Неважно, сколько видов в нашем образце. Просто расщепите ДНК, секвенируйте все фрагменты и посмотрите, какой смысл можно выявить в получившейся гигантской библиотеке всевозможных перепутанных последовательностей.
Всем этим как раз и занимается метагеномика. Она дает информацию обо всем генетическом составе сообщества организмов, даже если вы не знаете, какие организмы в него входят. Опять-таки пределы точности такого анализа часто определяются тем, насколько биологи, химики и компьютерщики, работая вместе, способны отделить сигнал от шума. По сути они разбираются с тысячами пазлов, которые сваливают в одну коробку и затем хорошенько встряхивают, причем никто толком не знает, на что похожи исходные картинки.
Впрочем, метагеномика предоставляет весьма перспективный метод работы с образцами, которые раньше считались бесполезными для анализа. Чем больше полных геномных последовательностей будет расшифровано и внесено в непрерывно растущие базы данных, тем эффективнее будет этот метод. Если тот или иной микробиом кажется нам заслуживающим внимания, теперь мы можем узнать, что в нем содержится, во всех подробностях. Хватило бы бюджета!
От наблюдений к экспериментам
Далее наступает этап, который технология облегчает мало. Нам предстоит выяснить, что все это значит. Вероятно, тут уместна аналогия с переходом от естественной истории к более глубокому научному пониманию того, что же мы так долго описывали и классифицировали. Здесь требуется объединить теорию с новыми экспериментами, иначе метагеномика рискует подпасть под шуточное определение Сиднея Бреннера, одного из отцов-основателей современной молекулярной генетики, и стать «биологией с непонятными данными на входе, высокими расходами и нулевым выходом».
Как же избежать столь безрадостного итога? Биологией можно заниматься самыми разными способами, но в данном случае разумно выделить три главных подхода. Один из них сводится к тому, чтобы выяснить, как проводить контролируемые эксперименты над микробиомом. Понятно, что опыты на людях ставить непросто, даже если эти опыты вполне отвечают этическим требованиям[27]. Значит, следует обратиться к микробиомам других видов. Микробиомы есть у всех, так что для сравнения можно использовать самые разные существа. Список соответствующих микробиомов, которые уже проанализированы, неуклонно растет.
Более четкое сравнение можно провести, используя подопытных животных, которые начинают свою жизнь без всякого микробиома, – снабдить их микробиомом, специально сконструированным для того, чтобы получить ответ на конкретный вопрос, интересующий экспериментатора. Основная модельная система здесь – безмикробные мыши. Впервые их вырастили в лаборатории еще полвека назад[28]. С помощью кесарева сечения им помогают появиться на свет, а затем растят в стерильных условиях. Всю работу исследователи должны выполнять при помощи герметических рукавов с перчатками на концах. Это занятие, дорогостоящее и трудоемкое, почти вышло из употребления с зарождением новой волны микробиомных исследований. Саркис Мазманян из Калифорнийского технологического института, лауреат премии «Гений» фонда Мак-Артура (с этим гением мы еще встретимся в главе 7), рассказывает, что в 2002 году, начав исследовать влияние микробов на кишечник, он обнаружил, что в пределах досягаемости нет никого, кто знал бы, как выращивать безмикробных мышей. «Мне пришлось убедить одного лаборанта, ушедшего на пенсию, помочь мне устроить стерильные боксы и научить меня «санитарной инженерии». Вместо устройств из стали и стекла, которые он использовал в свое время (50 лет назад), мы сумели раздобыть чудесные модернизированные боксы с пластиковыми пузырями, содержащими по 4 клетки с мышами. После того как я несколько раз случайно занес в эти боксы грязь, я понял, почему исследователи так редко обращаются к безмикробным подопытным животным»[29].
Спустя десяток лет удалось наладить поточное выращивание безмикробных мышей во многих лабораториях. Мыши с давних пор служат моделями для генетических и биохимических исследований; есть фирмы, поставляющие для лабораторных исследований стандартизированные их породы («линии»). Теперь для лабораторных нужд привлекаются и другие безмикробные существа, в том числе крысы и (последнее приобретение науки) рыба данио-рерио. Эти рыбки замечательны тем, что эмбрионы у них прозрачные, поэтому за их развитием наблюдать гораздо легче.
Впрочем, все эти модели – своего рода компромиссы. В чем-то люди походят на мышей и даже на рыб, но в чем-то, как нетрудно заметить, от них отличаются. Любые результаты, полученные при изучении этих существ, в лучшем случае лишь указывают на то, что может происходить у людей. Возможна ли какая-то более удачная модель, отражающая наши, человечьи, особенности? Во многих отношениях подходит свинья. Она ближе к человеку, чем мышь, по размерам, по характеристикам пищеварительной системы, по общему метаболизму и даже по микробиому. Но давайте признаемся себе: свинья никогда не будет подопытным животным в большом количестве лабораторий. Колин Хилл из университетского колледжа Корка – один из исследователей, предпринимавших попытки задействовать свинью в качестве экспериментального объекта. На конференции 2014 года он предупредил: «Взрослая свинья с диареей – весьма неприятный объект для всех участников эксперимента»[30].
Живые животные, как и их микробиомы, – сложные объекты. Нелегко увидеть, что происходит внутри этих существ. Вот почему был разработан целый ряд способов экспериментально воспроизвести какое-то подобие части животного или же подобие микробиома. Например, клетки кишечника можно выращивать в культуре, побуждая их образовывать нечто напоминающее внутреннюю оболочку кишечника. Можно попытаться воссоздать микробную экосистему в лабораторном сосуде (или в серии сосудов). Затем можно брать пробы меняющегося населения таких биореакторов, измерять его характеристики, анализировать состав питательной жидкости и выделяемой бактериями смеси. И все это для того, чтобы получить хоть какое-то представление о функционировании системы.
Такой подход годится, если ваша цель – подобрать оптимальную смесь микробов, которая может заново заселить кишечник пациента, чей микробиом резко перешел в нежелательное состояние из-за какого-то неприятного расстройства вроде болезни Крона. Однако такой метод не удовлетворит тех, кто хочет спуститься на молекулярный уровень. Биологические процессы идут в клетках, но управляют этими процессами молекулы, большие и маленькие.
Насколько глубоко вы хотите проникнуть в эти молекулярные детали, зависит от того, какого рода объяснение вы ищете. Эксперименты разрабатывают для проверки гипотез, а те в свою очередь возникают на основе идей – важнейшего компонента всех наших хитроумных микробиомных исследований. Изучение суперорганизма вбирает идеи из всех областей биологии.
Некоторые идеи пришли из теорий о развитии жизни. По выражению великого теоретика Феодосия Добжанского, «биология приобретает смысл только в свете эволюции». Дарвиновский естественный отбор в его современном виде остается биологической «теорией всего». Но он годится скорее для объяснения того, почему биологические объекты так себя ведут, чем для объяснения того, как они действуют.
Ответ на последний вопрос зависит от того, что вы хотите понять и на каком уровне. Многое в биологических системах – человеческих и микробных – зависит от структуры молекул. Но тут же возникает проблема: молекул-то очень много. В принципе я согласен с одним ученым, который на обеде в перерыве конференции, посвященной микробиомам, заметил: «Конечно, мы толком не поймем, что творится хоть с какими-то из этих штук, пока не найдем этому молекулярное объяснение». Впрочем, на практике такой подход не всегда кажется полезным и плодотворным. Зачастую он сводится к бесконечным утверждениям по схеме «А взаимодействует с B, тем самым влияя на C, что провоцирует отклик со стороны D… и в итоге получается X». Впечатляет, когда вы можете распутать всю цепочку, но такой результат всё же представляет собой не столько объяснение, сколько описание. Однако если такое умозаключение показывает, что мы могли бы избежать вредного результата X путем воздействия на A, B, C или D, оно может послужить отправной точкой для дальнейших изысканий.
Мне совершенно не хочется вспоминать тысячи подобных формулировок; к тому же во многих действительно интересных случаях уйдет масса времени на то, чтобы составить такую цепочку. А значит, нам понадобятся идеи более высокого уровня, чтобы осмыслить причинно-следственные связи, возникающие при нашем взаимодействии с собственными микробиомами. Поэтому давайте обратимся хотя бы к некоторым результатам из мощного потока данных, получаемых с помощью новых методик.
Глава 4. Повсюду микробы
Общая площадь кожи среднего человека – около 2 квадратных метров. Разместите там типичную бактерию, и у нее будет столько же пространства, сколько у одного-единственного человека, живущего на участке, сравнимом по размеру с суммарной территорией всех пятидесяти штатов США[31]. Если применить более привычную нам шкалу, то можно дать такую оценку: потребуется миллион бактерий, чтобы полностью покрыть булавочную головку.
Такая разница в масштабах делает многие исследования нашей микробиоты весьма приблизительными. Если представить себе, что наша кожа действительно кажется бактериям чем-то вроде континента, то можно, развивая этот образ, сказать, что мы хотим узнать не только общую численность микробного населения, но и его географическое распределение. Как мы увидим, площадь внутренних поверхностей тела гораздо больше площади кожи, так что проблема изучения этих областей еще сложнее.
Нынешние ученые могут отбирать пробы отовсюду, куда их допускают испытуемые. Рекордным, вероятно, является одно исследование, в ходе которого удалось проанализировать 400 различных участков кожи одной героически терпеливой четы и сделать довольно представительную перепись микробного населения. Новые научные результаты влекут за собой новые вопросы, так что за каждым очередным изысканием следует новый отбор проб, новый анализ, новые выясненные подробности. Но для того чтобы оценить масштаб суперорганизма, следует первым делом поискать ответ на основополагающий вопрос: «Кто здесь?»
Основополагающий ответ: «Здесь не все». Простое, но важное открытие. Да, ученые недавно узнали об ошеломляющем количестве и разнообразии микробных видов, обитающих в теле и на его поверхности. Однако это разнообразие ограничено. Уместно вспомнить знаменитую микробиологическую максиму, сформулированную голландцем Баасом Бекингом: «Всё есть повсюду, но среда производит свой отбор». В каждую бактерию заложен потенциал вездесущести, однако места, где эти микроорганизмы реально обитают, зависят от конкретных условий среды обитания, в том числе и от присутствия других бактерий.
Допустим, мы объединим данные всех исследований человеческого микробиома, какие когда-либо проводились, и составим общий список обнаруженных в нем бактерий. По оценкам специалистов, на Земле насчитывается от 50 до 100 филумов бактерий (напомним: филум – одна из самых крупных таксономических категорий, она содержит большое количество видов). Иными словами, мы даже толком не знаем, сколько бактериальных филумов существует на свете. Однако нам точно известно, что лишь представители небольшого их числа входят в человеческий микробиом. В нем могут иногда встречаться очень маленькие колонии представителей других филумов, но в целом, похоже, человек сосуществует не более чем с дюжиной бактериальных филумов. И лишь полдюжины из них – доминирующие: их представители составляют 99,9 % общего числа наших бактерий-компаньонов.
Мы знаем, что бактерии стремительно размножаются и потому способны быстро заполнить любую экологическую нишу, какая только им позволит в ней расти. Так что отсутствие у нас представителей большинства филумов показывает, что бактерии грузятся на славный корабль «Homo sapiens» отнюдь не посредством каких-то случайных процессов. Они проходят отбор и контроль. Что ж, этого следовало ожидать от системы, где миллионы лет идет совместная эволюция.
Еще одна находка общего порядка укрепляет нас в этой мысли. Дело в том, что не все микробы обнаруживаются на каждом участке тела. Мы предоставляем бактериям весьма различные среды обитания, и поэтому бактериальное население в них тоже весьма различно. Чтобы получить всестороннее представление о суперорганизме, нужно более пристально вглядеться в эти участки. Но прежде не помешает обратиться к карте человеческого микробиома и к одному международному проекту, организованному в США и как раз направленному на ее создание.
Широкий взгляд
Проект получил название «Микробиом человека», явно намекающее ученым (и спонсорам), что это естественный наследник проекта «Геном человека», ознаменовавшегося громким успехом. Новый проект запустила сеть американских Национальных институтов здравоохранения в конце 2007 года. Предполагалось провести обследование биоматериала, взятого у выборки здоровых добровольцев. Содружество лабораторий изучало биологические пробы, взятые у 242 взрослых, с 15 различных участков тела у мужчин и 18 – у женщин. (Большинство этих мужчин и женщин жили в двух американских городах – Хьюстоне и Сент-Луисе.) Общее количество процедур анализа превысило 11 тысяч, поскольку каждого донора просили в течение 2 лет дважды предоставить соответствующий биоматериал. Примерно из половины образцов выделили базовые последовательности 16S рРНК, которые позволяют идентифицировать типы микробов, но не определяют, какие именно штаммы присутствуют в пробе или каков их конкретный генетический состав. Сравнительно небольшой набор из 681 пробы секвенировали после фрагментирования ДНК на небольшие кусочки; так удалось получить общее представление о том, какие белки способны производить эти микробы. Наконец, для 800 бактериальных штаммов, выделенных из проб этих 242 участников эксперимента, провели полное секвенирование геномов. Всё это обошлось куда дешевле проекта «Геном человека», однако общие затраты составили немалую сумму – 170 миллионов долларов.
Благодаря новейшим технологическим достижениям эта сумма позволила получить больше данных, чем когда-либо получали биологи. Сообщество лабораторий, участвовавших в проекте, собрало в общей сложности 18 терабайт информации – примерно в 5000 раз больше, чем проект «Геном человека». В середине 2012 года первый масштабный анализ этих данных с подобающим триумфальным шумом появился в самых читаемых научных журналах – Nature и Science.
Эти данные позволили подтвердить еще одно важнейшее открытие относительно человеческого микробиома – его необычайную сложность и изменчивость. Картина микробиома здорового американца, нарисованная проектом «Микробиом человека», оказалась широкой во всех смыслах. В общей сложности участники эксперимента несли в себе и на себе более 10 тысяч видов микробов, то есть в соответствующих «человеческих экосистемах» имелось примерно 8 миллионов дополнительных генов – в 360 раз больше, чем собственных генов организма-хозяина. Само огромное количество различных микробов, бьющихся за жизненное пространство в каждом из нас, означает, что результаты вашего микробиологического обследования наверняка будут отличаться от результатов такого же обследования вашего соседа. «Все здоровые люди существенно отличаются друг от друга» – такой вывод сделало сообщество ученых, работавших в рамках проекта «Микробиом человека». Это заключение прозвучало в самом начале их программной статьи-отчета[32]. Как объяснял Роб Найт из Колорадского университета, это означает, что если у какого-то человека есть среди других микробов один в большом количестве, всегда найдется другой человек, у которого этого микроба практически нет.
Следующее важнейшее открытие показало еще одну сторону этого разнообразия. Различные участки тела сильно отличаются друг от друга, в этом нет ничего удивительного. Однако большой неожиданностью стал тот факт, что микробиомные образцы, взятые с одного и того же участка тела разных людей, тоже очень отличаются. Сие открытие не очень-то порадовало организаторов проекта. Проект «Микробиом человека» продвигали среди спонсоров как подобие проекта «Геном человека». Стратеги от науки искренне надеялись, что он даст возможность выявить своего рода универсальный микробиом, точно так же как предыдущий проект выявил универсальную геномную последовательность человека. Такой микробиом стал бы стартовой площадкой для дальнейшей работы по изучению мелких различий между конкретными людьми. Но теперь мы видим, что никакого универсального микробиома нет, а есть лишь огромное множество микробиомов, весьма отличающихся друг от друга. Авторы одной статьи даже временно отказались от строгого языка науки, чтобы объявить: открытие того, что «нет филума, который присутствовал бы на определенном участке организма у всех людей», попросту «сбило их с ног»[33].
Разумеется, можно сгрести все эти данные вместе и вывести коллективный микробиом всех участников того или иного исследования – или всего набора исследований. Так и поступили.
Эти 20 дюжин здоровых взрослых американцев с их 10 тысячами видов микробов[34] на всех стали донорами микробов из ряда мест организма, выбранных отчасти из соображений научного интереса, отчасти же просто из соображений удобства. Девять из этих участков находились во рту или возле него: отбирались пробы слюны, двух видов зубного камня, пробы с поверхности языка, нёба, внутренней части щеки, с десен, миндалин и горла. Четыре участка находились на коже: левый и правый локтевой сгиб, а также заушные складки. При этом сравнительно недоступная нижняя часть пищеварительного тракта с ее куда более значительной микробной нагрузкой была представлена лишь своими выделениями – фекалиями. Микробы из перечисленных мест отбирали у всех участников проекта. Женщины давали еще три вида образцов – из наружного отверстия, из срединной и задней области влагалища.
Полученные результаты подтвердили, что основную часть бактериального населения наших микробиомов составляют представители всего четырех филумов: Bacteroidetes, Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria. Первые два преобладают в кишечнике среднего здорового человека, особенно в толстой кишке, хотя Firmicutes можно обнаружить практически во всех остальных местах. Actinobacteria и Proteobacteria в изобилии встречаются во рту; имеются они и на коже.
Пока не очень-то информативно. Каждый из этих филумов содержит в себе большой набор видов. К примеру, Firmicutes (по-английски название звучит трогательно: firm and cute – «очаровательно твердые») – это просто бактерии с относительно твердой внешней оболочкой. Эту черту использовали, чтобы отличить их от хлюпиков Mollicutes (molli в переводе с латыни означает «мягкий»), к которым у меня личный интерес (об этом в главе 5) и у которых практически нет клеточной стенки.
Поэтому не так-то легко оценить значимость результатов, получаемых на первой стадии микробиомных исследований. Гарвардский эпидемиолог Уильям Хейнидж говорит: попробуйте-ка интерпретировать изменение в микробиоме кишечника, когда вам известно лишь, как изменилось соотношение содержания двух бактериальных филумов; по степени информированности вы окажетесь в положении человека, уверенного, что вольер, где живут 100 птиц и 25 улиток, идентичен аквариуму, где обитают 8 рыб и 2 кальмара, ведь оба вместилища содержат вчетверо больше позвоночных, чем моллюсков[35].
Но как только вы спуститесь от уровня филумов пониже, микробное разнообразие может показаться несколько озадачивающим. В рамках проекта «Микробиом человека» удалось обнаружить 1000 видов микробов лишь во рту, 440 – на локтевых сгибах, 1250 – за ушами. Влагалище, как выяснилось, обладает наименее многообразным микробным населением из всех обследованных зон тела: зачастую в нем обитает лишь несколько видов из рода Lactobacillus.
Во всех же прочих местах мы неизменно сталкиваемся с длинным (часто весьма длинным) списком видов, различным даже для довольно небольших участков организма. Так, в каждой из обследованных зон рта имеется микробное население особого состава. На сухих, влажных и маслянистых участках кожи (вы сами знаете, где они у вас располагаются) живет различная микробная флора. Особое микробное население у таких маленьких образований, как волосяные фолликулы или потовые железы. В кишечнике – самом крупном вместилище микробов – имеется множество различных экологических ниш для микробов, но в рамках проекта не планировалось подробно исследовать еще и эту область. Как предостерегал один ученый, полагаться лишь на образцы фекалий для того, чтобы разобраться в кишечной микробиоте, – все равно что пытаться представить себе окраску «феррари», нюхая выхлопные газы.
Столько видов! Их можно перечислить все, но это было бы бессмысленно. Скорее всего в списке нам окажутся хорошо знакомыми лишь немногие названия. На самом-то деле мы больше всего хотим узнать, что все эти микробы делают и каковы особенности их деятельности в разных местах организма, у разных людей, при заболеваниях и в здоровом состоянии. Для этого следует внимательнее вглядеться в наши многообразные микробные ниши, а затем – на перекрывающиеся друг с другом карты, отражающие результаты другого рода исследований. Давайте рассмотрим все наши основные экосистемы по очереди, кратко перечисляя главные их свойства. Самая сложная из них, кишечник, заслуживает отдельной главы (ее номер – 5). Здесь же я обращусь к целому ряду других мест, которые не столь сложны с точки зрения микробной жизни, однако и не обязательно просты. Начнем с той части нашего организма, которую микробы (как и все прочие, кто с нами знакомится) встречают первой, – с кожи.
Чувствовать кожей
Кожа постоянно находится в контакте с бактериями. Кроме того, легко видеть, что на микроуровне она представляет собой весьма разнообразный ландшафт. Вечно влажная среда между пальцами ног, благоприятная для роста грибков, заметно отличается от участков на кончиках пальцев рук, под мышками, в паху или от обширных областей спины.
Некоторые микробы, пасущиеся у нас на коже (отмершие клетки постоянно отшелушиваются от ее внешнего слоя, снабжая микроорганизмы пищей), привлекают к себе внимание из-за того, что делают жизнь человека некомфортной или просто слегка вонючей. К тому же брать пробы с кожи легко. Поэтому кожную микробиоту изучают уже много лет. Как отмечает Джессика Снайдер Сакс в книге 2007 года «Микробы хорошие и плохие» (Jessica Snyder Sachs, Good Germs, Bad Germs), толстый том с вполне современным заглавием «Экология человеческой кожи» вышел еще в 1965 году.
Как и в случае с другими областями тела, это не означает, что мы всё о ней знаем. Например, Staphylococcus epidermis, бактерия, названная по ее излюбленной среде обитания (эпидермису), почти неизменно является колонизатором кожи. Она принадлежит к числу нескольких видов, которые, как долго считалось, вытесняют своих менее невинных конкурентов, в особенности бактерию Staphylococcus aureus, которая часто служит причиной кожных инфекций и еще более неприятных вещей. При этом она может преспокойно жить в носу, не причиняя его владельцу никакого вреда.
Однако эксперименты, с большой тщательностью выполненные в 2012 году на безмикробных мышах, показали, что S. epidermis еще и способствует активации иммунных реакций кожи, необходимых для защиты от патогенов. У мышей присутствие этой бактерии позволяет избежать воздействия Leishmania major, совершенно неродственной ей эукариоты, которая у людей вызывает тропическую лихорадку (лейшманиоз)[36].
Многообразие микробного населения кожи показывает, что бактерий мы избежать не можем. Мы лишь невольно влияем на то, какие микроорганизмы поселяются на нас и в нас. Работа кожи, в отличие от работы кишечника, относительно проста: не пускать внешних микробов внутрь, а внутренних – наружу. Она держит бактерии в узде при помощи двух типов потовых желез. Пот такой соленый не для того, чтобы помогать вам охлаждаться; высокое содержание соли подавляет рост бактерий. Еще один противомикробный щит создают выделения сальных желез.
Впрочем, в областях, где эти железы наиболее активны, тоже имеются микробы. Они способны переносить соленую и кислотную среду или же поедать сальные выделения. Печально известная Propionibacterium acnes считает очень благоприятным для себя низкий уровень кислорода во впадинах сальных желез и обладает целым арсеналом ферментов, позволяющих ей поедать липиды, которые она там обнаруживает. В период полового созревания гормоны заставляют эти железы усиливать секрецию и представители рода Propionibacterium, в том числе P. acnes, начинают усиленно размножаться. Частым следствием этого является acne – угревая сыпь. Впрочем, здесь есть своя компенсация: данная бактерия создает из липидов жирные кислоты, обладающие антибактериальным действием. К несчастью для прыщавых подростков, эти кислоты действуют лишь на другие виды бактерий.
Наряду с этими основными игроками кожа поддерживает существование целого ряда других микробов, а также грибков и клещей (последние – недостаточно микроскопические существа, чтобы описывать их в этой книге). Они различны у разных людей и в разное время. Возможно, кожная микробиота – самая разнообразная и изменчивая в человеческом организме. Наша интуиция готова с этим согласиться, ведь мы контактируем с окружающим миром главным образом через кожу. Каждый из нас обладает своего рода эпидермисовым зверинцем. Это подтверждают многочисленные исследования: так, специалисты показали, что можно идентифицировать человека по составу микробных популяций, которые он невольно переносит с пальцев на компьютерную клавиатуру[37].
Всеобъемлющий обзор исследований кожи, сделанный в 2013 году, описывает разнообразие кожной микробиоты у здоровых взрослых как «фантастическое»[38]. Как показано в одной работе, пробы, взятые с предплечий 6 разных людей, имели меньше 10 % общих родов бактерий. Кисти одного человека обладают разным составом микробного населения, перекрывание здесь, по данным анализа, достигает лишь 17 %. Однако мы обычно имеем больше общих кожных бактерий с нашими партнерами и домашними животными, чем с незнакомцами. Авторы упомянутого обзора полагают, что все эти результаты «бросают вызов устоявшейся идее человеческого микробиома». Возможно, добавляют они, следует рассматривать совокупный микробиом «всех обитателей нашего жилища и нашего места работы».
Как подчеркивается в другом исследовании, кожа не только поддерживает существование микробов, но и постоянно сбрасывает их с себя, притом с такой скоростью, что любая комната, где мы оказываемся, быстро получает наш «микробный автограф». Мы движемся в облаке своих микробов. В рамках проекта «Домашний микробиом», организованного в США, в 2014 году опубликованы первые результаты долговременного обследования 7 семей и их жилищ. Пробы отбирались из различных мест по всему жилищу, а также у каждого члена семьи. Удалось выявить четкую связь между человеком и его окружением. Так, в микробном отношении пол больше похож на ступни ног, чем на стены, а выключатели заимствуют микробов у наших рук. Люди – более богатый источник микробов, чем комнаты, где они живут, так что движение здесь по большей части одностороннее. Одна супружеская пара, участвовавшая в исследовании, переехала из гостиничного номера в отдельный дом. Их новое окружение вскоре стало напоминать по микробному составу номер, который они недавно покинули[39].
Еще одна яркая демонстрация микробного разнообразия выходит за пределы, которыми ограничивали себя первые исследователи микробиома, бравшие образцы лишь у обитателей процветающих стран Северного полушария. Сравнение биоматериалов у жительниц Танзании и американок, проведенное под руководством группы йельских ученых, показало существенные различия в составе микробов на кистях рук[40]. Исследовались небольшие группы: 29 танзанийских женщин, воспитывавших детей, и 15 жительниц США, на чьем попечении не находились дети (для удобства исследователи брали пробы лишь у старшекурсниц). Различия бросались в глаза. Все распространенные бактерии присутствовали у обеих групп, однако на руках американок обнаружилось гораздо больше Propionibacteria и Staphylococci, тогда как у танзаниек имелось больше бактерий, обычно присутствующих в почве. Кроме того, у обследованных жительниц Танзании оказалось вдесятеро больше особей бактерий на квадратный сантиметр, зато количество видов бактерий у них – лишь две трети от американского. Не удивительно: обследованные американки проводили почти все время в помещении традиционного западного типа, тогда как сама конструкция танзанийских жилищ позволяла африканкам постоянно непосредственно контактировать с окружающим воздухом. Полученные результаты лишний раз подтверждают идею, что на кожный микробиом оказывает сильное воздействие ежедневный контакт со средой. Кроме того, они опровергают предположения, что пребывание на открытом воздухе непременно увеличивает наше микробное разнообразие.
Хотя кожа встречается со множеством микробов самым случайным образом, она, подобно другим частям нашего тела, в ходе эволюции научилась привечать некоторые виды в качестве долговременных жильцов. Мы склонны считать, что кожу легко очищать: в конце концов, мы регулярно моем руки, нас этому научили в детстве. Что ж, это полезное занятие, но оно должно приводить к избавлению лишь от бактерий, недавно оказавшихся на коже, а не от всех бактерий вообще. Последнее (если такое возможно) сделало бы нашу кожу весьма уязвимой для колонизации менее желательными видами.
Более того, недавние интригующие исследования показывают, что некоторые бактерии проникают под эпидермис, в более глубинные слои кожи. Группа Ричарда Галло, работающая в Калифорнийском университете, искала бактерии как раз в глубоком слое кожи – дермисе – и в жировой прослойке под ним[41]. И там, и там ученые обнаружили свои бактериальные сообщества. Эта находка, способная несколько встревожить, важна в двух отношениях. Получается, что бактерии, сумевшие пробраться в глубинные слои кожи, имеют более прямой контакт с нашей иммунной системой, которая вообще поддерживает сложные взаимодействия с микробиомом (об этом мы поговорим в главе 7). Кроме того, мы видим, как увеличивается перечень участков тела, которые раньше считались стерильными и которые, как выясняется ныне, служат приютом по крайней мере для некоторых организмов, пришедших откуда-то извне. Мы заселены куда плотнее, чем считалось раньше.
Рот: множество микробиомов в одном
Полость рта, где много лет назад началось исследование микробиома человека, до сих пор служит зоной и самых простых, и самых сложных исследований. Итак, рот продолжает всех удивлять, что блестяще продемонстрировал с помощью ДНК-анализа первопроходец микробиологии Дэвид Релман.
Начнем с простого. Что может быть проще поцелуя? Однако в микроскопическом масштабе лобзание – штука довольно сложная. Исследование 2014 года, в шутку названное «Микробиом влюбленных», показывает интенсивность микробного переноса при самых разных чмоканьях – от ритуального клевка в щечку до более интимных шалостей. Группа голландца Ремко Корта опросила 21 парочку, интересуясь тем, как и насколько часто те целуются, и вовлекла целующихся в эксперимент, при котором один из партнеров пил между поцелуями пробиотический йогурт. Подтвердилось то, что вы наверняка и так предполагали: поцелуй – отличный способ передать бактерии, живущие на языке любителя йогурта, партнерше. Как сообщают ученые, при десятисекундном поцелуе передается около 10 миллионов бактерий[42].
Однако результаты поцелуев в долгосрочной перспективе куда сложнее – как в человеческих отношениях, так и в микробиологическом смысле. Состав микробов на поверхности языка действительно более схож у партнеров, чем просто у случайно выбранной пары людей, однако сходство это не так уж сильно зависит от того, насколько часто парочка целуется. Прямой перенос ведет к возникновению устойчивых популяций одних бактерий, но не других. Видимо, на процесс отбора здесь влияет целый ряд иных факторов. Поцелуи оказывают свое воздействие, но последнее слово все равно остается за экосистемой.
Ведутся и более трудоемкие исследования орального микробиома. Уместно вспомнить одну программную статью, где этому микробиому уделяется особое внимание. Она вышла в середине 2014 года, и в ней по-новому использованы результаты старых изысканий. (Открытия в биологии всё чаще совершаются именно так.) Уже изученные ДНК-последовательности хранятся в базах данных, к которым могут обратиться все желающие. Компьютерные кудесники порой ставят новые вопросы, ответы на которые можно получить из уже имеющегося массива информации.
Мурат Эрен из Лаборатории морской биологии, располагающейся в массачусетском городке Вудсхол (сегодня эта оснащенная по последнему слову техники лаборатория занимается далеко не только биологией моря), задался вопросом: может быть, повторный анализ данных, полученных в рамках проекта «Микробиом человека», только выиграет, если учесть информацию о типах бактерий, выясненную при анализе собранных образцов?[43] Для примера взяли фрагмент базы данных ДНК-последовательностей и информацию, касающуюся микробов из американских ртов. И в самом деле, работа принесла результат.
В этих ртах таится много неведомых бактерий, поскольку базовый 16S рРНК-анализ при всей невероятной полезности имеет свои ограничения. В частности, отыскивая ярко выраженные бактериальные типы путем сравнения некоторых гипервариабельных участков генов, этот метод отбирает лишь немногие участки, устанавливая своего рода порог для определения того, что следует считать отдельным видом (или операционной таксономической единицей). Последовательности, отличающиеся в этом отношении меньше чем на 3 %, считаются одинаковыми.
Такая процедура помогает избегать завышенной оценки уровня разнообразия, поскольку при секвенировании постоянно происходят небольшие ошибки. Однако в результате мы сваливаем в одну кучу некоторые микроорганизмы, различающиеся по немаловажным параметрам. Эрен заново рассмотрел старые данные, используя более действенный подход, направленный на поиск «наиболее информационно насыщенных нуклеотидных позиций» в наборе 16S рРНК. Его метод рассуждения базируется на теории информации и энтропии, созданной в 1948 году Клодом Шенноном. Мы можем рассматривать этот метод просто как применение сети с более мелкими ячейками при рыбалке в пруду, где плавают всевозможные генетические последовательности.
Ячейки оказались столь мелкими, что выделенные благодаря им новые бактериальные разновидности (теперь они именуются олиготипами, а не операционными таксономическими единицами) могут различаться в одном определенном гене всего лишь на одну пару нуклеотидных оснований ДНК из 1500.
Команда Эрена выбрала для обкатки своего метода именно оральный микробиом, поскольку интенсивное изучение микрофлоры рта уже дало обширный массив систематически организованной информации. Это одна из наиболее тщательно изученных групп нашего микробного населения. Многообразие жизни у нас во рту можно в полной мере оценить, обратившись к базе данных «Оральный микробиом человека», где, по состоянию на 2014 год, насчитывалось 688 видов (определение виду давалось через последовательности 16S рРНК). Целых 440 из них удалось вырастить в культуре – самая высокая доля среди всех участков тела, поскольку во рту меньше анаэробных бактерий (не выносящих присутствия кислорода), чем, к примеру, в кишечнике. У нас даже есть полные геномные последовательности для 347 из них. Самое давнее место исследования наших микробов ученые успели довольно подробно изучить. Однако новые, более изобретательные способы отсеивания данных показывают, что микрофлора рта еще многое способна поведать.
Эта новая процедура анализа состояла из двух основных стадий. Данные проекта «Микробиом человека», набор из 10 миллионов «показаний» для двух отдельных коротких участков гена 16S, классифицировали по олиготипам (490 на одном участке и 360 – на другом). Затем эти олиготипы сопоставили с полными последовательностями из более богатой базы данных «Оральный микробиом человека».
Оказалось, что олиготипы – то же, что и виды. Так ли это? На этот вопрос нет простого ответа, точно так же, как и на вопрос: что такое вообще «вид» у микробов? Какой же тогда смысл можно извлечь из всех этих данных? Видите ли (вздохнем поглубже), некоторые олиготипы (около 15 % общего числа) оказались не отличимыми от некоторых видов, описанных в каталоге. Некоторые группы из двух и более видов оказались не отличимыми по олиготипу. И (главный вывод, ради которого стоило затевать исследование) более 150 видов из базы данных принадлежали к множественным олиготипам, тем самым – по меньшей мере – повышая вероятность того, что исходная классификация видов пренебрегает существенными различиями. Еще 86 олиготипов, похоже, не описывали ни одно из существ, данные о которых содержались в базе «Оральный микробиом».
В этом немаловажный урок для всех, кто берется оценивать микробиомные исследования. То, что вы находите, зависит от того, где вы ищете. Возможно, скрытые от нас уровни разнообразия еще ждут своего обнаружения. Изучение микробиома при помощи алгоритмов, позволяющих обрабатывать гигантские массивы данных о генетических последовательностях, чем-то напоминает выслеживание животных в джунглях при помощи бинокля с линзами, пропускающими лишь лучи с узким диапазоном длин волн – только одного цвета из всего спектра. Поставив линзы, настроенные на другой цвет, вы увидите другой набор обитателей леса, хотя он и будет в чем-то перекрываться с тем, который вы уже видели через первую пару линз.
Из такого анализа можно сделать и другие выводы. Разнообразие, открываемое путем классификации на олиготипы, действительно играет важную роль; в этом нас больше всего убеждает то, что различные олиготипы микробов, кажущихся весьма похожими, обитают в разных местах. Отсюда наверняка можно узнать что-то новое об экосистеме, хотя пока и не очень понятно, что именно. Проверьте биоматериал более двух сотен человек, представленный в проекте «Микробиом человека», и может оказаться, что во всех пробах, взятых с языка, присутствует один олиготип, а в пробах, взятых с зубов, неизменно присутствует другой. Иногда бактерии, живущие, как правило, в разных местах, отличаются лишь на пару нуклеотидов в гене 16S.
Эрен проявляет очаровательную искренность, совершенно не скрывая того факта, что биологическую значимость таких данных нам еще предстоит выяснить[44]. Он обращает особое внимание на два организма, различающихся по распределению. Один – уже идентифицированный вид F. periodonticum, важный для науки, поскольку связан с воспалительным заболеванием десен. Другой достаточно сходен с ним, чтобы носить такое же название, однако с кое-каким довеском: «F. periodonticum 98,8 %». Как объясняет Эрен, это временное наименование как бы говорит: «F. periodonticum – самое близкое к этой штуке существо в базе данных, но все-таки перед нами явно два разных существа».
Как предполагают ученые, такие малые различия в 16S рРНК сопровождаются большими отличиями в других генах, а значит, и в том, как и где способны жить эти бактерии. Для подтверждения этой гипотезы следует внимательнее исследовать индивидуальных микробов. А поскольку микробов для исследования теперь больше, само расширение массива соответствующей информации заставляет оральный микробиом выглядеть еще более сложной системой.
По части разнообразия этот микробиом уже сейчас получает высокие баллы. Все 12 микробных филумов (11 филумов бактерий и 1 филум архей), обнаруженных у человека, найдены и во рту, где насчитываются сотни, а то и тысячи видов. Самое большое количество различных видов обнаружено в области зубов и поддесневых карманов, однако свои сообщества имеются и в других областях рта (или близких ко рту) – в горле, на миндалинах и языке.
Более подробные исследования выявили ключевые аспекты нашего взаимодействия с некоторыми из весьма значимых видов микробов, особенно обитающим на зубах. Некоторые из них, особенно представители рода Streptococcus, специфично связываются с белками или углеводами, находящимися в покрывающем зубы тонком слое смеси, которая состоит из слюны и жидкости, выделяющейся из поддесневых карманов. Едва захватив новую территорию, эти микробы уже сами предоставляют участки для связывания колонистам второй и третьей волны. В итоге поверхность зуба покрывает комплексная биопленка взаимодействующих бактерий. Целая отрасль медицинской и бытовой промышленности занимается удалением этой пленки и даже полным устранением оральных бактерий (в качестве меры профилактики кариеса). Специалисты строят всевозможные гипотезы насчет связей между той или иной частью человеческого микробиома и возникновением заболеваний. Такие связи порой кажутся весьма зыбкими. Однако в данном случае связь выстраивается самая ясная: нам известно, что бактерии биопленки действительно разрушают зубную эмаль, производя кислоту из сахара. Однако преимущества микробиомной науки станут очевиднее, если благодаря ей мы научимся лучше понимать экологию таких сообществ и сумеем разработать более тонкие методы сохранения зубов, чем полоскание или чистка антибактериальной пастой. Я попробую умозрительно описать некоторые будущие методы в главе 11.
Вагинальный микробиом – экосистема для защиты
Похоже, у каждого микробиома собственная история. Вагинальный микробиом, по понятным причинам имеющийся лишь у половины населения, является одним из самых простых по микробному составу, однако может служить отличным примером того, как новые инструменты для наблюдения за микробами позволяют пересматривать идеи о системах, которые кажутся нам хорошо изученными. Давно укоренившаяся в науке и довольно несложная история об одном типе бактерий, поддерживающем одно полезное свойство (уровень кислотности), теперь уступила место одному из множества неоконченных рассказов о смещении равновесия в экосистеме.
Влагалище давно вызывает интерес микробиологов – отчасти из-за тех интенсивных исследований, которыми сопровождались в XIX веке жаркие споры о причинах родильной горячки. Полезное дополнение к этим работам появилось в 1891 году, когда один немецкий гинеколог сообщил на медицинском конгрессе, что ему удалось вырастить в культуре новый палочкообразный организм, полученный из вагинальных мазков.
В конце 1920-х годов организм, который он обнаружил, классифицировали как Lactobacillus acidophilus. Как и в случае со многими другими видами микробов, теперь известно, что это целый набор тесно связанных между собой организмов. У них есть общая особенность: все они вырабатывают молочную кислоту путем ферментации углеводов, в том числе и тех, что находятся в слизистой оболочке. В последующие десятилетия широко распространилось мнение, что высокий уровень содержания Lactobacillus свидетельствует о здоровом влагалище, поскольку оно поддерживает нужную кислотность (низкое значение рН). А кислая среда, в свою очередь, препятствует росту других бактерий – болезнетворных.
Что ж, такое бактериальное дополнение к вагинальной химии казалось логичным. Клетки внутреннего слоя эпидермиса влагалища (в среднем 20 см2 ткани), также получают энергию, превращая глюкозу в лактат, который затем просачивается через эпителий в слизистую оболочку. Лактобактерии затем снижают рН дальше. Вагинальные клетки и их бактериальные гости совместно трудятся над тем, чтобы предотвращать колонизацию влагалища другими видами.
Однако недавние микробиомные исследования показали, что картина не столь проста. Представители рода Lactobacillus по-прежнему являются наиболее распространенными бактериями в вагинальных пробах; так, они присутствуют примерно у 320 из 400 жительниц Северной Америки, обследованных в 2010 году группой Ларри Форни из Университета штата Айдахо. Но данная работа[45] выявила также немало совершенно здоровых женщин, поддерживающих нужный вагинальный рН без всякой помощи бактерий Lactobacillus. Сходные результаты получены в ходе исследования, проводившегося в Японии. По следам этих работ в США были предприняты изыскания, показавшие, что у четверти обследованных взрослых женщин сравнительно мало Lactobacilli или же их нет совсем. Похоже, что для работы по поддержанию кислотности привлекались другие виды из примерно 280 обнаруженных. Однако недавние микробиомные исследования заставили кардинально пересмотреть ряд научных идей в этой области.
Бактериальный вагиноз – распространенное заболевание из числа тех, чье название легко расшифровать: речь идет о бактериальном заражении влагалища. Казалось бы, такой диагноз предполагает традиционное понимание инфекционных болезней как результат вторжения нежелательных патогенных организмов. Это неприятное заболевание часто связано с целым рядом серьезных проблем при беременности, в том числе с преждевременными родами и выкидышами. Весьма полезно было бы иметь соответствующий индикатор риска для беременных, а еще лучше – метод профилактики вагиноза.
Вариации, которые мы наблюдаем сегодня в микробиомах женщин, не демонстрирующих симптомов вагиноза и кажущихся совершенно здоровыми, показывают, что это не так-то просто осуществить. Да и сами эти вариации неоднородны. К примеру, в Северной Америке они различны у представительниц разных этнических групп. Картина складывается весьма мозаичная. Исследования показывают 5 широких типов вагинальных микробных сообществ. Четыре из них имеют значительную долю определенных Lactobacilli. При этом все 5 типов встречаются в разных пропорциях у 4 этнических групп. Эти работы показывают, что наше знание микроорганизмов остается фрагментарным. Самую распространенную из лактобактерий, L. iners, удалось обнаружить (пусть даже иногда в сравнительно небольших количествах) у 66 % обследованных женщин. Ее идентифицировали только в 1999 году, когда прошло больше века после появления самых первых сообщений о «нормальных» вагинальных микробах, поскольку эта бактерия критичнее других относится к лабораторной среде, в которой ее пытаются вырастить.
Общий подсчет по-прежнему демонстрирует, что штаммы Lactobacillus доминируют в микробном населении вагины. У обследованных белых женщин их вклад составляет 90 %, у женщин азиатского происхождения – 80 %, но у темнокожих женщин и латиноамериканок – лишь 60 %. Возможно, именно из-за этого у них чуть выше средний вагинальный рН (то есть среда менее кислая).
Однако есть данные о том, что здесь играет роль конкретный штамм лактобактерий – и не из-за его влияния на кислотность. Некоторые Lactobacilli вырабатывают заметные количества перекиси водорода, что препятствует развитию других бактерий; оказывается, такой вариант защиты эффективнее предотвращает вагиноз. Странная находка: уровень содержания кислорода в вагине сравнительно низок, а значит, вероятность производства пероксида водорода, казалось бы, не очень велика. Возможно, эти бактерии занимаются еще чем-то? Да, некоторые их штаммы вырабатывают и другие вещества-антибиотики. Выявление генов человеческого микробиома, отвечающих за синтез групп ферментов, которые в свою очередь помогают синтезировать малые молекулы, и анализ соответствующих продуктов позволили обнаружить неведомый науке антибиотик лактоциллин. Его вырабатывают обычные вагинальные бактерии. Вероятно, это неединичный случай[46].
Как показало еще одно исследование, состав вагинального микробного населения может довольно быстро меняться. Вероятно, такие изменения связаны с тем, занимались ли сексом исследованные женщины (отметим: все участницы эксперимента продолжали оставаться здоровыми), а также с исходным составом их микробиома. А значит, простые методы диагностики в таких случаях не очень-то применимы.
Выявление признаков физиологических неполадок путем исследования вагинальных микробов затрудняется из-за менструального цикла. Работы, где состав вагинальной микробиоты отслеживался на фоне менструального цикла, показывают, что состав бактериальных популяций влагалища довольно сильно меняется в зависимости от фазы цикла. Но конкретные изменения, по-видимому, носят индивидуальный характер и происходят у разных женщин в разное время.
Среди всей этой сложности можно выделить один довольно ясный факт: видимо, все-таки существует связь между лактобактериями и успешно протекающей беременностью. И человек, возможно, приспособился к тому, чтобы этой особенностью пользоваться. У женщин в период до полового созревания и после менопаузы обычно меньше вагинальных лактобактерий (или же их нет совсем), а изменения содержания эстрогена в репродуктивные годы делает соответствующую экологическую нишу более привлекательной для этой разновидности бактерий. Современные исследования служат подтверждением давних наблюдений: в США доля преждевременных родов у темнокожих женщин и латиноамериканок действительно выше.
Казалось бы, все это подтверждает гипотезу, согласно которой низкое содержание лактобактерий означает высокий уровень риска. Однако, к разочарованию врачей, ищущих четкие диагностические признаки, это скорее всего лишь полезный индикатор. Интенсивный анализ множества микробиомных образцов, взятых с данного участка женского организма, показывает, что простые определения «отклонений от нормального состава микробной смеси» здесь не очень-то пригодны. Не существует четкой границы нормы. Один из стандартных тестов на вагиноз использует в качестве критерия отсутствие лактобактерий. Это совершенно неправильно, подчеркивает Роксана Хики, коллега Форни. Здесь используется порочная логика, ведь присутствие Lactobacilli может свидетельствовать о здоровье, но их отсутствие еще не означает болезнь. Возможно, работу лактобактерий взяли на себя какие-то другие виды. Присутствие лактобактерий в таком микробиоме, быть может, и является достаточным условием здоровья, но не является необходимым его условием.
Оптимальный вывод на сегодня: лучше всего рассматривать вагинальную микробиому как экосистему и при изучении ее поведения опираться на то, как экосистемы вообще поддерживают стабильность или же как в них могут вноситься возмущения. Ученые, занимающиеся другими микробиомами нашего организма, по большей части пришли к такому же выводу.
Специализированная кожа – пенис
С микробиологической точки зрения пенис не так интересен, как вагина. Если рассматривать его как среду обитания микробов, то это просто кожа. Организаторы проекта «Микробиом человека» наверняка так и считали. Они решили, что вагина достойна разделения на три зоны, а вот на пенис вообще не обратили внимания.
Впрочем, специалисты все-таки провели несколько исследований, ориентированных именно на этот орган. Они обнаружили своеобразные микробные сообщества на поверхности пениса, взяв пробы биоматериала под крайней плотью (если таковая имелась) и пробы мочи. Первые оказались сходными по составу с пробами других участков кожи, но в них обнаружились бактерии, которые часто находят в вагине, в том числе и представители рода Lactobacillus.
Небольшое обследование подростков призвано было выявить, вносит ли здесь какие-то изменения половая жизнь. Ответ: особых изменений она не вносит. Впрочем, тут явно открывается перспектива для более масштабных исследований – скажем, для изучения интимных микробных обменов, которые должны происходить при вагинальном, анальном или оральном сексе; можно сравнить образцы, взятые у дюжины подростков 14–17 лет, которые занимались сексом, и у полудюжины их сверстников, которые ничего такого не делали.
Впрочем, проведенное исследование лишь усложняет картину.
Специалисты и раньше знали, что бактерии, считавшиеся характерными для вагины, иногда обнаруживаются в мужском мочеиспускательном канале. Напрашивается вывод: они, не принося никакого вреда, просто перешли от женщины к ее сексуальному партнеру. Однако данное исследование заставляет предположить, что некоторые из них поселились в организме мужчин еще до первого сексуального контакта. Авторы работы предупреждают, что они выполняли только секвенирование 16S рРНК, поэтому не могут поручиться за точность идентификации микробных видов, но полагают, что лактобактерии могут выполнять какую-то экологическую функцию не только у женщин, но и у мужчин.
Этот проект служит также хорошим пособием по искусству убеждать. В описании его методики читаем: «Первую порцию выделяемой мочи собирали в стерильную чашку для сбора проб. Образцы из ВБ (венечной борозды полового члена – сверхчувствительной области под головкой) получали после тренировки на модели расслабленного члена. Участников инструктировали оттянуть крайнюю плоть (если таковая имеется) и затем обвести венечную борозду по окружности (с использованием гибкого ручного 4-миллиметрового элюирующего пробоотборника, плотно прижимая последний). Образцы сразу же помещали в охладитель и в течение не более 4 часов доставляли в лабораторию, где хранили при 280 °C до выделения ДНК»[47]. Каждый участник проделал означенную процедуру не один раз, а четырежды. Тинейджеры в этом исследовании оказались весьма покладистыми.
Другие исследования пролили свет на еще одно очевидное различие – между обрезанными и необрезанными мужчинами. Это различие успели хорошо изучить из-за давно известной связи между обрезанием и пониженным риском заражения ВИЧ.
Самое масштабное исследование микробиома пениса на данный момент – сбор образцов «до и после» у 79 угандийцев, согласившихся подвергнуться обрезанию, и сравнение результатов с данными о том же количестве их соотечественников, остававшихся не обрезанными до завершения эксперимента[48]. Пробы собирались в рамках большого исследования, ориентированного главным образом на профилактику СПИДа: микробиомный анализ стал здесь лишь дополнением. Как выяснилось, после обрезания заметно уменьшается количество анаэробных бактерий (то есть способных жить без кислорода) в пользу аэробных штаммов, процветающих на воздухе, окружающем области пениса, прежде закрытые крайней плотью. Один из авторов работы заметил: «Это как откатить камень и наблюдать, как будет меняться экосистема под ним».
Впрочем, в этом эксперименте есть нечто странное. Через год после начала обследования у обрезанной и у контрольной групп оказалось значительно меньше бактерий. Вы скажете, что участие в эксперименте, где ученые исследуют ваш родной пенис при помощи тампонов и пробирок, вообще может изменить ваше отношение к генитальной гигиене. Авторы не комментируют свое наблюдение, так что догадки остаются догадками. Однако возникает неизбежный вопрос: насколько достоверными, надежными и воспроизводимыми могут быть такие микробные открытия?
Кроме того, не столь уж ясно, как обрезание связано со снижением риска заражения ВИЧ, хотя уменьшение общего бактериального разнообразия при этом действительно происходит. По мнению некоторых исследователей, бактерии, обитающие под крайней плотью, могут вызывать слабую воспалительную реакцию, которая облегчает вирусу иммунодефицита доступ к поражаемому им классу клеток иммунной системы.
Все работы подтверждают также, что на поверхности пениса имеется куда меньше бактерий, чем в других, более населенных местах организма. Однако среди этих бактерий иногда встречаются такие, которые вызывают вагинальные инфекции. Поэтому взаимная передача генитальных микробов, происходящая при сексе без презерватива, в будущем должна подвергнуться тщательному исследованию (если удастся набрать достаточное количество добровольцев). Пока же наши знания по данному вопросу с замечательной лаконичностью описывает один сайт, где рассказывается об упомянутом угандийском исследовании: «После обрезания у вас совсем другая живность».
Микробы в самых неожиданных местах
Мы перечислили малые микробиомы, которые удалось распознать еще до наступления эпохи ДНК-анализа. Скудная и туманная картина известного нам микробного населения человека в свете новых технологий прояснилась. Однако эти технологии дали нам и многое другое: позволили обнаруживать следовые количества микробов для популяций с низкой «плотностью населения» или же для тех видов, которые трудно вырастить в культуре. В результате ученым удалось выявить жизнь в таких уголках нашего тела, которые раньше считались стерильными (например, в области женской груди или плаценты; подробнее об этом – в главе 6). А теперь, дабы закончить наш первый беглый обзор, остановимся на недавних открытиях, касающихся двух видов органов с собственными микробиомами – легких и глаз.
Вполне очевидно, что наши легкие открыты для воздействия окружающего мира. Можно почувствовать, как воздух проходит через ноздри при вдохе и выходит из них при выдохе. Однако в медицинских учебниках до сих пор утверждается, что здоровые легкие стерильны.
Микроанатомия и биохимия дыхательных путей и легких действительно, казалось бы, хорошо приспособлены для того, чтобы удерживать микробиоту в верхней части респираторного тракта (выше гортани), которая неизбежно подвергается воздействию постоянного потока микроскопических пришельцев. Воздух, которым мы дышим, обычно содержит от 100 тысяч до миллиона бактерий на кубический метр.
Глотка рефлекторно сжимается, когда ощущает попадание чужеродного материала, тем самым помогая нам не задохнуться. В дыхательной системе существуют и более хитроумные барьеры, препятствующие проникновению микроорганизмов, и механизмы избавления от них. Похоже, в отличие от кишечника, легким вообще не нужны бактерии, так что они предпринимают всевозможные усилия, чтобы не пускать их к себе. Особая слизь, становясь флегмой (мокротой), захватывает все, что в нее попадает, – будь то бактерии, пыль или пыльца растений; ритмично движущиеся реснички дыхательной системы выметают флегму из легких в горло, а затем она сплевывается либо проглатывается.
Такому механическому выметанию сопутствует действие целого ряда антибактериальных агентов – скажем, фермента лизоцима, в больших количествах присутствующего в слизи и слюне, в иммунных клетках, которые стараются не допустить в бесконечно ветвящийся лабиринт внутренней части наших легких микроорганизмы, находящиеся в воздухе, и те, что обитают во рту и в носу. Поэтому, решили врачи, такие системы защиты обычно обеспечивают не осложненный никаким микробным влиянием обмен кислородом и углекислым газом в капиллярах, снабжающих кровью самые тонкие дыхательные пути в глубине легких.
Считалось, что если микробам все-таки удалось колонизировать легкие, это неизбежно сигнализирует о какой-то болезни – бронхите (вирусном или бактериальном заражении бронхов – крупных ветвей «системы газоснабжения» легких) или пневмонии. (Диагноз «пневмония» стоит на многих свидетельствах о смерти, выписываемых в домах престарелых. Она напоминает бронхит, но часто оказывается более серьезной: бактериальная или вирусная инфекция вызывает воспалительную реакцию. Если эта реакция не помогает избавиться от инфекции, альвеолы на концах последних, самых крошечных веточках легких забиваются отмершими клетками и жидкостью, что мешает кислородному обмену.)
Однако современные микробиомные исследования разрушили и этот миф. В респираторном тракте имеется микробное население, характерное только для него (во всяком случае, нам сейчас так кажется). Эту зону изучать не так легко, как другие. Верхняя часть респираторного тракта (рот, нос, горло) обладает собственной микрофлорой, образцы которой проще отбирать, чем пробы из нижней части тракта (из легких как таковых). Идея о том, что в легких бактерий нет, укоренилась в сознании ученых столь прочно, что при первом картировании микробного населения человека в рамках проекта «Микробиом человека» (под эгидой американских Национальных институтов здравоохранения) легкие вообще не учитывались.
Тем, кто пытался восполнить этот пробел, пришлось нелегко. Отбор проб здесь требует бронхоскопии: специальная трубка пропускается в нос или в горло. Обычно добровольцы не соглашаются на повторную процедуру. Большинство исследований опирается на данные, полученные от немногочисленных участников, у каждого из которых пробу отбирали всего один раз. В образцах, которые все-таки удается получить, могут содержаться примеси микробных видов, обитающих в носу и во рту, в пищеварительных соках, даже в биопленках, покрывающих внутреннюю поверхность гибких пластиковых эндотрахеальных трубок, которые применяют, чтобы добраться до легких. Самый надежный способ избежать всего этого – брать пробы непосредственно из легких в процессе трансплантации, но тогда придется довольствоваться лишь больными легкими, поскольку материал от здорового донора нужно срочно использовать по прямому назначению; тут уж не до анализа. Такого рода исследования невозможно повторять регулярно. Однако в ходе одной такой работы все-таки удалось выяснить, что бактериальные популяции различны в разных областях легкого. Можно применять и менее громоздкие методики, однако они достаточно трудоемки, поскольку требуют, например, вымывания образцов из легких или вставки крошечных щеточек в дыхательные пути. Поэтому большинство исследований пока опирается на образцы, полученные у больных. Диапазон заболеваний тут весьма широк: от муковисцидоза, при котором легочная инфекция является постоянной угрозой, до СПИДа и хронической обструктивной болезни легких, которой страдают многие курильщики.
На данный момент, впрочем, можно считать почти доказанным, что здоровые легкие и в самом деле обычно населены определенными видами бактерий, которые непросто вырастить в культуре, но которые можно идентифицировать при помощи секвенирования 16S рРНК или других современных методик. Однако не так-то легко переубедить людей в том, что все микробы – злокозненные захватчики, несущие болезнь. Когда выяснилось, что в здоровых легких постоянно живут свои бактерии, сразу же посыпались предположения: мол, такие результаты получены из-за попадания в пробу бактерий изо рта и из носа, где их наверняка полным-полно. Но исследования, проводимые при самом тщательном контроле, дали надежные и воспроизводимые результаты, уже не позволяющие усомниться в реальности получаемой картины. Да, микробиота нормальных легких относительно скудна и проста, но здоровые легкие несвободны от бактерий.
Относительная простота микробиоты легких побудила некоторых исследователей задуматься о возможных преимуществах подхода, при котором микробиом каждого участка тела рассматривается как отдельная экосистема. Этот подход часто предлагают применять для изучения микробиомов, хоть и не всегда понятно, как же его использовать[49]. Легко заявить, что все триллионы микробов толстой кишки – одна экосистема, но ее сложность вряд ли поможет нам выяснить, что же происходит в этой микрофлоре.
Роберт Диксон, работающий на медицинском факультете Мичиганского университета, предлагает три «экологических» пути исследований легочного микробиома. Можно представить себе легкие как место колонизации бродячими микробами. Лучшая модель здесь – теория островной биогеографии, разработанная в 1960-х годах для анализа популяций, живущих на клочках суши посреди океана, в отдалении от материков. Самый простой случай – новый остров, возникший после извержения вулкана. Вначале жизни на нем нет, но постепенно он заселяется животными-колонистами, которые к нему плывут, прилетают или даже приносятся на плотах или бревнах. Количество видов, попадающих на остров, зависит от его размеров и от того, какое расстояние отделяет его от ближайшей области суши со стабильной экосистемой. Количество выживших видов также зависит от размера острова, но здесь играют роль и другие локальные факторы. Модели, разработанные для учета всех таких факторов, можно применить и к легким. Эту мысль высказали Диксон и соавторы в статье 2014 года[50].
«Расстояние» здесь – то, насколько глубоко в легкие вы проникаете, то есть насколько далеко вы оказываетесь от источника микробов. В числе других факторов – размеры бактериальной популяции рта и носа, а также эффективность работы ресничек и иммунных клеток. По мнению Диксона и его коллег, такая модель поможет оценивать степень видового разнообразия микробов, присутствующих в легких, но не общую численность микробного населения. Эта численность зависит от скорости воспроизводства бактерии, нашедшей место для колонизации.
Кроме того, модель помогает отказаться от идеи о разделении респираторного тракта на верхнюю и нижнюю части (верхние и нижние дыхательные пути). На самом деле в нем можно выделить множество субрегионов со своими локальными условиями, способными влиять на то, кто может там обитать. Внутренняя поверхность легких (ее общая площадь примерно в 30 раз больше суммарной площади нашей кожи) – область, участки которой отличаются по целому ряду параметров, в том числе по температуре, содержанию кислорода, кислотности, структуре клеток легочного эпителия. Если вы бродячая бактерия, все это для вас имеет значение. Конкретные эффекты еще предстоит исследовать, однако, по словам Диксона, «постоянная взаимосвязь между параметрами среды и типами микробов может стать убедительным доводом в пользу того, что бактерии не просто присутствуют в нижних дыхательных путях, но и активно размножаются там, а кроме того, подвергаются действию факторов отбора».
Экологический подход меняет наши представления о том, что считать болезнью, а что – нормой. Если в здоровых легких имеются заметные популяции микробов, следует отказаться от упрощенческого взгляда на легочные болезни (особенно на пневмонию – убийцу миллионов) как на результат негативного воздействия микроскопических захватчиков.
Диксон отмечает: пневмония – результат разрушения комплексной экосистемы, которая зачастую может адаптироваться к потенциально инфекционному виду микробов. Микробиомные исследования все чаще показывают, что вид, казавшийся причиной того или иного конкретного случая пневмонии, – лишь один из многих присутствующих видов, причем каждый из них постоянно сталкивается с совместным действием катализаторов и ингибиторов роста. Виды, которые для некоторых людей оказываются патогенными и вызывают острые инфекционные заболевания, у других, как выясняется, тихо обитают в легочной микробиоте, не давая никаких симптомов инфекции.
Как заключает ученый, «микробная экосистема легких – комплексная адаптивная система, где пневмония может возникать как некое разрушительное явление». Звучит впечатляюще, но есть ли тут связь с главным – с тем, как нужно диагностировать, лечить или даже предотвращать эту болезнь, распространенную по всему миру? Диксон полагает, что связь есть. Его гипотеза призывает сосредоточить внимание на особенностях различных этапов пневмонии.
Раньше считалось, что пневмония поражает человека, когда большое количество инфекционных бактерий попадает в стерильную ткань легких и нарушает нормальную работу ее систем защиты. Но если в легких уже имеется набор бактериальных видов, которые взаимодействуют с клетками организма-хозяина и друг с другом, то такая комплексная система может подвергаться существенным изменениям, скажем, из-за внезапного всплеска инфекции, вызванного относительно малым сдвигом равновесий, поддерживающих нужный состав бактериальной популяции.
Возможно, этим и объясняется одна из самых неприятных особенностей бактериальной пневмонии – то, что она развивается скоротечно, за несколько дней или даже часов. Как такое может происходить? Диксон предполагает наличие множества «циклов обратной связи», способных давать резкий популяционный сдвиг у очень большого количества представителей одного вида. Допустим, избыточное размножение вредоносного вида сдерживают ограниченное количество питательных веществ и воспалительная реакция невысокой интенсивности. Если интенсивность воспаления возрастет, результатом может стать повреждение клеток, и из тканей, где они находятся, начнет вытекать жидкость, насыщенная питательными веществами, тем самым способствуя развитию бактерий и дальнейшему воспалению, еще больше увеличивающему поступление питательных веществ. Происходит взрывной рост популяции патогена (что-то подобное бывает с океанскими водорослями). С этим механизмом мы еще встретимся в других частях тела.
Это лишь одна идея, но она показывает, как меняются представления о заболевании, когда мы уже знаем о существовании микробиома здоровых легких. Есть и другие варианты. Так, при заражении резко усиливается выработка слизи, но эта слизь не только действует как очиститель, но и может служить пищей опасным бактериям.
Осознание новой легочной экологии позволяет осмыслить некоторые давно известные клинические наблюдения. Пациенты, подключенные к системе искусственной вентиляции легких (лишь благодаря этому они продолжают жить), рискуют заработать пневмонию, и риск выше, если им вводили антибиотики. Этот факт трудно объяснить, если считать, что в нормальном состоянии легкие стерильны.
Похоже, важную роль нормальной легочной микробиоты подтверждают первые исследования влияния пробиотиков (бактерий, считавшихся здоровыми) на больных, подключенных к системе искусственной вентиляции. Проведенное методом случайной выборки обследование 146 пациентов показало, что у группы, получавшей пробиотики, пневмония возникала вдвое реже[51]. В данном случае пациенты просто глотали эти пробиотики (введение их непосредственно в легкие до сих пор считается чересчур смелым методом), но некоторые пробиотические микробы, очевидно, все-таки пробирались в респираторную систему по той же причине, по которой возник и сам легочный микробиом, – все, что вы глотаете, может попасть и в легкие.
Даже глаза…
Наши глаза снабжены встроенной системой очистки от бактерий, сочетающей в себе омывание и выметание. Долгое время полагали, что бактериальная нагрузка в этой области невелика, если только в ней не начнет размножаться какой-нибудь патоген, которому там не место.
Детальный ДНК-анализ опроверг и эту гипотезу. Валерий Шестопалов, офтальмолог, работающий в Университете Майами, обнаружил, что слизистые оболочки глаза (роговица и внутренняя поверхность век) отнюдь не исключение из общего правила: бактерии любят теплые и влажные поверхности тела – внутренние или внешние. По его беглым подсчетам, на конъюнктиве (внутренней поверхности век) имеется целых 300 видов бактерий – вчетверо больше, чем когда-либо удавалось вырастить в культуре применительно к данной области. Некоторые из них оказались совершенно неизвестны науке[52].
Итак, встречайте: проект «Микробиом глаза», руководителем которого как раз и стал Шестопалов. Первые результаты проекта опубликованы в начале 2014 года[53]. Его целью стало подробное изучение нормальной микробной популяции здоровой роговицы и век, а также того, как на эту популяцию влияет беспрецедентный современный инструмент для улучшения зрения – контактные линзы, как бы плавающие на поверхности слезной жидкости. Группа ученых, занимающаяся глазным микробиомом, стремится выяснить, поддерживает ли нормальная роговичная микрофлора равновесие, которое препятствует заражению этой зоны менее желательными колонистами, и нарушают ли контактные линзы состав этой популяции.
Подробности еще не опубликованы, но уже сейчас ясно, что в нормальной конъюнктиве живет примерно дюжина родов бактерий. Приблизительно таков и уровень микробного разнообразия на самой роговице, хотя тамошние организмы не совсем те же. Нормальная, здоровая роговица, как и другие участки организма, может иметь весьма различные бактериальные популяции, что лишь затрудняет разграничение здоровья и болезни.
Впрочем, роговичные инфекции сопровождаются снижением бактериального разнообразия; это снижение можно отследить еще до того, как в полной мере проявится сама инфекция. Кроме того, участники проекта составляют каталог бактерий, обнаруживаемых на контактных линзах. Линзы со временем покрываются биопленкой, поддерживающей существование сообщества микробов, отчасти сходного с тем, которое имеется на здоровой роговице.
Мы уже знаем, что использование контактных линз порой вызывает у некоторых людей появление инфекций, которые влекут за собой раздражение или более неприятные симптомы. Пока неизвестно, связано ли это с их воздействием на обычные бактериальные колонии, и если связано, то как. Во всяком случае, я даже рад, что инстинктивное нежелание вставлять в глаза кусочки стекла или пластика всегда мешало мне заменить контактными линзами очки, которые я обычно ношу. Рискну заметить, что мои очки тоже кишат бактериями, но эти бактерии, насколько я знаю, все-таки не сражаются за жизненное пространство с микроскопическими обитателями моих глаз.
Большое и малое
Ни одну из перечисленных экосистем нашего тела нельзя назвать незначительной. Изучению каждой из них можно посвятить всю жизнь. И о каждой из них можно сказать еще больше, если углубиться в исследование того, что же такое болезнь и здоровье. Список действующих лиц в нашем совокупном микробиоме очень велик, однако даже третьестепенный актер порой произносит реплику, влияющую на понимание всей пьесы в целом.
Но в этом спектакле есть одна несомненная звезда – вместилище бесчисленных микробов, которое мы пока обходили вниманием. Кишечник больше полагается на работу микроорганизмов, чем любой другой орган или ткань. Именно здесь бактерии находятся ближе всего к главным процессам нашей физиологии – и вызывают больше всего проблем, если что-то идет не так. Отчасти это происходит потому, что здесь их гораздо больше, чем где-либо еще. Если другие наши собрания микробов (пускай и крупные) насыщены взаимодействиями, которые можно медленно и аккуратно распутывать, микробиом кишечника – ошеломляюще сложная система. Так или иначе, после краткого обзора малых микробиомных сообществ нашего организма пришло время обратиться к сообществу по-настоящему большому. И задача эта весьма нелегка.
Глава 5. Нечто по-настоящему большое
Откройте банку консервированного супа обычных размеров и опорожните ее в глубокую чашу. Повторите процедуру один-два раза. Порция органической похлебки, которая окажется перед вами, будет примерно равна по объему всем бактериям, обитающим в вашей толстой кишке.
Факт неновый, но он постоянно всплывает у меня в сознании, когда я пытаюсь как-то осмыслить микробиом. Микробы – существа маленькие и незаметные. Они только рады вести незаметное существование. Приличных размером колония бактерий может жить на пятнышке, точечке, завитке, тонкой пленке жизни. Легко забыть о том, что при своем стремительном размножении бактерии способны быстро набрать значительную общую массу, едва им представится такая возможность. Сегодня существуют промышленные ферментационные установки, производящие микроорганизмы миллионами литров.
Современные микробиомные исследования позволяют яснее осознать, что у человеческого тела имеется множество экологических ниш для других организмов. Однако в основном они так и остаются утешительно-миниатюрными как по размерам, так и по общему объему. С кишечником дело обстоит иначе. Если собрать все микробы из других участков тела в одну пробу, она займет меньше чайной ложки. А вот для микробов из моего пищеварительного тракта понадобится большой черпак.
Уже сама их совокупная масса подразумевает, что кишечный микробиом вполне можно представить себе как отдельный орган, причем весьма важный: по метаболической активности он не уступает печени. Но орган это необычный. Он состоит из клеток, предки которых обитали в самых разных местах. От значительной части этих клеток организм ежедневно избавляется. Могу ли я предположить, что данный орган, подобно другим, блюдет мои интересы? (Во всяком случае, касательно других органов вполне естественно сделать такое предположение.) И чем он, собственно, вообще занимается?
В совокупный микробиом человека входят и другие участки тела, где живут свои виды микробов, играющие свою роль. Но, судя по всему, важнее всего разобраться именно в микробиоме кишечника, особенно в микробиоме толстой кишки. Процессы, которые там происходят, влекут за собой далеко идущие последствия. В ближайших трех главках – о том, что ученым удалось выяснить.
Спускаясь в люк
Очевидный способ попасть в кишечник – через рот. Но бактерия, которая хочет присоединиться к кишечному микробиому, должна проделать долгий путь. И она может очутиться в самых разных местах.
Желудочно-кишечный тракт человека – единая система, но в ней можно выделить несколько областей, существенно отличающихся друг от друга. Три основные – желудок, тонкий кишечник (уложенный в брюшной полости) и толстый кишечник, или толстая кишка. Если представить все это как одну прямую трубку, ее общая длина (для взрослого) составит целых 7 м.
Проследим за маршрутом потребляемой еды. Рот богат микробами, однако содержимое желудка (смесь измельченной пищи, слюны и высококислотных выделений, помогающих расщеплять поступающие с пищей белки) поддерживает существование лишь десяти микробных клеток на грамм. Далее количество бактерий стремительно возрастает. К тому времени как мы достигнем двенадцатиперстной кишки, первой части тонкого кишечника (как мы знаем, он довольно длинный), плотность микробного населения составит уже 1000 организмов на грамм; при движении по тонкому кишечнику нас ждет рост этой величины еще в 10 тысяч раз: последний участок тонкого кишечника содержит 10 миллионов микробных клеток на грамм. Однако самый большой количественный скачок происходит между тонким и толстым кишечником. Толстую кишку, последнюю из основных частей нашего кишечника, когда-то считали довольно примитивной трубкой, где реабсорбируется жидкость из материала, который вот-вот превратится в фекалии. Однако именно здесь кормится несусветное количество микробов – миллион миллионов (1012) на грамм.
Вся эта живность обитает в зоне, чье сложное устройство, сформировавшееся в ходе эволюции, само являет собой микроскопическое чудо. Как толстый, так и тонкий кишечник выполняет две работы, требования к которым противоречивы. В отличие от кожи, на которой спокойно резвятся микробы, поверхность кишечника не может действовать просто как барьер. Все малые молекулы, производимые при переваривании пищи (главное занятие этого органа), должны абсорбироваться в кровь, чтобы их можно было использовать там, где они требуются. А значит, кишечник должен обладать не слишком толстой оболочкой и как можно большей поверхностью. Толщину оболочки легко оценить: для эпителия, внутреннего поверхностного слоя кишечника, она составляет около 10 микрон – примерно вдесятеро больше размера типичной бактерии. Площадь оценить труднее, поскольку кишечник имеет весьма извилистую форму. Если бы стенка кишечника (упомянутый нами тонкий слой) была плоской, она заняла бы меньше квадратного метра. Но она неплоская. Бесчисленные мелкие отростки (ворсинки) высовываются во внутреннее пространство кишечника – его полость. Каждая из этих ворсинок питает одноклеточной толщины слой эпителия. Но у клеток тоже есть внешний слой, едва различимый при помощи оптического микроскопа и кажущийся чуть щетинистым. Называется он щеточной каймой. Электронный микроскоп покажет вам, что она в свою очередь состоит из микроворсинок, усеивающих ту сторону клеточной мембраны, что обращена в сторону полости.
Подсчитать общую площадь всего этого – то же самое, что попытаться оценить общую поверхность самого пушистого из ваших банных полотенец. Анатомы сходятся во мнении, что этот показатель составляет от 200 до 250 м2 (что сравнимо с размером теннисного корта). Возможно, это и не очень точная оценка, однако все равно понятно, так сказать, на какой площадке идет игра. Ясно одно: мы имеем дело с большой цифрой.
И это хорошо. Кишечнику (как и легким с их мелко разветвленными альвеолами, предназначенными для газообмена) для проведения эффективного молекулярного переноса необходима большая территория. Но здесь мы сталкиваемся с другим требованием. Кишечник полон не только пищи, но и бактерий, а нам не хочется, чтобы бактерии попадали в кровь. Мы привыкли считать кожу главным препятствием на пути бактерий, которые пытаются глубже проникнуть в наши ткани, и она действительно выполняет немаловажную барьерную роль. Но кишечник куда больше по общей площади, и ему приходится иметь дело с куда более значительным количеством бактерий в течение куда более значительного времени. Как он с этим справляется?
Свой барьер тут тоже, конечно, имеется. Эпителий, как и все биологически активные пограничные слои, осуществляет молекулярный перенос, при этом преграждая путь более крупным объектам, вроде микробных клеток. Соседствующие эпителиальные клетки объединены белковой сетью в тесную структуру наподобие той, что используют многоклеточные (так называемое «плотное соединение»). Она также помогает задерживать нежелательных гостей.
Однако для полного ответа на вопрос следует вспомнить об иммунной системе. Поскольку кишечник – центр метаболизма и основная часть нашего микробиома, он является к тому же самым крупным участком действия всех молекулярных и клеточных объектов, обеспечивающих иммунитет. Присутствие в кишечнике триллионов бактерий, вероятно, является главной движущей силой развития иммунитета как в эволюционном масштабе, так и у каждого конкретного человека. Это влияние мы лишь сейчас начинаем осознавать. Подробнее о том, как оно меняет наши представления о живом, читайте в главе 7.
А пока давайте рассмотрим микробное содержимое самого плотно заселенного региона – толстой кишки. Здесь находится наиболее сложная микробная экосистема нашего тела, а по клеточному разнообразию и по количеству клеток на единицу объема – возможно, и вообще самая сложная экосистема в мире. Ей посвящена основная часть обзоров, где дается количественная оценка наших микробов и их генов. И чем больше людей обследуют ученые, тем большее разнообразие выявляется. Первый опубликованный каталог микробных генов, составленный на основе данных по 124 добровольцам, содержит 3,3 миллиона генов кишечника. Самый же новый[54], объединяющий результаты обследования примерно 1300 жителей Америки, Европы и Азии, доводит это количество до десятка миллионов.
Так что эта единая система/культура, в которую постоянно поступают питательные вещества и из которой с более или менее постоянной скоростью выводятся микробы (при каждом опорожнении кишечника из нее вымывается несколько триллионов живых и мертвых бактерий), и в самом деле устрашающе сложна. Впрочем, можно придумать кое-какие полезные упрощения, помогающие нам понять, что важнее в толстой кишке. Приведу два таких упрощения. Первое более противоречиво, чем второе.
Сейчас вовсю обсуждается идея, что кишечные микробиомы могут принадлежать к небольшому числу довольно широких типов. Она появилась при первом анализе данных проекта «Метагеномика желудочно-кишечного тракта человека» («Metagenomics of the Human Intestinal Tract», «metaHIT»), осуществлявшегося (главным образом европейскими специалистами) примерно в то же время, что и американский проект «Микробиом человека». В 2011 году участники проекта сообщили, что выявили три группы людей, которые можно разделить по особенностям кишечной микрофлоры. В каждой группе доминировала своя разновидность микробов – Bacteroides, Prevotella или Ruminococcus.
Последовали бурные споры. Можно ли разработать на основе этого открытия диагностические тесты, в которых давно назрела необходимость? Способно ли это открытие помочь при идентификации людей (как при опознании по группам крови)? Однако эти результаты получены на основе обследования всего 39 человек; чем больше образцов анализировали, тем туманнее становилась картина: обычная история. У группы из 35 шимпанзе, живущих в кенийском национальном парке Гомбе, выявили энтеротипы, в некоторых отношениях сходные с нашими[55]. Однако при повторном отборе пробы год спустя у одной и той же обезьяны иногда обнаруживается другой энтеротип, так что долговременная стабильность данных остается под вопросом. Изменения не следуют какой-то явной закономерности. У одного семейства из трех особей (самец, самка и их мать) при первом отборе пробы обнаружили три разных энтеротипа (у каждого свой). Дальнейшие проверки показали, что эти энтеротипы со временем изменились, однако по-прежнему отличались друг от друга.
Я подробнее поговорю об эволюции микробиома в главе 6, пока же замечу, что в самом деле наблюдается тенденция к поддержанию соотношения энтеротипов (или хотя бы видовых кластеров), уходящая корнями в прошлое – к общему предку людей и шимпанзе. Домовые мыши, судя по работе 2014 года, также обладают такой особенностью, хотя пока удалось выявить лишь два их энтеротипа. Возможно, это лишь кластеры, выстраиваемые в соответствии с определенными параметрами. Возможно, это вообще лучший на данный момент способ описания того, что происходит с нашей микрофлорой: бактериальные кластеры в человеческих кишках отличаются от тех, которые мы находили у других животных. Ни у мышей, ни у шимпанзе пока не обнаружен энтеротип, где доминировали бы Prevotella.
Основная работа по изучению состава микробных популяций кишечника в зависимости от того, что человек (или мышь) ест, заключалась в выяснении того, как микробы влияют на ожирение (я коснусь этой проблемы в главе 8). Однако продолжается и более глубокий анализ данных проекта «Микробиом человека», предоставляющий новые подтверждения того, что микробиомы всех участков нашего тела, вероятно, существуют лишь в немногих широко распространенных состояниях, а все типичные кластеры микробных типов (свойственные кишечнику, рту, вагине и т. п.) можно обнаружить у здорового человека, имеющего эти органы. В интригующей статье, опубликованной группой ученых Мичиганского университета, перечислены все эти микробные типы, выявленные на основе анализа проб в рамках проекта «Микробиом человека»[56]. Как заявляет один из соавторов, Патрик Шлосс, удалось лишний раз подтвердить, что «не существует какого-то одного здорового человеческого микробиома». Обнаружены довольно таинственные корреляции, например, между составом микрофлоры рта, вагины, локтевых сгибов, заушных складок. Однако ярче всего прослеживаются корреляции между микрофлорой кишечника (или образцов кала) и микробными сообществами во рту. Как отмечает Шлосс, «по типу бактерий у вас во рту можно предсказать тип бактерий у вас в кишках». Возможно, это хорошая новость для тех, кто верит, будто можно стать здоровее, сознательно поедая «хорошие» бактерии.
Еще одно, менее противоречивое упрощение предполагает непосредственное изучение ошеломляющего разнообразия обитателей кишечного микробиома. Тут есть два аспекта: можно заниматься количеством видов, которые человек несет в себе и на себе, а можно обратиться к микробным различиям между людьми.
Микробное разнообразие в каждой толстой кишке громадно и обычно измеряется сотнями видов. Однако зачастую лишь несколько видов (может быть, с полдюжины) присутствуют в значительных количествах, а численность всех остальных постоянно остается на гораздо более низком уровне. Неизвестно, можно игнорировать эти длинные хвосты графика распределения или хотя бы какую-то их часть. Вероятно, эти малочисленные виды представляют некий ресурс, генофонд, из которого при необходимости можно черпать материал. При благоприятных условиях бактерии размножаются быстро, а значит, любое меньшинство может вмиг стать большинством. Однако такое положение вещей всё же заставляет обращать главное внимание на самые распространенные и массовые виды, тем самым помогая формировать приоритеты для дальнейших исследований.
Из первого обзора данных проекта «Микробиом человека» ученые вывели еще одно упрощение. Этот подход остается действенным и сегодня. Дело в том, что при выявлении видов, обнаруживаемых в кале, соответствующие микробиомы разных людей оказываются весьма различными. Но если не только применять разбиение на типы при помощи 16S рРНК, но и проанализировать весь массив ДНК иным способом, не обращая внимания на конкретные виды, картина становится более четкой.
Чтобы ее увидеть, нужно вычленить все фрагменты ДНК, похожие на функционирующие гены; такие фрагменты идентифицируют по характерным контрольным последовательностям. Будем игнорировать те, у которых нет явного аналога в базах данных. Выяснением того, что они делают, займемся позже. Но значительное число фрагментов, имеющих уже известные функции (или создающих такое впечатление), можно объединить в функциональные группы. Большинство генов кодируют ферменты. Метаболическая обработка часто представляет собой цепочку химических реакций, каждую из которых катализирует определенный фермент. Эти ферменты-заговорщики обычно кодируются наборами генов – так называемыми «метаболическими модулями».
Постройте карту распространенности таких модулей, и окажется, что вариации в функциях микробных генов между образцами гораздо меньше, чем можно было бы предположить, исходя из различий между представленными в этих образцах видами. Похоже, даже если у всех кишечных микробиомов неодинаковые бактерии (и бактериальные гены), их гены делают примерно одно и то же. Это верно и для других участков тела, откуда брались пробы для «Микробиома человека», но данные по кишечнику позволяют построить наиболее стабильную генетическую карту. Можно прийти к выводу, что пищеварительные функции кишечных бактерий, по-видимому, подвергаются тщательному внутреннему контролю[57].
Данные продолжают накапливаться, и их анализ не прекращается. Новые сведения заполняют пробелы в этой картине, однако не вносят в нее радикальных изменений. Расширенный каталог из 10 миллионов бактериальных генов, обнаруженных в кишечных образцах, предоставляет отличный материал для дальнейшей работы в этом направлении. Вот хитроумный вариант: когда удастся собрать всю нужную информацию, можно будет (несмотря на то что в базе данных значатся лишь индивидуальные гены) использовать ее для того, чтобы снова погрузиться в общую базу образцов и идентифицировать те микроорганизмы, которых мы не знали раньше. В природе гены никогда не встречаются как отдельные, изолированные куски ДНК: они собираются в хромосомы. У бактерий по одной хромосоме. Если компьютерное сопоставление покажет, что какая-то комбинация генов всегда встречается совместно, это означает, что они объединены в том или ином виде бактерий. Такой подход (идея соприсутствия) действительно позволяет составлять списки генов, соответствующих тем геномам видов, которые уже имеются в отдельных базах данных по бактериям с полностью секвенированным геномом. А значит, разработанный алгоритм действительно можно применять. Он позволит выявить не замечавшиеся прежде комбинации генов, представляющие совершенно новые виды, чью роль в микробном сообществе затем можно будет исследовать. Вот еще один метод просеивания информации с целью разглядеть невидимое.
Этот всеобъемлющий каталог позволил провести более детальный анализ индивидуального микробного разнообразия, который отчасти реабилитировал идею о «главном» кишечном микробиоме человека – в функциональном, а не в видовом отношении. Широкомасштабный анализ полного набора всех генов, какие когда-либо удавалось обнаружить в человеческом кишечнике (мы уже знаем, что их более 10 миллионов), также позволил ученым показать, что примерно 300 тысяч из них присутствуют почти у всех, кто сдал образцы. Каждый из нас в тот или иной момент времени несет в себе лишь около 600 тысяч бактериальных генов из этого набора. Так что, возможно, половина метагенома здорового кишечника у всех одинаковая.
Все это вполне понятно на интуитивном уровне. Даже если бактерии образуют экосистему путем случайной колонизации и в ходе последующей борьбы за существование, потенциальные питательные вещества в одной и той же (к примеру) толстой кишке должны оказаться у них в значительной мере сходными. А если какой-то вид не сможет использовать какие-то из присутствующих в системе непереваренных кормов, то ими воспользуется другой вид, задействуя такие же или сходные ферменты. Когда тот или иной вид приживется в системе, другому виду труднее поселиться в ней таким же манером. Результат – различные экосистемы со сходным коллективным метаболизмом. Это подводит нас к попытке получить общий ответ на вопрос, который немедленно возникает при мысли обо всех этих триллионах бактерий, населяющих кишечник. Вопрос такой: чем они там все занимаются?
Предоставляемые услуги
Если вы руководите организацией, вам приходится принимать серьезные решения насчет того, какие работы следует поручить собственным сотрудникам, а какие выгоднее отдать сторонним компаниям[58]. С организмами точно так же, как с организациями. Как выясняется, большой организм отдает множество работ на аутсорсинг более мелким существам.
Кишечные бактерии часто рассматриваются как организмы-комменсалы. В предисловии я уже упоминал, что этот экологический термин (означающий «сотрапезники») применяется к организмам, которые живут на каких-то других существах, не причиняя им вреда.
В микробиоме вполне могут иметься микробы-комменсалы, но кишечные бактерии – явно не просто комменсалы. В основе всей этой системы лежит взаимовыгодное сотрудничество, то есть такая деятельность, от которой выигрывают обе стороны. Мы обеспечиваем своих микробов пищей, уютным местом для жизни, где поддерживается комфортная температура, а посредством выведения части этих существ с фекалиями – возможностью распространения, которая необходима всем организмам для осуществления их долгосрочных планов. Бактерии в свою очередь выполняют для нас целый ряд немаловажных задач, о которых именно по этой причине совершенно незачем заботиться нашему собственному геному.
В числе этих задач помощь при пищеварении: переработка неиспользованных компонентов пищи с целью высвобождения энергии частично для самих бактерий, частично же – для нас. Кроме того, они производят для нас целый ряд малых молекул (в том числе витамины), а еще помогают избавляться от самых разных токсинов и метаболизировать многие лекарства.
Самая же заметная их роль (благодаря ей толстую кишку называют вторым желудком) состоит в переваривании сложных углеводов. Растения, трудно поддающиеся разжевыванию, выстраивают свои клетки, используя множество крупных молекул, которые без изменения проходят через желудок и тонкий кишечник. Часть потребляемого нами крахмала, уклончиво именуемая резистентным крахмалом, также избегает расщепления в желудке или тонком кишечнике. Когда этот частично переваренный или непереваренный материал попадает в толстую кишку, за него берутся тамошние бактерии, которые доделывают работу. Их ферменты помогают расщепить растительный материал на малые молекулы, которые затем можно использовать в наших собственных клетках для выработки энергии. Средний взрослый приобретает таким путем от 10 до 15 % энергии, получаемой с пищей.
Эту бактериальную помощь обеспечивает целый арсенал ферментов, которые умеют справляться с самой разной пищей. Взять хотя бы все известные нам типы пищевых волокон – от овсяных и пшеничных отрубей до сложного углевода инулина, входящего в состав лука, чеснока и спаржи. Растения строят свои клеточные стенки из молекул, от которых требуется долговечность. Эти молекулы создаются путем связывания растворимых сахаров в сложные разветвленные цепочки, которые уже отнюдь не являются растворимыми в воде. Почти все фрукты, овощи и зерновые поставляют в наш рацион вещества, которые достигают толстой кишки без особых изменений.
Над многими из сложных крахмалов и других углеводов, попадающих в нашу пищеварительную систему, совместно трудятся различные виды бактерий. Некоторые микробы, в ходе эволюции приспособившиеся к работе с нами, чрезвычайно хорошо экипированы для того, чтобы справляться с самым неподатливым материалом.
Чемпион в этом смысле (по крайней мере среди микроорганизмов, которые ученые успели изучить подробно) – Bacteroides thetaiotaomicron, вид, обнаруживаемый лишь в кишечнике. Эта бактерия обладает генами для синтеза 260 различных ферментов, помогающих разлагать углеводы. В нашем собственном геноме всего 95 генов, ориентированных на синтез ферментов, хотя ДНК в нем в тысячу раз больше. Оказывается, нам удобнее позволить сверхмногофункциональному микробу проделывать за нас всю остальную работу. Бактерия умеет ловко переключаться между разными комбинациями ферментов в зависимости от того, какая пища в данный момент доступна, реагируя на сочетание питательных веществ, которые потребляет организм-хозяин, на то, какие ферменты вырабатываются клетками хозяина и какие продукты метаболизма могут использовать окрестные бактерии. Набор разнообразных генов, нацеленных на синтез ферментов, дополняется двумя сотнями бактериальных генов, которые, как предполагается, кодируют белки, участвующие в связывании или транспортировке крахмала. Вот вам бактерия, всерьез посвятившая себя перевариванию неперевариваемого. Это своего рода столп микробного сообщества кишечника. Благодаря ей мы извлекаем из пищи больше пользы; кроме того, она помогает другим бактериям, которые используют некоторые из продуктов ее ферментативных процессов для поддержания собственной жизни.
Bacteroides thetaiotaomicron эволюционировала вместе с нами (и другими млекопитающими) в сторону взаимовыгодного сосуществования. Опыты на безмикробных мышах, подвергнутых воздействию B. thetaiotaomicron, показали, что в ее присутствии эпителиальные клетки мышиного кишечника усиливают выработку одного сложного углевода с определенным сахаридным фрагментом на конце цепочки; этот фрагмент бактерия может отсекать и использовать в пищу. То, что эпителиальные клетки вырабатывают молекулы, столь хорошо приспособленные к предпочтениям бактерии, как бы поощряет ее к колонизации кишечника.
На самом деле эти взаимоотношения еще теснее. У взрослой безмикробной мыши меньше (по сравнению с обычной мышью) капилляров в ткани, залегающей под поверхностным слоем кишечника. Введение этого микроорганизма заставляет кровеносные сосуды расти снова, тем самым помогая новому хозяину бактерии абсорбировать питательные вещества, которыми она будет его снабжать, расщепляя при помощи своего арсенала ферментов те углеводы, с которыми иначе не смогла бы справиться пищеварительная система мыши[59].
Вспомним, что бактерии отлично умеют обмениваться генами. Это один из способов, при помощи которых один вид может приобрести такое огромное количество ферментов, направленных на работу с определенным рационом. Представление о том, как B. thetaiotaomicron получила в распоряжение некоторые из этих ферментов, дает нашумевшая статья 2010 года. Показано, как родственный вид кишечных микробов (представитель рода Bacteroides) некогда заполучил фермент порфориназу от морской бактерии, принадлежащей к тому же роду. Этот фермент часто встречается в кишечном микробиоме жителей Японии, многие из которых регулярно потребляют сложный полисахарид порфиран, входящий в состав водорослей, использующихся для приготовления суши, известного японского блюда. Возможно, рассуждение носит косвенный характер и движется несколько кружным путем, однако вывод очевиден: в Японии (но не в Северной Америке) ген, отвечающий за синтез порфориназы, перенимается микроорганизмами кишечника у морской бактерии, которую человек может потреблять вместе с водорослями.
Легко представить себе аналогичный сценарий и для других растений. Всякая пища, нуждающаяся в ферментативной обработке, наверняка будет поступать в организм (по крайней мере иногда) вместе с некоторым количеством бактерий, которые берутся расщеплять сложные молекулы, с таким трудом синтезируемые растением. Остальное – дело бактериальной генетики. Существуют убедительные доказательства, что в человеческом кишечнике процессы генетического обмена у бактерий происходят гораздо чаще (порой в 25 раз), чем у похожих микробов, живущих где-то еще.
Метаболическая виртуозность кишечных микробов простирается и в другие стороны. Они расщепляют полифенолы, содержащиеся в порошке какао, производя малые молекулы, которые могут оказывать противовоспалительное действие на кровеносные сосуды; поэтому, возможно, темный шоколад весьма полезен (очень приятное предположение). Вообще-то они не только расщепляют. Ферменты микробов помогают вырабатывать многообразные малые молекулы, в том числе витамины В и К, некоторые нейротрансмиттеры, а также основные питательные вещества для клеточной деятельности – скажем, аминокислоты. Некоторые из этих веществ синтезируются нашими собственными клетками, но многие – нет. Согласно приблизительной оценке, часто цитируемой в литературе, целая треть малых молекул, разносимых кровеносной системой по нашему организму, создается в кишечных бактериях[60].
Как и для многих разновидностей бактерий, мы мало что выясним, если просто попытаемся перечислить все молекулы, которые они помогают нам производить. Давайте попробуем хотя бы понять, на что способен лишь один тип молекул. Оказывается, на большее, чем вы могли бы себе представить.
Молекулярный промискуитет
«Маленькая молекула с впечатляющей эволюционной историей и хорошим ч/ю ищет партнера. При необходимости может служить источником энергии.»
Нет, молекулы не помещают объявления в газетных разделах знакомств, но некоторые из них все-таки заводят интрижки, устраивая краткие спаривания с целым рядом других. Эти альянсы имеют далекоидущие последствия. Эволюция всегда рада воспользоваться всем, что подвернется под руку; если какая-то небольшая и довольно стабильная молекула долго крутится в системе, эволюция обязательно находит ей новые области применения.
Частично поэтому роль кишечных бактерий далеко не исчерпывается помощью при пищеварении. Они вырабатывают множество малых молекул, которые воспринимаются как сигналы многими нашими клетками, тканями и органами. В результате создаются сети почти неисчерпаемой сложности. Полная карта, отражающая все взаимодействия, походила бы на схему Интернета. Заполучив такую карту, ученые наверняка открыли бы какие-нибудь общие принципы и свойства.
Во всяком случае ясно, что один из ключевых уровней взаимодействия здесь – молекулярный. А теперь я попробую дать вам, читатель, хоть какое-то представление о том, как набор крошечных организмов, обитающих у нас в кишечнике, может влиять на гораздо более крупную систему – наш организм. Для этого мы рассмотрим поведение всего одной молекулы.
Знакомьтесь: масляная кислота. Вот ее структурная формула (как нетрудно догадаться, буквы обозначают элементы, в данном случае углерод, водород, кислород, а линии – их связи).
Вещество относится к классу соединений, именуемых короткоцепочечными насыщенными жирными кислотами. Кислотная часть – карбоксильная группа – СООН на конце – неизменно присутствует у всех представителей этого класса. Атом углерода склонен образовывать 4 связи, что является ключевой особенностью, позволяющей таким атомам соединяться в цепочки, создавая множество веществ, что делает углерод одним из главнейших элементов живого. Используя четвертую связь группы – СООН для соединения с атомом водорода, вы получите HCOOH, муравьиную кислоту, раздражающее вещество, которое имеется в жалах насекомых. Цепочка из двух углеродов даст вам более благодушную уксусную кислоту, бутылочка которой наверняка есть у вас на кухне. Легко видеть, что в масляной кислоте имеется цепочка из 4 углеродных атомов. Такие цепочки могут быть довольно длинными (скажем, в молекуле церотиновой кислоты содержится цепь из 26 атомов углерода); они могут обладать множеством свойств, на которых здесь незачем останавливаться. Вещества с короткими цепочками – не очень «жирные»; масляная кислота, как и ее родичи с небольшим количеством атомов углерода в молекуле, растворима в воде. Она является кислотой, поскольку водород в ее ОН-группе может отщепляться в виде самой простого химического объекта – положительно заряженного иона водорода (иными словами, в виде протона). Атом кислорода, от которого он отщепился, в результате приобретает отрицательный заряд. Получается бутират-ион, дающий всевозможные бутираты.
Бутираты выделяют многие кишечные бактерии. На первый взгляд может показаться, что причина здесь та же, которую мы уже излагали выше. Выработка короткоцепочечных жирных кислот позволяет нам гораздо эффективнее использовать то, что мы едим. Данные, полученные при изучении безмикробных мышей, как будто подтверждают: бактерии делают именно это. Грызуны, лишенные естественных бактерий, обычно вынуждены есть на 10 % больше, чем мыши с нормальным микробиомом, чтобы поддерживать такую же массу тела. Это наблюдение позволяет по-новому взглянуть на пищевые волокна, к потреблению которых нас вечно призывают. Сложные углеводы, главный компонент клетчатки, обычно попадают в толстую кишку непереваренными. Мы привыкли думать, что они полезны, ибо каким-то образом помогают толстой кишке работать более гладко, увеличивая объем ее содержимого. Питаясь лишь такой едой, где нет клетчатки, вы рискуете заработать запор, а в конечном счете – рак толстой кишки.
Выяснятся, однако, что судьба клетчатки куда интереснее: это далеко не только добавка к фекалиям, доводящая их до необходимого объема[61]. Если в толстой кишке присутствуют нужные бактерии, крупные молекулы расщепляются при помощи бактериальных ферментов, давая короткоцепочечные насыщенные жирные кислоты. А те в свою очередь могут использоваться нашими собственными клетками для выработки энергии. Ацетат (обычно его производится втрое больше, чем бутирата) попадает в кровь, а потом используется мышцами и печенью, подобно глюкозе. Часть бутирата также абсорбируется из толстой кишки и применяется в печени. Однако свою важную метаболическую роль он начинает играть уже в толстой кишке, где быстро делятся эпителиальные клетки, жадные до бутирата. Не получая достаточного его количества, они переваривают собственное содержимое.
Прелестная, изящная схема: бактерии представляют собой удобный источник энергии для близлежащих человеческих клеток, которым эта энергия так нужна. Однако молекула бутирата, избежавшая съедения клетками человеческого тела, может проделывать множество других вещей. Похоже, существуют рецепторы, способные повсюду распознавать ее – по форме и по распределению электрического заряда между ее атомами. Сколько таких рецепторов? Вероятно, пока мы знаем не все, но давайте остановимся хотя бы на некоторых. Молекулярные взаимодействия в живых системах зачастую мимолетны. Представьте себе молекулу в жидкой среде, окруженную другими, постоянно толкаемую, да при этом еще и ее собственные атомы «вибрируют» или даже вращаются вокруг межатомных связей[62]. Она может совершить краткое «рукопожатие» с каким-то рецептором или участком идентификации, но затем ее выталкивают обратно в поток. Если бы оказавшемуся в толстой кишке бутират-иону вручали список «двадцати действий, которые необходимо соверщить, прежде чем вас метаболизируют», этот список мог бы начинаться следующим образом.
Найдите рецептор, сопряженный с G-белком, и соединитесь с этим рецептором. Речь идет об обширном семействе рецепторов, расположенных на поверхности клеток и проделывающих то, на что указывает их название; находясь на клеточной мембране, они связывают малые молекулы, имеющиеся во внеклеточном пространстве. Это небольшое изменение заставляет рецептор изменить форму. Затем он активирует какой-то G-белок (G-белки – один из классов белковых молекул), который после этого передает сигнал внутрь клетки, тем самым вызывая целый ряд эффектов.
Многие сигнальные системы клеток работают таким образом. В наших тканях существуют тысячи различных рецепторов, сопряженных с G-белком, как и других рецепторов из того же семейства, действующих посредством разных агентов передачи сигнала. Поэтому не удивительно, что некоторые из них связывают бутират (и ацетат). Их так много, что им присваивают названия с номерами. В данном случае первый рецептор, который встречает наша молекула, именуется Gpr43. Его форма предназначена для связывания трех наиболее распространенных короткоцепочечных насыщенных жирных кислот. Он помогает приглушать воспалительные реакции.
Затем наша молекула бутирата слезает с этого рецептора и попадает на другой – Gpr109a. Он игнорирует иные короткоцепочечные насыщенные жирные кислоты и захватывает лишь бутират (хотя, поскольку клеточная биология вообще полна скрещивающихся путей, он способен также откликаться на присутствие витамина B3 – ниацина, еще одного продукта жизнедеятельности кишечных бактерий). Этот рецептор после активации выполняет в кишечнике сходную противовоспалительную роль. Похоже, он также снижает вероятность развития рака толстой кишки. И вот пример типичной сложной взаимосвязи, помогающей клеточным сообществам самоорганизовываться: выработка этого рецептора в толстой кишке резко усиливается в присутствии кишечных бактерий. Что это – еще один эффект бутирата? Мы пока не знаем.
Но и это лишь краткая встреча. Наша универсальная молекула бутирата плывет дальше, чтобы соединиться с рецептором Gpr41, который подает клеткам сигнал усилить выработку лептина – гормона, играющего весьма важную роль в контроле аппетита, метаболизма жиров и их накопления. И наконец, бутират прочно связывается с рецептором еще одного типа – транспортным белком, который переносит бутират внутрь клетки нашего тела (в данном случае – клетки эпителия толстой кишки). Оказавшись там, молекула высвобождается и может взаимодействовать с новыми партнерами. Так, одна из хорошо изученных функций внутриклеточного бутирата – ингибирование фермента, который ускоряет отщепление ацетильных групп от гистонов – белков, участвующих в упаковке нитей ДНК. Здесь следует отметить, что повышенная активность данного фермента – одна из характерных особенностей клеток злокачественной опухоли толстой кишки.
Таков лишь один из множества возможных конечных пунктов этого молекулярного путешествия. Если клетка, переносящая в себе бутират, окажется Т-лимфоцитом, присутствие бутирата может побудить ее стать более специализированной иммунной клеткой. Существуют транспортные агенты, переправляющие бутират через эпителий кишечника, чтобы это вещество попало в кровь. А уж вместе с кровью бутират может направиться практически куда угодно. По мнению некоторых специалистов, похожие транспортные агенты могут нести короткоцепочечные насыщенные жирные кислоты в мозг и нервные клетки. Возможно, существует даже некая связь между такой доставкой и тем фактом, что опыты на мышах как будто показывают – введение значительных доз бутирата может оказывать антидепрессивное действие. (К этой находке мы еще вернемся в главе 9.)
Но давайте закончим наше воображаемое путешествие именно здесь. Оно позволяет представить себе лишь некоторые детали, известные нам о бутирате и о том, что он способен делать. Конечно, пока мы знаем далеко не все. Однако этот беглый рассказ позволяет представить себе и другие похожие истории о молекулах, каждая разновидность которых успела сыграть множество ролей с тех самых пор, как в ходе эволюции начали складываться пути координации различных систем нашего организма (и организма наших эволюционных предшественников)[63].
Ученые пытаются столь же детально изучить другие подобные истории, каждая из которых напоминает о тонко настроенном взаимодействии и тщательной координации, необходимых, когда речь идет об управлении организмом, состоящим из триллиона клеток. Переход же на уровень суперорганизма подразумевает, что система в целом включает триллионы других клеток, которые действуют в какой-то степени независимо и интересы которых не всегда полностью совпадают с интересами «родных» клеток нашего тела.
Из истории о бутирате можно сделать еще два вывода. Обычно ни одна малая молекула не ограничивается выполнением лишь одной функции. Чаще всего молекула вовлечена в деятельность разных систем, причем ее функции подчас кажутся в чем-то противоречивыми. Одна молекула может участвовать в тонкой настройке многих систем организма. Более того, сети передачи сигнала, чью деятельность она модулирует, переплетаются со многими другими; ко всем этим взаимодействиям следует подходить весьма тщательно, если мы хотим получить сколько-нибудь ясное представление об их возможных конечных результатах. Все эффекты, которые оказывает моя гипотетическая гиперактивная молекула бутирата, зависят от конкретных клеточных обстоятельств. Нужно иметь все это в виду, пытаясь разобраться, означают ли новые открытия касательно микробиома именно то, о чем заявляют их авторы и пропагандисты.
А теперь следует вернуться на более высокие уровни микробиома – к экосистемам и комплексным взаимодействиям. Но пока мы еще здесь, внизу, играем в рьяных редукционистов и пытаемся изучать объекты по одному, давайте обратимся к очередной истории с единственным главным героем. Речь у нас пойдет не о молекуле, а о некоей бактерии.
«Хорошая» бактерия, «плохая» бактерия
Мешанина из бесчисленных результатов ДНК-анализа, получаемых современными специалистами, определенно говорит лишь одно: существует несметное множество разновидностей бактерий, которые могут оказаться среди микробного населения человеческого организма. Это разнообразие наряду с еще более огромным разнообразием генов, которые все эти микробы имеют в своем коллективном распоряжении (как мы уже знаем, таких генов больше 10 миллионов), представляет собой во всех смыслах гигантскую проблему, в которой еще только предстоит разобраться.
Впрочем, если сосредоточиться всего на одной бактерии, тоже можно немало узнать. Как и в случае с E. coli, лабораторное исследование которой плодотворно уже много лет, выяснение как можно большего количества информации об одной-единственной бактерии способно показать, как бактерии взаимодействуют с нашим организмом.
Возьмем, к примеру, интригующую историю Helicobacter pylori. Это существо особенно удобно для одновидовых штудий, поскольку устойчиво к воздействию кислой среды и поэтому может жить в желудке (где численность бактериального населения значительно ниже, чем в кишечнике). Возможно, по этой причине данная бактерия – нелучшая иллюстрация того, как мы взаимодействуем с прочими компонентами нашего микробиома, однако она позволяет демонстрировать немаловажные особенности наших связей с бактериальными видами.
История эта может похвастаться удивительными поворотами: в частности, за 30 лет она дважды коренным образом переменила господствующее в научных и медицинских кругах мнение, причем во второй раз потребовалось выкорчевать воззрения, прочно укоренившиеся на предыдущем этапе.
Пожалуй, H. pylori известнее всего благодаря исследованиям, в ходе которых утверждалось: она вызывает язву. До 1970-х годов ученые полагали, что язва – эта болезненная и иногда опасная эрозия стенки желудка – возникает из-за чрезмерного количества кислоты; эффект, к которому может приводить стресс. Затем австралийский патолог Робин Уоррен подметил, что в желудке имеются бактерии, активно заселяющие слизистую оболочку его стенок при воспалении. Эти бактерии наблюдали еще в XIX веке, но с тех пор столь основательно забыли, что преподаватели внушали будущим врачам: желудок стерилен. Как выяснилось, присутствие этих бактерий в организме человека напрямую связано с развитием язвы.
Эта ассоциация оказалась достаточно четкой, чтобы предположить: данный микроб – патоген, подчиняющийся правилам Коха. В 1982 году его удалось вырастить в лабораторной культуре. Раньше у микробиологов это не получалось. Затем даже удалось показать, что H. pylori можно выделить у пациентов, страдающих язвой, и у большего количества людей, страдающих гастритом (желудочным воспалением). Кроме того, Барри Маршалл, работавший вместе с Уорреном, выяснил, что проглатывание этих бактерий вызывает приступ гастрита. Еще более впечатляющее открытие: медикаментозное лечение заражения H. pylori помогает избавляться от язвы. Результат – Нобелевская премия по физиологии и медицине, присужденная Уоррену и Маршаллу в 2005 году, и мгновенно возникшая у множества врачей убежденность, что эта новая (для них) бактерия – опаснейший патоген. Итак, если желудок почему-либо оказался нестерильным, нужно срочно сделать его таковым. Хорошая H. pylori – мертвая H. pylori. А потому – принимайте антибиотики!
Однако дело с язвой оказалось не столь простым. Мартин Блейзер из Нью-Йоркского университета давно подметил, что не все носители H. pylori зарабатывают язвенную болезнь. В конце 1980-х он приступил к более тщательному исследованию этого микроорганизма. Вскоре его научная группа выяснила, что существует несколько вариантов данной бактерии и в крови зараженных ею людей содержатся антитела к ней[64].
Далее Блейзер принялся разделять H. pylori на разновидности, отличающиеся друг от друга по способам взаимодействия с эпителиальными клетками желудка, и показал, почему какие-то из этих разновидностей вызывают язву с большей вероятностью, чем другие. Вместе с коллегами он продемонстрировал также, что присутствие этих бактерий увеличивает риск развития рака желудка – одной из главных причин смерти современного человека. Что ж, тем больше оснований прописывать антибиотики: мы должны при первой же возможности избавляться от этого смертоносного микроба!
Однако на этом дело не закончилось. Связь с болезнью была обнаружена только потому, что не все люди оказались носителями H. pylori. Эта особенность возникла у человечества сравнительно недавно. Работы XIX века и современные обследования жителей Африки и Азии показали, что почти у всех испытуемых эти бактерии обитают в стенках желудка либо в их крови имеются антитела, свидетельствующие о наличии этих бактерий. Более тщательные изыскания, проведенные совсем недавно, позволяют заключить, что эта бактерия – наш весьма древний спутник. Похоже, в желудке у каждого млекопитающего имеется какой-то родич этой бактерии, эволюционировавший вместе со своим хозяином. Можно показать, что человек является ее носителем по меньшей мере на протяжении последних 100 тысяч лет, а скорее всего даже дольше. H. pylori живет лишь на человеке, а значит, после рождения ребенок должен как-то приобретать ее от себе подобных. В менее гигиеничные времена большинство детей подхватывали ее в течение первых десяти лет жизни.
Потом пришла современная санитария, а позже – практика частого введения антибиотиков для борьбы с детскими инфекциями. Заражаемость бактериями H. pylori стала неуклонно снижаться. Между взрослыми людьми они не так-то легко передаются, а дети могут приобрести их, лишь если матери или братья-сестры являются их носителями. Поэтому доля людей, зараженных этим микробом, уменьшалась с каждым новым поколением. По оценкам Блейзера, у подавляющего большинства рожденных в США в начале прошлого века имелись в животе H. pylori, однако этой бактерией заражены лишь менее 6 % появившихся на свет после 1995 года.
Ну и отлично. У новых поколений будет куда меньший риск получить болезненную язву или рак желудка (зачастую летальный).
Однако не всё так безоблачно. Язвенная болезнь бывает и у взрослых, а рак желудка обычно возникает в среднем возрасте или позже. Если до недавнего времени все дети в истории человечества несли в себе бактерию, адаптировавшуюся к жизни в желудке человека, то, может быть, она оказывает и какое-то другое воздействие, в том числе и благотворное? Первое указание на это содержится в еще одной работе Блейзера. Ему хотелось выяснить, превышает ли норму содержание H. pylori у страдающих острым кислотным рефлюксом (попросту говоря, изжогой).
Вопреки всем ожиданиям ученых выяснилось: для тех, у кого нет H. pylori, вдвое больше вероятность развития тяжелой формы изжоги – гастроэзофагального рефлюкса. При такой болезни часть содержимого желудка время от времени поднимается к глотке. Это может происходить несколько раз в день, приводя к образованию рубцов и к еще более неприятным последствиям. Конечным результатом может стать аденокарцинома – заболевание, которое в последнее время становится все более распространенным (как и кислотный рефлюкс).
Группа Блейзера и другие команды ученых, продолжавшие ее работу, обнаружили, что избавление от H. pylori при помощи антибиотиков часто вызывает кислотный рефлюкс. Дальнейшие результаты выявили факт, который может показаться каким-то биологическим извращением. Оказывается, штаммы H. pylori, вырабатывающие белок под названием cagA, который способен повреждать эпителиальные клетки, с большей вероятностью вызывают язвенную болезнь и рак желудка, но при этом более сильно (по сравнению с другими H. pylori) снижают риск возникновения рефлюкса и аденокарциномы. Возможно, столь запутанная картина объясняется особенностями регуляции процессов выработки кислоты в желудке, хотя мы пока не до конца разобрались в соответствующих механизмах.
Но и этого мало. Как выясняется, дети, которые все-таки заражаются H. pylori (особенно штаммами, ассоциируемыми с язвенной болезнью), меньше рискуют заработать астму – еще один недуг, который врачи наблюдают все чаще и чаще. То же самое верно для сенной лихорадки и целого ряда других аллергических заболеваний.
Чтобы понять, как такое может быть, следует рассмотреть причины и преимущества воспалительных процессов, а также то, как наши спутники-бактерии взаимодействуют с нашей же иммунной системой. (Об этом мы поговорим в главе 7.)
Многообразные эффекты H. pylori побудили ученых заняться активным выявлением связей этой бактерии (как негативных, так и позитивных) с другими заболеваниями. Обзор положения дел в этой сфере, сделанный в 2014 году, включает ссылки на примерно 140 работ, авторы которых занимались такими различными недугами, как рак поджелудочной железы, анемия (малокровие), болезни печени и артериальный тромбоз[65].
Связи здесь по большей части слабые или противоречивые, но исследования продолжаются. Так или иначе, пример H. pylori показывает: по меньшей мере для некоторых видов бактерий не существует четкого разделения между безвредным (или даже полезным) микроорганизмом и патогеном. Иногда микроб делает одно, иногда – другое. Возможно, все зависит от мелких различий между штаммами, от генетических особенностей организма-хозяина, от других индивидуальных факторов и факторов среды. Возникает в лучшем случае весьма расплывчатая картина причинно-следственных связей, если хоть какая-то картина возникает вообще. Чтобы прояснить ее, придется собрать поистине гигантскую группу испытуемых, наблюдать их в течение долгого времени и затем анализировать чертову кучу полученных данных. И это лишь для одной бактерии, пускай нам и кажется, что она играет в нашем организме весьма важную роль.
Мое собственное
Есть ли H. pylori у меня в желудке? Не знаю. Зато я знаю, что когда-то у меня была легкая форма астмы и никогда не было язвы. Так что есть искушение дать отрицательный ответ на этот вопрос. Однако в моей пищеварительной системе все-таки имеется несметное количество микробов. Чтобы попытаться выяснить какие-то полезные вещи о микробиоме, можно перейти от мелких подробностей действия одной молекулы или единичной бактерии к широкомасштабному взгляду, охватывающему всё наше микробное сообщество. Так что для финала этой главы я приберег краткий отчет о конгломерате микроорганизмов, обитающих в моей собственной толстой кишке.
При желании вы легко сумеете заказать обследование своего микробиома. Оно даже может стать вкладом в науку, заполнить пробелы в наших знаниях о том, насколько сильно отличается микробиота у разных людей и что влияет на ее изменения.
Существует несколько учреждений, предлагающих услуги по отбору биологических проб и выяснению их состава. «Американский кишечник» – краудфандинговый проект, цель которого – выстроить максимально полную картину кишечной микробиоты американцев, индивидуально обследуя всех, кто захочет пройти такое обследование. Я обратился в «uBiome» – проект, также ставший одним из первых в этой сфере (и также американский). По словам организаторов, задача проекта – «снабдить всех желающих необходимыми средствами для изучения уникального бактериального баланса в организме».
Поначалу проект тоже финансировался путем сбора частных пожертвований, набрали таким образом 350 тысяч долларов. На сайте написано, что это вклад в «гражданскую науку». Идея создателей проекта состоит в том, чтобы предоставить всем возможность пользоваться данными, полученными при помощи секвенсоров «uBiome», и информацией, извлекаемой из сравнения этих данных с появляющимися сейчас другими результатами анализа, дабы планировать собственные исследования.
Пока проект действует довольно прямолинейно. За 89 долларов вы заказываете в «uBiome» специальный набор для анализа, и по почте вам присылают коробку с тампонами и пробирками. Я предпочел пойти по самому простому пути: соскоблил образец кала с туалетной бумаги, поместил его в пробирку со стабилизирующим раствором, встряхнул и запечатал. За дополнительную плату я мог бы приложить пробы, взятые из носа, рта, с половых органов и кожи, но мне показалось разумным начать с кишечника (по крайней мере, с конечного продукта его деятельности). Остальное подождет.
Количество использованного материала выглядело смехотворным, и я сомневался, хватит ли его для анализа, когда готовил посылочку для отправки в Сан-Франциско, где располагается штаб-квартира «uBiome». Всё ли я сделал правильно? (Кроме того, как-то странно отправлять образец фекалий по почте. Но, судя по всему, это никого не беспокоит.) Остальной мой вклад был онлайновым: я зарегистрировал свой набор и заполнил довольно простую анкету, тем самым заведя личный профиль в системе.
Проект пока находится в процессе развития, но после нескольких месяцев ожидания, как раз когда я писал эту книгу, мне представили доступ к бета-версии сайта, и я увидел данные о своем микробиоме.
Перед тем как углубиться в детали, отмечу, что сайт заранее предупреждает: эти данные предназначены исключительно для того, чтобы помочь мне больше узнать о моем микробиоме, их не следует использовать в медицинских целях. Кроме того, «названия некоторых бактерий могут походить на термины, которыми именуются инфекционные и другие болезни». Это не значит, что у меня есть соответствующая инфекция (или что у меня ее нет). Я и так это знал, поскольку «uBiome» использует секвенирование 16S рРНК, дающее весьма общую классификацию бактерий. Но я порадовался, увидев столь откровенное предостережение.
Из информации, предоставленной таким путем, всё же можно узнать массу деталей. Первым делом вам показывают красивенькую цветную диаграмму, отражающую распределение бактериальных филумов в вашем кишечнике (или по крайней мере в крошечной пробе вашего кала).
Основную часть бактерий в моем образце составляли Firmicutes – 74,5 %, что заметно выше среднего показателя для базы данных «uBiome», где представлены, по-видимому, в основном североамериканцы, а у них в среднем по 61,6 % микроорганизмов из этого филума. Это среднее значение основано на анализе образцов из всевозможных участков тела, но в данном случае оно почти полностью совпадает с результатом для кишечных проб здоровых всеядных существ (именно к ним я отнес бы себя), составляющим 61,67 %.
Ближе к среднему показателю я оказался по менее распространенным Proteobacteria (3,83 % при среднем в 3,46 %) и Actinobacteria (3,01 % при среднем в 2,72 %), почти вдвое ниже среднего – по Bacteroidetes (11,8 % при среднем в 20,4 %). Эта разница показалась несущественной, когда я углубился в детали и посмотрел на разброс значений для проб из кишечника здоровых всеядных людей: практически от нуля до примерно 50 %. Лишь чуть больше 1 % найденных разновидностей бактерий не удалось классифицировать.
Дальше меня ждал сюрприз. Оказывается, существует целый филум, о котором я никогда раньше не слышал, – Tenericutes. Судя по данным анализа, к нему принадлежат целых 5,4 % моих кишечных бактерий. А среднее по всей базе «uBiome» – 0,183 %.
Вот это да! Интересное открытие. Значит, мой кишечный микробиом – необычный. По крайней мере, хоть в каком-то отношении. В образцах из кишечного микробиома других людей эта величина обычно ниже 0,5 % (у веганов – в среднем 0,65 %, но я не веган). Диапазон значений довольно узок, статистические выбросы очень редки. А я оказался далеко за пределами нормального диапазона. Почему?
Пока мне придется умерить интерес. Я понятия не имею, что означает эта высокая величина. И, насколько мне известно, никто ее сейчас объяснить не может.
Все мои Tenericutes, сообщил мне «uBiome», принадлежат к классу Mollicutes – сравнительно простым бактериям, не имеющим клеточной стенки и являющимся паразитами с весьма примитивным геномом, вероятнее всего возникшим путем избавления от как можно большего числа маловажных генов.
Такие бактерии часто обнаруживают прикрепившимися к клеткам легких или гениталий. Одна из них хорошо известна, поскольку имеет, вероятно, самый скудный геном среди всех клеток: в нем меньше 600 тысяч нуклеотидных пар. Речь идет о Mycoplasma genitalium – чрезвычайно простой прокариоте, которая, по-видимому, обладает почти минимальным геномом, необходимым для независимого существования. Именно поэтому она очень популярна среди генетиков-экспериментаторов. Но, как подсказывает ее название, живет она не в кишечнике.
Может быть, дело в какой-то нехарактерной пробе? Ведь она представляла собой очень маленькую часть результата одного акта опорожнения кишечника. И вообще все эти тесты проводятся пока не так уж долго, чтобы мы могли удостовериться в воспроизводимости результатов анализа; научный журналист Тина Сэй сообщает, что она получила весьма различные результаты, отправив порции одного и того же своего образца в «uBiome» и «Американский кишечник». По ее словам, соотношение Firmicutes и Bacterioidetes в двух образцах фекалий с одной той же части одного и того же куска туалетной бумаги оказалось «более или менее противоположным». Когда она обратилась с вопросом к сотрудникам компаний, ей ответили, что на такое расхождение результатов могли повлиять самые разные факторы – от методики выделения ДНК до алгоритмов обработки данных. Еще одно напоминание, что микробиомные штудии пока еще очень далеки от стандартизации[66].
Я пока не знаю, подтвердятся ли мои собственные результаты, если я снова раскошелюсь и повторю отбор пробы. Если они подтвердятся, мне наверняка захочется узнать, почему этот конкретный класс бактерий прижился у меня в кишечнике. Впрочем, возможно и такое объяснение: моя микрофлора кажется необычной лишь из-за того, что база данных «uBiome» пока сравнительно невелика. Обратившись к научной литературе, я выяснил, что неведомые мне прежде Tenericutes уже удавалось найти в кишечном микробиоме. Одно сравнительное исследование, выполненное в 2013 году, показало, что Tenericutes составляют 12 % кишечных бактерий у бангладешских детей, предоставивших образцы для анализа, и 4 % у обследованных американских детей. Мой результат сразу перестал выглядеть необычным: возможно, он лишь чуть выше, чем у среднего жителя Запада.
Так или иначе, мне забавно было посмотреть на мои результаты. Сравнение с базой данных «uBiome» служит полезным напоминанием о том, как сильно отличаются друг от друга микробиомы разных людей. Больше мне эти данные почти ничего не говорят. Подобного рода персональный анализ следует существенно детализировать, прежде чем он станет по-настоящему полезным для владельца микробиома (если здесь уместно использовать слово владелец). Уже сейчас доступны и другие подробности: скажем, что мои Firmicutes разделяются на Clostridia (69 % в пробе), Negativicutes, Lactobacilli и какие-то Erysipelotrichia (по 1–2 %). Но все эти классы в свою очередь делятся на множество видов. Так что пока мы находимся на том уровне исследования, когда еще не чувствуем, будто вот-вот по-настоящему познакомимся с разновидностями бактерий, которые действительно населяют наш кишечник. С другой стороны, информация, полученная в ходе исследований на этом уровне, позволяет предположить, что индивидуальные отличия еще больше, возможно, отчасти из-за того, что речь идет об огромном количестве видов бактерий. А значит, далек тот день, когда вы сможете, получив в руки личный микробный профиль, получить и четкие указания на то, что означают все эти данные.
По сути это моментальный снимок кишечного микробиома взрослого человека, сделанный в какой-то день. Население этого микробиома явно велико и впечатляет разнообразием, даже если принимать в расчет лишь бактерии и игнорировать другие типы микробов. Более того, я уверен, что начинал свою жизнь без всяких микроорганизмов внутри меня. Как же все они туда попали?
Глава 6. Рождение микробиома
Мы с вами – взрослые люди XXI века, обладающие зрелыми микробиомами. Мы получаем возможность изучать все более подробные «моментальные снимки» каждой из экосистем, составляющих это собрание микробов. Но откуда эти микроорганизмы взялись? На этот вопрос можно попытаться ответить, применяя два подхода. Один связан с личными особенностями и с развитием индивида, другой – с эволюцией. Оба позволяют выстроить линии рассуждений, в конечном счете приводящие к тому, что сегодня причинами изменений в нашем микробиоме служат, по сути, технология и культура. Подобно Земле в целом, наша личная микробиомная планета подвергается трансформациям, которые мы вызываем сами. В этой главе кратко излагаются современные версии обоих сюжетов и задается вопрос: что же мы натворили с современным микробиомом?
Как делаются дети
Новорожденные – такая прелесть, правда? Эти крошечные пальчики. Этот милый ротик. Эти робкие жесты. А запах!
Микробы тоже так думают. Перед ними открывается целый набор новых «квартир», ожидающих вселения жильцов. Бескрайние просторы совершенно свободной кожи. Новенький кишечник, занятый пищеварением и отлично обустроенный для того, чтобы в нем обосноваться. Для родителей всё это – любимое создание, чудо из чудес. Для микробов – заманчивейшее предложение на рынке недвижимости.
Но, как всегда с такими предложениями, на самом деле тут не всё так просто. Нет, речь не идет о совершенно свободном жилье. Некоторые микробы уже воспользовались инсайдерскими хитростями. Благодаря матери младенца.
Раньше мы полагали, что на протяжении почти всей истории человечества дело происходит так. Эмбрион нового человека вырастает в большеголового ребенка. В конце концов голова его достигает размера, не позволяющего протиснуться через материнский тазовый пояс, чьи связки по такому случаю расслабляются. Интенсивные сокращения мышц толкают его вниз… и выталкивают наружу. По пути младенец вовсю контактирует с вагинальными микробами – еще до того как выбирается в окружающий мир. Поскольку родовые схватки нередко длятся часами, у быстро делящихся бактерий есть масса времени, чтобы начать размножаться на коже ребенка еще до его появления на свет. В последний же момент череп ребенка, еще довольно мягкий, давит на задний проход матери и зачастую выдавливает часть его содержимого; происходит своего рода помазание головы младенца материнскими экскрементами. Еще до того как рискнуть впервые вдохнуть, новорожденный получает щедрую прививку дозой здоровых, вскормленных человеком микробов. А до этого он микробов совершенно лишен.
Впрочем, можем ли мы с уверенностью это утверждать? Ведь многие участки взрослого тела, прежде считавшиеся стерильными, позже продемонстрировали признаки наличия микробной жизни. Так или иначе, эта уверенность держалась долго. Первое испражнение новорожденного (меконий) объявил стерильным сам Эшерих, прославленный открыватель Escherichia coli; он озаботился вопросом о стерильности первого стула в 1895 году. А совсем недавно, в 2012-м, один обзор в авторитетном научном журнале Nature начинался с утверждения: «Каждый из нас появляется на свет без всяких микробов-колонистов благодаря стерильной среде материнской утробы». Это заявление приводилось без всяких ссылок. В научных работах так обычно подаются факты, которые авторы считают общепринятыми[67].
Однако эту гипотезу опровергли еще 5 годами раньше, в 2007 году. Обнаружилось, что меконий мышей уже колонизирован бактериями (год спустя то же самое выяснилось касательно людей). Среди этих микроорганизмов – Lactobacilli и старые добрые E. coli. Первые распространены в вагине, причем во время беременности их количество лишь возрастает. Вторые – бактерии кишечные. Как же они попадают в меконий, который накапливается в кишечнике еще до первого питания и представляет собой остатки того, что младенец еще до родов заглатывал из матки – смесь околоплодных вод, отмерших эпителиальных клеток и прочей дряни? Мыши в первом (испанском) исследовании, оспаривавшем идею о стерильности, явно каким-то образом передавали кишечные бактерии своим отпрыскам. Мыши – будущие матери – пили молоко, содержащее бактерии с определенным генетическим маркером, а затем ученые помогали мышатам появиться на свет посредством кесарева сечения в условиях хирургической чистоты. И что же? При первом же испражнении мышата выводили из своего организма эти же бактерии. Пока не ясно, как бактерии там очутились.
Возможно, некоторые бактерии мышата попросту проглатывали вместе с околоплодными водами. Однако, согласно данным еще одного недавнего исследования, нормальная плацента тоже несет в себе бактериальную нагрузку. Кьерсти Аагаард из техасского Медицинского колледжа Бейлора проанализировала плацентарную ткань, взятую у 320 рожениц после родов, и бодро отрапортовала о небольшом, но разнообразном бактериальном населении в этих образцах[68].
В ее статье сообщается также (и здесь мы должны проявить особую бдительность), что по своему составу эта популяция больше всего напоминала микробиом рта. В прессе запестрели указания на приоритетную роль оральной и зубной гигиены для беременных или тех, кто пытается забеременеть. Впрочем, факты указывают на то, что это слишком поспешный вывод. Простое выявление ДНК-«автографов» определенных бактерий в живой ткани еще ничего не говорит нам о том, как они туда попали. Да, болезни десен и преждевременные роды иногда сопутствуют друг другу, однако… Так что преимущества и невыгоды наличия или отсутствия бактерий в плаценте пока неясны; требуются дальнейшие исследования, весьма тщательные и детальные. (Хотя это по-прежнему хорошая идея – чистить зубы с регулярностью, необходимой для профилактики болезней десен.)
Кроме того, это исследование не смогло выявить и какой-либо связи между плацентарными бактериями и собственными микробиомами новорожденных, так что, по-видимому, оно не помогает разобраться в загадке микробов, содержащихся в меконии. Вероятно, самое убедительное предположение на данный момент – гипотеза о том, что иммунные клетки эпителия материнского кишечника, способные захватывать кишечные бактерии, приносят некоторых из них в кровь, и вместе с кровью они затем попадают в самые разные места, в том числе в плаценту, матку – и в сам плод. Полагаю: сейчас, когда я пишу эти строки, кто-нибудь наверняка ломает голову над тем, как бы спланировать эксперимент для проверки данной идеи. Пока это не сделано, еще одна гипотеза – о том, что эмбриональный микробиом можно «настраивать», давая будущей матери определенную пробиотическую смесь – остается, по-видимому, лишь умозрением. Такие процедуры, мягко говоря, рискованны, пока мы точно не знаем, каким именно путем передаются бактерии от матери к ребенку.
После рождения младенец попадает в мир, кишащий микробами, и, конечно же, начинает обзаводиться собственными благодаря контакту с окружающими людьми, лишь немногие из которых способны удержаться от поглаживанья, тисканья и тетёшканья новорожденного (возможно, эволюция помогла нам полюбить запах младенцев, чтобы поспособствовать именно такой передаче микробов). Столь же очевидно то, что маленький человечек, начиная совать палец в рот, а потом и ползать, собирает образчики микробов почти отовсюду, куда сумеет дотянуться, в том числе с собственного тела, с других людей, с домашних животных и со всех прочих вещей, которые мы обычно запрещаем ребенку трогать, отлично зная, что наше указание скорее всего будет проигнорировано.
Состав популяции вагинальных микробов матери меняется непосредственно перед родами – так младенец получает прививку полезной смеси видов. Однако роженица готовится повлиять на микробиом своего отпрыска и иным путем – вырабатывая молоко. Эту жидкость тоже долгое время считали стерильной (если только мать не больна). Оправданием такой убежденности может служить тот факт, что соответствующие бактерии трудно выращивать в культуре, однако закрадывается подозрение: возможно, сама идея о том, что при грудном вскармливании младенец всасывает бактерии, просто не укладывалась в представления о том, что естественное грудное питание для новорожденного – штука по определению здоровая.
Теперь-то нам известно, что даже у здоровых кормящих матерей в молоке содержатся сотни видов бактерий. Более того, состав этой популяции материнский организм способен менять, чтобы лучше удовлетворять потребностям ребенка. Сразу же после рождения грудная диета включает значительную дозу молочнокислых бактерий, а также Staphylococcus и Streptococcus. Шесть месяцев спустя смесь бактерий больше походит на обычно присутствующую во рту – возможно, потому что к этому времени ребенок, как правило, уже начинает иметь дело с какой-то твердой (ну, кашеобразной) пищей.
А вот еще одно недавнее открытие, ставящее перед нами еще одну загадку переноса микробов. Когда материнское молоко только начинает выделяться, в нем уже есть бактерии; собственно, они есть уже в молозиве – первой пище новорожденного (в идеальном случае). Как же они туда попадают? Мы пока точно не знаем. Материнская грудь обладает собственным микробиомом, и некие его виды наверняка оказываются в молоке. Разумеется, какие-то бактерии находятся на коже вокруг соска. Однако некоторые бактерии, обнаруженные в материнском молоке, обычно присутствуют в кишечнике, а не на коже, так что сейчас ученые ищут внутренний микробный путь[69].
Самый интригующий вариант предполагает участие специальных клеток, называемых дендритными[70]: они как бы берут пробу кишечных бактерий и затем предоставляют характерные для этих бактерий антигены на рассмотрение иммунной системе. Кроме того, они способны мигрировать, внося сами бактерии в ткани (по крайней мере в ближайший лимфатический узел, а возможно, и в селезенку). Не исключено, что эти клетки занимаются целенаправленной транспортировкой микробов в разные участки нашего тела. Как показали эксперименты на мышах, бактерии, находящиеся в лимфоузлах, к поздним стадиям беременности добираются до молочных желез. Другие подробности неизвестны. Однако пока действительно кажется, что при помощи каких-то хитроумных приемов организм матери способен отбирать нужные бактерии, защищать их от системы врожденного иммунитета и переправлять к груди.
Мы больше знаем о двух других компонентах, поставляемых младенцу матерью при грудном вскармливании. Ее молоко содержит много иммуноглобулинов, которые временно заменяют собственную иммунную систему кишечника младенца (пока та не начнет развиваться). Кроме того, молоко матери, по-видимому, снабжает ребенка микробным питанием.
Это еще одно открытие, которое на первый взгляд кажется довольно неожиданным. Тут как раз тот случай, когда индивидуальное и эволюционное развитие нельзя разделить. Лишний раз подтверждается, как тесно наша жизнь сплетена с жизнью наших микробов. Материнское молоко представительниц нашего вида содержит массу легкоусваиваемой пищи, которая должна удовлетворять растущие потребности растущего младенца. Однако содержатся в ней и вещества, которые его организм переварить не в состоянии. Во всяком случае, без помощи микробов.
Набор сложных углеводов, именуемых олигосахаридами грудного молока (иногда их называют гликанами), – третий по общему содержанию компонент этой жидкости. Попав в кишечник, они служат идеальным кормом для Bifidobacterium infantis – бактерии, которая не присутствует в организме младенца при рождении, но вскоре, как правило, становится одной из самых многочисленных обитательниц его микробиома (при грудном вскармливании). Построение молекул олигосахаридов – занятие трудоемкое с метаболической точки зрения, а ведь они производятся в большом количестве, когда биохимия женщины работает на пределе мощи, стремясь как следует накормить ребенка. В сущности, младенец ест не «за двоих», а за миллиарды (бактерий). Брюс Герман из Калифорнийского университета в Дэвисе сформулировал это так: «По сути матери заставляют другую форму жизни нянчить своих детей, используя олигосахариды для того, чтобы управлять деятельностью микробиома»[71].
Все это означает, что внутренности младенца недолго остаются незаселенными. Таким образом, процесс созревания микробиома – это замещение одной микробной популяции другой, а не вторжение микробов на невостребованное и незанятое место. Мы уже неплохо понимаем, что происходит с микробиотой после того, как в ней поселится первая партия колонистов. Подробнее всего удалось исследовать популяции кишечника, поскольку эта наиболее сложная экосистема подвергается в процессе нашей жизни едва ли не самым масштабным изменениям[72].
Похоже, вначале кишечник новорожденного содержит бактерии, способные жить в бескислородной среде, и бактерии, которым необходим кислород. По мере расходования имеющегося в кишечнике небольшого объема кислорода условия меняются в пользу тех, кто может существовать без этого газа. В дальнейшем кишечник населяют лишь анаэробные бактерии.
Итак, недели через две обычно создается первый более или менее долговечный популяционный баланс. В нем обильно представлены Bifidobacteria, Bacteroides и Clostridia. Хотя до недавних пор мы не осознавали, насколько тесными являются отношения некоторых Bifidobacteria с материнским молоком; их общую роль в нем открыли, по микробиологическим меркам, в глубокой древности. Их обнаружили в образцах, полученных у младенцев, которые питались материнским молоком, еще в конце XIX века.
Когда ребенок начинает есть другую пищу (обычно в возрасте нескольких месяцев), его кишечная микрофлора постепенно становится более разнообразной. У искусственно вскармливаемых младенцев на первом этапе более разнообразный видовой состав микрофлоры; это различие (между детьми с двумя типами питания) сохраняется долго: обычно они раньше, чем ровесники, вскармливаемые грудью, приобретают микробный баланс, типичный для взрослых.
А вот при кесаревом сечении заселение бактериями происходит иначе. Первыми колонистами обычно оказываются микробы кожи, передаваемые от матери и от всех остальных, кто занимается ребенком. Вскоре за этими бактериями последуют другие. Однако стерильные роды, перед которыми роженице почти всегда вводят антибиотики, дают меньшее разнообразие кишечного микробиома (как и преждевременные роды).
Начиная исследовать окружающий мир, младенцы заодно исследуют и местную микрофлору. Случайные встречи начинают играть все более существенную роль в том, какие виды решатся попытать счастья, попробовав поселиться в этой многообещающей среде – новом человеческом существе. Образцы кишечного микробиома младенца (большое удобство для анализа: они поставляются даже чаще, чем вам хотелось бы) различаются сильнее, чем у взрослых, как по составу, так и по функциональным генетическим модулям, благодаря которым взрослые больше походят друг на друга, чем результаты анализа их микробиома. По-видимому, существует целый ряд факторов, влияющих на то, как это происходит в отдельных семьях. Один из ключевых факторов – то, что человек может оказаться здесь неединственным суперорганизмом. Роб Найт, специалист по ДНК, руководит одной из лабораторий Колорадского университета. Заголовок статьи 2013 года, написанной сотрудниками лаборатории, сообщает почти всё, что вам нужно знать о соответствующих находках: «Совместно проживающие члены семьи делят микробиоту друг с другом и со своими собаками»[73]. Вероятно, сильнее всего перемешиваются при этом кожные микробы. Так или иначе, исследование, охватившее 60 семейств, 36 из которых держали собак, показало четкие различия между микробиомами любителей собак и микрофлорой всех остальных. Выяснилось, что кошки, при всей своей «ласкабельности», вносят меньший вклад в создание коммунального микробиома (по сравнению с микробиомом индивидуальным).
Среда и обстоятельства наверняка играют роль при формировании младенческого микробиома. Однако активный отбор может оказаться еще более значимым фактором. По данным ученых медицинского факультета Вашингтонского университета, опубликованным в 2014 году, есть основания предполагать, что все микробиомы младенцев, появившихся на свет преждевременно, развиваются во многом похоже. Ученые проследили за развитием 58 таких детей, начавших жизнь в палате интенсивной терапии, где незапланированные встречи с микробами крайне редки. То, как эти младенцы появлялись на свет, и то, как они питались, оказало лишь незначительное влияние на развитие их кишечного микробиома (а то и вовсе никак на него не повлияло), где «с хореографической четкостью сменяли друг друга бактериальные классы». Отмечались различия в скорости изменений, но не в самой их последовательности. К тридцать третьей – тридцать шестой неделе после зачатия все эти младенцы обладали весьма схожим составом микробного населения кишечника[74].
В любом случае, по мере того как ребенок ест больше твердой пищи и ее разнообразие увеличивается, и после того как младенца отнимают от груди (или прекращают искусственное вскармливание), все отличия, ставшие наследием родов или раннего периода кормления, постепенно сглаживаются. Микробиом трехлетних очень похож на микробиом взрослых с таким же рационом, живущих в такой же среде. К трем годам ребенок приобретает большое пестрое микробное население, состоящее преимущественно из Bacteroides и Firmicutes, хотя сохраняются в нем и некоторые Bifidobacteria. Чаще всего экосистема остается такой и в дальнейшем, если только ее не дестабилизирует какое-то из ряда вон выходящее событие.
По мере того как всё новые и новые исследования предоставляют нам «моментальные снимки» микробиома людей, наблюдаемых (поодиночке или коллективно) в течение долгого времени, мы всё лучше понимаем, какими могут быть эти события. Человеческий микробиом дает все возможности для самонаблюдения, требуется лишь упорство и самоотверженность. Особенно детальное исследование провели в лаборатории Эрика Алма (Массачусетский технологический институт). В эксперименте участвовали два человека, ежедневно отбиравших пробы своего стула и слюны. Кроме того, с помощью одного полезного приложения для айфона они прилежно фиксировали все, что в этот день съели и выпили, наряду с массой других значимых сведений – о работе, сне, физической активности, настроении, весе. Идея исследования состояла в том, чтобы, воспользовавшись доступностью процедуры ДНК-секвенирования, в ежедневном режиме отслеживать изменения микробной популяции.
В статье, вышедшей в середине 2014 года, имена этих людей не разглашаются: их называют просто субъектом А и субъектом В (эта сдержанная научная манера здесь очень уместна). «Изучение выборки добровольцев позволило нам остановиться на двух здоровых мужчинах, не связанных между собой родством», – скромно поясняют авторы[75]. На самом деле этими субъектами стали сам Алм и Лоуренс Дэвид (в момент начала исследования он выполнял в лаборатории дипломную работу). Так что эксперимент осуществлялся методом самонаблюдения. Могло получиться иначе, но когда впервые составили план, подразумевавший отбор пробы при каждом посещении туалета в течение года, «как ни странно, никто не вызвался стать участником такого эксперимента», признался Алм.
Результат – потрясающее (с экологической точки зрения) сочетание изменчивости и постоянства. Изучая образцы, вы всегда можете определить, где чей, хотя состав проб день ото дня варьируется. Общая картина – это картина стабильности.
Варьирование по дням связано, в частности, с питанием. Потребление необычно большого количества клетчатки приводило к быстрому увеличению содержания трех бактериальных видов (его можно зафиксировать примерно на следующий день), хотя в общей микробной популяции эти виды составляли сравнительно небольшую долю – приблизительно одну пятую. Потребление цитрусовых приводило к резкому росту содержания иной группы видов.
Благодаря счастливому стечению обстоятельств удалось выявить интересный факт. В середине года Дэвид провел два месяца в Бангкоке. Данные о содержании бактериальных видов четко показывают, что в его кишечнике, едва он прибыл в город, сразу же поселились некоторые бактерии, которых раньше не было. Они исчезли из кишечника ученого, только когда он вернулся в США.
Более драматическое событие отражено в микробной летописи никуда не выезжавшего коллеги Дэвида. Острое пищевое отравление при посещении ресторана стало не очень-то приятной демонстрацией скорости, с которой могут размножаться бактерии. Среднегодовое содержание Enterobacteriacaea (к которым относятся и «микробы пищевого отравления» Salmonella) в кишечнике у Алма равнялось 0,0004 %. Когда он отравился и стал страдать от диареи, эта величина возросла до 10 %, а затем достигла впечатляющего максимума 29 %. В то же время содержание Firmicutes у него резко сократилось. Когда Алм выздоровел, оно снова вернулось к его обычным 40 %, однако популяционная смесь штаммов, обитавших у него в толстой кишке, в этом новом стабильном состоянии отличалась от прежней. Большинство из видов, теперь изобиловавших в ней, в небольших количествах имелось у него до болезни, так что в основе нового состава популяции все-таки не было новоприбывших организмов. Это еще одно указание на то, что индивидуальный микробиом человека предпочитает поддерживать один и тот же состав микробов (хотя их количественное соотношение может меняться). Микробиом способен отлично справляться с видовыми заменами, если эти заменители делают примерно то же самое, что и бактерии, которых они вытеснили, и если под рукой имеются бактериальные ресурсы, способные быстро заполнить истощившуюся нишу в экосистеме.
Таким образом, это небольшое исследование демонстрирует нам картину своего рода эластичности (термин, который все чаще применяют при описании микробиомов здоровых людей). Два изученных индивидуальных микробиома отличались друг от друга, но проявляли стабильность. Удалось получить свидетельства микробной конкуренции в случае обоих наборов видов, причем численность близкородственных штаммов иногда резко и взаимозависимо менялась (у одного возрастала, у другого падала), а значит, есть основания предполагать, что соответствующий штамм получал какие-то конкурентные преимущества. Впрочем, такие незначительные ежедневные подвижки в экологии микробиома не очень влияли на общую картину.
Другие исследования (например, проводившееся лабораторией Джеффри Гордона в 2013 году) подтверждают, что состав кишечного микробиома стремится к относительной стабильности. Гордон и его коллеги изучали пробы, которые отбирались у троих взрослых на протяжении 5 лет. Судя по всему, у многих людей дело обстоит так: сложившись, взрослый кишечный микробиом не меняется (если его носитель здоров). Вероятность нарушения стабильности повышается не только при болезни, но и при старении. Как показывают исследования, пожилые люди, по-видимому, сильнее отличаются друг от друга по кишечному микробиому, чем молодые. У каждого отдельного пожилого человека, возможно, имеется менее разнообразное микробное население, чем то, которое обычно встречается в образцах, взятых у молодых или у людей среднего возраста[76]. Подробности таких изменений ученые продолжают выяснять, пытаясь разобраться во всевозможных особенностях, которые могут влиять на микробную биографию каждого отдельного человека. Так, пожилые люди в развитых странах нередко проживают в домах престарелых, где их диета отличается от той, что была у них прежде, и где они ежедневно принимают смесь различных лекарств. В ответ микробиом меняется вплоть до самой смерти своего носителя. А затем микробы изо всех сил стараются попасть куда-нибудь еще.
Впрочем, сначала они пожирают питательные вещества, которые вытекают из наших умирающих клеток. Это, между прочим, тоже можно изучать. Микробный ансамбль, обитающий на трупе, даже носит подобающее научное название: танатомикробиом. Как полагает Питер Нобл из Алабамского университета, изучение этого микробиома может пригодиться криминалистам – например, для оценки времени смерти[77]. Впрочем, к этому печальному моменту никакого суперорганизма уже не существует, так что самое время перейти к широкомасштабной истории микробиомов.
Эволюционируя вместе
За индивидуальной историей о том, что формирует кишечный микробиом каждого из нас, стоит куда более долгая эволюционная история, способная поведать, каким образом человек (как биологический вид) вообще стал уживаться со всеми этими микроскопическими видами. Новые технологии помогают собрать воедино разрозненные части этой головоломки, в частности, путем расщепления микробиомов многих других существ. Назовите человека суперорганизмом, и это звучное имя наполнит человека гордостью. Однако если оглянуться вокруг, тут же выяснится, что почти все прочие создания – тоже суперорганизмы. Всегда ли они являлись такими «суперами»? Может быть, они приобретали это качество постепенно?
Мы знаем, что бактерии появились на Земле примерно за 2 миллиарда лет до всех прочих организмов. Никто не оспаривает этого их эволюционного преимущества. Главный вопрос: как они участвовали в эволюции более сложных существ? Известно, что бактерии сыграли важнейшую роль при возникновении эукариот; не забудем, что бактерии – предки митохондрий. Но что произошло после того, как недавно появившиеся эукариоты стали всё шире распространяться в бактериальном мире?
Вероятно, поначалу эти отношения были просты и незамысловаты. Возьмем для примера часто встречающееся одноклеточное. У его клетки имеется ядро, а значит, это эукариота, как и мы с вами. Она имеет более или менее яйцевидную форму, а на одном конце у нее хвостик, точнее – одиночный подвижный кнутообразный жгутик. Вглядитесь, и вы увидите, что основание жгутика окружено воротничком из нескольких десятков микроворсинок.
С помощью жгутика эта тварь движется в воде, а воротничок жгутиковых захватывает всякие штуки, несомые течением, в том числе и бактерии. Затем клетка их поедает. Это воротничковый жгутиконосец (хоанофлагеллата) – одна из самых простых эукариот. Соответствующих окаменелостей, конечно, не сохранилось, но архив, содержащийся в его геноме, заставляет предположить, что это существо приобрело более или менее современную форму уже 800–900 миллионов лет назад. Данные ДНК указывают: создание, жившее тогда, могло стать общим предком для представителей двух эволюционных ветвей – современных хоанофлагеллат и первых животных.
Теперь ученые полагают, что эти существа уже тогда взаимодействовали с бактериями более тонким образом: относились к бактериям не только как к добыче. Один из видов нынешних хоанофлагеллат отвечает на определенный бактериальный сигнал образованием колоний. Значит ли это, что бактерии участвовали в возникновении первых многоклеточных? Одно можно утверждать с немалой долей уверенности: наши самые первые предки-животные уже умели регистрировать химические послания, посылаемые бактериями.
Впрочем, в этом вынуждает усомниться другое наблюдение. Колония хоанофлагеллат с виду очень похожа на губку. А морские губки – самые простые из сегодняшних многоклеточных – зачастую полны микробов-симбионтов, составляющих до трети их общей клеточной массы. Поскольку губки, как и хоанофлагеллаты, питаются бактериями, должна существовать некая система взаимного распознавания, которая позволяет некоторым бактериям спокойно жить вместе с клетками губки, не опасаясь за свою жизнь.
В этом может заключаться убедительное (хотя и косвенное) доказательство того, что бактерии теснейшим образом сосуществовали с многоклеточными уже с первого их появления. Биологи о таком почти не думали вплоть до 1980-х годов, когда эволюционные взаимоотношения начали проясняться благодаря работам Карла Вёзе по классификации бактерий. Разнообразие бактерий повсюду, выявляемое массовым ДНК-секвенированием, побудило исследователей обратить больше внимания на то, как микробы взаимодействуют со всеми прочими существами.
Важное значение исследования совместной эволюции бактерий и всех позже возникших видов следует просто из огромного диапазона изучаемых сегодня микробиомов. Тли, муравьи, бабочки, вши, дрозофилы – все они часто несут на себе бактерий-симбионтов, и мы уже понимаем некоторые из важнейших вещей, которые они проделывают для своих хозяев.
Вот один пример. Едва ли не самые необыкновенные межвидовые взаимосвязи демонстрируют муравьи-листорезы, собирающие зеленую массу в тропических лесах и использующие частично пережеванные листья для выращивания грибов, которые они затем употребляют в пищу, – достижение само по себе удивительное. Колония из миллионов муравьев способна ежегодно перерабатывать сотни килограммов растительной массы на своей подземной грибной ферме. В 2010 году исследователи показали, что расщеплять молекулы листьев муравьям помогает сообщество микробов, напоминающих тех, что обитают в коровьем рубце – «дополнительном желудке», где коровы – эти куда более крупные травоядные – переваривают зеленую массу. Таким образом, в ходе эволюции появилось два решения проблемы – извлечения питательных веществ из растительного материала. Коровы поддерживают существование микробиома, проделывающего эту работу внутри, муравьи же – существование микробиома, проделывающего ее снаружи[78].
В той же статье имеется ссылка на исследование бактерий, производящих антибиотики, у других видов, в том числе у насекомых, растений, кораллов, губок, улиток и птиц (у удода, если вам так уж хочется знать). Короче говоря, куда ни глянь, везде обнаружишь микробиомы, специально подогнанные так, чтобы мелкие организмы делали какую-то работу для более крупного. Аспект эволюции, именуемый «съешь – или тебя съедят», может приводить к разного рода странностям в отношениях между ними. У термитов существует в задней кишке необычно сложный для насекомых микробиом, где имеется смесь одноклеточных эукариот и бактерий. Микробы помогают термитам переваривать пищу, позволяя им питаться лишь древесиной. Такие внушительные существа, как броненосцы и трубкозубы (африканские муравьеды), обладают кишечными микробиомами, которые позволяют им есть покрытых хитином муравьев и термитов. В сущности, здесь идет битва микробиомов.
Расширившиеся представления о важной роли бактерий нашли отражение в программной статье, которую в 2013 году явила миру Маргарет Макфол-Нгаи из Висконсинского университета. Ее идеи об иммунной системе будут руководить нами на протяжении следующей главы. Макфол-Нгаи объединила две дюжины других влиятельных биологов для создания наброска своего рода боевого призыва к исследователям. Текст опубликован в Proceedings of the National Academy of Sciences под заголовком «Животные в мире бактерий».
В нем собраны результаты изысканий, посвященных главным образом животным, которые населяют Землю сегодня. Макфол-Нгаи и ее коллеги провели не один десяток лет, исследуя симбиоз между крошечным кальмаром и вибрионами, обитающими в люминесцентном органе, который расположен у него в полости тела. Такие взаимодействия, наблюдаемые в наши дни, способны дать много намеков касательно того, как дело обстояло в прошлом.
Неожиданное открытие, сделанное при изучении ее излюбленной модельной системы, может служить в этом смысле одним из самых показательных примеров. Речь идет о двух молекулах – липополисахариде (ЛПС), который сидит на внешней стороне вибриона, и пептидогликане, используемом этой бактерией для укрепления своих клеточных стенок. Мы знаем, что у крупных многоклеточных эти вещества способны активировать иммунную систему. Но Макфол-Нгаи обнаружила, что данный вибрион также применяет их, однако по совсем иному назначению. Их присутствие вызывает особого рода развитие тканей кальмара, которым предстоит приютить эти бактерии.
Далее выяснилось, что эти же разновидности молекул (не забудьте, они находятся на поверхности бактерий!) нужны для нормального развития пищеварительной системы у мышей. А значит, сигнальный путь, впервые возникший именно у бактерий, сохранился на протяжении большого отрезка эволюционного времени и в дальнейшем (как часто бывает) стал применяться для выполнения новых задач.
Макфол-Нгаи любит объединять чрезвычайно детальные исследования тонкостей устройства и функционирования одного организма с широкомасштабными рассуждениями об эволюции. В частности, она утверждает, что мы можем объединить ключевые стадии эволюции бактериально-эукариотических взаимоотношений, получив правдоподобный непрерывный сюжет этого важнейшего процесса.
Сюжет этот можно изложить так. Родословная всех сложных организмов начинается в океанах, где их предков окружали растворенные в воде органические вещества и постоянно присутствующая популяция бактерий – от сотни тысяч до миллиона бактерий на каждый миллилитр морской воды. Губка показывает, каким будет наиболее вероятный результат подобного сосуществования многоклеточного организма без тканей. Оно просто превратится в нечто кишащее бактериями.
Но как только многоклеточные превзошли по уровню организации губку, они обзавелись оболочкой. Если они живут в океане, для них вполне естественно стремиться к тому, чтобы втягивать в себя питательные вещества через своего рода живую стенку (прообраз нашей кожи), которая постепенно начинает всё больше походить на абсорбирующий клеточный слой, имеющийся у нас в кишечном эпителии, а также в других таких же местах. Другая функция оболочки – барьерная: такая преграда мешает бактериям пользоваться питательными веществами, которые наше новое многоклеточное старательно извлекает из морской воды и концентрирует для собственных нужд. Как заметила Макфол-Нгаи в одной беседе, «у них один и тот же фонд питательных веществ, но при этом они пытаются помешать этим мелким организмам распространяться по всему своему телу».
Несколько более высокоразвитое (по сравнению с губкой) существо – пресноводный полип Hydra, родич коралла, медузы и актинии. По своему устройству гидра довольно проста: это трубка с ртом на одном конце и «ногой»-якорем на другом. Трубка окружена двумя клеточными слоями. Внешний слой эпидермальный, а внутренний – своего рода кишечный эпителий. В нескольких миллиметрах тела гидры размещается желудок, а важное дело по абсорбированию питательных веществ теперь (по меньшей мере 500 миллионов лет назад) перенесено внутрь. Это создание представляет собой одну из первых моделей кишечника. У гидры уже имеется простенький микробиом. Более того, Томас Бош из Кильского университета и его коллеги показали, что различные виды современных гидр имеют существенно отличающиеся микробные популяции. Иными словами, полип сам выбирает, с каким бактериями ему жить. В ходе эволюции у него возникли мощные системы защиты против бактерий, которые ему не нравятся. Так, гидра способна вырабатывать антимикробные пептиды и ингибиторы ферментов. А микробы, к которым она относится терпимо (или даже поощряет их появление), оказываются с давних пор глубоко вплетены в жизнь этого миниатюрного создания. Гидры знамениты своей способностью к бесполому размножению – почкованию. Но если они не содержат обычную для себя микробиоту, эта способность пропадает. Введите в безмикробную гидру культуру из пищеварительной системы нормального экземпляра, и почкование снова станет возможным[79].
Выйдя на сушу, животные не имели другого выбора, кроме как перенять это устройство, сделанное по схеме «снаружи внутрь», когда ткани, поглощающие питательные вещества, располагаются внутри тела. Далее появилось множество вариантов пищеварительной системы, а у позвоночных – более сложный микробиом кишечника. Бросается в глаза разница между многоклеточными с относительно простыми личными микробиомами (взять хотя бы насекомых) и многоклеточными, которые обычно, подобно нам с вами, обладают гораздо более сложными микробными сообществами. Все позвоночные второй группы, начиная с рыб, обладают адаптивной иммунной системой в придачу к системе врожденного иммунитета, более простой и возникшей раньше. Как предполагает Макфол-Нгаи, адаптивная система с ее комплексом антител и многообразных лимфоцитов могла появиться для того, чтобы помогать организму нормально существовать со сложным микробиомом. Опять-таки здесь содержится указание на то, что иммунная система может стать ключом к пониманию того, как работает наш суперорганизм.
Между тем в ходе эволюции происходили и другие, менее сложные изменения, которые тоже могут являться частью коэволюции хозяина и его микробов. Стенка кишечника отделилась от тела. Это позволило кишкам свернуться внутри полости тела и стать длиннее. Травоядные благодаря этому получили возможность заглатывать больше пищи: на ее обработку уходит больше времени, но процесс удалось разбить на стадии, каждая из которых протекает в своем участке пищеварительной системы, где происходят свои химические процессы. Может быть, бактерии способствовали формированию такого пищеварения, воздействуя на трудноусвояемые молекулы пищи при их медленном прохождении от рта к анальному отверстию? Не исключено[80].
Еще один любопытный факт из этого манифеста: большинство бактерий, которые населяют кишечник птиц и млекопитающих, лучше развиваются при температуре примерно 40 °C. Возможно, так происходит потому, что эти теплокровные (так уж сложилось) живут и действуют при такой температуре и оказались гостеприимными хозяевами для бактерий, которым нравится жить при такой же. Впрочем, может статься, что все обстоит наоборот. Приспосабливая бактерий для того, чтобы помогать усваивать сложные углеводы, организм получал энергетические преимущества, а бактерии лучше выполняют такую работу, если их держать в тепле. Может быть, нам следует поблагодарить наши кишечные бактерии за то, что мы теплокровные!
Пока же давайте перескочим на несколько сотен миллионов лет вперед, к подобным нам существам, уже имеющим сложные кишечные микробиомы. Что бы там ни случилось на заре эволюции, мы видим: сложный микробиом кишечника роднит нас с другими приматами.
Ученые уже давно исследуют бактерии из образцов кала некоторых приматов – шимпанзе и горилл, бабуинов, колобусов (толстотелов, гверец), ревунов и других, содержащихся в неволе и живущих в дикой природе. Полученные результаты указывают на то, что они, подобно нам, во взрослом состоянии имеют видоспецифичные стабильные микробиомы. Возможно, это связано с их рационом (большинство из них потребляет много листьев, но преобладающие в рационе растения зачастую различны для разных обезьян) и с внешними факторами. Однако микробный отбор остается довольно специфичным для каждого вида: по составу микрофлоры можно идентифицировать, с каким видом приматов мы имеем дело. Так, у черных ревунов более разнообразная кишечная микрофлора, если они живут в тропическом влажном лесу, а не в менее богатом растительностью лиственном лесу умеренного пояса[81].
Человек произошел от той же эволюционной ветви, что и предки нынешних обезьян (человекообразных и других), но мы могли бы ожидать, что их кишечные микробиомы будут заметно отличаться от наших. Мы всеядны, мы уже примерно миллион лет используем огонь. Приготовление пиши с помощью высокой температуры позволяет начать обработку еды еще до того, как она попала вам в рот. Разработаны целые теории эволюции человека, в основе которых лежит представление о том, что приготовление пищи способствовало развитию у человека более крупного мозга, эффективно обеспечивая его высокоэнергетическим белком, а кроме того, сокращая время, которое требовалось представителям цивилизации охотников и собирателей для пережевывания своего обеда. Оставим эту интригующую гипотезу[82] в сторонке: так или иначе, уже само по себе приготовление пищи с помощью огня могло привести к тому, что у Homo erectus и всех его эволюционных последователей сложился иной микробиом кишечника.
Насколько иной? Мы не можем дотянуться до Homo erectus – нашего прямоходящего предка-проточеловека, жившего 800 тысяч лет назад, но одно уникальное ДНК-исследование позволило изучить микробный состав сохранившихся до наших дней копролитов – окаменелых остатков кала древнего человека.
Об анализе этих материалов сообщает в своей статье 2012 года Сесил Льюис из Оклахомского университета. Образцы получены с трех различных участков. Старейший образец взят из пещеры на юге США, где человек жил 8 тысяч лет назад. Другие имеют возраст от одной до двух тысяч лет. Откровенно говоря, двум из них оказалось трудно дать интерпретацию (не удивительно для столь старого материала). Но один из более молодых образцов, полученный с участка на севере Мексики, оказался по своему составу ближе к пробам кишечного биоматериала, взятым у деревенских детей современной Африки, чем к пробам американских горожан, предоставившим образцы для проекта «Микробиом человека»[83].
Такого рода сведения указывают на то, что микробиом человеческого кишечника менялся после появления Homo sapiens. Исследования развиваются по нескольким направлениям. Существует множество гипотез о том, как эти отступления от микробиома наших предков (первых людей) могли бы на нас влиять. Один из примеров – уже рассказанная мною история о том, как из большинства младенческих желудков исчезла C. difficile (впрочем, тогда я не назвал эту бактерию по имени). Высказывается и масса других, зачастую более спекулятивных идей о связях между измененными человеческими микробиомами и здоровьем. Но о какого рода изменениях идет речь?
Совершенно современный микробиом
Человеческий микробиом, предстающий сегодня просвещенному взгляду ученых, сложился не только под воздействием эволюционных нагрузок. Мы изобретательные создания и умеем модифицировать окружающую среду под собственные нужды. Это оказало влияние и на микробную часть суперорганизма (которую мы здесь и рассматриваем). Начнем хотя бы с наших пищевых пристрастий.
Известно, что баланс микробных популяций реагирует на ежедневное изменение рациона. Существуют убедительные свидетельства того, что аналогичное влияние оказывали и пищевые предпочтения человека, проявлявшиеся на протяжении куда более длительных периодов времени. В этом смысле дальше всего удается с уверенностью заглянуть в прошлое, изучая не окаменевшие фекалии, а останки зубов.
На теоретическом уровне мы знаем, что люди всегда сосуществовали с бактериями, но отыскать следы бактерий, живших на нас в прошлом, очень нелегко. После смерти своего носителя они обычно исчезают, ведь его мягкие ткани недолговечны.
Есть два исключения: окаменевшие фекалии и (вот была бы отрада для левенгуковского сердца!) сохранившийся до наших дней зубной налет.
На зубах легко образуются биопленки – сложные сообщества бактерий, в ходе совместных действий покрывающих поверхности, которые дают им удобный доступ к питательным веществам. Пленка, нарастающая на поверхности зуба, поначалу мягкая, но постепенно превращается в зубной камень. (Тут как с затвердевающим бетоном.) Оказывается, она может сохранять в себе не только частицы пищи, но и мертвые микроорганизмы или по крайней мере некоторые их молекулы, в том числе и ДНК.
Извлечь оттуда информацию не так-то просто. Анализ микробиомов живого – задача хитрая. Что же тогда говорить о работе с зубами покойников? Многие археологические образцы наверняка еще десятилетия назад прошли через руки исследователей, слыхом не слыхивавших о микробиоме, так что в них весьма вероятны загрязнения и примеси. К тому же количества извлекаемого из них зубного налета очень невелики. Но если вы проявите колоссальную тщательность, то все-таки сможете добыть достаточное количество бактериальной ДНК, чтобы провести анализ 16S рРНК.
Проделайте это с подходящим образцом, взятым у скелета древнего человека, и вы откроете окно в мир коэволюции людей и нашей микробиоты (в данном случае речь идет об оральных, а не о кишечных микробах). Подобный анализ позволяет выявить два крупных изменения. Первое (произошедшее, возможно, около десяти тысяч лет назад) совпадает по времени с зарождением сельского хозяйства. Второе (случившееся гораздо позже) знаменует собой приход эпохи кулинарной обработки пищи – обработки, которая закладывает основу рациона столь многих наших современников.
Международный коллектив ученых под руководством Кристины Адлер из Австралийского центра исследования древней ДНК сообщил в 2012 году, что удалось проанализировать образцы из 34 скелетов доисторического человека[84]. Одиннадцать скелетов принадлежали мужчинам, одиннадцать – женщинам, половую принадлежность остальных исследователи не сумели выяснить. («Скелет» в данном случае может означать и небольшие фрагменты, выкопанные после тысяч лет пребывания в земле.) В целом эти останки относятся к значительной части истории человечества – начиная от эпохи накануне аграрной революции (кости некоторых из последних представителей цивилизации охотников и собирателей на территории современной Польши; носители этих костей обитали здесь чуть меньше восьми тысяч лет назад) до Позднего Средневековья (периода, завершившегося за несколько столетий до нас).
Полученная картина в целом не очень-то отличается от картины бактериального населения наших сегодняшних оральных отверстий. Все пятнадцать основных групп видов, обнаруживаемые на зубах и деснах жителей XXI века, отлично устроились в человеческих ртах уже тысячи лет назад.
Однако детальная инвентаризация показывает два немаловажных различия по сравнению с эпохой наших предков. Изучение останков уже довольно давно продемонстрировало, что группы первых охотников и собирателей меньше страдали от зубных неурядиц (кариеса и пародонтита), чем их современники, занимавшиеся сельским хозяйством. Характер соответствующих микробиомов, выявляемый по биологическим «автографам», позволяет понять причину. В более поздних образцах появляются бактерии, наличие которых связывают с развитием кариеса (Veillonelaceae) и пародонтита (Porphyromonas gingivalis). Причиной их появления могло стать повышение доли углеводов в рационе, последовавшее в результате аграрной революции. Собственно разрушение зубов скорее всего происходило в сравнительно позднем возрасте, но эти неприятные бактерии обнаружились даже в образцах зубного налета самого юного ископаемого ребенка из исследованных: его возраст оценивается всего в три-четыре года.
Второй сдвиг случился на пути к современному оральному микробиому, где обычно содержится больше видов, вызывающих разрушение зубов, в особенности один, тесно связанный с возникновением кариеса – Streptococcus mutans. Это вполне согласуется с тем, что нам уже известно о человеческом рационе прошлого. Пищевые пристрастия в аграрных обществах оставались во многом неизменными вплоть до промышленной революции, когда в развитых странах начали потреблять более очищенное зерно и открыли для себя новый мир сладости благодаря «концентрированному» сахару, извлекаемому из сахарной свеклы и сахарного тростника. Очень вкусно, однако во рту остаются сахара, и бактерии могут при помощи ферментов превращать их в кислоты. Эти кислоты вырабатываются непосредственно в зубном налете, а значит, им легко проникнуть в находящийся под ним зуб, разъедая его, растворяя его минеральную матрицу и создавая дупло. Добро пожаловать в современный мир!
Этот сдвиг в сторону патологии совпадает по времени с уменьшением общего разнообразия микробной популяции рта. Пытаясь применить аналогию с уже известными фактами о более крупных экосистемах, ученые высказывают предположение, что такой сдвиг может делать микробиом сегодняшних сладкоежек менее «упругим» и более склонным к нарушениям, возникающим из-за несбалансированной диеты (специалисты не уточняют это понятие) или из-за вторжения более неприятных видов микроорганизмов.
Вот вам очередное описание великого грехопадения. Когда-то мы, счастливые и беспечные охотники и собиратели, обладали разнообразной по микробному составу, экологически надежной биопленкой, укрывавшей наши чудесные здоровые зубы. Теперь же мы познали грех (ну, или по крайней мере сахарную сладость) и наши рты несут печать зла.
Похожую историю можно поведать о кишечном микробиоме – отчасти благодаря довольно скудным уликам, добываемым из копролитов, отчасти же по отличиям в результатах обследования жителей разных регионов. Мы не можем в точности узнать, из чего состоял кишечный микробиом первого человека, но можем исследовать корреляцию различий в образе жизни наших современников.
По мере того как классификация ДНК микробных популяций применяется ко всё большему числу крупных групп людей, живущих в самых разных регионах, становятся очевидными значительные отличия между, скажем, американскими горожанами (обследованными в рамках проекта «Микробиом человека») и некоторыми другими группами.
Среди первых указаний на это – исследование 2010 года, сравнивавшее деревенских детей из Буркина-Фасо и их европейских сверстников[85]. Африканцы принадлежали к сообществу аграрного типа, в их рационе оказалось больше растительных белков, углеводов и клетчатки, чем у обследованных европейцев. Этому сопутствовало большее микробное разнообразие при (в целом) более низком содержании Bacteroides в кишечнике и более высоком количестве вырабатываемых короткоцепочечных насыщенных жирных кислот, дающих много энергии. Дальнейшее сравнение кишечных микробиомов детей и взрослых, живущих в США, Малави и сельской части Венесуэлы, дало довольно сходные результаты. Состав кишечной популяции американцев опять-таки выделялся на фоне микрофлоры прочих обследованных.
Продолжают публиковаться результаты более детализированных сравнительных исследований. Самое новое (на тот момент, когда я пишу это) – анализ микробиома народности хадза, живущей в Танзании[86]. Это одна из последних в мире групп традиционных охотников и собирателей. Она состоит из 200–300 человек, живущих почти так же, как (по нашим представлениям) жили все люди до появления оседлых аграрных обществ. У хадза около 90 % рациона по-прежнему составляет пища, добытая охотой или собирательством. Логично предположить, что их микробиом близок к «изначальному человеческому микробиому», если таковой вообще когда-либо существовал. Обнаружились вполне ожидаемые (с учетом недавних исследований) отличия между этой группой и контрольной группой (состоящей из итальянских горожан), участники которой придерживались рациона, считающегося по нынешним стандартам вполне здоровым – с большим количеством фруктов, овощей, оливкового масла и макарон, – однако при этом потребляли много сахара и легкоусвояемого крахмала. Помимо всего прочего, удалось выявить отличия микробиома хадза от уже изученных микробиомов жителей Буркина-Фасо и Малави, занимающихся сельским хозяйством. Как выяснилось, у охотников и собирателей народности хадза в кишечнике обильнее представлены бактерии, которые, по мнению ученых, способствуют усвоению значительных количеств волокнистых растений.
Сейчас под руководством Марии Домингес-Белло из Нью-Йоркс кого университета осуществляется исследование изолированно живущей группы амазонских охотников и собирателей. Возможно, результаты опубликуют к тому моменту, когда вы будете читать эти строки. По первым намекам ученых, им удалось выявить у амазонцев большее разнообразие кишечного микробиома по сравнению, скажем, с микробиомом типичного жителя техасского Хьюстона[87].
А значит, вполне вероятно, что мы одновременно сделали два крупных открытия. Первое: кишечный микробиом представляет собой особенно сложную, разнообразную по составу систему, играющую весьма важную роль в организме человека. Второе: под влиянием факторов современной жизни он менялся. Более широкие исследования человекообразных обезьян и других обезьяньих видов позволяют предположить, что у всех людей, вне зависимости от того, как и где они живут, менее разнообразный кишечный микробиом по сравнению со всеми нашими эволюционными родичами-приматами[88]. Что-то (увеличение доли мяса в рационе по мере того, как человек становился более искусным охотником? использование огня для приготовления этого мяса?) начало менять человеческий микробиом задолго до того, как современная цивилизация стала влиять на бактериальную жизнь в нашем кишечнике. Нам следует лучше разобраться в этом сдвиге, прежде чем вынести вердикт о недавних изменениях.
Впрочем, эти изменения тоже кажутся весьма значительными. Они совсем не сводятся к распространению кулинарной обработки пищи и нехватке клетчатки. Антибиотики спасают множество жизней, но резко сокращают население микробиома. Обычно микробиом затем восстанавливается, но повторное или регулярное применение таких препаратов, особенно для детей, имеет более долгосрочные последствия. Прибавьте к этому растущую во многих странах долю родов при помощи кесарева сечения (в современных США эта доля составляет треть), наше пристрастие к всевозможным дезинфектантам и чистящим средствам, да и вообще то, что многие люди в наши дни явно живут в микробной среде, очень отличающейся от той, в которой обитал человек на протяжении почти всей своей истории.
Всё это должно влиять на нашу микробиоту. В частности, наш кишечный микробиом, согласно общепринятому взгляду, в нынешнее время является, как правило, менее разнообразным и стабильным, чем прежде. Многие связывают с этим распространение широкого круга болезней и недугов. Мартин Блейзер предостерегает, что в конечном счете нас может ожидать «исчезновение микробиоты», что повлечет за собой «ужасающие последствия».
Возможно, это преувеличение, если говорить о микробиоте в целом. Она не может исчезнуть как таковая. Однако некоторые менее заметные достижения современной цивилизации явно привели к исчезновению некоторых обитателей нашего внутреннего зверинца. Так, по оценкам специалистов, еще сравнительно недавно, в 1940 году, 70 % детей, живущих в сельских районах США, были заражены крошечными червями-паразитами – гельминтами. Эти круглые черви по-прежнему весьма распространены во многих регионах мира, но на Западе они ныне редки.
Однако ясно, что микробиота всё же меняется. Нам необходимо понять, имеет ли это какое-то значение для нас. Есть искушение связать с этими изменениями заболевания и расстройства, которые, судя по всему, распространяются среди людей всё шире (скажем, с аллергиями или аутизмом). Впрочем, здесь нужно всё тщательно продумывать и не рассуждать на основе примитивного предположения, согласно которому «природное», «естественное» и «натуральное» всегда означает «хорошее». Нет оснований считать, будто измененный микробиом как таковой – обязательно такая уж плохая вещь. Если эволюцией нашего кишечного микробиома движет сила конкурентных преимуществ, которые наш организм получает, усваивая более обильную и разнообразную пищу, то возникает и дополнительное преимущество; невероятное разнообразие микробных генов делает наш микробиом чрезвычайно гибким, а высокая скорость размножения микробов позволяет им быстро адаптироваться к изменениям в нашем рационе. Легкость. с которой меняется состав микробной популяции, – одна из причин, по которым микробы вообще оказались у нас внутри.
Однако список проблем, связанных с изменениями микробиома (с причинами этих изменений и с их последствиями), все равно велик. (Я дам обзор некоторых из этих вопросов в главе 8.) Впрочем, осмысливать эти связи будет легче, если мы сначала рассмотрим их аспект, который я намеренно выпустил из нашего рассказа об индивидуальном и эволюционном развитии. Если вы читаете работы, посвященные исследованию наших личных микробов и практически всех человеческих заболеваний – от аллергии и депрессии до сердечно-сосудистых неполадок, – рано или поздно дискуссия выруливает на еще одну жизненно важную составляющую суперорганизма – иммунную систему. Если и существует ключ к пониманию того, что наш микробиом для нас делает (и чего ему сделать не удается), то он таится именно здесь. Но можем ли мы отыскать этот ключ?
Глава 7. Работая вместе
Специалист по клеточной биологии говорит иммунологу:
– Тут мой эксперимент показал, что содержание ИЛ-6 (интерлейкина-6, сигнальной молекулы) полезло вверх. Это плохо, да?
– Да, это плохо, – отвечает иммунолог.
Прошла неделя.
– Я изменил условия эксперимента. Теперь ИЛ-6 пошел вниз. Это ведь хорошо?
– Нет-нет, – невозмутимо отвечает иммунолог. – Это тоже плохо.
Сей научный анекдот, рассмешивший участников одной конференции по микробиомам, отражает устоявшиеся представления биологов, работающих в разных областях, друг о друге. Иммунологов считают неспособными доходчиво рассказывать всем остальным о результатах своих исследований. И даже если они попытаются это сделать, вам все равно непросто понять суть их открытий. Честно говоря, иммунологи сами не всегда их понимают.
Но иммунную систему нам никак не обойти. Человеческий микробиом взаимодействует с четырьмя главными информационными и контрольными системами организма – с геномом, с эндокринной системой (гормонами), с мозгом + нервной системой, а также с иммунной. Все они также взаимодействуют друг с другом. Вот почему исследование микробиома приводит к формированию новых междисциплинарных связей.
Перенос сигналов между микробиомом и иммунной системой – вероятно, самый сложный из всех подобных процессов. Он уходит корнями в глубины эволюционной истории. Вполне вероятно, что наш микробиом и наша иммунная система возникли (или приобрели именно такую форму) только благодаря друг другу. По мере того, как биологи разных направлений, работая сообща, выясняют, что это такое – быть суперорганизмом, меняются и наши представления об иммунной системе человека, подходы к ее изучению. Коммуникация (удачная или неудачная) с иммунной системой является не только ключевой составляющей обычных «дипломатических переговоров» микробиома со своим хозяином, но и частью почти всякого механизма, который, как предполагается, отвечает за связь микробиоты и заболеваний.
Масштабное переосмысление роли микробиома в иммунных механизмах начинается с отказа от идеи, которая стоит почти за всеми обывательскими разговорами о нашем иммунитете. Эта идея – еще одно наследие микробной теории.
Внутренняя война
Почти все знают об иммунной системе следующее. Сегодняшняя официальная медицина – это война с болезнями, и иммунная реакция – первая линия обороны, помогающая нам бороться с вторжением смертоносных микробов. Мир молекул и клеток становится полем битвы, где звучат сигналы тревоги, где враги ведут наступление, где проводится мобилизация, осуществляются операции «Найти и уничтожить», где можно встретить прирожденных убийц. В одной весьма расхваленной детской книге 1990-х годов говорится: «Мы расскажем вам подлинную историю о замечательных защитниках вашего тела, о героическом отряде клеток, помогающих вам сохранять здоровье и хорошую физическую форму благодаря тому, что они постоянно сражаются со всевозможными захватчиками-микробами. Каждую секунду, каждую минуту, каждый час, каждый день вашей жизни ведут они свой бой…»[89].
И это не просто распространенное заблуждение. В учебниках для медицинских вузов и даже в научных статьях иммунологов звучат те же идеи. Они являются столь основополагающими, что часто их принимают как должное, особенно не задумываясь. Упомянутый образ войны – фирменный знак иммунологии. А вот другая часто используемая базовая идея: иммунная система работает, проводя разграничение между клетками (или антигенами), маркированными как «свое» и «не свое». Что ж, это вполне укладывается в представление о неизбежном конфликте, ведь именно таким образом вы сумеете выяснить, с кем же, собственно, предстоит сражаться[90]. Антрополог Эмили Мартин, много общавшаяся с иммунологами в 1980-е годы, подметила: даже те, кому не очень-то по душе все эти военные метафоры, не представляют себе, как их избежать. Один из таких специалистов заключил: «В иммунной системе не происходит разумного диалога». Впрочем, его успокаивает мысль, что она «ведет справедливую войну»[91].
Деятельность иммунной системы во всей ее клеточной сложности дарит нам массу открытий, которые не совсем укладываются в такую схему. Однако предлагаемые ее замены пока не очень-то убедительны: вряд ли они будут работать лучше. В 1990-е годы на короткое время вошла в моду идея, согласно которой иммунный отклик провоцируется «ранением или оскорблением», которые наш организм регистрирует как сигнал опасности, но эта гипотеза не прижилась[92].
Теперь же довольно-таки внезапно ученые и медики стали воспринимать иммунную систему совсем иначе. Поговаривают о «парадигматическом сдвиге» или даже о «революции»[93] в научном мышлении. Вероятно, одной из причин такой революции стало наше осознание того, что в нашем теле и на нем постоянно присутствует гигантское число клеток, которые кажутся скорее «чужеродными», нежели «своими», однако мы вовсе не ведем с ними войну: напротив, пускаемся на всевозможные ухищрения, дабы заманить их к себе в качестве жильцов. И для иммунной системы они совсем не враги-захватчики. Но каковы же их отношения? Чтобы попытаться ответить на данный вопрос, нужно внимательнее вглядеться в то, как устроена иммунная система.
Краткий путеводитель по иммунной системе
Иммунные функции не выполняет какой-то один орган. В иммунную систему входят тимус и селезенка (довольно таинственные органы), костный мозг, лимфатические узлы и другое. Иммунная система не локализована в каком-то определенном месте. Чтобы выполнять свою работу, она должна быть представлена по всему организму. В крови, поте и слезах содержатся иммунные молекулы. Благодаря развитию микробиомной науки ученые обратили особое внимание на две другие зоны, весьма важные для иммунной деятельности: на кожу, а главное – на кишечник (который, вероятно, вообще является самым крупным иммунным органом, как ни странно это звучит).
Что же такое «деятельность иммунной системы»? Самый первый – и довольно беспомощный – ответ таков: эта деятельность включает в себя множество самых разных вещей. Иммунная система – штука древняя, как и бактерии. Мы уже знаем, что первые многоклеточные, формировавшиеся как отдельно действующие существа, постоянно находились в окружении одноклеточной жизни, а значит, им требовались способы распознавания того, какие из соседствующих с ними клеток входят в клуб избранных, а какие – нежелательные гости[94].
Столкнувшись с необходимостью проводить такое базовое разделение, наша иммунная система в процессе чрезвычайно долгой эволюции постепенно выработала целый ряд многочисленных механизмов идентификации, распознавания и отклика. Наша теперешняя версия иммунитета довольно-таки сложна. Причина такой сложности – отчасти в необходимости распознавать великое множество разновидностей чужеродного материала посредством рецепторов, форма которых приспособлена для работы с конкретной разновидностью чужаков. Впрочем, эту задачу природа решила с блистательной простотой, снабдив нас небольшим набором генов, управляющих формированием «гипервариабельных» фрагментов молекул-антител (и определяющих, какой будет структура этих фрагментов). Обмениваясь порциями ДНК, небольшое число генов способно создавать практически неограниченный диапазон белковых форм, соответствующих любой химической структуре, какая только может объявиться в организме. Так удалось решить проблему «генератора разнообразия» (термин «generator of diversity» давно существует в англоязычной литературе, иногда его даже сокращают до GOD)[95].
Не забудем также, что клетки разными путями следят за своим окружением, по-разному откликаются на сигналы (когда такой отклик необходим) и – это не менее важно – такие отклики тоже регулируются по-разному. Поэтому разобраться в механизмах работы иммунной системы не так-то просто.
Не будем брать полный перечень иммунных приспособлений, чтобы поговорить о том, как микробиом связан с иммунной системой: для такого списка потребовалась бы отдельная книга. Впрочем, полезно вкратце перечислить основные компоненты.
Весь этот ансамбль клеток, сигналов и откликов можно разделить на две большие категории. Система врожденного иммунитета – относительно простой аппарат распознавания и реакции, с которым мы появляемся на свет. Это наиболее древняя часть иммунного механизма, но ее открыли совсем недавно – в конце 1990-х годов. Она вырабатывает клетки, способные распознавать присутствие бактерий по характерным молекулам, находящимся на поверхности микроорганизмов. В числе подобных клеток – рецепторы, предназначенные для обнаружения таких молекул, как липополисахариды, располагающиеся на внешней мембране у некоторых бактерий. Иммунные клетки, обладающие рецепторами, обычно оснащены и для того, чтобы вырабатывать антимикробные вещества. Да, всё это напоминает оборонительную машину, о которой мы говорили выше. Обнаружить опасных захватчиков и уничтожить их! Подавляющее большинство многоклеточных наделено лишь таким иммунным аппаратом, и он, судя по всему, работает сравнительно неплохо. Любопытно, что у животных (за немногими исключениями, к которым относятся главным образом термиты) микробиом устроен просто.
За остальную часть нашего иммунитета отвечает другая ветвь – адаптивная иммунная система. В эволюционном смысле она появилась позже, однако в ней есть компоненты, которые биологи открыли за десятки лет до того, как наука узнала о существовании более древней иммунной системы. Адаптивная иммунная система реагирует на менее распространенные угрозы в основном благодаря тому, что в ней содержатся чрезвычайно многообразные клетки, вырабатывающие антитела; каждая из таких клеток начинает быстро размножаться, если ее уникальные антитела встречаются с ее уникальным соперником. У большинства клеток адаптивной системы такая встреча никогда не происходит, но те, кому она все-таки выпадет, в результате проходят через целую череду процессов развития, которые способствуют уничтожению соответствующего антигена и в будущем поддерживают повышенное содержание данного антитела – как своего рода «памятную записку». Вот почему работают вакцины: они готовят адаптивную иммунную систему к определенным опасностям, которые могут встретиться ей в будущем. Мы вкладываем немало ресурсов в построение этой системы иммунологической памяти и распознавания. Количество молекул иммуноглобулина в одном миллилитре нормальной крови в 1000 раз выше, чем число человеческих клеток во всем организме (10 квадриллионов и 10 триллионов соответственно)[96]. Обе ветви иммунитета – система врожденного иммунитета и адаптивная иммунная система – управляют целой армией клеток многочисленных типов.
Во многих тканях имеются клетки-часовые. Они обслуживают главным образом систему врожденного иммунитета. В их число входят дендритные клетки, макрофаги и лаброциты.
Существуют так называемые циркулирующие клетки: они присутствуют в лимфе и крови, а при обострении положения – и в самых разных межклеточных областях. Среди них особое внимание следует обратить на лимфоциты – основу адаптивной иммунной системы. Они способны распознавать определенные антигены («химические формы»), а значит, зачастую могут ощущать присутствие определенного микроорганизма.
Огромное многообразие типов лимфоцитов соответствует многообразию их ролей. Всё начинается просто – с набора широко распространенных клеток костного мозга, от которых происходят все разновидности белых кровяных телец, в том числе и лимфоциты. Лимфоциты представлены двумя основными популяциями. Одни в ходе своего развития остаются в костном мозге, а затем начинают вырабатывать специфичные антитела. Это так называемые В-лимфоциты[97]. Другой тип – Т-лимфоциты, названные так потому, что они мигрируют в тимус, где и заканчивают свое созревание. Тимус – своего рода колледж для незрелых Т-лимфоцитов. При выпуске они становятся либо эффекторными Т-лимфоцитами, прямо или косвенно атакующими зараженные клетки, либо регуляторными Т-лимфоцитами, которые, как и подсказывает их название, влияют на функционирование всех прочих компонентов иммунной системы. Опять-таки здесь можно выделить множество разных типов. На поверхности лимфоцита могут быть сотни или даже тысячи разновидностей рецепторов; обычно Т-лимфоциты именуются по наличию одного или нескольких важных рецепторов (или, со знаком минус, по их отсутствию).
Среди других важнейших категорий – двойные отрицательные и двойные положительные клетки. Первые – незрелые тимоциты, которым на ранней стадии своего развития не удается экспрессировать два немаловажных клеточных маркера – CD4 и СВ8 (отсюда термин «двойные отрицательные»). Более зрелые тимоциты, начавшие выработку и CD4, и CD8, называются (что вполне логично) двойными положительными. Когда эти клетки становятся действующими (в полной мере) агентами иммунной системы, они вырабатывают либо CD8 (зрелые клетки-киллеры), либо CD4 (клетки-хелперы, организующие иммунный отклик).
Можно погрузиться в дальнейшие подробности, но нам это пока не нужно.
Все эти разнообразные типы клеток образуют сложную сеть передачи сигнала. Так, дендритные клетки выделяют сигнальные молекулы под названием цитокины, когда ощущают присутствие инфекционного агента или фрагментов поврежденной ткани. Цитокины воздействуют на близлежащие клетки и кровеносные сосуды, сзывая на помощь другие иммунные клетки, которые затем и аккумулируются на участке, вызвавшем тревогу. Стенки кровеносных сосудов и эпителиальные слои ослабляют межклеточные соединения, которые обычно запечатывают просветы между клетками, тем самым позволяя жидкости протекать через этот барьер, принося с собой другие иммунные компоненты (скажем, антитела). Всё вместе это приводит к воспалению.
Таков основной из замечаемых нами эффектов иммунного отклика. Вот почему зараженный палец, который вы укололи, занимаясь садовыми работами, распухает, краснеет и заметно мягчает (всё это хорошо). Боль, которую вы при этом чувствуете, вызвана не самой инфекцией, а воспалением. Вот почему тот же палец краснеет, распухает и мягчает в случае обморожения первой степени (это уже не очень-то хорошо, но такие случаи все-таки относительно редки). В каких-то обстоятельствах воспаление приносит нам даже некоторое утешение, но в каких-то оно лишь досаждает нам. Соответственно, в организме существует тончайшая система сдержек и противовесов, призванная гарантировать, чтобы воспалительная реакция возникала лишь тогда, когда она приносит пользу. Некоторое представление о сложности системы дает хотя бы тот факт, что у человека обнаружено около 50 разновидностей цитокинов. Большинство иммунных клеток, а также клеток многих других типов реагируют на присутствие более чем одного типа цитокинов. Некоторые цитокины пробуждают иммунные клетки, другие же подают им сигналы продолжать нести вахту (как бы служа своего рода посредниками, направляющими действия других компонентов системы), так что окончательный результат зачастую оказывается весьма тонко сбалансированным. Иммунные клетки, выполняющие свою работу не на том месте, становятся причиной многих проблем, от которых страдают многоклеточные организмы.
Даже упрощенные представления об иммунной системе вызывают кое-какие сомнения в правомочности рассуждений о «клеточных войнах». На первый взгляд адаптивная иммунная система может показаться полезным дополнением к вооруженным силам организма. Клетки, вырабатывающие антитела, специфичные к новым чужеродным молекулам, улучшают точность обнаружения противника и разведывательные возможности оборонительных подразделений, а также точность наведения химического и клеточного оружия на нужные цели.
Однако вглядитесь в происходящее более пристально и окажется, что метафора воинской операции здесь не очень-то применима. Накапливаются вопросы, на которые пока нет ответа. Почему, например, человеческий иммуноглобулин А прикрепляется к поверхностным молекулам некоторых кишечных бактерий так, чтобы облегчать им сцепление с кишечной стенкой, а значит, образование биопленок?[98] Как и почему адаптивная иммунная система дополнила собой более древнюю систему – врожденного иммунитета? Почему существует так много типов клеток, которые, по-видимому, все посылают друг другу сигналы, зачастую направленные на достижение явно противоположных эффектов? Всякий студент-медик, тонущий в море деталей, спрашивает: почему наша иммунная система такая сложная и запутанная?
Ответ: из-за необходимости жить в непосредственной близости от гигантского ансамбля всевозможных микроорганизмов. Во всяком случае, так отвечают большинство ученых. Они хотят коренным образом изменить наш подход к иммунной системе, чтобы получить новые сведения о том, как мы обращаемся к своей микробиоте и как она отвечает нам.
Дипломатические отношения
Если вам требуется оборонительная система для борьбы с патогенами, то система врожденного иммунитета вполне годится для этих целей. Но если мы обратим это утверждение в вопрос (Достаточно ли системы врожденного иммунитета для борьбы с патогенами?), нам придется разбираться в том, как у позвоночных возникла куда более сложная иммунная система – адаптивная. Сейчас этой проблемой занимаются многие ученые. Почему появился гораздо более изощренный аппарат иммунитета, ныне приносящий нам столько пользы? Новый ответ на этот вопрос впервые дает в краткой статье, опубликованной журналом Nature в 2007 году, даже не иммунолог, а специалист по бактериальной системе кальмара, долгое время пристально ее изучавший (см. предыдущую главу). Речь идет о Маргарет Макфол-Нгаи[99].
Ее не удовлетворяли существующие версии, обычно подгонявшиеся к конкретным случаям. Позвоночные с их адаптивной иммунной системой (впервые она появилась у рыб) часто вырастают до значительных размеров, отличаются большой продолжительностью жизни и могут выращивать единственного детеныша. Как полагали некоторые специалисты, все эти особенности требуют более эффективных методов защиты против других организмов. Вероятно, потому-то и возникла дорогостоящая и сложно устроенная адаптивная иммунная система с ее огромной клеточной памятью. Однако, указывает Макфол-Нгаи, некоторые беспозвоночные тоже живут долго, вырастают до крупных размеров и дают лишь по одному потомку ежегодно, тем не менее преспокойно обходятся без этого нового иммунного оружия.
Она предположила, что появление адаптивной иммунной системы может объясняться чем-то еще. Если сравнить симбиотические отношения, существующие у всех животных с их микробными сообществами, можно выявить довольно четкую закономерность. Беспозвоночные обычно налаживают плодотворное взаимодействие лишь с малым количеством видов микробов, а часто и вообще только с одним видом. В сравнительно немногочисленных случаях (скажем, у насекомых чуть больше чем для одного вида из десяти) микробы живут внутри клеток организма-хозяина. Такая внутриклеточная экологическая ниша позволяет микробам оставаться невидимыми для системы врожденного иммунитета. Другие микробы (к примеру, находимые в кишечнике беспозвоночных) обычно являются просто случайными прохожими. Лишь у позвоночных мы, как правило, обнаруживаем столь большое количество микробов, работающих на взаимовыгодной основе в рамках ансамблей видов (такие ансамбли часто называют консорциумами). Это – яркое свидетельство того, что они эволюционировали совместно со своими хозяевами и стали постоянными их жильцами.
Излагая свою гипотезу, Макфол-Нгаи замечает: «На эволюцию иммунной системы позвоночных, по-видимому, существенно влияет необходимость поддерживать значительную резидентную микробиоту». Поначалу это предположение мало кто принял. Макфол-Нгаи вспоминает, что иммунологи встретили ее статью негодованием и возмущением. Теперь же она с некоторым удовлетворением отмечает, что целый ряд ученых, работающих в этой сфере, стали развивать ее идею. Макфол-Нгаи понимает, отчего ее предположение сначала встретили в штыки. Дело в том, что сама она не иммунолог. «А специалисты по биологии клетки обычно не очень-то обращают внимание на эволюционную биологию или видовое разнообразие животных». Тем не менее «у них не нашлось правдоподобного объяснения, как могла эволюционировать такая система, по запутанности напоминающая машину Руба Голдберга»[100]. Понять, что она имеет в виду, можно по другому ее оригинальному объяснению, касавшемуся появления первой адаптивной иммунной системы при развитии челюстей у хрящевых рыб. По мнению некоторых иммунологов, обретение челюстей означало, что такие рыбы могли жевать более твердую пищу, а та могла с большей вероятностью повреждать стенку кишечника, увеличивая риск инфекции. По сравнению с таким рассуждением, нарочно подгоняемым к конкретному случаю, гипотеза Макфол-Нгаи выглядит куда привлекательнее. Она утверждает: «Идея управления микробными консорциумами имеет куда больше смысла, чем любая другая теория в этой области».
Согласно этой активно разрабатываемой новой гипотезе изощренная система распознавания антител и вся соответствующая сеть регуляторных клеток и химических сигналов возникла лишь для того, чтобы предоставить организму более широкую свободу выбора касательно того, что не атаковать. По отдельности система врожденного иммунитета работает для организма, чья позиция всегда – твердое «нет», добавляет Макфол-Нгаи. Однако существо, где обитает большой набор других организмов, в определенном смысле представляющих собой «не свое», явно нуждается в применении более тонкого и избирательного подхода.
Среди разделяющих эти воззрения – Саркис Мазманян из Калифорнийского технологического института, углубляющийся в тонкости иммунных взаимодействий у безмикробных мышей, которым подселена микробиота определенного состава. Он и его коллега Юн Ли утверждают, что микробы, обитающие в нашем организме всю нашу жизнь, оказали более мощное влияние на эволюцию адаптивной иммунной системы, чем мимолетные встречи с болезнетворными микроорганизмами, раньше казавшимися нам главными игроками на этом поле. Ученые добавляют еще один смелый поворот: «Возможно, симбиотические микробы влияли на особенности эволюции и функционирования адаптивной иммунной системы более глубоко, чем патогены, – по-видимому, чтобы защищать и хозяина, и его микробиоту от вторгающихся инфекций»[101] (курсив мой).
Согласно такому подходу адаптивная иммунная система эволюционировала совместно с микробиомом, населенным куда плотнее. Так достигается и поддерживается тонкое динамическое равновесие. Микробам позволяют оставаться в организме-хозяине, поскольку они приносят ему пользу, однако их всё же следует держать в узде. Они должны находиться в нужном месте, им не разрешают плодиться где-либо еще. А потенциально опасные микроорганизмы все равно надо уничтожать. С другой стороны, хотя за микробами нужно следить, иммунной системе тоже не надо давать особой воли: она не должна чересчур сильно реагировать на присутствие разнообразных микроорганизмов. Если в этой части иммунного уравнения что-то пойдет не так, возникает долгое ненужное воспаление, а скорее всего – болезнь.
По ту сторону дуализма
Как лучше всего – сжато и ярко – изложить эти новые представления об иммунной системе? Стивен Хендрик из Калифорнийского университета в Сан-Диего описывает гипотезу Маргарет Макфол-Нгаи так: «Иммунная система действует, как охранник в клубе, приподнимая бархатную полосу для полезных бактерий, но давая от ворот поворот их менее желательным собратьям». Другие иммунологи уже предложили более детальные версии, и каждый норовит украсить свое описание собственными метафорами, лишь бы заполнить брешь, оставшуюся на месте всех этих разговоров о войне против захватчиков; таких разговоров теперь многие ученые стараются избегать. Свой взгляд на картину в целом предложил Жерар Эберл, сотрудник Института Пастера. Он делит историю развития теорий иммунной системы на три этапа. По его мнению, наше теперешнее (более детальное, чем прежде) понимание взаимодействия микробов с организмом-хозяином означает, что нам следует отказаться от примитивных концепций того, что является патогеном, как и от однобокого представления об иммунитете.
Эберл показывает, как нужно модифицировать изначальную идею о том, что адаптивная иммунная система призвана проводить разграничение между «своим» и «не своим» (Я и не-Я). Слишком уж много примеров чужеродных агентов, которые не вызывают иммунного отклика. Полезнее, считает ученый, рассматривать иммунную систему как реагирующую главным образом на по-настоящему опасные сигналы (как и полагали еще в 1990-х годах). Можно по-прежнему считать, что она толерантна по отношению к «своим», но теперь в понятие «свои» входят, например, микробы, которые приносят пользу организму-хозяину.
Однако, по мнению Эберла, такое рассуждение заходит недостаточно далеко. В сущности, пока это по-прежнему дуалистическая теория, где всё вращается вокруг суждений о добре и зле. «Добро – это нормальное „свое“ и микробы, которые находятся с ним во взаимовыгодном сотрудничестве, тогда как зло – это измененное „свое“: к примеру, погибшие клетки, которые распространяют опасные сигналы, или патогенные микробы, которые меняют антигенный ландшафт нормального „своего“».[102]
Однако возникает большая проблема: все подробности механизмов клеточного отклика трудно объединить в такую схему. Придерживаясь дуалистической концепции, мы волей-неволей вынуждены изобрести два класса воспалений. Должен существовать нормальный уровень воспаления (физиологический или гомеостатический), который помогает системе сохранять стабильность – например, способствуя тому, чтобы компоненты кишечной микробиоты оставались там, где следует, а не разбредались куда попало. Повреждение тканей или присутствие патогенов запускают более острую реакцию, приводя к «полномасштабному» воспалению; это знакомая нам краткосрочная реакция на возникшую проблему.
Но такое объяснение не очень-то применимо к тому, что мы реально видим, настаивает Эберл. Дуальности нет, а есть непрерывность. Подобно литературному критику или культурологу, он описывает клеточный мир как систему, где всё зависит от контекста. В иммунной системе, рассматриваемой как континуум, «микробы находят путь среди оттенков добра и зла». Конкретный оттенок определяется взаимодействием с организмом-хозяином и может меняться в зависимости от хозяина, ткани, времени. Иммунная система формирует микробную среду, которая позволяет организму сосуществовать с микробами. Речь не идет о борьбе добра и зла; «это скорее равновесие между микробами и хозяином, как раз и создающее суперорганизм».
Этот суперорганизм живет в состоянии динамического равновесия. Организм, который, подобно нам с вами, сосуществует с постоянно обновляющейся популяцией микробов, должен поддерживать баланс между гостеприимством и враждебностью. На этот баланс могут влиять различные факторы среды: поступающие в систему химические вещества, пища, микробы. Могут смещать его и изменения в организме-хозяине, вызванные в свою очередь мутацией, повреждением или другими типами стрессовых воздействий. Организмам, сталкивающимся с этой проблемой, требовалось выработать в процессе эволюции определенную систему, которая (в нормальном состоянии) будет, как правило, реагировать на изменения так, чтобы в системе сохранялось равновесие. «Наша иммунная система идеально приспособлена для выполнений такой функции», – подчеркивает Эберл.
Для описания динамического аспекта описываемых процессов он прибегает к метафоре из области механики. «Иммунная система суперорганизма никогда не находится в состоянии покоя. Это как с пружиной: чем больше микробов колонизируют экологические ниши организма-хозяина или ведут себя, как патогены, тем сильнее они сжимают пружину иммунитета и тем сильнее пружина иммунитета стремится вернуть микробы в прежнее состояние. У безмикробных животных иммунная пружина близка к состоянию покоя, но у животных, выросших в нормальном микробном мире, она всегда находится под нагрузкой. Это напряжение необходимо для поддержания гомеостаза».
Расскажу об одной серии экспериментов, которая дала результаты, показывающие, как иммунная система помогает формировать ниши, занимаемые микробами. Если вы накачаете мышей (или людей) антибиотиками, уничтожающими почти всю богатую микробную жизнь в кишечнике, для таких мышей (или людей) возникнет очень большой риск заражения устойчивым к действию антибиотиков штаммом Enterococcus – обычного кишечного жителя, иногда любящего пошалить. При нормальных условиях в подобной ситуации другие организмы, живущие в кишечнике, начали бы посылать сигналы, побуждающие эпителиальные клетки, которыми устлана внутренняя поверхность кишечника, выделять антимикробные пептиды, сдерживающие рост популяции Enterococcus. Эксперименты показали, что восстановить внутреннее производство антимикробных агентов у мышей можно, просто вводя им липополисахарид – вещество, молекулы которого находятся на поверхности клеток тех бактерий, которых у безмикробных мышей нет[103]. Липополисахарид идентифицируется рецептором клеток организма-хозяина, входящих в состав системы врожденного иммунитета, после чего клетки начинают вырабатывать нужные антимикробные пептиды. По выражению Эберла, симбиотическая микробиота «дергает иммунитет за ниточки». Ниточки ли, пружины ли приводят иммунную систему в действие – суть гипотезы от этого не меняется: антимикробные вещества помогают формировать в кишечнике экологическую нишу, которая позволяет бактериям-симбионтам процветать, однако токсична для потенциальных патогенов, вроде устойчивого к антибиотикам Enterococcus.
Развитие чувства равновесия
Поддержку для этой новой картины иммунной системы можно найти в целом ряде других экспериментов, проливающих свет на то, как общаются друг с другом микробиота и наши собственные клетки. Выясняется, что взаимоотношения между микробными сообществами и иммунной системой не ограничиваются коэволюцией. В каждом отдельном человеке они созревают вместе, при этом влияя друг на друга. Для понимания механизмов поддержания нашего здоровья важно осознать, что существуют ключевые периоды, когда некоторые из наших любимых микробов попросту необходимы для того, чтобы побудить иммунную систему к нормальному развитию. Но прежде чем посмотреть, как это происходит, давайте вспомним кое-какие подробности насчет главного вместилища микробов, которые сосуществуют с млекопитающими. Речь идет, конечно же, о кишечнике.
Как я уже писал в главе 5, кишечник должен одновременно отвечать двум противоречащим друг другу требованиям. Он абсорбирует питательные вещества и другие малые молекулы при помощи своего эпителия, имеющего огромную общую площадь поверхности. При этом он стремится поддерживать существование триллионов микробов, обитающих в толстой кишке и помогающих удовлетворять потребности наших клеток в этих молекулах, но ему нужно каким-то образом не пускать их в остальные области тела.
Это достигается путем своеобразного сочетания откровенных и недвусмысленных барьеров с более тонкими действиями иммунной системы. Сами по себе эти барьеры довольно эффективны. Эпителиальные клетки представляют собой плотно уложенный слой (о клеточных контактах в нем мы уже упоминали). А внешняя поверхность кишечника покрыта слизью, и ее слой делается всё внушительнее по мере спуска в толстую кишку. Специализированные клетки эпителия выделяют особые белки – муцины. Это белки снабжаются молекулами сложных углеводов и образуют водянистый слой, прилипающий к поверхности эпителия. Собственно, там есть два слоя, причем каждый со своей сложной структурой, в которой мы пока еще до конца не разобрались. По крайней мере, нам известно, что внутренний слой обычно лишен микробов.
Наряду с клетками, вырабатывающими слизь, кишечник наделен иммунными клетками, которые также вносят значительнейший вклад в формирование среды, где проживает кишечный микробиом. Как я уже отмечал, кишечник – самый крупный из иммунных органов. По-видимому, в нем содержится около 70 % всех иммунных клеток нашего организма. Эти клетки располагаются в эпителии и под ним, образуя большие комплексы, удобно названные ассоциированной с кишечником лимфоидной тканью (АКЛТ, или GALT – gut-associated lymphoid tissue). Разнообразие этих клеток весьма велико, но давайте не будем на нем останавливаться. Сейчас для нас важно то, что между этими иммунными клетками и микробами, проживающими вне эпителия, постоянно идет поток сигналов, причем в обоих направлениях. Основная часть этого потока приходится на сигналы, которыми обмениваются иммунные клетки и непатогенные бактерии.
Некоторых из таких посланий можно вычленить в ходе экспериментов на безмикробных мышах, варьируя разновидности микробов, с которыми им дозволено встречаться, и разновидности генов, которые экспрессируются их собственными клетками, или то и другое. Результаты все-таки зависят от особенностей конкретного живого существа. Но тщательно продуманные и тщательно проведенные эксперименты проливают кое-какой свет на связи, существующие в коммуникационных клеточных сетях кишечника.
Вот первое серьезное открытие, которое удалось сделать организаторам эксперимента: если мыши остаются безмикробными, они вырастают с неполноценной иммунной системой кишечника. Все составляющие АКЛТ, в том числе лимфатические узлы и специализированные комплексы иммунных клеток, остаются недоразвитыми; организм мыши вырабатывает значительно меньше цитокинов (служащих, как мы уже знаем, для передачи сигналов между клетками), образует меньше лимфоцитов, чем обычно, и выбрасывает в систему меньше иммуноглобулина. Аппарат для разговоров с микробами-колонистами молчит, поскольку незрелый кишечник считает, что беседовать попросту не с кем.
Если безмикробному мышонку привить нормальную мышиную микробиоту, то его иммунная функция может восстановиться. Что еще удивительнее, использование микробов человеческого (или даже крысиного) кишечника в таком случае не срабатывает. Оказывается, эффект здесь видоспецифичен. Бывает, что иммунную функцию восстанавливает один-единственный вид микробов. Впрочем, общий эффект не сводится к действию какого-то одноразового триггера, запускающего иммунное развитие. Какая-то иммунная активность есть всегда, и контрольные сигналы постоянно распространяются по всей системе. Пока кишечник не колонизирован, иммунные отклики могут приглушаться (по большей части регуляторными сигналами), что поощряет развитие микробиоты без воспаления эпителия. Бактерии-колонисты затем, в частности, провоцируют координированную выработку большого количества слизи, антибактериальных пептидов, иммуноглобулина и иммунных клеток в коллективе, именуемом «слизистой защитной перегородкой». Микробы обеспечивают мирное сосуществование, создавая условия, гарантирующие сдерживание их собственной экспансии.
А когда кишечник уже полон микробов, их пробы постоянно берут специализированные клетки нашего организма. Некоторые микробы все-таки просачиваются сквозь эпителиальную стенку, но большинство отслеживается белыми кровяными тельцами. (Мы уже встречались с ними, они называются дендритными клетками.) Главным образом они сосредоточены в куполообразных структурах, именуемых пейеровыми бляшками; это своего рода депо для иммунных клеток, и такие депо рассеяны по всему эпителию кишечника. Дендритные клетки – стражи активные. Они умеют ощупывать окружающее пространство тонким отростком, протягивая его сквозь эпителий и слизистый слой (над бляшкой эти слои тоньше) и захватывая кусок другой клетки. Затем они приносят свою добычу (антиген, а иногда и целую бактериальную клетку) обратно в бляшку и предоставляют ее на рассмотрение созревающим лимфоцитам. В результате некоторые из них развиваются в регуляторные Т-лимфоциты, что вносит большой вклад в установление определенного уровня иммунной активности.
Помимо всего прочего, существование таких внутриклеточных механизмов служит подтверждением недавно возникших идей о предназначении аппендикса – этого странного мешка, торчащего из нашего толстого кишечника. У нас аппендикс меньше, чем у других млекопитающих. Долгое время этот орган человека считали эволюционным атавизмом. Хирурги частенько вырезали его не только в случаях, когда он инфицировался при остром аппендиците, но и для профилактики при кишечных операциях, осуществляемых по другими причинам, или же чтобы пациент в будущем избежал проблем.
Однако, как заявляет Билл Паркер из Университета Дьюка, обычно аппендикс полон нормальных кишечных бактерий и может служить резервуаром для полезных видов. Он вступает в игру, когда численность бактериального населения остальных частей кишечника резко снижается при болезни. По мнению Паркера, аппендикс мог бы «перезагружать» кишечник после дизентерии[104].
Возможно, и так. Но аппендикс может обладать и другой функцией. Он хорошо обеспечен иммунными клетками, а значит, является одним из ключевых участков, где суперорганизм определяет, какие бактерии желанны для кишечного сообщества, а какие – нет[105].
Ученые постепенно распутывают мешанину перекрывающихся друг с другом сигнальных сетей кишечника и других тканей, где иммунная система оказывается лицом к лицу с микробиомом. Процесс распутывания идет медленно. Многие клетки должны одновременно получать самые разнообразные подсказки от целого набора рецепторов и каким-то образом собирать воедино получаемую информацию, так что активность отдельной иммунной клетки зависит от состояния набора различных рецепторов на ее поверхности. Чем-то это напоминает то, как нейрон в мозгу «решает» активироваться в зависимости от баланса сигналов, которые поступают через активирующие и ингибирующие синапсы от других нейронов той же группы, только первичные сигналы в иммунной системе химические, а не электрические.
Некоторые обнаруживаемые взаимодействия довольно своеобразны. Одна из немаловажных разновидностей лимфоцитов – Т-хелперы-17 – побуждается к развитию в кишечнике (во всяком случае, у мышей) так называемыми нитчатыми сегментированными бактериями, способными прикрепляться к слизистым поверхностям. Впрочем, нет, и не может быть, уверенности, что это совершенно специфичный эффект. Другие разновидности этих бактерий наверняка делают какие-то другие вещи, также влияющие на иммунную систему. Какие-то иные бактерии могут оказывать такое же влияние на этот вид Т-лимфоцитов, а следовательно, и на выработку ими немаловажного цитокина, способствующего воспалению. Но пока это кажется маловероятным. Кропотливая проверка сложных микробных смесей на безмикробных мышах показывает, что данный эффект возникает лишь в присутствии этой разновидности бактерий[106].
У здоровых людей общий результат множества таких взаимодействий (после того как в организме сложился стабильный микробиом) можно назвать проявлением «эффекта Златовласки»[107]. Иммунная система остается активной, но при этом не должна проявлять слишком уж большую бдительность, чтобы не стать гиперчувствительной. Воспаление должно быть не слишком сильным и не слишком слабым, а как раз достаточным. Такое сбалансированное состояние иммунологи называют гомеостазом, позаимствовав этот термин у физиологов, описывающих с его помощью саморегулирующиеся системы в тканях и клетках. Каким-то образом иммунная система ухитряется сортировать сигналы, указывающие на присутствие молекул пищи, полезных бактерий, патогенов, клеток нашего собственного тела, и реагировать соответственно. Картина таких откликов определяется и нашими генами, и первыми взаимодействиями с первыми микроскопическими поселенцами. Всю историю мы пока не знаем, но самая правдоподобная гипотеза – что эти взаимодействия имеют долгосрочный эффект отчасти благодаря ферментам, которые приводят к изменению важнейших иммунных клеток эпигенетическим путем, то есть добавлением химических групп к их ДНК (или удалением химических групп из ДНК), что позволяет включать или выключать определенные гены.
Огрехи просвещения
Сам по себе этот новый взгляд на иммунную систему позволяет применять удобные образы; ныне ученые вовсю пишут о переговорах, дипломатии и сотрудничестве. Однако старомодная военная метафора все-таки содержит в себе одну несомненную истину. Наша иммунная система действительно обладает некоторыми устрашающими видами оружия. Посмотрите, к примеру, на что способны нейтрофилы. Эти многофункциональные клетки постоянно циркулируют в крови и лимфе, перемещаясь к тем участкам, откуда раздается сигнал иммунологической тревоги. Прибыв на место, они окружают патогенные бактерии и убивают их. Кроме того, они могут выделять антимикробные пептиды, повреждая клетки, которые им окружить не удалось. Наконец, нейтрофилы могут выдворить из организма целую группу болезнетворных агентов, опутав их паутиной из ДНК и белка, которая именуется нейтрофильной внеклеточной ловушкой и при иммобилизации уничтожает бактерии. По сути у нас есть сторожевой пес, умеющий кусаться, плеваться ядом или (если его совсем уж разозлить) пускаться на крайнее средство – создавать оружие из собственных внутренностей и самоотверженно бросать его на вторгшихся врагов.
Эти вооруженные и очень опасные клетки должны пребывать в постоянной боеготовности, поскольку мы живем в среде, кишащей всевозможными микробами. Однако этим клеткам не дозволено чересчур уж возбуждаться в ходе своего каждодневного дежурства. Наши сторожевые псы должны быть бдительны, но их следует держать на очень коротком поводке.
Такого положения вещей непросто достичь в мире, где клетки и молекулы находятся в постоянном движении. Баланс здесь зависит и от продуманного просвещения компонентов системы, и от их врожденных способностей. Некоторые ученые опасаются. что резкие изменения, иногда происходящие в современном микробиоме, вредят такому просвещению. Роды, при которых плод не контактирует с вагинальными бактериями; регулярное введение антибиотиков новорожденным; скупое потребление клетчатки при обильном потреблении жиров и сахара; даже устранение паразитов (вроде круглых червей) – всё это меняет условия, в которых микробиом и иммунная система учились организовывать свою деятельность.
С изменением этих условий меняется состояние нашего здоровья. Вообще-то оно в целом неуклонно улучшается начиная с момента создания микробной теории. Однако нельзя отрицать: люди все равно время от времени заболевают, да и сама картина наших болячек стала другой. Если посмотреть на длинный список хворей, которые имеют какое-то отношение к сегодняшним сдвигам в микробиоме, окажется, что почти все они связаны с нарушениями в работе иммунной системы. В их числе аутоиммунные заболевания, возникающие, когда иммунные клетки с испорченной программой разрушают собственные клетки нашего организма. На развитие некоторых болезней влияет то, что в последнее время приводится как универсальное объяснение плохого самочувствия; речь идет о хронических воспалениях. Похоже, общение между микробиотой и иммунной системой приобретает опасный оттенок. Как пишут авторы одного недавнего обзора, «изменения состава и функций микробиоты… превратили наших союзников-микробов в потенциальную обузу»[108].
Насколько тяжелым бременем они могут стать? Пора обратиться к возможным медицинским последствиям нарушений нормального режима нашего общения с собственными микробами.
Глава 8. Вот они, соседи
Вас мучает тошнота. На лбу выступил жирный пот, но одновременно бьет озноб. В животе зловещее урчание. Если повезет, вы успеете добежать до туалета и извергнуть содержимое своего желудка через рот и нос. Вас мутит. Вам очень, очень нехорошо.
Староанглийское (а прежде старонорвежское) слово sick, означавшее «болезнь вообще», стало использоваться в англоязычном мире для обозначения дурноты в XVII веке. Есть самые разные проявления скверного самочувствия, но когда вас «вот-вот вырвет» (или, выражаясь мягче, «вам дурно»), игнорировать это, прямо скажем, очень нелегко.
В XXI веке мы находим много соответствий тому, что это означает – «мне дурно». Когда человек заболевает, наука ищет объяснения в его органах, тканях и клетках. Теперь-то мы понимаем, что всё это – часть одного суперорганизма. Поэтому специалисты исследуют, какую роль наш микробиом может играть в развитии всевозможных недомоганий. Собственно говоря, большинство наших недугов уже удалось как-то соотнести с нашим микробиомом. Иногда эта связь прямая, и мы уже сейчас начинаем в деталях отслеживать ее причинно-следственные цепочки. Но гораздо чаще связь эта оказывается косвенной, и трудно определить, являются изменения в микробиоте причинами или же следствием заболевания; а может быть, они лишь проявляются одновременно с ним. В этой главе мы кратко обсудим, что нам уже известно о роли микробиома в нашем самочувствии, а также направление исследований, ведущихся в этой области. Подавляющее большинство наших микробов обитает в толстой кишке. Существует ряд очень неприятных ее заболеваний. Может быть, они как-то связаны с ее микробиомом?
Огонь внизу
Пытаясь разобраться в том, какую роль микробиом играет в возникновении заболеваний, мы должны постоянно учитывать вероятность того, что иммунные реакции (особенно воспаления) общие для различных недугов.
В случае синдрома воспаленного кишечника (СВК) такая связь очевидна: нетрудно догадаться, что речь идет о воспалении участков кишечника. Но почему оно возникает и как от него избавиться?
Ответ на эти вопросы хотелось бы получить многим. Болезнью Крона и язвенным колитом (это наиболее серьезные заболевания, относящиеся к категории СВК) страдают, к примеру, четверть миллиона британцев и не менее полутора миллионов жителей США[109]. Острые кишечные расстройства могут вызывать чрезвычайно сильный дискомфорт и приводить к печальным последствиям. Комик Стюарт Ли ярко описывает худшую форму язвенного колита – дивертикулит. Он вспоминает «мою кровоточащую задницу, мою оранжевую мочу, мой искривленный желудок», он «наблюдал, как моя кровь пузырится вокруг иглы установки для вливания, и потом чувствовал, как прохладный соляной раствор вливается в мои вены, как я теряю и вновь набираю вес, я ощущал себя трубкой вопящего мяса, чья единственная цель – перерабатывать всякую дрянь, которую я ем, и испражняться ею с другого конца»[110].
Эти расстройства, так угнетающие человека, могут служить хорошей отправной точкой для выявления микробиомных воздействий, поскольку некоторые особенности таких заболеваний хорошо изучены. Мы немало знаем об участии определенных типов иммунных клеток и сигнальных молекул в организации атак, приводящих к воспалению толстой кишки. Механизмы, которые здесь работают, представляются многообещающей моделью того, как воспалительные процессы контролируются организмом и как они выходят из-под контроля; всё это можно описать как составную часть процессов поддержания или нарушения гомеостаза в более обширной системе, куда входит и толстая кишка, и ее содержимое.
Можно понять, как действенны Т-лимфоциты для снижения активности иммунной системы, изучая, что происходит, когда их нет. Одна из разновидностей регуляторных Т-лимфоцитов производит интерлейкин-10 (ИЛ-10) – сигнальные молекулы, относящиеся к классу цитокинов и несущие другим иммунным клеткам одно и то же послание: «Сохраняйте спокойствие, продолжайте выполнять свою работу». Опыты на мышах, проведенные в 1990-е годы, подтвердили, что модифицирование или блокирование выработки этих клеток приводят к воспалению кишечника подопытных мышей, сходному с тем, что наблюдается у человека. Это стало настоящим прорывом в науке: удалось создать модель для соответствующего заболевания, которая в свою очередь помогла разобраться в некоторых молекулярных взаимодействиях, происходящих в «контролирующей» системе организма. Сегодня многое известно о том, какие виды иммунных клеток отправляют и получают сигналы, регулируя воспалительные процессы в кишечнике посредством выработки цитокинов, способствующих или препятствующих воспалению. Мы многое знаем и о том, как эта система выходит из-под контроля. Благодаря этим знаниям в наши дни удалось создать мощные средства для лечения острой формы болезни Крона и острого колита: эти средства блокируют цитокины, чтобы уменьшить воспаление. Такие лекарства следует тщательно тестировать, поскольку необдуманные игры с цитокинами часто вызывают совершенно незапланированные эффекты. А вот тонко настроенные ингибиторы синтеза воспалительных цитокинов, возможно, действительно способны помочь больным.
Долгое время предполагали, что изменения в составе наших колонистов способствуют обострению болезни Крона. Впервые это подметили на примере паразитических червей, от которых до сих пор страдает значительная часть человечества (возможно, они сосуществовали с человеком всегда). Поскольку эти существа оказывают негативное воздействие на человеческий организм в самых разных аспектах, страны, которым посчастливилось иметь современную систему санитарии и здравоохранения, от глистов давно избавились. Однако примерно в это же время медики зафиксировали резкий всплеск случаев болезни Крона. Некоторые ученые поспешили заключить, что это не просто совпадение. Возможно, паразитические черви или их яйца тренируют иммунную систему, обучая ее не атаковать кишечный эпителий? Среди страдающих болезнью Крона нашлись и такие, кто в отчаянии решился проверить эту гипотезу и намеренно заразил себя паразитами, надеясь ослабить симптомы недуга[111].
Но теперь мы вправе задаться вопросом: какова роль бактерий, находящихся на микроскопическом расстоянии от нежных тканей кишечного эпителия и его иммунных сетей? Существует масса свидетельств в пользу того, что бактерии весьма глубоко вовлечены в эти процессы. Об одном впечатляющем направлении исследований сообщила в 2010 году лаборатория Саркиса Мазманяна, входящая в состав Калифорнийского технологического института. В этих необычных экспериментах задействованы молекулы, имеющиеся на поверхности клеток (например, ЛПС – липополисахариды, упомянутые в прошлой главе как пример вещества, которое способствует выработке антимикробных пептидов, помогающих в профилактике энтерококковой инфекции у мышей).
Кроме того, именно группа Мазманяна несколькими годами ранее показала, что один неплохо изученный вид бактерий – Bacteroides fragilis – способен побуждать организм безмикробных мышей к развитию нормальной иммунной системы кишечника. Теперь же она продемонстрировала: тот же микроорганизм, действующий в одиночку, может вызывать развитие определенных регуляторных Т-лимфоцитов. Собственно, то же самое может проделывать один-единственный антиген, содержащийся в бактериальной стенке, – полисахарид А (ПСА). B. fragilis делает это не из-за того, что ему небезразлично, воспалится кишечник или нет, а для подавления иммунной реакции на его собственное вторжение: так он может спокойно устроиться на поверхности слизистой оболочки кишечника. Однако в нормальной, разнообразной микробиоте это стало бы лишь одним из взаимодействий, которые создают общее равновесие в иммунной системе. Напрашивалась еще одна проверка, и она дала впечатляющие результаты. Если ввести ПСА мышам, страдающим синдромом воспаленного кишечника, симптомы заболевания ослабнут[112].
Ранее аналогичные эксперименты показали: другая бактерия, H. hepaticus, настолько эффективно способствует выработке воспалительных цитокинов, что ее можно с успехом использовать для создания другой «мышиной модели» СВК. Однако B. fragilis противостоит губительному воздействию H. hepaticus; и противовоспалительный агент, выработку которого она стимулирует, побеждает в битве цитокинов.
Такие опыты проводились вначале на безмикробных мышах. Для обычной мыши (как и для обычного человека) эти два вида бактерий соседствуют с сотнями или даже тысячами других видов. Маловероятно, что эти два вида – единственные, кто обменивается такого рода сигналами, так что гипотезы, выстраиваемые в результате подобных изысканий, следует интерпретировать в контексте исследований микробиома в целом.
При СВК общий состав микробной популяции действительно меняется. Часто говорят, что СВК – одно из заболеваний, связанных с «дисбиозом». Неоднозначный термин. Иногда он обозначает специфические изменения в микробных популяциях, но чаще используется более широко и небрежно. Похоже, его нередко применяют, ведя речь просто о смеси микробов, которая чуть отличается от обычной.
Как вы могли бы ожидать, ознакомившись с предыдущими страницами, попытка не ограничиваться экспериментами на безмикробных мышах и получить четкие результаты на основании исследований человека погружает нас в неразбериху вечно меняющихся бактериальных популяций, иммунных откликов человеческих тканей, рациона и других факторов (в числе которых стресс).
Нам хотелось бы отыскать «биомаркеры» – уникальные индикаторы заболевания, пригодные для его диагноза или прогноза, а то и определенные компоненты микробиома, которые вызывают данную проблему и которые можно устранить или заменить в целях ослабления симптомов. Вместо этого мы получаем лишь массивы данных, из которых в лучшем случае удается вывести характерные «автографы» данного заболевания. В сущности, такие результаты говорят: «Если у вас болезнь Крона, ваш микробиом выглядит так-то». Отсюда непросто вывести ясное представление о том, что следствие, а что причина, и как с ней бороться.
Хороший пример самых первых попыток перейти от изучения микробиома здоровых людей к пониманию его роли в развитии этой болезни – небольшое исследование выборки близнецов, опубликованное в 2012 году группой под руководством Элисон Эриксон (Теннесси, Окриджская лаборатория)[113].
Ученые уже знали, что существуют различия в кишечном микробиоме у тех, кто страдает болезнью Крона, и тех, кто ею не страдает. Особенно ясно это демонстрируют близнецы: по распределению микробных видов у них обычно схожие микробиомы, даже если эти люди много десятилетий прожили врозь. Однако в микробиомах наблюдаются заметные различия, если у одного из близнецов развилась болезнь Крона, а у другого почему-то нет.
Для более детального изучения было выбрано 6 пар близнецов. Чтобы учесть все возможные случаи, исследователи включили в эксперимент здоровую пару близнецов; пару близнецов с болезнью Крона в области толстой кишки; две пары близнецов, у которых этот недуг затрагивает подвздошную кишку (последний отрезок тонкого кишечника); две пары, где у одного близнеца есть эта болезнь, а у другого нет.
Сравнительный анализ кала, взятого у всех участников эксперимента, проводился по трем направлениям. Ученым хотелось не только идентифицировать присутствующие в образцах виды микробов, но и узнать, на что эти микробы способны и действительно ли они делают то, на что способны. Для подобного метаболического расследования требуется нечто большее, чем просто базовый анализ 16S рРНК. Следовало изучить ДНК-последовательности смеси геномов всех разнообразных микробов, то есть провести полноценный метагеномный анализ. Как мы уже знаем из главы 1, такое исследование помогло бы получить неплохое представление о том, какие белки (в особенности ферментативные) может вырабатывать каждый микробиом, а значит, и о том, протеканию каких химических реакций может способствовать совместная работа этих бактерий.
Всё это очень интересно, но полезно выяснить, какие из белков вырабатываются на самом деле. Тут-то и вступала в действие третья часть плана. Подобную информацию, что не удивительно, дает уже не ДНК-анализ, а еще одна (из множества расплодившихся сейчас разновидностей) – омика – протеомика. Она занимается идентификацией всех разнообразных белков, производимых выбранной клеткой или набором клеток. В данном случае соответствующую процедуру осуществляли при помощи давно устоявшегося метода масс-спектроскопии. Как явствует из названия, при таком анализе молекулы в смеси сортируются по размеру или массе. Если применить стандартный вариант этого метода к экстракту бактериальной жижи, можно сравнить полученные результаты с очередным электронным архивом и получить «моментальный снимок», показывающий, какие белки действительно вырабатываются в данный момент. Эти белковые «снимки» заметно отличаются у здоровых людей и у страдающих болезнью Крона. Те, у кого болезнь затрагивает подвздошную кишку, демонстрируют более выраженные отличия.
Впрочем, ученые получили не четкие результаты, а скорее туманные очертания. Данные оказались сильно загрязнены молекулярным шумом. Так, было выявлено более чем 1200 белков, уникальных для обладателей здорового кишечника, еще 700 белков, уникальных для страдающих болезнью Крона подвздошной кишки, и еще 145, наблюдаемых лишь у тех, кто страдает болезнью Крона толстой кишки. Изменения состояния микробиома приводят к существенным отличиям в экспрессии генов.
Среди всех этих белков многие наблюдались и раньше, но функция около 30 % из обнаруженных сейчас оказалась неизвестной. Так что при всей хваленой точности этого анализа он говорит главным образом следующее: кишечный микробиом страдающих болезнью Крона подвздошной кишки вырабатывает менее широкий набор белков. К сожалению, в тех случаях, когда функция белка все-таки известна, оказывается, что данную функцию могут выполнять разные типы белков. В список входят ферменты, обеспечивающие перенос и метаболизм углеводов, выработку и сохранение энергии, должное обращение с аминокислотами и липидами, а также выполняющие основную часть других распространенных клеточных функций. В сущности, полученные результаты показывают: если у вас болезнь Крона, затрагивающая подвздошную кишку, ситуация очень запутанная. Но если у вас действительно эта болезнь, то ее проявления и следствия, увы, наверняка уже заставили вас прийти к такому заключению.
Возможно, когда-нибудь более глубокое понимание информации, представленной этими «десятками видов, тысячами метаболитов и сотнями белков, относительное содержание которых меняется», позволит нам разрабатывать более индивидуализированные методики лечения. Пока же эту информацию нужно учиться использовать для постановки точного диагноза, что стало бы огромным благом для множества пациентов: ведь ранние симптомы трудно интерпретировать. Дело в том, что ранние симптомы болезни Крона (в том числе боли в желудке и диарея) часто вызывают у врачей мысль выписать больному антибиотики. Ну так вот это неудачная идея. Более широкое исследование, проведенное в 2014 году на примере американцев, у которых недавно диагностирована болезнь Крона, подтвердило, что у пациентов наблюдается меньшее видовое разнообразие микробов в кишечнике, зато повышено содержание микроорганизмов, которые, по-видимому, способствуют воспалению[114]. Среди детей, у которых не сразу диагностировали болезнь Крона, более «возмущенным» микробиомом обладали те, что принимали антибиотики, а не те, кто обходился без этих препаратов. Более того, от первой стадии лечения, применяемой сразу же после выявления симптомов, боли могли даже усиливааться. Антибиотики всегда следует применять с большой осторожностью!
Так что поиск универсальных, общеприменимых методов вновь возвращается к воспалительным процессам и тому факту, что воспаление может иметь неединственную причину, в частности, возникая как реакция на присутствие или деятельность каких-то бактерий в кишечнике. Служит ли взбудораженная микробиота «причиной» кишечных недугов? Скорее всего нет. Или, во всяком случае, она лишь одна из причин. Дальнейшие опыты на мышах позволили заключить: весьма возможно, что нарушение иммунной реакции нередко создает благоприятные условия для бактерий, способных развиваться в воспаленной толстой кишке, а это в свою очередь способствует усилению воспаления. В организме мышей с иммунными системами, подвергшимися разнообразным изменениям, способствующим развитию у этих зверьков язвенного колита, складывается характерный микробиом. Пересадите этот микробиом нормальным мышам, и они тоже заработают эту болезнь, хотя и не в столь острой форме.
Данная микробная смесь, вероятно, стимулирует воспалительные заболевания двумя путями. В смеси много видов, усиливающих иммунную активность. При этом в ней мало бактерий, способных усваивать сложные углеводы и в результате давать короткоцепочечные насыщенные жирные кислоты, которые оказывают успокаивающее действие на иммунные клетки, как я уже рассказывал в небольшой зарисовке о бутирате (см. главу 5).
Столь примечательная трансформация кишечного микробиома, делающая СВК заразной болезнью, относится к категории экспериментов, которые невозможно ставить на человеке. Однако результаты таких опытов заставляют предположить, что наш собственный микробиом с немалой вероятностью вовлекается в процесс поддержания СВК, едва заболевание начинает развиваться в организме. Из-за этого с недугом труднее бороться.
Микроскопический убийца миллионов?
Речь не только о кишечнике как таковом. Оказывается, кишечный микробиом вносит свой вклад в развитие некоторых факторов риска инфаркта и инсульта – сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются наиболее частой причиной смерти в западном обществе. Большинство подобных связей довольно запутанны и имеют отношение к заболеваниям, возникновение которых нельзя объяснить какой-то единственной причиной, – к ожирению, диабету, хроническим воспалениям. Похоже, более непосредственную связь удается выявить благодаря одному недавнему открытию. Связь эта лишь подчеркивает тот тревожный факт, что не все кишечные бактерии приносят нам благо с химической точки зрения.
Некоторые бактерии кишечника, занимаясь своими метаболическими делами, превращают целый ряд потребляемых нами питательных веществ в соединение под названием триметиламин-N-оксид (ТМАО). Стэнли Хейзен из кливлендской клиники и его коллеги показали, что уровень содержания ТМАО в крови – хороший индикатор риска инфаркта и инсульта. Они выявили, что ТМАО способствует образованию тромбов в кровеносных сосудах мышей[115].
Бактерии синтезируют ТМАО из различных компонентов пищи, в том числе из лецитина (фосфатидилхолина), имеющегося в яйцах и красном мясе, и из карнитина, входящего в состав мясных и молочных продуктов. Исследования Хейзена подтверждают, что бактерии определенно задействованы в синтезе ТМАО; удалось показать, что его концентрация в крови растет после потребления яиц, но не в том случае, когда едок предварительно прошел курс лечения антибиотиками. У вегетарианцев вырабатывается меньше ТМАО, даже если они потребляют карнитин. Это позволяет предположить, что прием в пищу мяса способствует росту численности бактерий, как раз и причиняющих такой ущерб.
Возможно, это объяснит тот факт, что у некоторых людей случается инсульт или инфаркт несмотря на относительно слабое проявление других факторов риска (скажем, незначительное изменение уровня холестерина в крови). Может быть, профиль кишечной микробиоты когда-нибудь удастся применять для того, чтобы давать пациентам рекомендации насчет того, следует ли им избегать продуктов, богатых предшественниками (прекурсорами) ТМАО (хотя, как и в случае с холестерином, такие вещества вообще-то незаменимы, только вот принимать их лучше в скромных дозах). Пробиотики также могли бы сдерживать выработку ТМАО, но нам еще предстоит выяснить, какие именно пробиотики способны оказывать такое воздействие.
Пока же можно сказать лишь, что подобные процессы – нежелательное добавление к тем путям, какими наш микробиом способен влиять на риск развития серьезнейшего заболевания. Впрочем, таких болезней гораздо больше.
Я растолстел из-за моих FIRMICUTES… Или причина в другом?
Что служит причиной лишнего веса? Мы твердо знаем одно: какая-то причина здесь точно есть. Одна из характерных и, возможно, не для всех приятных черт нашего времени – то, что сейчас впервые в мировой истории на нашей планете больше тучных людей, чем недоедающих. Цифры тревожны. По данным Национальной службы здравоохранения Англии, за 30 лет, с 1978 по 2008 год, доля тучных людей в стране утроилась – с 7 до 21 %. В США за тот же период эта доля выросла с 15 до 30 %.
Почему это происходит? За последнее время для нас стало доступно большее (по сравнению с былыми временами) количество «толстящей» пищи, да еще и новые ингредиенты, вроде кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Фастфуд – штука дешевая, вкусная; к тому же его состав хитроумно продуман так, чтобы нажимать нужные эволюционные кнопки, возникшие в ту пору, когда соль, жиры и сахар имелись вокруг человека в куда меньшем количестве. Сейчас же человек живет в среде, которую специалисты по здравоохранению именуют обесогенной, то есть ведущей к развитию ожирения. Термин столь же непривлекательный, как и некоторые последствия ожирения. Но и в наше время толстеют не все. Значит, те из нас, кому удается сохранить стройность, могут похвалить себя за силу воли? Или есть другие причины их великолепных форм?
Возможно, определенную роль играют гены. Многочисленные исследования показали, что у худых и тучных разные генетические варианты проявляются с разной частотой. Однако геном пока позволяет предсказывать, будет ли его обладатель тучным, лишь с точностью 58 % – не намного лучше, чем если бы мы просто подбрасывали монетку.
Все радостно возбудились, когда другое генетическое сканирование – кишечного микробиома – позволило делать более точные предсказания. Видовой состав микробных популяций у толстых и худых различен, причем даже более, чем их гены. Если изучать гены в микробиоме кишечника, можно увеличить точность прогнозов расклада «толстый/худой» до 90 %.
Значит, это ваши микробы делают вас толстым? Как уже нередко бывало, одно громкое открытие становится началом куда более запутанной истории. К сожалению, изучение кишечных микробов тех, кто уже страдает ожирением, не может показать, что случилось вначале – набор лишнего веса или изменение микробного состава.
Поскольку эта область стала активно развиваться лишь десяток лет назад, пока у нас нет результатов долговременного наблюдения за теми, кто набирал либо терял вес, где отслеживались бы изменения в их микробиомах, позволяющие разобраться, где причины, а где следствия. Пока у нас есть лишь результаты некоторого количества разнородных опытов на людях и растущего количества опытов на мышах. Кроме того, проводится переоценка данных, которые получены при долговременном исследовании детского развития; это помогает установить необходимые рамки для дискуссии. Дети, которым регулярно давали антибиотики в раннем возрасте, с большей вероятностью вырастают тучными. Это удалось обнаружить благодаря исследованиям «возрастных когорт», в ходе которых группы людей одного возраста (жителей Дании, Великобритании и Канады) наблюдались в течение десятилетий (начиная с самых ранних лет). Получаемые данные сопоставляли с подробными медицинскими записями. Самые яркие результаты показали канадцы: в изученной выборке у младенцев, которым прописывали антибиотики еще до годовалого возраста, в 12 лет ожирение отмечалось почти вдвое чаще, чем у тех, кому такие препараты не давали (соответственно 32 % и 18 %). Впрочем, это ничего не говорит нам о том, какие изменения в микробиоме могли бы стать причиной подобного результата. И здесь возникает очередная загадка. Когда исследователи провели сопоставление своих данных с другими факторами (в том числе весом при рождении, наличием/отсутствием грудного вскармливания, наличием/отсутствием лишнего веса у матери), для девочек эта разница исчезла, однако для мальчиков по-прежнему оставалась заметна[116].
Подобную загадку можно разрешить, лишь прибегнув к непосредственному изучению микробиома. В итоге удается получить многозначительные факты и другие результаты, вносящие коррективы в некоторые примитивные гипотезы о связи микробов и массы тела.
Исследование, которое первым привлекло всеобщее внимание, провела лаборатория Джеффри Гордона из Вашингтонского университета. Для начала ученые обратились к изучению мышей, вырастающих тучными из-за того, что их организм не вырабатывает гормон лептин, помогающий регулировать аппетит. Микробный состав их кишечника, как показал анализ, отличается от состава микробов в кишечнике обычных лабораторных мышей. Особенно же заметно, что у них гораздо больше разновидностей Firmicutes (F), значительно меньше видов Bacteroidetes (B) и вообще видовое разнообразное микробов ограниченнее[117].
Далее ученые стали искать такой же популяционный сдвиг у человеческих микробов – соотношение F/B, которое определяло бы разницу между тучными и худыми и которое, к примеру, снова бы смещалось в сторону «худобы», когда толстяку удавалось бы сбросить вес.
Можем ли мы подтвердить, что обычно именно это и происходит? В некоторых исследованиях эти первоначальные умозаключения вроде бы не опровергаются – изучают ли толстых/худых взрослых, беременных с лишним весом, детей, у которых развивается ожирение, чрезмерно раскормленных крыс или же специально выведенных методами генной инженерии крыс, предрасположенных к ожирению.
Но всмотритесь в результаты этих работ, и вы обнаружите данные, которые не демонстрируют никакой разницы в соотношении F/B между тучными и тощими, и даже такие данные, которые показывают эффект, обратный предполагавшемуся. Так что картинка расплывается.
Кроме того, общий сдвиг состава бактериального населения не имеет очевидного смысла и с точки зрения физиологических механизмов. Пища должна усваиваться. Мы знаем, что бактерии, обитающие в толстой кишке, помогают нам усваивать питательные вещества, с которыми мы иначе не смогли бы справиться. Так что на первом этапе исследований больше всего напрашивалась гипотеза о том, что иной видовой состав кишечных микробов у тучных людей означает следующее: толстяки получают из своей пищи (особенно из сложных углеводов) больше калорий. Это вполне согласуется с тем фактом, что безмикробные мыши должны больше есть, чтобы расти так же, как их нормальные ровесники.
Мы все-таки не можем (по крайней мере из-за этических соображений) заменять у людей один набор бактерий на другой, но мыши против такой операции не возражают. И что бы вы думали? Упомянутая идея не выдержала экспериментальную проверку. Да и вообще она не кажется такой уж логичной. Похоже, люди толстеют не из-за того, что запихивают в себя много сложных углеводов (которые, вероятно, составляли более значительную долю в рационе наших предков), а из-за того, что потребляют больше жиров и рафинированного сахара вместе с продуктами, перед которыми нам сейчас трудно устоять. Но такие вещества, полагаем мы, перевариваются в желудке и кишечнике, причем по большей части без всякой помощи со стороны микробов. Однако возьмите безмикробных мышей и вырастите их на диете с высоким содержанием жиров и сахара – и они не наберут вес, как их собратья с полным набором кишечных бактерий, выращенные на таком же рационе. Значит, наши микробы, возможно, не просто расщепляют крупные молекулы, а делают что-то еще, и это «что-то» как раз и приводит к ожирению? Чем же они таким занимаются?
Чтобы сохранить ясность взгляда, можно применить такую стратегию: сосредоточимся на более мелких классификационных подразделениях бактерий. Все-таки Firmicutes – это целый филум, крупная эволюционная категория. Может быть, особую роль в данном случае играет какой-то класс или даже вид, входящий в состав этого филума? Здесь может оказаться полезным проследить за изменениями кишечной микробиоты у людей, теряющих вес.
Да-да! У тучных людей, которым удается похудеть, меняется кишечный микробиом. Это наблюдается при уменьшении веса, достигаемом самыми разнообразными методами, в числе которых всякого рода диеты (иной раз довольно жестокие) и даже операции по созданию обходного желудочного анастомоза[118], меняющие саму анатомию пищеварительной системы для снижения уровня абсорбции питательных веществ.
Изменения здесь не всегда одни и те же. Некоторые индивидуальные случаи поражают. Устрашающе тучный человек, за четыре месяца скинувший 51 килограмм из своих 175 в ходе широко разрекламированного исследования, проведенного в Шанхайском университете Джао Тонг, продемонстрировал резкий сдвиг микробиомного состава – от 35 % Enterobacteria до пренебрежимо малых их количеств после потери веса.
Те же Enterobacteria, скармливаемые безмикробным мышам, также заставляли их набирать больше веса при высокожировой диете по сравнению с контрольной группой мышей, хотя при обычном мышином рационе такого различия не наблюдалось. Здесь мы сталкиваемся с неожиданным (возможно) влиянием иммунной системы на процессы регуляции массы тела. Данная бактерия вырабатывает один из липополисахаридов, входящих в состав клеточной стенки и распознаваемых системой врожденного иммунитета. Помимо прочего, это вещество может при введении в мышиный организм увеличивать его инсулинорезистентность (невосприимчивость к инсулину) и приводить к ожирению в рамках реакции, связанной с воспалительным откликом.
Итак, этот конкретный пациент мог набрать лишний вес из-за того, что в нем обитал данный вид бактерий, и мог похудеть, избавившись от этого микроба, отчасти благодаря строго контролируемой четырехмесячной диете из «цельнозерновых, традиционной китайской целебной пищи и пребиотиков», которая способствовала выведению Enterobacteria из организма.
Такая же диета, применяемая на протяжении 9 недель в ходе эксперимента на более чем 100 участниках, привела к некоторой потере веса и к бактериальным изменениям, однако первый объект все-таки оказался пока наиболее ярким подтверждением действенности такого метода (впрочем, и диета, по западным меркам, применялась довольно радикальная)[119].
Но это лишь одно исследование из многих, пусть и весьма интригующее. Микробиом – сложная система, и за ожирение вряд ли отвечает какой-то один-единственный вид бактерий. Вероятно, не существует некой единственной причины ожирения ни для людей в целом, ни для отдельного человека. Любая попытка составить схему причинно-следственных связей для таких случаев оканчивается путаницей и неразберихой.
Мартин Блейзер и Лаура Кокс предпочли упростить картину, сведя ее к четырем основным влияниям[120]. По их мнению, ожирению способствуют высококалорийное питание, гены, физиологические сдвиги и состав микробиома. Сложности возникают из-за того, что любые из первых трех факторов могут действовать независимо от микробных особенностей, однако они могут меняться (к лучшему или к худшему) под воздействием микробиоты. Когда развитие нормальной кишечной микробиоты нарушается (скажем, при родах с помощью кесарева сечения или при пичкании новорожденных антибиотиками, чем особенно интересуется Блейзер), организм может быть склонен к развитию ожирения в более поздние годы.
Эти разнородные причины приводят к главному результату посредством многообразных эффектов. В рамках данной схемы авторы без особого разбора именуют процессы, протекающие независимо от микробов, «множественными механизмами, работающими в организме-хозяине». К другим процессам, на которые микробиом все-таки влияет, относятся получение энергии, метаболическое сигнализирование, а также (из-за воздействия на иммунную систему) воспалительные процессы.
Авторы подытоживают свои умозаключения довольно красивой диаграммой. Но эффекты в каждом из трех классов могут меняться, к тому же они не обязательно независимы, так что пока получается чрезмерно упрощенная картина, не отражающая всей сложности происходящего.
Впрочем, имеет смысл отметить один сценарий, когда непредсказуемость выходит за рамки возможностей, указанных авторами. Речь идет об одной из главных причин, по которым избыточная масса тела так беспокоит вашего лечащего врача, – о комплексе изменений, который именуется метаболическим синдромом. Его часто связывают с тучностью, особенно в области талии. Он проявляется как сочетание высокого уровня содержания в крови жирных триглицеридов и сахаров, низкого уровня содержания липопротеина высокой плотности (известного в широких кругах общества как «хороший холестерин») и высокого кровяного давления. Совместно это весьма мощный набор факторов риска для диабета второго типа, инфаркта и инсульта. Синдром в целом опять-таки связан с воспалительными процессами, особенно с теми, в которые вовлечены клетки, накапливающие жир и являющиеся источником целого ряда активирующих цитокинов. В данном случае слабое воспаление может являться следствием метаболического синдрома.
И наоборот: воспаление, вызванное иными причинами (в том числе изменением состава кишечной микробиоты), может стать прелюдией к развитию метаболического синдрома – скажем, препятствуя воздействию инсулина. Это согласуется с результатами некоторых исследований, показывающими, что микробная популяция меняется у пациентов с выраженным диабетом второго типа – весьма распространенной его разновидностью, возникающей из-за того, что клетки организма отказываются реагировать на инсулин. Впрочем, при диабете происходят масштабные метаболические сдвиги, несомненно, отражающиеся и на составе микробиоты.
Диабет первого типа возникает из-за снижения содержания клеток, производящих инсулин в поджелудочной железе. Это происходит, когда они подвергаются атаке со стороны иммунной системы. Как и в случае ряда других аутоиммунных заболеваний, некоторые ученые также связывают эти процессы с изменениями в микробиоме. Вот как новые представления об иммунной системе, вкратце описанные в предыдущей главе, могут собирать воедино результаты множества других исследований, призванных разобраться в особенностях заболеваний, чьи причины зачастую установить очень трудно.
Огонь по своим
Обсуждавшиеся в прошлой главе новые представления об иммунной системе, возникшие благодаря изучению ее (обычно мирного) сосуществования с триллионами микробов, естественным образом вызывают вопрос: а если что-то пойдет не так? Воспаление не в том месте или не в то время (возможно, вообще в любое время, то есть постоянное) – один из вариантов вредоносной реакции организма на какие-то нарушения в передаче иммунных сигналов. Другой вариант может возникать, когда клетки наших собственных органов и тканей становятся мишенью активизировавшегося иммунного оружия. Такого рода неверное наведение системы, предназначенной для защиты организма от различных опасностей, становится причиной многих аутоиммунных заболеваний. Диабет первого типа – лишь один пример.
«Аутоиммунные процессы» – понятие весьма общее. Их последствия бывают чрезвычайно многообразными. Список аутоиммунных заболеваний в 1980–1990-е годы удлинялся по мере того, как ученые начинали подозревать всё новые и новые наборы симптомов в том, что они несут в себе аутоиммунный компонент. В наши дни этот ярлык применяется примерно к 80 различным заболеваниям, и в их числе – волчанка, болезнь Аддисона (хроническая недостаточность коры надпочечников), синдром Гийена – Барре (острый полирадикулит), некоторые разновидности анемии (малокровия), а также более распространенные недуги вроде ревматоидного артрита. Некоторые заболевания сами по себе весьма изменчивы и разнообразны, так что среди специалистов не всегда царит согласие относительно того, следует ли относить эти болезни к аутоиммунным. Наименее противоречивы в этом смысле заболевания, при которых в организме вырабатываются антитела к его собственным клеткам, специфичные для определенного их типа, – они, эти клетки, в результате и оказываются поврежденными.
Причины таких болезней кроются в самой сути адаптивной иммунной системы. При подобных недугах выращивание и отбор лимфоцитов идут не так, как полагается. Каким-то образом среди огромного набора возможных антител, предлагаемых лимфоцитами для того, чтобы иммунная система решила, следует ли пустить какие-то из них в дело, оставляется в строю разновидность антител, которую надо бы отвергнуть. Эти антитела начинают циркулировать на поверхности иммунных клеток. Антитела затем могут активироваться или не активироваться при встрече со своим антигеном, который в таких случаях часто (но не всегда) представляет собой молекулу, находящуюся на поверхности клеток уязвимой ткани. Некоторые аутоиммунные заболевания вспыхивают и угасают самым непредсказуемым образом. Пока их невозможно ни вылечить путем непосредственного воздействия, ни даже спрогнозировать. Обычно врачи пробуют различные терапевтические методики для облегчения симптомов или для того, чтобы всплески заболевания происходили реже.
Мы не очень-то понимаем, как возникают аутоиммунные расстройства. Введение целого набора новых факторов (например, состава микробиома, особенностей его метаболических и сигнальных сетей) пока не породило в умах специалистов внезапного озарения. Как мы уже знаем, микробиом играет существенную роль в развитии системы врожденного иммунитета и адаптивной иммунной системы. Мы знаем, что баланс их взаимной регуляции может иногда резко нарушаться, приводя к воспалительным реакциям там, где от них нет никакой пользы. Но специфичность аутоиммунных реакций, нацеленных на определенные типы клеток наших собственных тканей, не очень-то вписывается в такой сюжет.
Многие аутоиммунные заболевания связаны с мутациями в генах, кодирующих маркеры поверхности клеток, именуемые антигенами лейкоцитов человека. Такие мутации увеличивают вероятность аутоиммунных реакций – по-видимому, из-за того, что они как бы устраняют одну из линий обороны организма. Развитие же полноценного заболевания может провоцироваться каким-то вторичным воздействием. Похоже, именно здесь играют роль микробные эффекты.
Можно сразу же сделать две догадки (которые кажутся весьма правдоподобными), даже не обращаясь к литературе по конкретным аутоиммунным заболеваниям и микробиому. Высока вероятность того, что здесь всплывут какие-то связи: такое ощущение, что аутоиммунные заболевания влияют почти на всё – и на них влияет почти всё. Однако вряд ли стоит ожидать обнаружения каких-то простых и очевидных связей, выявление которых привело бы к прорыву в понимании этих проблем. Во всяком случае, такие связи пока не найдены. Диабет первого типа служит здесь показательным примером отчасти из-за того, что о нем несколько проще размышлять, чем о некоторых других аутоиммунных недугах.
К счастью, человек научился управляться с такой разновидностью диабета, хоть и ценой необходимости постоянно нести ответственность за поддержание гомеостаза в собственном организме, обрекая себя на инъекции в течение всей жизни, так что бремя приходится тащить нелегкое. Эта болезнь возникает еще в раннем возрасте, к тому же сейчас она, похоже, распространяется все шире. Поэтому ведется множество исследований, призванных отыскать более удачные способы жизни с этим заболеванием, чем измерение уровня сахара в крови и регулярные впрыскивания инсулина.
Существует множество теорий о происхождении аутоиммунных заболеваний. Все они могут содержать крупицу истины или же просто служить выражением излюбленных представлений того или иного теоретика об иммунной системе. Эти теории, похоже, предполагают два правдоподобных пути, какими кишечная микробиота могла бы влиять на развития диабета первого типа.
Одна версия опирается на наблюдение, согласно которому кишечные микробы играют важную роль в нормальном созревании иммунной системы и воздействуют на процессы ее регуляции. Если сдвиги в составе микробной популяции приводят к тому, что иммунную систему становится труднее контролировать, это может приводить к тому, что ребенок, генетически предрасположенный к диабету первого типа, в дальнейшем будет страдать от разрушения важнейших клеток, вырабатывающих инсулин. Одно из направлений дальнейших исследований – попытаться прояснить маршруты межмолекулярных взаимодействий, заставляющие такие иммунные клетки делать то, что они делают: в данном случае – замечать, а затем атаковать расположенные в поджелудочной железе островковые клетки, вырабатывающие инсулин[121].
Другой возможный вариант влияния – более общий. Он подразумевает рост числа «течей» в кишечнике. Как мы уже видели, барьерная функция кишечника зависит главным образом от единственного тонкого слоя эпителиальных клеток с прочно запечатанными участками межклеточных соединений между ними. Иногда эти соединения ослабляются, позволяя большему, чем обычно, числу молекул просачиваться сквозь эпителиальный слой. Такие процессы также могут служить элементом функционирования иммунной системы, например, позволяя доставлять в нужное место группу антител. Но подобное ослабление межклеточных контактов, кроме того, позволяет другим молекулам двигаться в этом направлении, а антигенам (принимаемым с пищей или оказавшимся в организме иными путями) – встречаться с иммунными клетками. Ученые полагают, что такое может происходить, например, при воспалениях или в случае приема ибупрофена, болеутоляющего препарата, который иногда вызывает побочный эффект – раздражение кишечника. Есть данные, подтверждающие, что такие явления могут быть как-то связаны с синдромом воспаленного кишечника или с различными видами диабета, однако (знакомая ситуация, не правда ли?) мы пока не знаем, где здесь причина, а где следствие. То же самое касается связей между ростом проницаемости кишечника и изменениями в кишечном микробиоме. Получается, мы просто увеличиваем число параметров, которые могут оказаться соединены причинно-следственной связью, причем непонятно даже, в каком направлении эта связь идет.
Но косвенные доказательства все равно довольно весомы. Диабет первого типа – одно из заболеваний, часто встречающихся в последние десятилетия. Судя по всему, оно начинается во всё более юном возрасте. Печальный рекорд здесь принадлежит Финляндии: заболеваемость диабетом первого типа в этой стране с 1950 года выросла впятеро.
А вдруг это как-то связано с изменениями, которые происходят в микробиоме современного человека? Мартин Блейзер полагает, что сие вполне реально. Впрочем, пока доказательства остаются лишь косвенными. Детальное исследование, в 2014 году проведенное в Германии, все-таки выявило некоторые отличия в особенностях кишечного микробиома детей, в крови которых циркулируют антитела к вырабатывающим инсулин островковым клеткам поджелудочной железы, и детей без таких антител. Но разница оказалась незначительной и не затрагивала ни видовое разнообразие бактерий, ни общее их количество в кишечнике: она касалась лишь «сетей бактериального взаимодействия» (как назвали это ученые). Важность такой находки пока остается сомнительной.
Изучение кишечной микробиоты и диабета первого типа на животных дает некоторые любопытные в своей противоречивости результаты. В одном из ключевых абзацев последнего обзора работ, посвященных этой проблеме, сообщается, что у склонных к диабету мышей снижается вероятность развития диабета, если им вводить антибиотики. Значит, кишечные бактерии должны увеличивать вероятность аутоиммунного разрушения островковых клеток? Следующее из упоминаемых исследований вроде бы показывает, что у мышей, страдающих диабетом, но не располневших, с большей вероятностью развивается полноценный диабет в отсутствие бактерий, так что, возможно, кишечные бактерии снижают вероятность аутоиммунного разрушения (как полагает и Блейзер). Но погодите. А может, мы просто пока точно не знаем, что же происходит. Такое впечатление лишь укрепляется, если взглянуть на результаты некоторых опытов на крысах, показывающие, что пробиотические штаммы бактерий могут и увеличивать, и снижать диабетический риск для этих животных (в зависимости от конкретного штамма). Авторы обзора, стремясь продемонстрировать максимальный научный оптимизм, на какой они способны, делают вывод: «В совокупности эти результаты позволяют предположить, что наличие микробов в организме может играть роль в возникновении данного заболевания». Впрочем, авторы проявляют осторожность в выводах, начиная с предположения, что «выявление вклада микробиома в развитие диабета первого типа может оказаться особенно трудным».
Это не значит, что никто не станет предпринимать масштабных попыток на этом пути. Значительная часть обзора посвящена подробному описанию более представительных экспериментов с участием пациентов-людей и проводимых сейчас в Европе, Северной Америке и Австралии. Но их окончательные результаты будут опубликованы, вероятно, лишь через несколько лет.
Современные исследования диабета явно показывают, что воздействие на нашу иммунную систему – один из путей, какими кишечные микробы могли бы повлиять на другие части организма. Отсюда усиление интереса к выявлению связей микробов с другими аутоиммунными заболеваниями. Внимательному изучению в этом аспекте подвергается, например, ревматоидный артрит.
Это еще одно распространенное аутоиммунное заболевание. При таком недуге иммунные клетки ошибочно полагают, что им нужно уничтожать клетки суставов. Здесь тоже можно заподозрить наличие многостадийного процесса. Широкомасштабные исследования позволяют предположить, что тут оказывает свое влияние целый спектр генетических и экологических факторов. В организме некоторых пациентов соответствующие антитела обнаруживаются задолго до первых признаков болезни, так что изыскания направлены на выявление вторичных триггеров.
По меньшей мере одно микробиомное исследование выдвигает любопытную возможность. Группа Дэна Литмана, работающая в Нью-Йоркском университете, обнаружила, что кишечный микробиом пациентов с недавно диагностированным артритом, пока не подвергавшимся лечению, демонстрирует значительное увеличение численности видов Prevotella, в особенности одного – P. corpi. Данный микроб не обнаруживается в таких же количествах при изучении сравнимых групп здоровых людей. Впрочем, ученые не выявили такое его количество и у тех, кто страдает артритом довольно долгое время.
Пока это лишь еще одно выявленное различие – интригующее, но требующее дальнейшего изучения. То же самое можно сказать и о другом открытии: удалось обнаружить, что в кишечном микробиоме страдающих рассеянным склерозом относительно высоко содержание архей. Можно обратиться к работам, посвященным другим заболеваниям, где имеются указания на возможную связь микробиома с развитием их симптомов. Я сосредоточился на диабете первого типа, поскольку в этом направлении ведется сейчас, похоже, больше всего исследований. Во всяком случае, сейчас можно сделать общий вывод: микробиом (вероятно, посредством иммунной системы) может быть как-то связан со многими заболеваниями человека, но пока слишком рано делать конкретные и точные умозаключения.
Конечно, наука не всегда снабжает нас красивыми и точными ответами, пусть это и обидно – иметь дело с кучей предположений, которые в итоге могут оказаться неподтвержденными. Теперь мы хотя бы способны, так сказать, наслаждаться неопределенностью на более высоком уровне. Такой прогресс четко демонстрирует одна идея из разряда общих предположений. Она пытается увязать иммунную систему, особенности современной жизни и рост заболеваемости недугами, о которых так беспокоится Мартин Блейзер. Речь идет о гигиенической гипотезе.
Обыкновенная грязь
Сенная лихорадка. Само название заставляет думать, что эта хворь сопровождала человечество всегда. Так и представляешь себе крестьян, которые все лето проводят в поле. Однако болезнь эта довольно-таки современная. Чихание и кашель, спровоцированные пыльцой, с большей вероятностью случаются в городе, чем в деревне. По-настоящему врачи обратили внимание на этот недуг лишь в XIX столетии. С тех пор он стал более распространенным.
Сенную лихорадку можно отнести к еще одной группе малопонятных заболеваний, чья причина – чрезмерно активная реакция нашей иммунной системы: в придачу к аутоиммунным заболеваниям человечество терзают разнообразные аллергии. В развитых странах неумолимо растет заболеваемость астмой, пищевыми аллергиями, экземой. Похоже, особенности современной жизни способствует развитию этих досадных, изнуряющих, а иногда и очень опасных недугов[122].
В 1989 году Мартин Стрейчен, шотландский ученый, работавший в Лондоне, опубликовал статью, где анализировал статистику по весьма обширному исследованию детского развития, начавшемуся в Великобритании еще в 1958 году. Он отметил, что если ребенок вырастал в небольшой семье, без братьев и сестер или с малым их числом, то вероятность развития аллергий у него, похоже, оказывалась выше. Возможно, предположил ученый, причина здесь в том, что такие дети в раннем возрасте переносят меньше вирусных заболеваний, будучи менее подвержены контакту с носителями, к примеру, свинки, кори или краснухи. Когда он высказал мысль, что это может также быть связано с более высокими стандартами чистоты, его объяснение окрестили гигиенической гипотезой[123].
Идея состояла в следующем. Если человек избегает подобных инфекций (главным образом вирусных), то работа его иммунной системы нарушается, что позже приводит к ее чрезмерно активной реакции на сравнительно невинные раздражители. Вскоре гипотезу распространили и на аутоиммунные заболевания[124]. Подробности не отличались ясностью, но все это, казалось, укладывается в рамки некоторых простых представлений об нашей иммунной системе как о страстном и своенравном существе, чувствительном к особенностям раннего воспитания. Закаляйте ее регулярными упражнениями, и она вырастет довольной и отлично сбалансированной. Оградите ее от необходимых ранних переживаний, и она вырастет незрелой, болезненной и готовой бурно отреагировать на малейшую провокацию.
Этот карикатурный образ неплохо описывает первые варианты гигиенической гипотезы, однако согласуется и с более недавними данными, подтверждающими, что кишечная микробиота играет важную роль в развитии зрелой иммунной системы. Поскольку изменения в нашем микробиоме шли рука об руку с сокращением заболеваемости детскими вирусными инфекциями, оказалось не так-то просто выделить конкретные факторы современной жизни, влияющие на особенности наших иммунных реакций. Ученые долго размышляли над этим, и в итоге на смену гигиенической гипотезе пришла «гипотеза старых друзей», выдвинутая Грэмом Руком из Лондонского университетского колледжа. В 2003 году он предположил, что рост распространенности аллергических и аутоиммунных заболеваний вызван не избеганием вирусных инфекций, а недостаточным контактом наших современников с микроорганизмами и паразитами, с которыми приходилось иметь дело нашим предкам[125].
Отсюда один шаг до увязывания гигиенической гипотезы с новыми знаниями о кишечном микробиоме. Впрочем, здесь мы вынуждены снова обратиться к тонкостям устройства нашей иммунной системы как таковой и устройства микробной экосистемы у нас в толстой кишке. Да, за последнее время там явно что-то переменилось. Вероятно, это уже как-то сказалось на развитии вашей и моей иммунной системы. Однако число возможных взаимодействий здесь поистине астрономическое, а количество соответствующих экспериментов пока чрезвычайно мало, так что пока не удается с уверенностью сказать, какие эффекты могут иметь место или как повлиять на них в случае необходимости.
Впрочем, представляется вполне вероятным, что мы видим некоторые последствия таких изменений, наблюдая рост заболеваемости аллергическими, аутоиммунными и воспалительными недугами. Об их конкретных механизмах сейчас, как правило, высказываются лишь догадки. Пока данные, которые ученые успели получить при изучении микробиома, еще не позволяют формулировать четкие медицинские предписания, однако уже позволяют нам перевести наши рассуждения на более высокий уровень.
Тот же Грэм Рук предоставляет нам замечательный пример. По мнению ученого, существует простой способ поддержания иммунной системы в состоянии безупречного функционирования. Этот способ не сложнее прогулки в парке.
Грэм Рук предлагает две линии рассуждений, сходящихся к одному выводу. Первая – его переосмысление гигиенической гипотезы (идея о том, что к ряду болезней приводит нехватка наших старых друзей-микробов). Он размышляет так: в ходе эволюционного развития иммунная система человека всегда сосуществовала с организмами из собственного микробиома, передаваемыми ему членами семьи; кроме того, к этому микробному сообществу могут присоединяться другие микроорганизмы из окружения. По мнению Грэма Рука, есть и третий вид влияния – со стороны потенциальных патогенов, с которыми встречались небольшие изолированные группы охотников и собирателей. Такие патогены обычно вызывают преклинические (не устанавливаемые клиническим наблюдением) инфекции с немногочисленными симптомами или вовсе без них (пример таких патогенов – паразитические черви-гельминты).
Однако на ранних стадиях эволюции человечество не ведало о так называемых «инфекциях толпы» (как называет их Грэм Рук) – массовых инфекциях, которые наблюдаются главным образом у жителей крупных городов. Обычные детские вирусы попадают как раз в эту категорию. В современных городах мы по-прежнему подвергаемся воздействию таких вирусов, активирующих иммунную систему, зато свободны от гельминтов. Кроме того, проживание в зданиях, сделанных из современных материалов, помогает нам меньше подвергаться воздействию окружающей среды, чем когда-либо в прошлом. Грэм Рук подчеркивает: «До недавних пор даже наши дома строили из дерева, глины, шерсти и помета животных, из соломы и других природных продуктов, а вентилировались они просто наружным воздухом».
Добавим сюда еще один любопытный эпидемиологический факт. Жители мегаполисов, обитающие поблизости от лесистых участков, в зеленых пригородах, где много парков и садов, во многих отношениях здоровее других горожан. У этих счастливчиков выше средняя продолжительность жизни и меньше вероятность развития депрессии. Возможно, причина в том, что зеленые пространства побуждают нас к большей физической активности? Или в том, что они способствуют общению? А может быть, они кажутся нам привлекательными просто благодаря тому, что чем-то напоминают былые ландшафты, к которым мы так стремимся? Все это – неубедительные объяснения, заявляет ученый. Но постойте, есть ведь и другой механизм! Эти зеленые зоны обеспечивают биологическое разнообразие микробной среды, которого иначе оказалась бы лишена иммунная система человека[126].
Рук отмечает, что жизнь вблизи естественной среды, похоже, приносит больше пользы беднякам – вероятно, из-за того, что богачи чаще путешествуют, имеют второй дом где-то за городом, а может, просто порой играют в гольф, а по выходным водят детей в зоопарк.
Пока это лишь умозрительные рассуждения, однако Рук надеется, что они побудят городских ландшафтных дизайнеров объединить усилия с экологами и специалистами по здравоохранению, чтобы придумывать новые подходы к обустройству наших городов. Это могло бы стать неплохим результатом неустанных размышлений о тонкостях устройства иммунной системы – размышлений, на которые наталкивают наблюдения столь же малопонятных тонкостей устройства микробиома.
Обзор заболеваний, теоретически связанных с микробиотой, оказался бы неполон без рассмотрения некоторых других связей, тоже умозрительных, но все-таки весьма любопытных. Речь идет о связи микробов нашего кишечника с самым сложным органом человеческого организма – мозгом.
Глава 9. Чувствовать нутром
Мышь сидит в центре узкой крестообразной платформы, имея возможность обследовать ее в любых направлениях. Из этих четырех путей два полностью открыты, а два кончаются тупиком. Вся штуковина приподнята над полом на несколько футов. Когда платформа приходит в движение, довольно легко проследить, как часто мышь пробегает по одному из открытых путей и насколько часто забегает в тупики.
Это одна из лабораторных установок для определения психического состояния мыши. Мелкие грызуны не очень-то приспособлены для заполнения анкет, однако их поведение все-таки можно оценить количественно. Если мышь чурается открытых пространств, это считается признаком тревожности, тогда как храброй мышке все равно, видит она стенки или нет.
Как ни странно, такое устройство можно увидеть и в некоторых лабораториях, где занимаются микробиомными экспериментами. Оказывается, состояние популяции микробов в мышином кишечнике влияет на поведение зверька. Это лишь один эксперимент, заставляющий предположить, что наша микробиота воздействует не только на наши метаболизм, иммунную систему и гормоны. Микробы воздействуют и на наш мозг!
Знакомьтесь: ваш второй мозг
Некоторые исследователи уже сейчас рассуждают о том, как бы приспособить бактерии для воздействия на наше настроение. Представьте меню завтрака в 2050 году. Вчерашний день прошел не очень-то удачно, да потом еще и беспокойная ночь. Утром вам очень скверно на душе. Так что вы кладете в тарелку утренних хлопьев лишнюю дозу патентованного средства «Внутреннее солнце», чтобы улучшить свое настроение. Хвала небесам за современные пробиотики! Должно быть, ужасно жилось в те дикие времена, когда человеку приходилось взбадривать себя по утрам двойным эспрессо.
Возможно ли это в реальности? Легко видеть, что массив микробов, живущих в кишечнике, способен влиять на пищеварение. Но как он воздействует на другие органы вплоть до мозга?
Несомненно, мозг и живот общаются. Об этом вам скажет любой, кто чувствовал, как его кишки расслабляются в минуту смертельной опасности. Те из нас, кто живет более размеренной жизнью, тоже готовы признать свою способность «чувствовать нутром». Мы знаем, что стресс порой приводит к расстройству пищеварения. Нам известно, что настроение и аппетит связаны между собой. Так что, вероятно, пресловутые «бабочки в животе» трепещут крылышками именно из-за бактерий.
Возможность того, что бактериальные популяции кишечника влияют на мозг, подтверждается тем, что между кишечником и нервной системой существуют тесные взаимосвязи. Собственно, в кишечнике столько собственных нейронов, что его даже окрестили вторым мозгом. Как ни удивительно, он представляет собой независимый центр нейронной деятельности; кишечник действительно играет в организме важную роль. Если вы отсечете другие органы от нервной системы, они перестанут работать. А вот кишечник, пока его снабжают питанием, продолжает делать свое дело – в частности, регулировать пищеварение путем перистальтических сокращений, которые проталкивают частично переваренную пищу вдоль кишок.
При этом кишечник поддерживает и прямую связь с настоящим мозгом благодаря отростку блуждающего нерва. Это одна из магистральных дорог нервной системы, соединяющая ствол мозга с сердцем и легкими, а не только с кишечником. Информация по ней передается в обоих направлениях. Многочисленные функции этой магистрали с давних пор интенсивно изучаются.
Все эти информационные потоки между кишечником и мозгом, похоже, лишь увеличивают вероятность того, что кишечные бактерии и мозг действительно способны общаться друг с другом. Однако выявить и локализовать конкретные эффекты нелегко.
Погружение в историю медицины лишь усиливает мою настороженность насчет громких заявлений о взаимодействии мозга и кишечных бактерий. Невольно вспоминается кратковременная мода начала 1900-х, когда все виды болезней, физических и психических, объясняли действием бактерий толстой кишки (тогда их как раз недавно открыли). Идея основывалась на микробной теории. Считалось, что большинство бактерий вредны. Те, что обитают у вас в толстой кишке, тоже скорее всего вредны, поскольку выделяют нехорошие вещества, оказывающие дурное воздействие: этот процесс получил наукообразное название аутоинтоксикации, или кишечной токсемии. Сэр Уильям Арбутнот-Лейн, шотландский хирург, которого известный автор научно-популярных книг Мэри Роуч именует «воинствующим копрофобом», считал толстую кишку просто канализационной трубой организма и всячески поддерживал энтузиастов удаления больших ее фрагментов операционным путем (теперь такой энтузиазм кажется несколько странным). Подобные убеждения цепко держались в медицине, несмотря на то что при соответствующих операциях погибало большое число пациентов. Вероятно, среди самых печальных результатов этой методы – 75 летальных исходов у 250 пациентов, чья толстая кишка подверглась такому хирургическому вмешательству в одной американской клинике для душевнобольных всего в течение трех лет – с 1919 по 1922 год.
Теория (если это не слишком сильный термин в данном случае) аутоинтоксикации также поощряла применение одной процедуры, связанной с раздражением толстой кишки. Кое-где она применяется до сих пор. Вы ее на себе испытывали? Я – нет. Делается это так: обычную процедуру опорожнения последнего участка толстой кишки (производимую в туалете) дополняют впрыскиванием воды в задний проход для избавления от (якобы) вредоносных отложений, которые могли остаться на стенках кишечника.
Идея аутоинтоксикации также помогала сбывать первые пробиотики, начиная с йогурта; его очень рекламировал Илья Мечников, полагавший, что Lactobacilli – лучший вид бактерий для кишечника[127]. Как он уверял читателей популярного американского журнала Cosmopolitan (тезки, но не родственника современного издания), «мы боремся с микробом при помощи микроба». Вскоре рынок заполонили пробиотические микстуры и таблетки, обещавшие «научную» помощь в обретении и поддержании хорошего самочувствия. Потребителей убеждали, что такие средства особенно действенны для профилактики неврастении (этот общий диагностический ярлык навешивался тогда на многие нервные заболевания и депрессии). Вся эта рекламная кампания очень напоминает то, как в наши дни частенько продают средства альтернативной и комплементарной медицины или «продукты для здоровья». Сделайте несколько не очень конкретных заявлений о каких-то туманных расстройствах, чьи предполагаемые симптомы большинство людей наверняка иногда обнаруживает у себя. Затем, потирая руки, наблюдайте за потоком денег, который к вам польется.
При серьезной проверке неизменно оказывалось, что никаких хваленых преимуществ этих средств обнаружить не удается. Поэтому использование пробиотиков как своего рода психического тоника постепенно вышло из моды после 1930-х годов. Тем не менее одним из самых неожиданных результатов развития новых представлений о нашем кишечном микробиоме стало выявление связей между мозгом и нервной системой. Не исключено, что пробиотики, влияющие на настроение, смогут когда-нибудь стать ценной альтернативой психотропным препаратам.
Тесно связанные
Вспомните о четырех великих коммуникационных системах, на работу которых полагается наш организм. Как выясняется, кишечник и населяющие его микробы могут влиять на мозг посредством каждой из этих систем. Существует немаловажная сеть прямых нервных связей между кишечником и мозгом. Эндокринная система передает послания при помощи химических веществ, при этом список сигнальных молекул бактериального происхождения частично перекрывается с обширным каталогом наших собственных сигнальных молекул (в области перекрывания находятся, скажем, некоторые гормоны и нейротрансмиттеры). Некоторые из таких гормонов способны воздействовать на экспрессию генов, тем самым подключая систему номер три – генетическую. Общее влияние микробиоты на четвертую сеть, иммунную систему, и на возникающие в ней реакции и воспаления может оказывать опосредованное воздействие почти на все участки организма, в том числе и на мозг.
Одно место кажется особенно многообещающим для тех, кто выискивает специфические эффекты в этом сложнейшем комплексе взаимодействий. Мы знаем, что многообразные штаммы кишечных бактерий производят сигнальные молекулы, выполняющие определенные функции в организме. В числе таких веществ нейротрансмиттеры, например, гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), ацетилхолин, дофамин[128]. Некоторые вещества обнаруживали у мышей с активным микробиомом в более высоких количествах, нежели у их безмикробных собратьев (по крайней мере в кишечнике). Такие находки заставляют предположить, что соответствующие бактерии влияют на уровень содержания этих молекул, оказывающих сильное влияние на организм.
Марк Лайт из Техасского технологического университета вот уже два десятка лет твердит, что все это говорит о необходимости создания новой междисциплинарной отрасли науки – бактериальной эндокринологии. С учетом долгой истории микробиологии даже удивительно, почему эти факты привлекли внимание ученых лишь недавно. Лайт любит рассказывать, как он впервые выступил с сообщением на эту тему – в 1992 году, на общем собрании Американского микробиологического общества. На его доклад явились двое. Один вскоре сбежал, и в зале остался единственный слушатель, да и тот – лаборант самого Лайта[129].
Впоследствии, по мере накопления новых открытий в изучении микробиоты Лайт подчеркивал, что имеется в виду двусторонняя коммуникация между организмом-хозяином и его микробами. По выражению Лайта, «в кишечнике существует своего рода микробный орган, бактерии которого общаются не только с организмом-хозяином, но и друг с другом – благодаря выделению и распознаванию нейроэндокринных гормонов, причем вся эта система имеет долгую общую эволюционную историю»[130].
Пока удается (благодаря опытам на животных) получать лишь намеки на то, что такое перекрывание наборов и функций молекул оказывает заметное влияние на мозг. Дополнительная трудность в интерпретации результатов возникает из-за того, что приходится допускать: то, что могут проделывать мыши и крысы, как-то соответствует состояниям человеческого сознания. Рассмотрим не самый отталкивающий пример – эксперимент с «принудительным плаванием». Крысу или мышь бросают в наполненный водой цилиндр, из которого она не может выбраться самостоятельно. Если зверек прекращает всякие попытки оставаться на плаву при помощи яростных плавательных движений и замирает, такое поведение называется депрессивным.
По данным некоторых экспериментов, крысы, которых кормили соевым молоком, обогащенным ГАМК, плавали активнее, чем контрольная группа, которой давали обычное молоко. Похожую картину наблюдали для животных, которых потчевали флуоксетином – антидепрессантом, похожим на прозак. Так что, возможно, большая доза бактерий, вырабатывающих ГАМК, оказывала бы на бедняжек сходное действие.
Экстраполировать поведение мелких грызунов на поведение человека трудно. Еще одна трудность состоит в том, что в процессе эволюции древние сигнальные молекулы порой обретают множественные роли. Возьмем ту же ГАМК. Эта маленькая аминокислота задействована в работе нервной системы, где она обычно служит нейротрансмиттером. Однако она оказывает влияние и на иммунную систему, обычно ослабляя воспаления. А значит, нам требуется установить, каким образом выделяющаяся в кишечнике ГАМК действует на мозг (если такие воздействия вообще имеют место) – посредством нервной системы, иммунной системы или же обеих систем одновременно. Для того чтобы это определить, потребуются изнурительные опыты на мышах или крысах с известным составом микробиома, в котором имеются виды бактерий, способные вырабатывать определенные нейроактивные молекулы (или в котором нет таких видов). Если результаты покажутся перспективными (то есть, как в данном случае, позволят выстроить убедительные причинно-следственные связи), из кишечника грызунов, участвующих в эксперименте, придется брать пробы и подвергать их химическому и микробиологическому анализу – одновременно с фиксацией поведенческих особенностей. Результаты этих опытов предоставят недвусмысленные улики, способные убедить колеблющихся присяжных в том, что данные микробы действительно заставляют грызунов вести себя именно так, а не иначе.
«Мне салат, а моим маленьким друзьям бургер и молочный коктейль»
Новые подтверждения того, что микробы способны влиять на наше поведение, открывают возможности, от которых становится не по себе. Если выясняется, что это вполне нормально – иметь кишечник, где полным-полно бактерий, все же нет никаких оснований полагать, будто они пекутся о наших интересах. Размножаются они независимо. А значит, гласит эволюционная теория, будут оказывать нам услуги лишь до тех пор, пока это будет приносить выгоду им самим.
Джон Олкок и его коллеги по Университету Нью-Мексико заявляют: мы знаем, что на состав кишечных бактерий влияет наш рацион и разные виды конкурируют между собой. Если какие-то бактерии найдут способ заставлять нас есть то, что им нравится, они добьются большего жизненного успеха по сравнению с обитающими в том же самом кишечнике другими видами, которым не удастся повлиять на нас подобным образом.
Ученые полагают, что такое влияние может осуществляться путем вызывания у нас острой потребности в определенной пище (скажем, жирной или сладкой). Они подчеркивают: по данным некоторых исследований, в моче любителей шоколада обнаруживается иной состав микробных метаболитов по сравнению с мочой тех, кто равнодушен к этому продукту, даже если рацион этих людей идентичен. Явно подозрительно. Хотя если диеты так и останутся идентичными, тогда, вероятно, «любовь» испытуемых к шоколаду не столь уж сильна[131].
Но мы знаем и о других, более зловещих манипуляциях, которые производит микробиота. Наиболее тревожно в этом смысле то, что Toxoplasma gondii, неприятные паразитические простейшие, могут лишать крыс страха перед кошками. Кошка – основной организм-хозяин этого вида бактерий, к тому же единственный, в котором они, эти микроорганизмы, способны размножаться половым путем, так что съедение крысы (где живет паразит) кошкой в интересах паразита. И дело тут не только в том, что крыса перестает бояться кошек. Зараженные этим микроорганизмом крысы могут испытывать сексуальное возбуждение от одного запаха кошачьей мочи[132].
Не знаю, возбуждает ли вас кошачья моча, однако вы явно делаете кое-что в интересах некоторых ваших кишечных микробов и в ущерб интересам остальных. Вполне вероятно, что бактерии задействованы в потоках соответствующих сигналов и поощряют нас потреблять пищу, которая нравится этим бактериям, или же просто побуждают нас есть больше. Возможные пути передачи такого воздействия разнообразны; ученые выдвигают самые изобретательные версии того, как это происходит. Пример наиболее окольной передачи сигнала приводят Олкок и его группа: постоянный плач младенца, страдающего кишечными коликами, часто сопровождается изменением состава кишечной микрофлоры. Кроме того, таких детей обильнее кормят. Возможно, бактерии так сигнализируют родителям ребенка, что нуждаются в дополнительном питании?
Бактерии даже могут оказывать на нас влияние, вызывая боли в кишечнике посредством выделения токсинов, когда пищевые ресурсы бактерий подходят к концу. Слишком грубый и неизбирательный сигнал? Но, возможно, некоторые попытаются успокоить неприятные ощущения в животе, съев продукты, снабжающие бактерии недостающими питательными веществами. Опыты на мышах демонстрируют отличия вкусовых рецепторов на жиры и сахар у безмикробных мышей по сравнению с их обычными собратьями. Так что наши кишечные бактерии, возможно, способны не только наказывать нас, но и награждать.
Все эти механизмы действуют не напрямую, однако нейроэндокринные каналы предоставляют массу возможностей непосредственного воздействия на аппетит – и в смысле желания побольше съесть, и в смысле пристрастия к определенным продуктам. Пока все эти гипотезы остаются по большей части не проверенными на человеке, но авторы делают предсказания, способные послужить основой большой исследовательской программы. Так, они предполагают, что пищевые пристрастия порой заразны: микробы, предпочитающие определенную пищу, усиливают аппетит, к тому же люди, живущие вместе, обладают общей микробиотой, а не только сидят за общим обеденным столом. Участники вечной дискуссии о причинах ожирения несомненно получили бы богатую пищу для размышлений из следующего вывода авторов: «Самоконтроль над пищевыми предпочтениями может проявляться и в подавлении микробных сигналов, берущих начало в кишечнике»[133].
Тайная подоплека аппетита
Сегодня многие ученые полагают, что состояние кишечной микробиоты может влиять едва ли не на любое расстройство мозговой деятельности, нервной системы или поведения, в том числе на неполадки с настроением (аффективные расстройства), шизофрению, аутизм, синдром хронической усталости, а не только находиться под их влиянием. Пока самые убедительные свидетельства касаются наиболее распространенных психических неприятностей – депрессии и состояния тревожности.
Одно из направлений сбора доказательств в этой сфере – изучение воздействия ЛПС. Как мы уже упоминали, это класс соединений, торчащих из клеточной стенки некоторых бактерий и привязанных к ней липидным хвостиком. Липидная часть может провоцировать целый каскад эффектов, многие из которых приводят к активации иммунных клеток и выделению молекул, способствующих воспалению.
ЛПС помогают скреплять внешнюю мембрану бактерий, которые вырабатывают эти соединения, так что производство их идет вовсю. В каждый данный момент времени в вашем кишечники может содержаться целый грамм этих веществ. Уже микрограммовые их количества способны вызвать острую реакцию, так что иметь в себе эти соединения рискованно. В крови здоровых людей содержатся исчезающе малые количества этих веществ, но если через кишечный барьер проникнет чуть больше, чем следует, это спровоцирует слабое общее воспаление, которое связывают с опасными для здоровья эффектами.
Одна из кишечно-мозговых связей здесь оказывается как бы перевернутой вверх тормашками. Некоторые эксперименты на животных заставляют предположить, что личная история живого организма может снижать его сопротивляемость воздействиям ЛПС и других неприятных компонентов. Мыши, которым вводят дозу ЛПС и хвосты которых при этом подвергаются удару током (при использовании одной жестокой, но, без всякого сомнения, эффективной методики), по сравнению с не терзаемыми подобным стрессом собратьями выделяют больше воспалительных сигнальных веществ (цитокинов). Разумеется, нам известно, что у человека кишечник может и откликаться на стрессовое воздействие, и вызывать его. Симптомы, относимые к синдрому воспаленного кишечника, сами по себе довольно угнетающи, к тому же они усугубляют стресс, который вносит свой вклад в развитие таких заболеваний; получается порочный круг. Но сейчас нас интересует непосредственное влияние на мозг.
На мышах проводят и другие эксперименты, тоже приводящие к многозначительным умозаключениям. Однако не все эти данные указывают на одно и то же. Первые результаты вроде бы позволяли предположить, что безмикробные мыши испытывают более острый стресс, что вполне согласуется с более низким содержанием в их организме ключевого вещества (нейротрофического фактора мозга, или НФМ), влияющего на нейронное развитие гиппокампа. Этот небольшой участок мозга, как известно, является центром памяти и обучения.
Однако другие исследования демонстрируют противоположные эффекты. Взять хотя бы линии мышей, известных генетической предрасположенностью к скромности и застенчивости (по мышиным меркам); этих зверьков можно убедить вести себя менее робко, вводя им дозу антибиотика, который также способствует резкой активизации выработки НФМ[134]. Кроме того, проводились эксперименты на безмикробных мышах, испытывавших меньший стресс по сравнению с контрольной группой, обладавшей нормальным кишечным микробиомом. Безмикробные мыши, опять-таки, вырабатывали больше НФМ.
Поведенческие различия, выявленные в последней работе, сохраняются и после того, как взрослых безмикробных мышей наделяют микробиомом, так что эти вещества, вероятно, влияют на развитие мозга, когда мыши растут[135]. С другой стороны, такие эксперименты на мышах включают и опыты с переносом микробиомов. Складывается впечатление, что микробиомы как бы переносят с собой и особенности поведения мыши. Робкую разновидность мышей (так называемую линию BALB/c) можно превратить в разновидность, напоминающую ту, представительницы которой обычно отличаются более любознательным нравом. Для этого безмикробным мышам подсаживают нужный кишечный микробиом. Результат довольно впечатляющий. Мало того: «храбрая» линия становится «беспокойной» при колонизации организма мыши соответствующим кишечным микробиомом. Каким образом это происходит? Мы пока не знаем.
Если уж кишечник и его микробы действительно способны оказывать заметные воздействия на мозг, то влияние мозга на микробиоту продемонстрировать даже легче. Очередные опыты на мышах указывают на то, что ключевой элемент здесь – стресс. Как правило, он снижает видовое разнообразие микробов кишечника и способствует развитию воспалений; этот эффект часто проявляется и всегда отслеживается. Логично предположить, что в подобных случаях может возникать своего рода петля обратной связи. Под воздействием стрессовых факторов микробные популяции могут нарушать системы управления воспалительными цитокинами, оказывающими воздействие и на мозг: в частности, они, как полагают некоторые, увеличивают риск развития депрессии.
Проверить эти идеи на человеке куда труднее, чем проводить опыты на мышах. Поскольку пока неизвестно, каковы причины психических расстройств, значительная доля исследований ограничивается фиксацией изменений, которые, возможно, иногда связаны с тем или иным заболеванием и на которые могла бы воздействовать кишечная микробиота. Так, в мозговой ткани выявляются антитела на клетки организма-хозяина; в кишечном эпителии обнаруживаются изменения, создающие в нем «течь» и делающие его более проницаемым для малых молекул, а возможно, и для некоторых бактерий; отслеживаются и перемены в так называемом гематоэнцефалическом барьере. Объедините все это, и вы легко представите себе сценарий, по которому воздействие распространяется от бактерий к кишечнику, к мозгу, на поведение или психическое состояние. Подобные сценарии явно существуют на самом деле для таких разных недугов, как шизофрения, отклонения в настроении (аффективные расстройства), обсессивно-компульсивные расстройства, аутизм, синдром дефицита внимания, анорексия, нарколепсия, синдром хронической усталости. В целом же пока очень трудно установить четкие взаимосвязи для какого-либо из этих случаев, тем самым наконец-то найдя хоть какое-то практическое применение одному из крупных современных открытий – тому факту, что наряду с осью «кишечник – мозг» существует ось «микробиом – кишечник – мозг». Я попробую рассмотреть лишь еще одну такую попытку. Заодно мы послушаем типичные для современной науки дискуссии.
Создание возмущений?
На первый взгляд может показаться, что аутизм – подходящий кандидат для микробных штудий. Хотя причины этого все шире распространяющегося недуга неизвестны, обычно его относят к расстройствам нейроразвития. Хорошо известно, что у детей с симптомами аутизма часто имеются проблемы с пищеварительной системой: вероятность диареи и запора для них выше, чем для других детей. То же самое касается синдрома воспаленного кишечника (беда не ходит одна). Однако точно установить, насколько сильна эта связь, непросто. Различные исследования показывают большой разброс заболеваемости желудочно-кишечными расстройствами у аутистов (от 9 до 90 %).
Образцы микробиоты, конечно же, показывают отличия в кишечной микрофлоре аутистов и неаутистов: у первых обычно более низкое видовое разнообразие микробов, а также иной видовой состав. Опыты на мышах позволяют увязать сходным образом измененную микробиоту с «протекающим кишечником», который приводили в нормальное состояние при помощи B. fragilis или Bacteroides thetaiotaomicron, тем самым устраняя некоторые симптомы, напоминающие аутические. Исследователи, сообщившие об этом, также входят в группу Саркиса Мазманяна. Они предполагают, что отсюда может лежать путь к разработке методов пробиотической терапии для людей[136].
Изменения, которые в этих экспериментах приводили к «псевдоаутическому» поведению у мышей, достигались так: беременных матерей этих мышей подвергали воздействию определенного вируса, тем самым как бы воспроизводя аналогичную человеческую ситуацию – заражение будущей матери гриппом, которое, как полагают, способствует развитию аутизма у ее детей. Бактерии, вводимые мышам позже, не привели к исчезновению всех симптомов. Относительная нелюбовь таких зверьков к социальному взаимодействию сохранилась на прежнем уровне и после изменения микробиома. Пессимист мрачно заключил бы, что, используя такой подход, можно создать средство для облегчения каких-то (но не всех) аутических симптомов у какой-то (пока неопределенной) группы аутистов, чьи микробиомы удалось бы изменить определенным образом.
Аутизм, вероятно, представляет собой целый набор расстройств, каждое из которых может иметь не одну причину. Что касается человека, то ученым необходимо продолжать исследования, чтобы установить, какие отличия в кишечной микрофлоре обнаруживаются регулярно (и наблюдается ли вообще такая регулярность отличий). Опубликованный в 2013 году системный обзор уже проведенных экспериментов, касающихся человека, выявил слишком малые объемы выборок, недостаточную стандартизацию и «как правило, низкое методологическое качество работы»[137]. Чтобы прийти хоть к каким-то четким и определенным выводам, замечают авторы обзора, нужны «более широкие исследования более высокого качества». В то же время наверняка будут проводиться тесты пробиотиков – либо организованные по всем правилам и нацеленные на публикацию в научных изданиях, либо персональные тесты, затеянные пациентами в надежде на улучшение самочувствия.
Возможно, их обнадежит одно исследование, где излюбленный аппарат нынешних нейрофизиологов, магнитно-резонансный томограф, использовался для того, чтобы выяснить, можно ли сделать воздействие пробиотиков видимым. Похоже, это удачный обходной маневр: этические ограничения для экспериментов на человеке несколько строже, чем для опытов на мышах. Магнитно-резонансная томография (МРТ) – метод неинвазивный. Он просто говорит: в мозгу что-то происходит. Особенно этот метод подходит, когда требуется выявить усиление притока крови к каким-то участкам мозга; оно означает, что, видимо, в этих областях увеличивается и метаболическая активность. Речь идет просто об информированных догадках, не более того. Но если я читаю, что кто-то объединил в одном исследовании пробиотики и МРТ, мне все-таки хочется узнать подробности. Кирстен Тиллиш из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе на протяжении 12 недель дважды в день давала 12 испытуемым женщинам йогурт, содержащий четыре разновидности живых бактерий. Затем она показывала участницам опыта изображения людей, на лицах которых была злоба или страх, и смотрела, как выглядит мозг женщин в томографе. Выяснилось, что значительное количество малых участков мозга, по-видимому, работает у них менее интенсивно, чем у тех, кто входил в две контрольные группы – одна состояла из женщин, которым давали не подвергавшееся брожению молоко, другим же вообще не давали молочных продуктов. По словам исследователей, число затрагиваемых при этом участков мозга вписывается в картину «ослабления активности зон, принадлежащих к сенсорной мозговой сети»[138].
Итак, в этом небольшом исследовании все-таки удалось выявить изменения в мозгу. Они происходили только у тех, кому давали пробиотики. Отсюда вроде бы следует вывод, что (как и сказано в статье, опубликованной исследователями) пробиотики способны модулировать деятельность мозга. Слово модулировать выбрано с большой осторожностью: оно означает, что какая-то разновидность сигнала каким-то образом меняется в ходе процесса, который мы пока не очень-то понимаем. Пока мы не продвинулись дальше, если говорить о реальных фактах. Если же обратиться к умозрительным гипотезам (о пробиотиках узконаправленного действия, влияющих на настроение или даже способных помочь в предотвращении или лечении депрессии либо других расстройств), то в полученных результатах нет ничего, что позволило бы раз и навсегда перечеркнуть такую возможность. Хотя некоторые результаты опытов на животных выглядят весьма обнадеживающими и перспективными, придется подождать еще несколько лет, прежде чем мы сумеем получить четкую и полезную в практическом смысле информацию, напрямую касающуюся человека.
Тяжелая проблема
Я мог бы рассказать здесь обо всех прочих расстройствах, которые, подобно аутизму, внесены в список недугов, подверженных (возможно) влиянию связей «микробиом – кишечник – мозг». И в каждом случае мы пришли бы к одному и тому же выводу: мы имеем дело с очень многообещающей областью исследований. Так как она совсем недавно начала развиваться по-настоящему, мы кое-что знаем, но не очень много. А понимаем еще меньше.
Не удивительно: ведь мы пытаемся ввести в нашу схему еще один орган, фантастически сложный. Специалисты по философии сознания называют истоки возникновения разума в мозгу тяжелой проблемой, подчеркивая, что мы пока не можем решить ее удовлетворительным образом. Понимание устройства оси «микробиом – кишечник – мозг» является еще одной тяжелой проблемой. Чтобы разобраться во взаимодействиях микробиома и остальных частей суперорганизма, нужно обладать пониманием биологических систем, требующим интеграции многих дисциплин. Волей-неволей мы вынуждены обратиться к нейрофизиологии, которая сама по себе полна удивительных фактов и теорий, причем многие результаты нейрофизиологических исследований пока совершенно непонятны.
Есть и еще одно интересное осложнение: разум способен влиять на тело (а возможно, и наоборот), даже когда, казалось бы, ничего не происходит. Так проявляется (во всевозможных формах) эффект плацебо, имеющий большое значение для медицины. Вот один интригующий пример. Дайте страдающим синдромом раздраженного кишечника таблетку плацебо («пустышку») и сообщите им, что это плацебо. Получается очень хитроумная игра – какой-то двойной блеф. Вместо того чтобы дать некоторым пациентам плацебо и уверить их, что это реальное лекарство, экспериментаторы честно говорят им, что это пустышка, хотя и похожая на таблетки, которые, как показали предшествующие опыты, ослабляют неприятные кишечные симптомы посредством «самоисцеления организма благодаря связи сознания и тела». Эффект плацебо все равно достигался. Пациенты, которых предупредили, что им дают фальшивый препарат, сообщали о вдвое более сильном улучшении состояния (с точки зрения симптомов), чем пациенты из контрольной группы (которым не давали вообще никаких препаратов – ни подлинных, ни фальшивых)[139]. Пока это лишь единичное наблюдение. Но оно интригует, ведь именно такие заболевания всё чаще становятся объектом внимания исследователей микробиома, надеющихся принести облегчение пациентам, добившись понимания воздействия кишечных микробов. А теперь выясняется, что облегчения можно достичь, в сущности, просто говоря пациентам, что они будут чувствовать себя лучше. Полезное напоминание о том, насколько запутанны, должно быть, причинно-следственные цепочки между кишечником, сознанием и собственно мозгом.
Мы продолжаем пытаться как-то увязать их воедино. Однако их можно рассматривать и как куда более сложные взаимодействия. Дело в том, что у микробиома имеется еще один аспект, остающийся пока относительно не изученным. Речь идет о вирусах внутри нас.
Глава 10. Вирусы – это тоже мы
Искусство различать мелкие объекты в сплошной массе фрагментов ДНК-последовательностей развивается сейчас очень быстро. В июле 2014 года о новом исследовании массива данных, полученных при анализе образцов человеческого микробиома, стало известно всему миру; оно позволило обнаружить в экскрементах человека неведомый нам прежде бактериальный вирус.
В чем же тут сенсация? Главным образом в том, насколько распространенным он оказался. Его выявили в трех четвертях исследованных проб – из Европы, Кореи и Японии. Выяснилось, что именно ему принадлежит примерно четвертая часть всех вирусных ДНК в микробиомах некоторых людей.
Статья об этом исследовании, проведенном научной группой из Университета Сан-Диего, лишний раз напомнила, как мало мы знаем о нашем микробиоме. Мы неплохо представляем себе, какие грибы живут на человеке и сколько на нем обитает эукариот. За последнее десятилетие мы разгадали много загадок нашей бактериальной популяции. Но сейчас мы лишь начинаем по-настоящему оценивать то, что может оказаться столь же важной, как и бактерии, частью общей картины, – вирусы.
Наша собственная темная материя
Джонатан Свифт, этот великий сатирик, кое-что знал о биологии уже в XVIII столетии. В его стихотворном сатирическом трактате «О поэзии. Рапсодия» имеется обаятельный отрывок, даже ставший популярным детским стишком:
Заметили натуралисты: на блохе живут другие блохи, меньше ростом, на них же кормятся другие, еще мельче, и так до бесконечности, друзья.На клеточном уровне эти «более мелкие блохи» – кусочки жизни, которые мы именуем вирусами. У бактерий тоже есть вирусы. Наряду с потоком новой информации о бактериях в научный оборот поступает и более скромный ручеек результатов, которые позволяют нам постепенно осознавать новый сложный слой микробиоты (а значит, и нашего суперорганизма), внося коррективы в наши представления о том, как она себя ведет и как эволюционировала.
Вирусы – скорее паразиты, чем симбионты. Они состоят из маленьких геномов в простенькой оболочке, и для размножения им требуются живые клетки. Вирусы, которые используют для этого бактерии, называются бактериофагами (или просто фагами). Название происходит от греческого phagein («пожирать»), но если вы посмотрите на них под микроскопом, то увидите, что они не едят путем окутывания собой: нет, они внедряются в бактериальные клетки, а потом заставляют их лопаться, едва те наполнятся новыми вирусными частицами.
Подобно клеточной жизни, вирусы присутствуют повсюду и в гораздо большем количестве, чем нам казалось раньше. Недавние открытия, касающиеся числа морских вирусов, заставили пересмотреть оценку их количества в сторону резкого увеличения. Вплоть до конца XX века считалось, что вирусы попадают в море из рек и канализационных стоков. Теперь мы знаем, что в каждом литре океанской воды содержится 100 миллиардов вирусов. А значит, общее число вирусов в биосфере в 10 миллионов раз больше, чем количество звезд в наблюдаемой части Вселенной[140]. Неплохой объем биомассы! Если собрать вирусы из всех океанов, в совокупности они будут весить столько же, сколько 75 миллионов синих китов[141].
В биологии можно применять приблизительное правило: бактериофагов в каждой данной среде обитания примерно в десять раз больше, чем бактериальных клеток. Похоже, это относится и к человеческому кишечнику. Если учесть, скольким бактериям мы даем приют, нетрудно понять, что речь идет, мягко говоря, об очень большом количестве вирусов. Один из первых намеков на их разнообразие появился в 2003 году: в одном-единственном образце человеческого кала выявили более 1300 вирусных генотипов. Большинство из них принадлежало бактериофагам, которых никто никогда раньше не видел.
Сегодня известно, что один грамм фекалий содержит от 10 до 100 миллиардов бактериофагов. Это очередная новая оценка, вынуждающая меня задуматься над тем, каково было ученым в те времена, когда наука стала утверждать, что мир простирается дальше, чем людям казалось прежде. Взять хотя бы открытие геологического «глубокого времени», когда перед жителями Викторианской эпохи, заглянувшими в прошлое, вдруг разверзлась неведомая прежде хронологическая бездна в сотни миллионов лет. Теперь же мы можем после опорожнения кишечника заглянуть в унитаз и подумать о том, что в нем, вероятно, присутствуют миллиарды бактериофагов, которые совсем недавно, всего несколько наших мышечных сокращений назад, поджидали случая размножиться внутри бактерий, обитающих у нас в толстой кишке.
Вирусы перехватывают управление вырабатывающей белки аппаратурой клетки-хозяина, так что рибосомы им не требуются. А значит, не существует вирусной 16S РНК и соответствующего быстрого метода идентификации типов вирусов, имеющихся в образце. Исследователи вынуждены прибегать к более сложным, масштабным и утомительным процедурам, секвенируя миллионы кусков ДНК и пытаясь выяснить, какие из них вирусного происхождения. Поскольку большинство выявляемых сегодня вирусов ученые никогда не наблюдали раньше, работа во многом идет наугад. В ходе некоторых исследований образцы предварительно очищают от бактериальных и человеческих клеток, а также от того, что похоже на невирусные ДНК-цепочки. Затем секвенируют то, что осталось. Вероятно, при этом теряется порядочная часть вирусной ДНК. Как всегда, есть альтернативный путь: запустить умные машины и секвенировать вообще всю ДНК, содержащуюся в образце. Так мы избежим потерь материала, зато доведем до максимума количество последовательностей, соответствия которым неизвестны.
Наши знания о мириадах вирусов (разделяющих с микробами все уголки тела, где те обитают) остаются отрывочными, но они быстро пополняются и расширяются. Простой отбор проб и простое секвенирование дают массу результатов, которые трудно интерпретировать без общего представления об изучаемой популяции. Такое представление должно быть динамическим, поскольку вирусные популяции (так же, как и гены индивидуальных видов вирусов) способны быстро меняться. Сейчас, в начале пути, уже есть указания на то, что наши индивидуальные виромы отличаются даже сильнее, чем бактериальные популяции, которые мы несем в себе и на себе. Пробы, взятые у разных людей, могут давать почти не перекрывающиеся вирусные профили. Может оказаться, что не существует никакого «постоянного вирома» – иными словами, набора вирусов или вирусных генов, которые обычно всегда находятся где-то в нашем организме, какие бы дополнительные формирования ни укрепляли эту армию. Генетические подробности вирусов известны так мало, что некоторые ученые даже заговорили о «биологической темной материи». Концепцию темной, невидимой, необнаруживаемой материи космологи придумали, чтобы как-то объяснить некоторые наблюдаемые во Вселенной гравитационные взаимодействия. Впрочем, вирусная темная материя не является невидимой или необнаруживаемой, просто ее необычайно трудно заметить. Еще одну метафору предложила в 2013 году группа ученых из Брайтонского университета: существует множество «подсознательных» вирусных последовательностей[142]. Обычно они проявляют себя очень слабо и почти не различимы, но при помощи подходящих инструментов их все же можно анализировать. Кроме того, более ранние исследования позволили вывести о таких вирусах несколько общих умозаключений, в которых ученые более или менее уверены. Некоторой ясности удалось добиться при подробнейшем изучении отдельных бактериофагов, особенно тех, что заражают собой все ту же бактерию E. coli – известную любимицу генетиков. Малый размер генома и стремительное размножение вирусов позволяют проводить на них быстрые и иногда сравнительно простые эксперименты. Самая первая полная геномная последовательность, опубликованная еще в 1977 году, представляла собой маленькое замкнутое кольцо ДНК бактериофага phiX174. В нем содержится 5300 нуклеотидных оснований, кодирующих всего 11 белков. Между прочим, в 2003 году тот же крошечный геном удалось соорудить искусственным путем в лаборатории Крейга Вентера. Так что phiX174 уж точно обеспечено место в истории.
Однако нам нужно знать, как и что работает в безбрежном океане вирусов. А для этого мало собрать один-единственный бактериофаг. Незаменимую помощь оказывает здесь современная молекулярная генетика, недавно показавшая, как вирусы, в том числе обитающие в нас постоянно, взаимодействуют с другими организмами.
Вирусы делают гены подвижными
Бактерии и их многочисленные вирусы совместно эволюционируют вот уже миллиарды лет. Каждый бактериофаг умеет распознавать специфическую для себя цель на поверхности бактерии. Обычно он нацелен лишь на один вид бактерий. В бактериальных видах и их вирусах постоянно происходят небольшие изменения, которые влияют на это взаимодействие. Бактериофаг меняется быстрее, чем бактерия, поскольку у него выше скорость размножения, а зачастую и скорость мутации. И в самом деле, вирусы, судя по всему, очень глубоко вовлечены в эволюцию не только бактерий, но и других организмов.
У бактериофагов есть два основных пути использования бактерий. Они могут вторгнуться в клетку, переключить механизмы, которые в ней уже имеются, на производство миллионов своих копий, а когда клетка под их напором лопнет, найти себе другую мишень-жертву. Или же они могут действовать в скрытом режиме: вирусный геном копируется в ДНК клетки-хозяина и проходит репликацию вместе с бактериальной хромосомой каждый раз, когда микроб делится. К плану А вирус возвращается, лишь когда для бактерии наступают тяжелые времена и ее размножение оказывается под угрозой. Тогда происходит массовое размножение вируса, клетка гибнет, и фаг отправляется искать новое временное пристанище. До этого бактерия и бактериофаг мирно сосуществуют. Иными словами, у наших бактериальных симбионтов есть собственные симбионты.
Эта несколько пугающая способность вирусов встраивать свою ДНК в клетку-хозяина оставила следы в геномах всех организмов, которые мы изучили, – не только бактерий, но и эукариот. Ретровирусы (немаловажный класс вирусов, куда входит и ВИЧ) получили такое название, поскольку сохраняют в себе генетическую информацию РНК – молекулярной кузины ДНК, а эту информацию можно копировать на ДНК при помощи фермента, именуемого обратной транскриптазой («ретро» в нашем сознании соотносится с прошлым, с движением вспять, с чем-то «обратным»). Так называемые эндогенные ретровирусы представляют собой фрагменты хромосомной ДНК, скопированные из вирусов, которые обычно несут свои гены на РНК. Подобные фрагменты рассеяны по всему человеческому геному и составляют примерно 8 % общего количества нашей ДНК. Впрочем, некоторые могут иметь не вирусное, а иное происхождение, ибо существует еще один принципиально важный эволюционный механизм, вызывающий появление сходного фрагмента генома.
Как выясняется, многие гены содержат последовательности, которые позволяют им полностью или частично копироваться и затем встраиваться в какой-то другой участок. Эти прыгающие гены, или транспозоны, естественным путем проделывают то, что генные инженеры делают в лаборатории, – перемещают ДНК из одного места в другое, в некоторых случаях при посредничестве РНК, которая затем копируется обратно в ДНК при помощи обратной транскриптазы, прославившейся в истории молекулярной биологии благодаря тому, что в свое время позволила разрушить устоявшуюся «центральную догму», утверждавшую, что генетическая информация всегда движется лишь в одном направлении – от ДНК к РНК и затем к белку. Мы не можем воспроизвести эволюционную историю фрагментов ДНК, однако вполне вероятно, что некоторые ретровирусы появились именно так: фрагмент ДНК копировался в РНК, отделялся и затем оказывался в биосферном генетическом супе в качестве свободно плавающего репликатора.
Все эти передвижения генов и фрагменты, которые в результате образуются, коренным образом изменили представления о биологических видах и их эволюции. Оказалось, что гены перемещаются между организмами с гораздо большей легкостью и гораздо чаще, чем нам казалось.
Подобные генетические обмены начались еще на заре эволюции у бактерий и их многочисленных вирусов. Эти процессы (обмены между бактериями, между вирусами, между бактериями и вирусами) происходят до сих пор. Вот почему вполне обоснованно считать содержимое толстой кишки единым генетическим варевом. При столь бурном обмене генами уже не так важно, какие конкретные объекты (бактерии или вирусы) присутствуют в смеси.
Ищите и обрящете
Сегодня мы обнаруживаем вирусы (свободные или находящиеся внутри генетических наборов других клеток) повсюду, куда ни взглянем. Из вирома наверняка удастся извлечь гораздо больше информации, чем из микробиома. Уже сейчас понятно, что эти примитивнейшие участники экосистемы поддерживают немаловажные взаимодействия с остальными ее компонентами. Это не значит, что нет вирусов, которые просто проникали бы в нам в организм и проходили сквозь его системы, ничего особенного не совершив. Одно из первых исследований в этой области, проведенное в 2006 году, показало, что в каждом грамме проанализированных человеческих фекалий содержится миллиард РНК-вирусов[143]. Впрочем, большинство из них принадлежало не к числу долговременных жильцов кишечника, а к числу вирусов растительного происхождения, лишь проходящих через организм. Обильнее всего в этой пробе оказался представлен так называемый «вирус слабой крапчатости перца», причем он сохранил инфекционные свойства. Представьте: вы съедаете салат, ваша пищеварительная система обрабатывает поступившую в нее растительность, и на выходе обнаруживается целехонький вирус, по-прежнему способный вызывать болезнь (в данном случае – у растений). Невинный вирус? Не обязательно. Дальнейшие исследования заставляют предположить, что этот вирус вызывает лихорадку и боли в брюшной полости, так что реакция на острое мясо может на самом деле быть реакцией на вирус растительного происхождения[144].
Если данный растительный вирус действительно вызывает у едока дискомфорт, то это, по-видимому, проявление простого иммунного отклика. Долговременные обитатели нашей микробиоты постоянно вовлечены в гораздо более изощренную систему биокомпромиссов. Подобное можно выявить и на других биологических уровнях.
Как вирусы, так и бактерии пытаются блюсти собственные интересы, в самом узком смысле меняясь так, чтобы максимизировать свои шансы на выживание и успешное размножение. Иногда это приводит к конкуренции, иногда к кооперации. В особых случаях могут затрагиваться наши собственные интересы, принося нам пользу или вред.
К примеру, вирусы часто перемещают гены от одной бактерии к другой. Есть убедительные доказательства того, что так переносятся между различными штаммами гены устойчивости к антибиотикам.
Дэвид Прайд из Стэнфордского университета, одним из первых исследовавший на данный предмет человеческую слюну (в одном миллилитре нередко содержится около 100 миллионов вирусных частиц), показал, что бактериофаги здесь обладают необычно высокой долей генов невосприимчивости к антибиотикам[145]. Как он предполагает, эти фаги служат своего рода хранилищем для таких генов, поскольку полдюжины добровольцев, предоставивших ему образцы собственной слюны, в последнее время не принимали никаких антибиотиков.
Связь между бактериофагами и устойчивостью к антибиотикам подтверждается опытами на мышах. Соберите мышиный помет до и после введения грызунам антибиотиков. Затем секвенируйте все бактериофаговые ДНК, какие сумеете найти. Оказывается, антибиотики вызывают формирование бактериофаговых геномов, обогащенных генами устойчивости к антибиотикам. Способность мельчайших организмов, находящихся под давлением жесткого отбора, обмениваться генами напоминает проявление разума. Есть в этом что-то жутковатое и сверхъестественное. Геномы бактериофагов после лечения обогащены генами, которые помогают бактериям сопротивляться воздействию введенных лекарств. Что еще удивительнее – в таких геномах обнаруживаются гены, способствующие устойчивости к воздействию антибиотиков, с которыми эти мыши (и их кишечные микробиомы) на самом деле никогда не сталкивались.
Похоже, теперь мы можем по-новому отнестись к изощренным реакциям микробиоты на наши собственные простенькие антибактериальные средства. Это подтверждается еще одной недавней находкой. Обнаружилось, что прием лекарственных препаратов может укреплять сети обмена генами между бактериями и фагами, затрагивая целый ряд других генов, влияющих на рост бактерий и колонизацию ими организма-хозяина. Складывается впечатление, что бактерия, подвергшаяся атаке антибиотика, устраивает набеги на геномы бактериофагов в поисках средств защиты. Иными словами, она использует фаги как своего рода хранилища генов, откуда черпает материал, чтобы ее питание и метаболизм становились эффективнее[146].
С другой стороны, некоторые бактериофаги сами могут являться сложнейшими орудиями для нападения на бактерий. С самого открытия бактериофагов ученые время от времени предпринимают попытки использовать их как антибактериальных агентов. С приходом антибиотиков эти усилия постепенно сошли на нет, но интерес к таким исследованиям вновь разгорается в наши дни, когда невосприимчивость бактерий к антибиотикам стала распространенным явлением.
Между тем бактерии всю свою эволюционную историю подвергались воздействию бактериофагов. Наши собственные внутренние договоры с бактериями используют этот факт. Самое любопытное на данный момент открытие, касающееся фагов в нашем кишечнике, дает представление о том, где они стремятся концентрироваться. Оказывается, их гораздо больше в слизи, покрывающей эпителий кишечника, чем где-либо еще. Подробные исследования вирусных геномов объясняют причину. Дело в том, что бактериофаги способны связываться с компонентами слизи.
Обитающие здесь фаги мирно сосуществуют с бактериальным штаммом-хозяином. Они размножаются вместе с бактерией, встраиваясь в ее геном, при этом атакуют те бактерии, которые конкурируют с хозяином. Это выглядит как ингибирование бактериальной колонизации поверхности, покрытой слизью[147]. Простые эксперименты с единичным штаммом бактериофага подтверждают эту идею. Возможно, данный эффект удастся применить для изменения состава бактериальных популяций. В белках бактериофагов имеются участки, постоянно меняющиеся из-за мутаций бактериофаговых генов, и состав слизи быстро обновляется. Так конкуренция между фагами и бактериальными штаммами привела к возникновению (в ходе их совместной эволюции) ниши, помогающей усиливать способность организма-хозяина (то есть, в данном случае, человека) держать свои бактерии в узде.
Ученые получают все больше данных, свидетельствующих о том, что фаги могут вовлекаться в соперничество между бактериями. Вот один пример. Enterococcus faecalis – широко распространенная кишечная бактерия с весьма многообразными штаммами. Подобно другим бактериям, она может встраивать фаги в свой геном. Штаммы, населенные фагами, выбрасывают их наружу, чтобы сокращать численность конкурентов (при колонизации безмикробных мышей). Совместная работа с фагами дает бактериям конкурентное преимущество при монополизировании богатой питательными веществами среды, где они внезапно оказались[148].
Подобного рода взаимодействия между популяциями и субпопуляциями бактерий и бактериофагов, по-видимому, постоянно происходят в кишечнике, особенно в толстой кишке, где плотность населения особенно высока. Большинство таких взаимодействий до самого последнего времени оставалось непостижимым. Как показывает открытие одного совершенно нового для нас, но вездесущего бактериофага, мы пока не знаем всех фагов, которые могут находиться в микробиоме, не говоря уж об их функциях.
Этот свежеоткрытый бактериофаг, привлекший внимание ученых всего мира в 2014 году, удалось идентифицировать, прочесывая ДНК-последовательности в поисках вирусов при помощи новой компьютерной методики. Эта хитроумная программа отмечала ДНК-фрагменты с высокой вероятностью того, что они имеют вирусное происхождение, а затем объединяла их при помощи перекрывающихся участков последовательности. Так удалось собрать новый, неизвестный прежде бактериофаговый геном. Однако бактериофаг без бактерии – лишь бездомный кусок ДНК, прячущийся в белковой оболочке. Данный анализ показал также, с какими типами бактериальной ДНК обычно появляются эти фрагменты бактериофага.
Это позволило исследователям предположить, что их новый фаг (названный crAssphage, от cross-assembly – «перекрестная сборка»; так именуется компьютерная методика, позволившая выявить его геном) инфицирует собой какой-то из видов Bacteroides – одного из бактериальных родов, обычно в изобилии представленных среди кишечной микрофлоры и играющих немалую роль при исследовании ожирения. Таким путем можно было бы показать, что какой-то фаг, воздействующий на целый ряд Bacteroides или даже позволяющий им приобретать новые гены, непременно должен участвовать во всевозможных метаболических и иммунных процессах, имеющих стратегическое значение для человеческого организма.
Эволюция продолжается – в вашем собственном кишечнике
Четко вписать вирусы (в том числе и бактериофаги) в общую картину человеческого микробиома – задача для ученых будущего. Предварительные изыскания показывают, какая огромная работа им предстоит.
Однако если даровать вирусам статус живых существ, то можно считать, что виромные исследования уже сейчас выявили еще одну удивительную вещь: в нашем кишечнике идет эволюция и возникают новые виды. Пионерские исследования в этой области, проводимые под руководством Сэмюэла Майнора – постдока из лаборатории Фредерика Бушмана (Пенсильванский университет), включали в себя и некоторые попытки оценить, насколько стабильным может быть виром отдельного человека. Для этого в течение 2,5 лет исследовали состав кала одного добровольца.
Регулярный ДНК-анализ вирусных генов показал, что большинство типов вирусов, населявших кишечник испытуемого в начале эксперимента, пребывало там и 30 месяцев спустя. И хотя вирусы стремительно размножаются и быстро мутируют, большинство из них остались в общем-то примерно такими же. Большинство, но не все. Одно семейство вирусов, Microviridae, представители которого используют короткий однонитевой фрагмент ДНК для передачи своих генов, мутировало чаще других, и его ДНК-последовательность за эти 2,5 года изменилась на целых 4 %. Некоторые из уже известных нам видов Microviridae отличаются по своим генам на 3 %, так что можно предположить, что здесь имеет место процесс, аналогичный видообразованию. Интересующимся биологией есть над чем поразмыслить. Возникновение новых видов, великий феномен, над которым столько лет бился Дарвин, идет у нас внутри! Новые виды, пусть и мельчайшие из возможных, все время появляются в вашем кишечнике, а возможно, и на других микробиомных участках[149].
Стремительная эволюция на этом уровне идет на протяжении всего существования человечества, а началась она гораздо раньше, чем появился человек. Темпы нашей собственной эволюции куда скромнее. Порой высказывают мнение, что она и вовсе остановилась. Но человек – единственное существо, которое использует культурную эволюцию как силу, меняющую и природный, и социальный мир. Как мы уже видели, она вносит существенные (и незапланированные) изменения в наш микробиом. А если мы начнем намеренно его менять? Удастся ли нам его усовершенствовать? Пора подумать над тем, куда культурно-цивилизационная эволюция заведет наш суперорганизм в будущем.
Глава 11. Приручая микробиом
То, как складывается и поддерживается в равновесии человеческий микробиом, уже само по себе словно бы готовит его к эпохальным переменам. Он эволюционировал вместе с нами. Подобно другим организмам, дающим пристанище микробам, в ходе эволюции мы постепенно выработали способы поощрения нужных нам микробов (чтобы те становились нашими колонистами) и отторжения всех остальных. С тех пор как мы начали есть продукты брожения, на человеческий микробиом оказывает влияние культура (в обоих смыслах этого слова). За последние 100 лет с приходом бытовой гигиены, современных диет, кесаревых сечений и массового употребления антибиотиков наше культурное воздействие на наш же микробиом (зачастую непреднамеренное) резко усилилось.
Теперь мы подготовлены к тому, чтобы применять более информированный подход. Он должен прийти на смену неразборчивым атакам, которые мы предпринимали «по четким медицинским показаниям», и непредумышленным воздействиям, которые на микробиом оказывали наши пищевые пристрастия. Нам предстоит долгий путь. Мы – словно древние земледельцы, только что открывшие подсечно-огневой метод и размышляющие, как выращивать удобные и совершенные сорта. Впрочем, представляется вполне логичным, что накопление знаний о микробиоме должно в конечном счете привести к разработке способов его усовершенствования. И на сей раз решать, что считать усовершенствованием, будем мы, а не микробы.
Лучше отдавать, чем получать: фекальная трансплантация
Самый грубый (во многих смыслах) подход – предоставить человеку микробиоту, в которой он нуждается, путем ее пересадки целиком. Некоторые кишечные заболевания сегодня лечат именно таким способом. Это, по крайней мере, дает ученым некую точку отсчета: на подобную процедуру соглашаешься, когда толком не знаешь заранее, о чем речь. Метод подразумевает использование донорского микробиома в виде фекалий, поэтому вызывает смешанные чувства. Дерьмо нас и отталкивает, и чем-то завораживает[150].
Что ж, это и в самом деле отчаянная мера. Но сия грубая процедура все-таки способна принести кое-какую пользу. Иногда она может служить подходящим методом лечения, когда против микробов нашего организма ведется настоящая химическая война. Явную пользу от освежения содержимого толстой кишки при помощи чужих фекалий получают те пациенты, в кишечнике которых слишком активно плодится широко распространенная бактерия Clostridium difficile. Это может быть вызвано приемом антибиотика, направленного на борьбу с каким-то другим заболеванием: антибиотики уничтожают смешанную популяцию микробов, конкурировавшую с C. difficile и поддерживавшую количество представителей этого вида на терпимом уровне. В этом смысле мы имеем здесь дело с оппортунистической (условно-патогенной) инфекцией, как называют ее врачи.
Хроническое заражение толстой кишки бактериями C. difficile – вещь страшная. Пациент страдает от болезненных колик, тошноты, обезвоживания, зловонной диареи. Следует быстрая потеря веса, а в особо серьезных случаях (у тех, кому достались худшие штаммы бактерии) кишечное воспаление может стать фатальным.
Нормальные фекалии славятся отсутствием этой бактерии, и лечение заражения C. difficile при помощи содержимого хорошо функционирующего чужого кишечника – идея неновая. Специалисты ссылаются на всевозможные исторические прецеденты, вплоть до китайского чая из нечистот, применявшегося 7 столетий назад. Но метод не прижился: первая современная публикация о его использовании датируются 1958 годом[151]. Подобный подход применяли также в ветеринарии для лечения лошадей с проблемами пищеварения и коров, страдающих маститом. Сторонники метода отмечают, что многие виды, от слонов до шимпанзе, поедают кал друг друга. Лабораторные мыши именно таким манером делятся микробиомами, если только экспериментатор не примет особых мер для борьбы с этой традиционной мышиной копрофагией. Похоже, отказ от пожирания фекалий собратьев по виду – еще одна черта, отличающая человека от большинства других млекопитающих. Однако недавние открытия выявили сложность устройства нашего кишечного микробиома; при этом врачам очень часто не удается вылечить пациентов с повышенным содержанием C. difficile. Всё это и привело к наступлению новой эры экспериментов с экскрементами.
Процедура проста и (как свидетельствуют доктора, проводящие ее) довольно неприятна для тех, кто ею занимается. Можно представлять ее себе как трансплантацию сложной экосистемы во всей совокупности, но это непервая мысль, которая приходит в голову, когда вы берете дерьмо здорового донора, разжижаете в блендере и затем отправляете в толстую кишку реципиента при помощи назогастральной трубки, клизмы или колоноскопа (в зависимости от того, кто делает пересадку)[152]. Есть и альтернатива: например, заключить пересаживаемый материал в желатиновые капсулы, которые можно глотать, однако следует как-то гарантировать, что они пройдут через желудок (убивающий многих микробов) и достигнут своего пункта назначения – толстого кишечника. Количества пересаживаемого материала не очень малы. Обычно при такой процедуре используется содержимое полудюжины шприцев на 50 мл. По предварительным данным одного исследования, замороженный материал в капсулах, которые можно глотать, вроде бы дает многообещающие результаты[153].
Впрочем, основная часть данных пока добывается другими, более грубыми методами. При всей своей неаппетитности процедура, похоже, и в самом деле работает. Точные цифры получить трудно, поскольку сочетание нужных факторов – желания прославиться, простоты метода, непрошибаемой мотивации (в виде чрезвычайно некомфортного кишечного заболевания) – случается довольно редко. Впрочем, кое-кто даже решается испытать эту методику дома, как легко убедиться, набрав соответствующий запрос в YouTube. Для проведения такой процедуры в домашних условиях требуются латексные перчатки, кухонное ситечко, блендер, соляной раствор, клизмы, а также (полагаем мы) большое количество дезинфектанта. Всякий согласится, что донорство такого материала лучше осуществлять под медицинским контролем, при соблюдении стандартной методики. Так можно избежать риска заразиться от необследованного донора гепатитом или даже ВИЧ. Но пока спрос в этой сфере куда выше предложения. Положение может перемениться: сейчас появляется все больше коммерческих поставщиков таких услуг. Однако фекальные трансплантаты – непростой объект для государственной системы регулирования, вообще-то созданной для работы с лекарствами или пищевыми продуктами, а не с материалами, которые предназначены для использования в медицинских целях, но которые в привычной классификации попадают лишь в графу «другое»[154].
Между тем в медицинских журналах появляются все новые и новые сообщения об испытаниях, в ходе которых удалось добиться весьма благотворных результатов для пациентов с острым заражением C. difficile, не поддающимся лечению иными способами. У подавляющего большинства (целых 90 %) реципиентов трансплантата, которых лечили от заражения C. difficile, быстро улучшилось состояние здоровья, и эффект от лечения зачастую оказывался долговременным. Одно такое исследование, в 2013 году проводившееся в Голландии, даже пришлось прекратить: группа, получавшая фекальный материал, чувствовала себя настолько лучше, чем пациенты с заражением C. difficile, которым давали антибиотик ванкомицин, что экспериментаторы сочли неэтичным продолжать опыты с контрольной группой (не получавшей фекалий)[155]. В одной из более детальных работ позже удалось показать, что при использовании подобной методики состав микробиомного сообщества в кишечнике становится похожим на донорский и такие трансформации обычно стабильны[156].
Как правило, существует мало (или не существует вовсе никаких) свидетельств того, что подобные трансплантаты приносят хоть какую-то пользу при лечении других заболеваний, предлагавшихся в качестве возможных объектов для применения такой методики. Впрочем, некоторые испытания сейчас ведутся. В список недугов, для которых уже опубликованы данные предварительных испытаний или анализа серии случаев, входят, в частности, синдром раздраженного кишечника, хронический запор, язвенный колит, болезнь Крона, метаболический синдром (синдром резистентности к инсулину), синдром хронической усталости, рассеянный склероз, аутизм. Воспалительные кишечные расстройства и в самом деле кажутся подходящими кандидатами для такого лечения, но что касается остальных, то тут пока не прослеживается особой перспективы[157].
Среди пациентов велик спрос на эту процедуру, так что в дальнейшем она будет наверняка применяться шире. Появляются поставщики трансплантата, проверяющие и хранящие донорский материал, высылаемый врачам по запросу. В США среди таких поставщиков – некоммерческая организация OpenBiome, финансируемая группой ученых из Массачусетского технологического института, которых очень впечатлили результаты фекальной трансплантации, проведенной их другу[158].
Впрочем, при более недоброжелательном рассмотрении этот метод кажется каким-то глупым или, выражаясь мягче, порождением невежества: это как пытаться улучшить состояние пораженного болезнью, угнетенного кустарника, подсадив к нему в один прием целый тропический лес. Вероятно, существенного продвижения удастся достигнуть, когда мы научимся более разумно подходить к выращиванию наших микробных садов. Многие убеждены, что такое возможно уже сейчас. Достаточно лишь несколько менее прямым путем вводить в себя нужных микробов. Речь идет о поедании пробиотиков. Но хватает ли нам знаний, чтобы с уверенностью сказать: пробиотики приносят большую пользу?
От неаппетитного к аппетитному
Цель использования пробиотиков – тонкая настройка микробиома, которая начинается при поглощении пищи, а не при ее извержении. Согласитесь: это явно более привлекательный метод. Существует великое множество пробиотических продуктов. Обычно в составе каждого – лишь одна или несколько разновидностей микробов. Уже сейчас такие продукты служат основой целой отрасли промышленности, ежегодный оборот которой по всему миру достигает миллиардов долларов[159]. У этой идеи есть своя история, но резкий рост популярности таких методик произошел благодаря современным исследованиям микробиома. Супермаркеты и магазины здорового питания предлагают массу разнообразнейших пробиотиков. Те, кто серьезно относится к своему здоровью, убеждены: хорошие бактерии помогают сохранить хорошее самочувствие. Но что конкретно делают пробиотики? Можно ли применять их в более узких целях, для выполнения задач, оптимизированных под конкретного потребителя?
Мы знаем, что по крайней мере в одной области пробиотики действуют и если уж не являются незаменимыми, то явно оказывают благотворное влияние на человека. Материнское молоко обеспечивает микробами младенца, который им питается; это означает, что оно – по сути первый пробиотик в нашей жизни. Собственно, оно содержит еще и пищу для бактерий, будущих «колонизаторов» кишечника новорожденного (мы обсуждали это в главе 5), а значит, это одновременно и пробиотик, и пребиотик (таким термином называют пищевые продукты, способствующие росту бактерий, но при этом не снабжающие нас реальными микроорганизмами, выращенными в них специально, хотя, конечно, какие-то микроорганизмы могут в них случайно оказаться).
Можно присовокупить этот факт к плюсам грудного вскармливания: и без того известно, что оно, как правило, предпочтительнее искусственного. Но оценка роли пробиотиков после этой стадии жизни не столь проста и прямолинейна. Если много горячих сторонников непосредственного введения человеку нужных бактерий как для укрепления здоровья в целом, так и для профилактики или лечения какого-то определенного заболевания. Зачастую, хоть и не всегда, такие энтузиасты предлагают вам что-нибудь у них приобрести. Крупные компании, продвигающие пробиотики (скажем, Danone), еще и активно поддерживают микробиомные исследования, особенно если в этих работах задействованы пробиотики. Это не обязательно приводит к искажению результатов изысканий, но компании, естественно, питают надежду, что некоторые результаты можно будет истолковать так, чтобы удалось продать побольше соответствующего товара.
Такая поддержка у многих вызывает скептицизм. Кроме того, существуют пессимисты, которые только рады опровергнуть любые заявления о пользе пробиотиков. Это долгая история, в доводах спорящих непросто разобраться, но следует иметь в виду, что апологеты пробиотиков часто придают слишком большое значение тому факту, что на их стороне сила традиций. Потребление продуктов брожения, несомненно, очень широко распространено: человек питался ими издавна, а во многих регионах современного мира питается ими до сих пор. Из этого многие делают вывод, будто они вносят существенный вклад в наш рацион и вклад этот – микробы. А значит, снижение потребления таких продуктов – еще одно безжалостное покушение современного образа жизни на нашу микробиоту. Полагают, что потребление большего количества пробиотиков исцелит наш микробиом (или, возможно, кишечник) благодаря восстановлению какого-то «баланса»[160].
Современный образ жизни действительно ведет постоянную атаку на наш микробиом, но к этому, вероятно, не имеет отношения слишком малое потребление квашеной капусты или йогурта. Немногие дожившие до наших дней представители цивилизации охотников и собирателей не едят продуктов брожения (как, вероятно, не ели этих продуктов и их многочисленные предки)[161]. Всякий, кому захочется вырастить у себя древний микробиом, должен будет пойти до конца, то есть обратиться к настоящей палеолитической диете[162]. Как только человечество стало добывать пищу, развивая сельское хозяйство, земледельческим обществам пришлось искать способы хранения пищи, не дающие ей портиться (скажем, после сбора урожая) в среде, где повсюду кишат микробы. Самый лучший (а часто и единственный) способ – гарантировать, чтобы пищу колонизировали микробы, которые изменят ее, но так, чтобы она при этом осталась съедобной. Продукты вроде сыра, кимчхи, доса[163], соевого творога не только вкусны (иногда это суждение можно вынести без всяких раздумий, иногда – нет); они хранятся дольше, чем их неферментированные эквиваленты. Рацион человека в современном индустриальном обществе содержит меньше продуктов брожения просто-напросто благодаря тому, что мы успели изобрести консервирование и замораживание. Приносят ли определенные пробиотики какую-то другую пользу, лучше решать при помощи исследований, которые будут опираться на то, что нам теперь известно о микробиоме, а не на какие-то бездоказательные обобщения, основанные лишь на том факте, что в прошлом, видите ли, много народу ели такие продукты.
В большинстве случаев проведено слишком мало исследований, чтобы с уверенностью выносить суждения о безусловной пользе или безусловном вреде подобных продуктов. Эксперименты с пробиотиками дают кое-какие впечатляющие результаты, однако на основании этих данных пока не удается выстроить убедительное доказательство полезности регулярного использования таких продуктов для поддержания здорового состояния микробиома. Не удается даже определить, какие виды продуктов в этом смысле наиболее перспективны.
Бактерии для «здорового румянца»?
А вот открытие из тех, что сразу отправляют читателя в магазин здорового питания: «Недавно показано, что добавление пробиотических бактерий в корм пожилых мышей быстро возвращает им юную живость, характеризуемую толстой глянцевитой кожей, пышной шерстью, а также улучшением репродуктивной функции». Звучит неплохо. Можно мне немного вашего средства?
Но это не рекламное объявление, а цитата из аннотации научной статьи[164]. Ведущий автор, Сьюзен Эрдман из Массачусетского технологического института – самый страстный адепт пробиотиков из всех, каких мне доводилось встречать в научной среде. Впрочем, ее вера в их возможности основана на проводившихся ею многолетних исследованиях воспалительных реакций и онкологических заболеваний. В процессе этих работ вырос ее интерес к изучению воздействия бактерий на иммунные клетки и появилась серия экспериментов, в ходе которых мышей кормили йогуртом с добавлением хорошо известного штамма пробиотических бактерий – Lactobacillus reuteri.
Результаты оказались поразительными. По сравнению с мышами, придерживавшимися обычной лабораторной диеты, едоки пробиотиков, можно сказать, демонстрировали «здоровый румянец», то есть более пушистый и блестящий мех. Когда экспериментаторы обрили спинку некоторым мышам, у пробиотической группы снова полностью отрос мех, а каждый зверек из контрольной группы по-прежнему щеголял проплешиной. Этим видимым эффектам сопутствовали другие изменения, в том числе утолщение кожи и слизистых оболочек, а также улучшение в механизмах контроля воспалительных процессов. Эти воздействия оказались слабыми: пробиотик не проявил очень уж заметного влияния на микробную экологию. Однако, как подытоживает Эрдман, он всё же «перепрограммирует весь организм своего хозяина». Рассказывая о своих экспериментах на конференции в британском Кембридже, Эрдман показывала множество фотографий мышей. Зверьки выглядели до отвращения здоровыми. Всем явно хотелось получить ответ на один вопрос не очень-то научного свойства, так что во время перерыва, когда пили кофе, к ней выстроилась небольшая очередь желающих узнать: сама-то она принимает L. reuteri? – Принимает, принимает.
Подозреваю, что и я принимал бы, доведись мне делать подобные эксперименты. Результаты их показались еще более убедительными, когда один важный класс Т-лимфоцитов, взятых у мышей, которых кормили пробиотиком, ввели мышам с нормальным рационом, но без собственных лимфоцитов. Мыши отреагировали так, словно получили пользу от пробиотика (который они на самом деле не принимали), – таким же утолщением кожи и более блестящим мехом.
Какой вывод из этого следует? Мышам, похоже, действительно идет на пользу этот подробно описанный пробиотик. С другой стороны, работу проводили в лаборатории, где отлично разбирались во всевозможных методах молекулярного и клеточного анализа, необходимых для того, чтобы получить более четкую картину причин этих эффектов. Дополнительные эксперименты позволили предположить, что ключевую роль здесь играет целый ряд взаимосвязанных механизмов контроля иммунной системы и гормональной регуляции (в том числе и регуляции содержания окситоцина). Возможно, данная система лишь при помощи этой бактерии достигает состояния, благодаря которому мыши становятся здоровее именно по таким (вполне зримым, что для нас весьма удобно) параметрам? Думаю, все-таки нет. Будет ли эта штука работать у человека? Мы пока не знаем. А если вы уже и без того сравнительно здоровы, может ли она как-то изменить ваше самочувствие? Опять же пока неизвестно.
И тут возникает серьезный вопрос. Удачная ли это вообще мысль – экспериментировать с L. reuteri, которая продается чуть ли не во всех лавочках здорового питания? (Иногда в виде средства Cardioviva, которое якобы снижает содержание холестерина, тем самым помогая сердечникам. Так что штамм, похоже, довольно-таки гибкий.) Не уверен. У многих людей (вероятно, у большинства) L. reuteri и без того содержится в кишечнике. Это его обычный житель. Данная бактерия имеется даже в материнском молоке, а значит, новорожденные получают первую ее дозу естественным путем. Пользователи пробиотических капсул размещают в Сети восторженные отзывы, но обычно сообщают лишь, что прием этого средства способствует пищеварению и регулярному опорожнению кишечника. Ни единого упоминания о невероятно привлекательной коже и роскошной шевелюре! У меня, к счастью, и так наблюдается регулярный стул, так что пока я, пожалуй, воздержусь от приема этого средства.
Впрочем, связь с такими впечатляющими результатами (пусть и полученными лишь в ходе опытов на мышах) все-таки выделяет L. reuteri среди других пробиотиков. Как и то, что данный пробиотик можно принимать в виде капсулы, которая защищает его во время путешествия через желудок. Как и то, что средство, вероятно, содержит именно тот штамм, который указан на этикетке.
Не все пробиотики таковы. Большинство подобных продуктов, имеющихся на рынке, просто создают некое общее впечатление. Зайдите на сайт крупного производителя таких продуктов, сбываемых в огромных количествах (того же Danone), и вы увидите массу заявлений о том, что хорошее пищеварение, микробный «баланс» и «иммунное здоровье» могут достигаться путем регулярного приема йогурта Actimel, но реальной науки вы там почти не найдете. Возможно, это связано с судебным иском, предъявленным компании вскоре после запуска Actimel в широкий оборот: она рискнула сделать более конкретные заявления, подвергшиеся массированной критике. Теперь она предпочитает сухо уведомлять вас: продаваемое средство содержит патентованную живую культуру Lactobacillus casei в придачу к обычным йогуртопроизводящим бактериям Lactobacillus delbrueckii и Streptococcus thermophilus. Две последние вы можете получить из почти любого потребляемого вами «живого» йогурта. В сущности, товар продается дороже, поскольку в нем содержится широко разрекламированная бактерия. Но оправдывают ли повышение цены те дополнительные преимущества, которые бактерия якобы дает? Меня пока не убедили.
Ситуация вполне типична для пробиотиков, имеющихся сегодня в широкой продаже. В большинстве из них по-прежнему используется лишь небольшое число штаммов, полученных еще до того, как мы существенно расширили свои знания о микробиоме. Отбор этих штаммов проводился еще в 1930-е годы или даже в начале 1900-х, когда Илья Мечников развивал свои теории. Почти все они – Lactobacilli или Bifidobacteria. Эти бактерии обычно не очень-то представлены в кишечнике. Впрочем, те, что там все-таки есть, предпочитают жить на поверхности его слизистой оболочки, так что вполне возможно, что они оказывают более сильное влияние на иммунную регуляцию, чем можно предположить по их процентной доле в микробиоме.
Долгая история их применения как бы заверяет нас, что вреда они нам не причиняют. К сожалению, мало что свидетельствует об их пользе. Промышленности они по душе, поскольку легко культивируются, хорошо себя чувствуют в кислотных продуктах вроде йогурта и не очень повреждаются в процессе усвоения пищи. А вот благотворно ли они действуют на нашу пищеварительную систему – вопрос отдельный. Возможно, вы получите такую же пользу, избрав «дружественную для микробиома» диету. Эта довольно простая штука напоминает один из вариантов пресловутой «здоровой диеты», о которой нам уже все уши прожужжали. Хотя придерживаться этих рекомендаций не так-то просто: следует избегать продуктов, подвергшихся технологической обработке (стерилизации, пастеризации и т. п.), не употреблять слишком много мяса, однако стараться есть побольше свежих фруктов и овощей. Некоторые из них, в том числе зелень, бобовые и артишоки, могут оказаться особенно эффективными для поддержания микробиома в нормальном рабочем состоянии. Возможно, для этого нужно стараться регулярно употреблять и какие-то ферментированные продукты – неважно, йогурт, сыр, кимчхи или квашеную капусту.
Пока же мы ждем новых исследований других видов бактерий, которые могут служить пробиотиками. Мы уже представляем себе, сколько видов живет в нашем кишечном тракте. Наверняка в качестве пробиотиков годится еще много различных видов бактерий, если только их можно культивировать искусственно. Следует проводить тщательные испытания. Вполне очевидно, что эти тесты должны быть достаточно представительными, чтобы удалось выявить любой положительный эффект и при этом опираться на данные по корректно подобранным контрольным группам. Однако следует обращать особое внимание на то, что именно тестируется.
Удачный пример здесь – один пробиотик, который действительно приносит отлично задокументированную пользу. В книге «Микробы хорошие и плохие» Джессика Снайдер Сакс справедливо отмечает коммерчески успешный штамм Lactobacillus rhamnosus, впервые выделенный из образцов биоматериала человеческого кишечника в 1985 году. Штамм называют L. rhamnosus GG – в честь его двух первооткрывателей, Шервуда Горбаха и Барри Голдина из Университета Тафтса, которые надеялись, что бактериальный изолят, полученный из кишечника, может стать более подходящим источником пробиотиков, нежели штаммы, имеющиеся в молочных продуктах. Так оно и вышло: новый изолят оказался эффективным колонизатором и полезным подспорьем при профилактике диареи и воспаления, вызываемых гастроэнтеритом. Сакс, писавшая свою книгу в 2007 году, считала, что это «наиболее тщательно изученный из современных пробиотиков». Разумеется, данный факт не преминули использовать в рекламной кампании торговцы соответствующим пробиотическим средством, получившим название Culturelle.
Бактерии полны сюрпризов. В 2009 году Матти Канкайнен и его коллеги по Хельсинкскому университету сравнивали геном этого штамма с геномами похожих бактерий. Они обнаружили, что Lactobacillus rhamnosus GG несет в себе неожиданный кластер генов, помогающий этой бактерии выращивать длинные тонкие отростки, торчащие наружу из ее клеточной стенки[165]. Эти «пили» (фимбрии, ворсинки), состоящие главным образом из белка и адгезионных молекул на конце, раньше наблюдали только у патогенных бактериальных штаммов. Такие отростки помогают бактериям заражать организм. Эксперименты с L. rhamnosus GG позволяют предположить, что фимбрии помогают микробам прикрепляться к слизи кишечника и стимулировать иммунную систему организма-хозяина. Теперь мы знаем и то, что существуют мутанты, не создающие ворсинок, и этих мутантов довольно легко «вырубить». Так что поставщики коммерческих продуктов должны предварительно проверять их, чтобы установить, нет ли у бактерий, которых они выращивают, этих важнейших довесков; а если есть, то переживут ли они обработку в пищеварительной системе. Их структуру и свойства продолжают выяснять. Возможно, когда-нибудь нам вообще предложат продукт, содержащий очищенные компоненты самих ворсинок.
Оптимальный пробиотик трудно выявить еще и из-за того, что его потенциальные преимущества скорее всего будут создаваться комбинациями различных бактерий. Предвестники пробиотиков будущего существуют уже сейчас. Их применяют для домашней живности, особенно для кур. Работы по профилактике заражения кур микроорганизмами Salmonella (такая профилактика помогает эффективнее оберегать яйца от колонизации этими бактериями) позволяют предположить, что, побуждая другие бактерии (обычно имеющиеся у кур) заселять кишечник цыплят, мы тем самым помогаем остановить виды, которые запускают процесс пищевого отравления. Результат – PREEMPT™, средство, содержащее 29 бактериальных штаммов и лицензированное Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в 1998 году как профилактический препарат для только что вылупившихся цыплят. Можно давать им гранулы, можно даже опрыскивать их этим бактериальным супом; при любом варианте обработки их кишечник заселят здоровые бактерии, а не вредоносные.
Некоторые компании разрабатывают схожие препараты для других сельскохозяйственных животных и не видят причин, почему бы этот принцип не применить и к людям. Эндрю Серазин из американской биотехнологической компании Matatu рекомендует представлять микробиом как «своего рода компьютерную программу», которой можно делать апгрейд и ставить патчи. Первые колонисты-бактерии, поселяющиеся в кишечнике новорожденного младенца, являются, по его словам, «ресурсом развития». А значит, возникает серьезный вопрос: можно ли, в раннем возрасте прививая ребенку консорциум микробов определенного состава, гарантировать заранее просчитанное развитие его системы?
Представим себе будущее, в котором родители поят своего младенца коктейлем из пробиотиков, чей состав специально подогнан под нужды конкретного ребенка. Переход к широкому коммерческому использованию таких продуктов неизбежно повлечет за собой ряд препятствий. Если вакцина сделана на основе бактериальных штаммов, полученных у людей (по-видимому, здоровых), то биотехнологическим предпринимателям трудно будет получить на нее патент. (Предприниматели очень любят получать патенты, ибо те увеличивают прибыль.) И даже если его все-таки удастся оформить, в мире все равно столько похожих бактериальных штаммов для всех желающих, что не потребуется особой биологической смекалки, чтобы этот патент обойти. Контроль производства препарата, где могут содержаться десятки бактериальных видов, станет кошмаром для компаний, которые рискнут выпускать подобные средства. Между тем таких процедур не избежать, иначе не получить необходимого одобрения органов регулирования. А общественное признание простеньких пробиотиков (главным образом в пищевых продуктах) – еще не гарантия того, что людям понравится идея накачивать своего ребенка бактериями, чтобы помочь ему расти крепким и здоровым. Следует ожидать, что пока биотехнологические компании сосредоточатся на применении своих методик только в сельском хозяйстве.
Назад в экосистему
Чем глубже погружаешься в изучение пробиотиков и перспектив вакцинирования полезными бактериями, тем больше кажется, что основную работу по выяснению того, что же могло бы давать реальные преимущества, еще только предстоит выполнить. То же самое происходит, если взглянуть на применение пробиотиков для лечения пациентов, кому они уж точно должны принести благо. Те случаи, когда доктора заявляют, что удалось добиться реальных преимуществ, все-таки остаются спорными. Где множественные испытания, там и противоречивые результаты. Делая обзор большого количества таких работ, можно сделать самые разные выводы – в зависимости от того, какие работы выбраны. Это не очень-то обнадеживает[166].
Самый известный пример в этом смысле – использование пробиотиков для профилактики, связанной с присутствием C. difficile диареи у пациентов, которым давали антибиотики. Систематические обзоры (скажем, опубликованный авторитетной организацией Cochrane Collaboration[167] в 2013 году) обычно заключают, что пробиотики способны приносить какую-то пользу. Обзор, сделанный специалистами Cochrane Collaboration, основывался на 23 испытаниях, проведенных по методу случайной выборки с контрольной группой. Результат был таков: среди участвовавших в эксперименте взрослых и детей, принимавших антибиотики для борьбы с заражением C. difficile, у 5,5 % (в общей сложности) по-прежнему проявлялась диарея, связанная с присутствием этой бактерии; при использовании пробиотиков этот показатель падал в среднем до 2 %.
Однако это не всех убеждает. Возможно, результаты исследований сопоставлялись некорректно. В этих работах используются различные пробиотические штаммы бактерий и различные режимы лечения. Проведенное затем в Южном Уэльсе и Северо-Западной Англии широкомасштабное исследование 3 тысяч пожилых пациентов не выявило почти никаких изменений в заболеваемости диареей, вызванной C. difficile, у тех, кому давали пробиотик из смешанных штаммов[168]. Каков же лучший рецепт на данный момент? Подождем результаты других, более тщательно организованных тестов.
Тут время вернуться к более узкой группе больных – тех, кто страдает от самых тяжелых влияний C. difficile. Применение метода фекальной трансплантации в случаях, когда другое лечение не приносит улучшений, можно считать противоположной крайностью по сравнению с применением пробиотиков: при фекальной пересадке мы вводим больному не один вид бактерий, а целую экосистему. Исследование кишечного микробиома как экосистемы позволит внести в этот метод несложные коррективы.
Почему? Фекальная трансплантация – подход настолько грубый (хотя иногда и эффективный), что почти любые его изменения будут казаться усовершенствованиями с самых разных точек зрения. Еще одна причина в том, что кишечный микробиом представляет собой экосистему, которую можно в лабораторных условиях поддерживать в подобии нормального состояния, если вы четко понимаете, что делаете.
Это понимает, например, Эмма Аллен-Варко из Гельфского университета в Онтарио. Она исходит из того, что некоторые заболевания связаны с возмущениями в микробной популяции кишечника. Как я уже упоминал в главе 8, для таких возмущений существует медицинский и общенаучный термин «дисбиоз». Однако, по мнению Аллен-Варко, само по себе это не очень-то помогает в исследованиях, ибо «никто толком не знает, что это такое. Нам нужно заглянуть внутрь этого черного ящика».
Каким образом? Можно попытаться соорудить собственный «черный ящик» – точно такой же или похожий. В лаборатории Аллен-Варко применяется модель нижних участков кишечной экосистемы, представленная в виде серии связанных между собой хемостатов. Систему назвали Robogut («Робокишечник»). Эта установка – череда химических сосудов, соединяющихся друг с другом. В них поступают нужные питательные вещества. За сосудами ведется постоянное наблюдение. Всё сооружение занимает примерно шесть футов лабораторного стола и, по словам Аллен-Варко, «может несколько недель подряд поддерживать существование целой микробной экосистемы кишечника».
На выходе, как нетрудно предугадать, получается непривлекательная коричневая жижа. Аллен-Варко предпочитает именовать ее жидким золотом. Систему используют, в частности, чтобы лучше разобраться в том, какие микробы входят в состав здоровой кишечной микрофлоры. Как и фекальная трансплантация, эксперименты группы начинаются с отбора пробы донорского кала. Но установка позволяет делать с этими пробами невиданные вещи. Например, пробы, взятые у разных доноров, можно смешивать и затем видеть, какие микробы будут преобладать в смеси, когда система достигнет стабильного состояния. Если микробная экосистема одного человека в конце концов доминирует над экосистемой другого, такой факт заслуживает дальнейшего анализа.
Главная идея здесь состоит в том, чтобы упростить процедуру терапевтических прививок кишечными микробами. В то же время такой подход позволяет избежать чрезмерного упрощения. Всё начинается с того, что вполне можно счесть жизнеспособными популяционными смесями (они вырабатываются реальным кишечником). «Экология учит нас: не всегда можно тупо взять каких-то микробов, которые никогда не играли вместе, и ждать, что они образуют экосистему», – замечает Аллен-Варко.
Ее хемостат уже дал возможность получить похлебку старательно подобранного состава, пригодную в качестве замены для целого фекального трансплантата. Пробу, взятую у здорового донора, свели к 70 бактериальным штаммам, выращенным с помощью искусственного культивирования. Тридцать три из них отобраны как перспективные кандидаты для формирования упрощенной экосистемы.
Идея подобного применения микробной смеси известного состава не так уж нова. Еще в 1989 году пробовали на дюжине больных, страдавших заражением C. difficile, и смесь эта работала хорошо, но исследование не получило развития. Теперь же, подчеркивает Аллен-Варко, мы внесли в методику принципиальное изменение, «позволив природе заниматься предварительным отбором исходных ресурсов для нашей экосистемы».
Тридцать три отобранных штамма действительно образовали стабильное сообщество в «Робокишечнике», и та же смесь культивированных бактерий позволила вылечить двух больных, зараженных C. difficile и не реагировавших на другое лечение. Впрочем, канадские власти вскоре запретили клиническое использование новой смеси. Пока они размышляют над тем, какие меры требуются для законодательного и административного регулирования таких процедур. Сейчас, когда я пишу это, вопрос остается нерешенным.
Бюрократам от медицины еще долго предстоит ломать голову над тем, как регулировать применение микробных методик такого рода (даже если речь не идет о непосредственном введении пациенту реальных фекалий). Они не очень-то привыкли иметь дело с такой «микробной» терапией. Должна ли каждая новая смесь проходить отдельную сертификацию, которая подтвердит, что данный препарат пригоден для использования людьми? И кто будет ее осуществлять? Можно ли утверждать наверняка, что сложная смесь размножающихся бактерий не изменит свой видовой состав? Если систему законодательного и административного регулирования, разработанную для того, чтобы гарантировать безопасность лекарств и пищевых продуктов, начать применять к таким средствам (а пока этого, кажется, не избежать), то соответствующий процесс согласования процедурных вопросов наверняка будет весьма длительным и неспешным.
Однако упомянутое нами крошечное исследование получило широчайшую огласку отчасти из-за того, что лаборатория решила назвать свой проект RePOOPulate (изобретательно включив одно из английских слов, означающих «кал», в состав глагола, означающего «заселять заново»). О нем сообщил (обычно вполне чинный) журнал Scientific American под бессмертным заголовком «Ученые научились производить искусственное дерьмо». Аллен-Варко считает всю эту шумиху свидетельством правильности основного принципа новой терапии, которую она именует Терапией микробными экосистемами (ТМЭ) (Microbial Ecosystem Therapeutics, MET)[169]. Она мечтает, что когда-нибудь любой врач, получив в свое распоряжение «целый спектр экосистем», сумеет выбрать из них одну – ту, которая больше всего подходит его пациенту. Работа, которая на данный момент проведена Аллен-Варко и ее коллегами, – лишь маленький шажок в этом направлении, но уже сейчас есть все основания полагать, что в будущем такая терапия возможна.
Наш будущий микробиом
А ныне проверяются другие возможные варианты, которые позволили бы заменить полную фекальную трансплантацию каким-то другим методом обеспечения пациента нужными бактериальными консорциумами. Так, в одном из совсем недавних исследований 15 пациентам давали новый продукт, содержащий 15 штаммов бактерий, но в виде спор, помещенных в капсулы, а не в виде живых клеток[170]. Вполне вероятно, что в будущем мы сможем сами изменять наши многообразные сопутствующие экосистемы (экосистемы-компаньоны) так, как нам нужно. Ученые уже столько узнали о том, как они устроены и какую важную роль могут играть, что недостатка к энтузиастах, вовсю рассуждающих о том, какую форму могли бы принять такие изменения, сегодня нет. Давайте же завершим эту главу самыми вольными умозрениями, правда, сделав оговорку: для реализации большинства таких изменений скорее всего потребуются даже не годы, а десятилетия.
Не сомневаюсь, что человеку в конце концов захочется по-настоящему использовать свой микробиом. Некоторые области такого применения будут вполне будничными: для профилактики кариеса (уже сейчас можно попробовать воспользоваться пробиотической жевательной резинкой), дерматита (при помощи пробиотического крема) или угревой сыпи. Еще один вариант – подмышечная микробная трансплантация (она уже в наши дни проходит испытания). Метод придуман для того, чтобы помочь несчастным обладателям зловонных подмышек, пересаживая им кожные бактерии тех, чье тело издает более терпимый запах. Одна из причин устойчивости такого аромата – в том, что обычные антиперспиранты призваны маскировать запах, издаваемый бактериями, а не устранять его. Крис Калверт из Гентского университета вообще обнаружил, что применение антиперспирантов скорее даже увеличивает количество Actinobacteria, являющихся основными генераторами телесных запахов[171]. Калверт, даже обзаведшийся сайтом drarmpit.com («Доктор Подмышка»), сейчас экспериментирует с методиками пересадки бактерий в попытке уменьшить резкий подмышечный запах. Впрочем, результаты этих опытов пока не опубликованы.
Вот-вот должны появиться другие, менее обыденные варианты применения модифицированной микробиоты. Мы пока не можем точно сказать, насколько экзотическими они будут, но кое-какие намеки на будущее развитие этих методов можно уловить уже сейчас.
В сегодняшние СМИ каждый день попадают материалы, где обсуждают плюсы и минусы той или иной диеты, того или иного режима физических упражнений. Возможно, вы, как и я, пытаетесь извлечь какой-то общий смысл из всех этих заявлений и следовать каким-то из рекомендаций; вероятно, вы им уже следуете или планируете вскоре начать это делать. Иными словами, нас всячески убеждают, что мы способны поддерживать собственное тело в более или менее нормальном состоянии. Нельзя сказать, что мы не слышим этого призыва. Конечно, мы предпочли бы всегда оставаться здоровыми – или по крайней мере замедлить свое неизбежное физическое разрушение. Наша реакция на такие призывы как раз и поддерживает многомиллиардную индустрию, производящую и продающую витамины, пищевые добавки, здоровое питание, учебники диеты и тренажеры для упражнений.
Другая ветвь индустрии средств для самостоятельного поддержания хорошего состояния обслуживает наше желание выглядеть привлекательно и модно (или, в моем случае, хотя бы более или менее прилично). Она тысячами тонн выпускает всевозможные парфюмы, восстановители волос и косметику.
Если вы хотите пойти дальше и превратить свое тело в произведение искусства, к вашим услугам самые разные заведения – от ближайшего салона татуировки и пирсинга до самой дорогостоящей клиники косметической хирургии. А может быть, вам захочется испробовать на себе новые и старые препараты, обещающие все на свете – от измененного состояния сознания и улучшения сексуальных возможностей до простой способности дольше не спать, чтобы лучше освежить свои знания накануне экзамена.
Так или иначе, по крайней мере некоторые наши современники готовы применить к себе любую технологию, какая только доступна потребителю в этой сфере. На сегодняшнем языке такие технологии можно обобщающе назвать биохакерством.
По мере того как мы свыкаемся с мыслью, что наше тело представляет собой суперорганизм, поиск новых путей оптимизации или усовершенствования всех клеток, входящих в состав такого суперорганизма, ведется все активнее и серьезнее. Рынок пробиотиков уже сейчас предлагает товары для тех, кто хочет добиться в своем кишечнике самой лучшей популяционной смеси из возможных.
Мы применяем все более изощренные и избирательные подходы к управлению микробиомом. И тут возникает ключевой вопрос: скоро ли мы обратимся к генетическому манипулированию обитателями микробиома? В нашем распоряжении уже не первое десятилетие имеется технология изменения генов. Между прочим, ее начали применять как раз на бактериях. Процветающая ныне биотехнологическая промышленность демонстрирует эффективность таких методов. Возможно, нас ждут микробы, специально выращенные для того, чтобы жить в нашем организме? Как вам такая перспективка?
В каком-то смысле – вроде бы неплохо. Мы с большой осторожностью относимся к генетическому модифицированию, непосредственно направленному на усовершенствование нас самих. (Ах, евгеника! Ах, игра в Господа Бога!) Для проведения экспериментов на человеческих клетках требуются серьезные медицинские резоны, не говоря уж о том, что нужно соблюдать бесчисленные административные предписания.
Но такие ограничения вряд ли коснутся бактерий[172]. Мы знаем, как управляться с их ДНК, и мы знаем, что внутри у нас живет несметное множество бактерий. Так что вполне логично предположить: первый широко распространенный метод применения генетического модифицирования к человеку будет ориентирован не на собственные наши клетки, а на другие компоненты нашего суперорганизма – наших спутников-микробов.
Уже предпринимались попытки создать измененные микробы для использования за пределами кишечника. Например, сейчас можно генетически модифицировать Streptococcus mutans так, чтобы он по-прежнему заселял полость нашего рта, в особенности поверхность зубов, но больше не делал молочную кислоту из сахара. Результат: никакого кариеса.
Есть довольно убедительные подтверждения, что такой подход работает. Однако полномасштабные испытания пока не начинаются из-за решения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. В этой почтенной организации сочли, что такие испытания станут полномасштабным экспериментом в области генной инженерии. И хотя это не «человеческая» генная инженерия, результаты эксперимента планируется применить к людям, а общественный климат в этой сфере за последние годы существенно изменился из-за угрозы биотерроризма. Когда первая научная группа, предложившая серьезный эксперимент по проверке средств для профилактики кариеса при помощи генетически модифицированных микробов, вынесла свой проект на суд Управления, этот новый бактериальный штамм немедленно отнесли к категории потенциального биологического оружия[173].
Прошло несколько лет. Компания, которую эти исследователи основали еще в начале 2000-х, по-прежнему описывает данный продукт на своем сайте, но пока нет никаких признаков того, что он поступит на рынок[174]. Возможно, более удачный вариант – жидкость для полоскания рта, содержащая определенный антимикробный пептид, способный уничтожать S. mutans, не причиняя вреда остальным компонентам орального микробиома[175].
Все та же компания, где генетически модифицируют S. mutans, вместо того чтобы пытаться совсем избавиться от этой бактерии, продает оральные пробиотики для людей и домашних животных (если хозяин животного захочет порадовать своего питомца таким средством). Законодательные и административные ограничения (по крайней мере в США) не позволяют педалировать тему здоровья при продвижении пробиотиков в качестве пищевых продуктов, так что основной упор в рекламе делается на косметический аспект (даже для домашних животных). Один раз в день посыпайте вашего пса патентованным порошком из трех микроорганизмов или добавляйте это же средство в кошачий корм – и ваш зверь будет демонстрировать куда более завидное здоровье, чем прежде, а зубы у него станут еще белоснежнее.
Может быть, по мере того как такие товары будут становиться более знакомыми широкому потребителю, удастся преодолеть барьеры на пути более активного применения генетически модифицированных организмов? Или такие инициативы по-прежнему будут вязнуть в трясине административных установлений? Возможно, мотив «помогу себе сам», лежащий в основе потребления значительной доли здорового питания и пробиотиков, удастся перенести и в область домашних генетических манипуляций, ведь уже в наши дни эта технология сравнительно доступна. То, что мы в 1970–1980-е годы приучились называть генной инженерией, теперь именуется синтетической биологией. А значит, производство новых организмов для реализации «человеческих» проектов (то есть проектов, напрямую направленных на усовершенствование человека и/ или его состояния) – это теперь лишь вопрос техники? Тут есть крупица истины, во всяком случае применительно к бактериям; специалисты по синтетической биологии (назовем их биологами-синтетиками) разрабатывают все новые и новые стандартизированные «биокирпичики». Из таких строительных элементов можно постепенно сложить общий для всех желающих набор, который позволит конструировать микробов с ДНК-модификациями, специально предназначенными для выполнения конкретной задачи. Такие задачи могут быть самыми разными. Подход больше напоминает тот, что свойственен хакерам или разработчикам программ с открытым кодом, чем методы молекулярных биологов старой школы (хотя среди них всегда существовала традиция делиться друг с другом бактериофагами и штаммами E. coli).
Здесь сталкиваются две противоположных тенденции, что создает почву для конфликтов. С одной стороны, сообщество биохакеров заинтересовано в том, чтобы использовать инструменты молекулярной биологии (в числе прочих) для реализации собственных проектов. На странице Википедии, посвященной биоэнтузиастам, работающим в Лондонском хакерском пространстве в Хакни (да-да!), сказано: «И эта сфера, и сообщество тех, кто в ней задействован, постоянно растут, как растет способность любителей делать самые удивительные вещи».
С другой стороны, составление универсального набора для манипуляции ДНК с целью изменить гены кого бы то ни было, даже просто нескольких бактерий, может привести к вам в дом оперативную антитеррористическую группу в защитных костюмах, готовую выбить дверь и предъявить ордер на ваш арест и конфискацию вашей домашней лаборатории[176].
Тут есть любопытный поворот. Возможно, такая забота о безопасности ускорит развитие лабораторий, которые открыто действуют в университетских кампусах, а не таятся где-то в глухих кварталах. Биолог-синтетик Джефф Тейбор занимается в Университете Райса (штат Техас) созданием штаммов E. coli, которые когда-нибудь смогут, к примеру, обнаруживать метаболические изменения в кишечнике, откликаясь на них синтезом веществ, способствующих профилактике ожирения. Фантазия? Управление военно-морских исследований США явно считает иначе. Недавно оно выделило грант в размере полумиллиона долларов на поддержку этой работы Тейбора[177].
E. coli, эта неутомимая рабочая лошадка, сейчас является главным объектом для биологов-синтетиков; такие исследования требуется начинать с чего-то широко распространенного и неплохо изученного. Поэтому и работы над возможным приложением подобных изысканий к человеческому организму фокусируются в основном на том, что может сделать одна бактерия, а не на (к примеру) изменении всей структуры микробного населения кишечника. Впрочем, даже работа с одной бактерией порождает некоторые амбициозные идеи. Пока они касаются главным образом применения таких исследований в здравоохранении. Джон Марч из Корнеллского университета предполагает: возможно, мы сумеем добиться, что при необходимости E. coli будет подавать сигналы стволовым клеткам кишечника, чтобы те в процессе созревания превращались в клетки, вырабатывающие инсулин. Это могло бы стать своеобразной компенсацией при уменьшении числа островковых клеток в поджелудочной железе.
Ученый подчеркивает, что принцип здесь используется общеприменимый. Не помешает процитировать сайт его лаборатории, чтобы получить кое-какое представление о размахе амбиций биологов-синтетиков. Марч и его коллеги стремятся «разработать кассеты модульной экспрессии, которые будут реконфигурировать определенные микроорганизмы, чтобы те проводили безопасный и эффективный синтез внутри млекопитающего-хозяина».
И далее: «Мы превращаем энтеробактерии в эффективные клеточные фабрики in vivo[178], откликающиеся на определенного рода молекулярный дисбаланс синтезом необходимого корректирующего вещества-лекарства. Для всех подобных методов клеточной терапии необходимо точное определение содержания молекул, на которые направлено воздействие применяемых микроорганизмов, беспроблемное сосуществование таких микроорганизмов с организмом-хозяином и достаточный уровень регулируемой экспрессии генов». Иными словами, они надеются перестроить бактерии так, чтобы те могли чувствовать, когда внутри у вас что-то не так, вырабатывать нужное лекарство и доставлять его в нужное место, и все это – в одной самоподдерживающейся клеточной упаковке. У вас смелые планы, ребята!
Амбиции ученых могут оказаться еще масштабнее, если расширить определение терапии. Представьте себе нетипичный случай: чей-то кишечный микробиом оказался заселен пивоваренными дрожжами. Результат: «синдром аутоферментации», при котором потребление продуктов, содержащих сахар или крахмал, приводит к интоксикации алкоголем в процессе пищеварения. Сообщается о подобных случаях необычно обильного роста дрожжей внутри человека после приема мощных доз антибиотиков или вследствие подавления иммунной системы. Однако мы уже знаем, что при обработке организмом многих лекарств играет важную роль нормальный микробиом. Может быть, удастся его модифицировать, чтобы он при необходимости не только обрабатывал, но и вырабатывал лекарства? Возможно, первые сторонники такого метода найдут в себе смелость выпить бактериального коктейля, прежде чем отправиться на вечеринку. А прибыв туда, лишь пригубить напитки, которые требуются их новым микробам для того, чтобы ввести хозяина в состояние экстаза. Некоторые уже сейчас с большим энтузиазмом проводят самодеятельные эксперименты, чтобы, не нарушая законов, достичь наркотического опьянения. А представьте, что на рынке появится комбинация вполне легального пребиотика и микроба, который метаболизирует его во что-то более интересное с фармакологической точки зрения. Как власти будут регулировать такие вещи? А ведь подобные изобретения повлекут за собой определенные последствия.
Снаружи внутрь
Для тех, кому не хочется допускать модифицированные бактерии на микробную вечеринку, постоянно проходящую у нас в кишечнике, есть и другие методы. Конечно, полная фекальная трансплантация никогда не взлетит на вершину хит-парада, но возможны способы пересадки биоматериала, не столь трудные в применении. Страдающие хроническими ушными инфекциями могут попробовать пересадить себе немного ушной серы, взятой у более удачливого приятеля. Женщины с вагинальными инфекциями, возможно, не будут возражать против получения вагинальных мазков, взятых у здорового донора. Первая демонстрация родственникам новорожденного может превратиться в настоящий микробиомный праздник, когда семья будет изо всех сил стараться, чтобы все присутствующие как можно больше тискали и обнимали младенца. Особо приветствуется, если вы явитесь на такой праздник с собакой.
Следующий шаг – продукты личной гигиены, которые поддерживают существование нужных бактерий. Уже сейчас разработан кожный аэрозоль, призванный заменить мыло и дезодорант. Его испытывают на себе несколько отважных журналистов[179]. Компания AOBiome, выводящая его на рынок, заявляет, что ее патентованные аммонийокисляющие бактерии «хорошо зарекомендовали себя в клинических испытаниях как косметическое средство для придания человеческой коже большей привлекательности с точки зрения как внешнего вида, так и нашего самоощущения». Месячный запас средства предлагается по цене 99 долларов, но масштабы производства пока слишком малы; на препарат стоит трехмесячная очередь (для заказов из США).
Пойдем еще дальше. Вообразите себе, как в будущем мы станем опрыскивать наши жилища бактериями, а не дезинфектантом; приносить в больницу домашнюю ферментированную пищу, специально предназначенную для выздоровления кого-то из наших близких; перед свиданием мазать за ушами хитроумной смесью бактерий, чтобы резко усилить выработку феромонов нашим телом. Как подсказывает эта картинка микробиомного праздника, будущие сферы применения нашего микробиома станут формироваться под влиянием социальных, а не только научных или технических достижений. Коммерческие соображения тоже внесут свою лепту. Бактериальный спрей для кожи будут рекламировать как средство, помогающее укреплять здоровье всей семьи. Предметы, которых вы часто касаетесь (скажем, руль вашей машины), будут содержать пробиотики, помогающие заботиться о коже; обращайтесь к вашему автодилеру за новой модификацией[180]. Ваш мобильник специально населят нужными вам микробами, предполагает Джессика Грин, специалист по архитектурной среде из Орегонского университета[181].
Какова же будет наша реакция на все? Во многом она будет зависеть от того, как изменится наше отношение к другим аспектам жизни. Некоторые архитекторы-авангардисты и дизайнеры-новаторы уже сейчас радостно экспериментируют с биоматериалами для зданий, причем в самых разных масштабах – от локальных домашних опытов до городского планирования самого широкого размаха[182]. Теоретики вроде Рэчел Армстронг рассуждают о «живой архитектуре», где различные конструкции будут скорее расти, чем строиться. Уже в наши дни проводятся эксперименты с самовосстанавливающимся бетоном, в состав которого включены бактерии, выделяющие известняк. Не исключено, что возможные преимущества таких материалов (экологические, эстетические и даже – кто знает? – иммунные) перевесят нежелание входить в дом, который является не только жилым, но и живым объектом, а значит, в чем-то напоминает нас самих. Может быть, мы станем легче относиться к таким вещам, по-настоящему осознав, что постоянно находимся в микробном взаимодействии со средой? А может быть, те, кто острее почувствуют важное значение своего микробиома, будут с большей настороженностью относиться к встречам с новыми – биоинженерными – материалами, особенно если те «живые»? Неизвестно. Можно лишь гадать.
Отношение человека к микробам меняется, и здесь нас подстерегает еще один конфликт. Нет причин считать, будто все вдруг одновременно изменят мнение и решат возлюбить бактерии или же придут к единогласному выводу, какие виды и штаммы следует поощрять. В будущем нам предстоят бурные дискуссии на сей счет. Их первыми провозвестниками можно считать недавно гремевшие в печати споры об одном микробном продукте, любимом многими, – о сыре. Особенно следует отметить столкновения между регулирующими органами (пытавшимися запретить непастеризованные сыры, поскольку они служат пристанищем патогенов) и любителями сыра, а также сыропроизводителями, стремящимися использовать сырое молоко для получения более вкусных результатов. По мнению одного антрополога, в США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов считает сыр из непастеризованного молока потенциальной биологической угрозой, кишащей вредоносными бактериями; поклонники таких сыров, наоборот, считают их традиционной пищей, сделанной для нашей же безопасности путем воздействия «хороших» микроорганизмов (бактерий, дрожжей, плесени) на белки, содержащиеся в молоке[183]. Некоторые пропагандисты сыра из непастеризованного молока поддерживают одну из версий гигиенической теории, полагая, что потребление богатого микробами сыра – занятие здоровое, поскольку резко увеличивает видовое разнообразие кишечной микрофлоры.
Нам предстоит стать свидетелями все более активных усилий по формированию домашней или городской среды при помощи биоинженерии. При этом все более тесное наше знакомство с микробиомной тематикой будет влиять на наше восприятие продуктов другого рода – как новых, так и старых. Вероятно, к этому нас подтолкнет включение нашей микробиоты в состав других компонентов нашей биологии и физиологии, за состоянием которых нас призывают ежедневно следить. Представьте, к примеру, «микробный дом», который в 2011 году воображали себе дизайнеры-футуристы из компании Philips. По утрам в ванной вы будете обращаться к услугам целого ряда новых приборов. Например, сенсоров, установленных на зеркале и анализирующих ваше дыхание на предмет характерных веществ. Результаты будут интерпретироваться в сочетании с данными исследования микробных проб, взятых с вашей зубной щетки. Унитаз будет автоматически анализировать образцы мочи и фекалий, а душ станет следить за состоянием кожной микробиоты. И не в рамках оруэлловской антиутопии, а в мире, где «все это составляет часть ежедневного бытового ритуала, являясь инструментом наблюдения за собственным состоянием, компонентом гигиенического процесса, необходимым для приведения себя в достойный вид»[184].
Что там насчет приведения себя в достойный вид? Легко убедить потребителя купить пробиотический порошок, улучшающий состав его кишечных бактерий (можно добавить щепотку в пищу, а можно проглотить капсулу с таким порошком). Но для того чтобы взяться за разведение микробов в других наших экосистемах, потребуется нечто более напоминающее косметику или дезодоранты. Мы втираем лосьоны и пасты, пользуемся аэрозолем, шариковым аппликатором. Согласимся ли мы проделывать этакие процедуры с бактериальными средствами? Некоторые предприниматели уже сейчас относятся к такой перспективе с нескрываемым оптимизмом. Гилад Гоме, основатель калифорнийского стартап-проекта Personal Probiotics, начинает свое интервью сайту Motherboard.Vice.com весьма прозаически, но затем ударяется в буйные фантазии. Он предполагает, что женщина сумеет защититься от инфекций и патогенов мочевых путей с помощью приема определенного пробиотика и бактериальные штаммы, задействованные в нем, можно будет модифицировать, «так что она при желании сможет хакерским способом вторгнуться в свой микробиом и заставить свою вагину приобрести запах роз и вкус диетической колы»[185]. Не знаю, серьезное это предположение или нет. Во всяком случае, оно заставляет обратить внимание на новую фирму.
Биологи-синтетики работают над своими проектами совместно с художниками, дабы заставить нас обратить на них внимание. Некоторые из таких проектов пока носят лишь воображаемый характер. К примеру, вот один такой проект: средство ухода за кожей, которое отправляет живые микробы в небольшую емкость, где они питаются хлопковыми шариками. Микробы, замечают ученые, «могли бы также вырабатывать ароматические вещества, мыло, масляные молекулы, витамины, сигнальные молекулы в сочетании, оптимальном для типа кожи данного потребителя».
Впрочем, в рамках этого проекта удалось реализовать новый вариант применения человеческой микробиоты.
Карта отвращения
Любите ли вы сыр? Некоторым нравится, когда он резко пахнет и когда у него резкий вкус; оба фактора как бы дополняют друг друга. Но даже если вы (как и я) принадлежите к таким гурманам, вряд ли вам по душе «сырные ноги».
Конкретные виды бактерий, издающие соответствующий запах, почти не удается выявить. Так, лимбургский сыр делается с использованием Brevibacterium linens, а ее близнец Brevibacterium epidermis, практически ей идентичный, живет у нас между пальцами ног (если мы ему это позволяем). Выставьте кусок лимбургского сыра за окно, и на него слетятся комары, находящиеся под ложным впечатлением, что сейчас они полакомятся человеческой ногой.
Многие другие сорта сыра получают свой характерный аромат от бактерий, которые могут жить на нас. Мы никогда не узнаем правды, но представляется вероятным, что от человека они и попали когда-то в чаны для изготовления сыра. Их наличие в нашем рационе показывает, насколько сильно зависит от контекста наша реакция на запахи и вкусовые ощущения, ассоциируемые с распадом и тлением.
Научно-художественное сотрудничество, о котором мы упоминали выше, простирается и на изучение подвижности границы между «ням-ням» и «бр-р-р». Кристина Агапакис и Сиссел Толлас, вместе составляющие одну из групп проекта «Синтетическая эстетика», использовали микробов, взятых с кожи участников эксперимента (из подмышек, с кистей рук, с пальцев ног, из носа), для ферментации молока[186]. Исходная жидкость представляла собой «цельное натуральное пастеризованное молоко» (пусть это вас обнадежит). Смесь оставили на ночь. Утром исследовательницы обнаружили, что в ней начал образовываться сыр. Тогда они поступили, как настоящие сыроделы, и отделили створоженное молоко от сыворотки. Конечным результатом стал набор из восьми сыров, «не выдержанных шедевров мастеров-сыроваров, а лишь микробных набросков, передающих часть экологического разнообразия разных тел и разных частей тела». По словам исследовательниц, сыры эти «издавали широкую гамму ароматов».
Неразумно было бы пробовать их на вкус, поскольку никто не знал их исходный бактериальный состав. (Впрочем, позже каждый из них подвергли детальному анализу.) Когда во время лекции эти сыры передали аудитории, чтобы их понюхали, реакция оказалась весьма примечательной. Дейзи Гинзберг, одна из вдохновительниц (и участниц) эксперимента, вспоминает: «Их передавали по рядам, все осторожно принюхивались в каждому сыру, некоторые даже пытались отличиться, изо всех сил изображая объективность и делясь соображениями насчет «ноток аромата» со своими соседями. Другим же эти маленькие, белые, влажные куски казались чем-то переходящим все допустимые границы приличия». Она лукаво отмечает, что «Подмышку Дейзи» признали наиболее благоуханным сортом «со свежим ароматом, напоминающим йогуртовый».
Слушатели лекции (проходившей в цитадели гиков – бостонском Массачусетском технологическом институте: может быть, в этом заключена какая-то скрытая ирония?) в целом реагировали довольно-таки настороженно, а вот персонал одного берлинского сырного магазина, тоже понюхавший образцы, остался «на удивление невозмутим», когда после завершения запаховой дегустации узнал, каким образом эти сыры произведены. Кристина Агапакис обнаружила также, что человек обычно менее склонен испытывать брезгливость к «собственному» сыру, чем к тому, который сделан при помощи бактерий, взятых у кого-то еще.
Ослабнет ли отвращение, если вы ближе познакомитесь с микроорганизмами и с тем, как они делают свою работу? Пока можно лишь процитировать слова современного фантаста Брюса Стерлинга: «Нам очень не хватает позитивного взгляда на веселое и животворящее заражение нашей плоти крошечными микробами». Но и он предвидит сдвиг культурно-цивилизационной парадигмы, который непременно произойдет, когда люди больше узнают о микробиоме. По его мнению, в будущем мы «полюбим микробов, потому что они любят нас»[187].
Насколько быстро это все произойдет? Кто знает… Микробиомное будущее наверняка будет отличаться от микробиомного настоящего, ведь мы все лучше понимаем важность микробиома и механизмы его работы. Впрочем, давайте вернемся к тому, что он означает для нас сегодня.
Глава 12. Я – суперорганизм?
Моя жизнь – своего рода палимпсест. Впрочем, ваша тоже. Начнем с того, что я – существо биологическое. Я – животное. У меня есть животные потребности. Однако я испытываю их сквозь перекрывающиеся слои культурных, социальных, технологических сетей. А при моем образе жизни (вероятно, и при вашем тоже, если только вы не относитесь к числу активно тренирующихся спортсменов или не страдаете тяжелой болезнью) социальное и культурное обычно кажется более значимым.
Какая же польза от того, что я буду больше знать о какой-то биологической части себя, которая к тому же состоит из микробов? Приступая к этой книге, я предположил, что исследования, проводимые в данной сфере, используют характерный современный подход, рассматривая микробиом как богатейший источник информации. После некоторого изучения того, чем сейчас занимаются исследователи и как они это делают, могу подтвердить, что информации по этой части действительно много – явно больше, чем я мог бы уместить в одну книгу. Но ведь в наши дни полно информации практически обо всем. Вот почему следует решить, насколько важна именно микробная информация (на фоне всей прочей) и на какие детали здесь следует обратить особое внимание.
В каком-то смысле микробиом – штука ошеломляющая: столько крошечных клеток! И тот коллектив, который они образуют, невероятно сложно устроен. Добавьте к этому стремительное появление новых публикаций. Глупо притворяться, будто я уже сейчас знаю ответы на все вопросы или хотя бы на изрядную их долю. Однако я попытаюсь изложить то, что узнал, тремя путями. Читая обзоры и слушая ученых, я понял, какие вопросы сейчас считаются наиболее интересными. Так что вкратце остановимся на них. Кроме того, мне хотелось бы вернуться к идее, с которой я начал, и обратить ее в финальный Большой вопрос: действительно ли я – суперорганизм? (И что я сам об этом думаю?) Но сначала позвольте дать вам несколько советов. Вы прочли почти всю книгу и теперь сами можете определиться, считать ли их советами знатока.
Управление современным микробиомом
Перед вами не очередной учебник правильной жизни. По крайней мере, мне так кажется. Но, готовя эту книгу, я все-таки узнал некоторые вещи, убеждающие меня в том, что понимание ведет к правильному действию.
Вот что касается диеты. Все, что мы пока узнали о микробиоме, позволяет увидеть немалую мудрость в краткой формуле Майкла Поллана, автора книг о здоровой пище. Он дает лучший в мире совет насчет того, что класть на тарелку: «Ешьте не очень много, главным образом растения»[188].
Многие добавили бы еще одно: старайтесь, чтобы часть вашей пищи была ферментированной. Правда, я по-прежнему сомневаюсь, так ли уж это необходимо. Не исключено, что лучше стараться есть как можно больше различных видов растительных волокон (клетчатки) – в качестве пробиотика – и таким путем способствовать поддержанию «кишечника равных возможностей» (подразумеваются возможности для обитающих в нем микробов). Впрочем, продукты брожения могут приносить добавочную пользу (и, вероятно, не причиняют вреда), так что время от времени добавляйте их в свой рацион, когда вам кажется уместным. Некоторые из них – довольно славные.
Ваш выбор неминуемо будет зависеть от личных предпочтений и от того, насколько легко добыть такие продукты. Меня вполне устраивает йогурт по утрам – Мечников бы одобрил. Я испытываю глубокое, позорное предубеждение, что квашеная капуста – еда крестьянская, а кимчхи терпеть не могу, зато с удовольствием и в неограниченных количествах поглощаю голубой сыр желательно с большим количеством продуктов брожения виноградного сока. Но все это – лишь, так сказать, культурные преференции.
Я в общем-то почти всегда мог похвастаться неплохим здоровьем. Если бы мне довелось страдать болезнью Крона, синдромом раздраженного кишечника или непереносимостью глютена, я бы воспользовался более подробными рекомендациями касательно употребления пробиотиков. Впрочем, наилучший способ узнать, что из пробиотиков способно вам помочь, состоит в экспериментировании на себе. Индивидуальные реакции здесь весьма различны. Советую скептически воспринимать рекламные посулы производителей, зато внимательно следить за тем, какой именно продукт вы пробуете, когда вы это делаете, как при этом меняется ваше состояние (если меняется вообще). Если вам становится лучше, это еще не повод включить опробованный продукт в повседневный рацион. Впрочем, поступайте как знаете. Каждый имеет право действовать на основе тех свидетельств, которые добывает сам. Не стоит ждать особой помощи от чужих советов и наставлений.
Если у вас водятся деньги и вам нравится рассматривать всякие графики, сегодня вполне возможно отслеживать изменения в вашем личном микробиоме по мере того, как вы экспериментируете с диетой. Для этого вы можете обратиться к одному из массовых исследовательских проектов, финансируемых путем сбора пожертвований. Такие проекты сейчас вовсю развиваются. Результаты подобных наблюдений почти наверняка окажутся любопытными. Но их будет чертовски трудно по-настоящему интерпретировать. Опять же решайте сами, как вам быть.
Пробиотики – ладно. Если у вас хронические проблемы с кишечником, вы можете испытывать понятную тягу к другим методам. Мой вам совет (уж не знаю, насколько он ценен): даже не думайте проводить фекальную трансплантацию в домашних условиях. К этому средству прибегают от отчаяния, при болезнях, угрожающих жизни, – скажем, при хроническом заражении C. difficile, единственном недуге, для которого сейчас существуют убедительные доказательства, что такой метод его лечения эффективен. В любом случае применять эту процедуру нужно под наблюдением врача, а донор биоматериала должен пройти предварительную проверку. Если вам повезет, к тому времени, когда вам действительно остро понадобится прибегнуть к такому методу, ученые и регулирующие органы, объединив усилия, все-таки найдут способы создавать стандартизированные смеси бактериальных культур, которые будут проделывать нужную работу и избавят нас от необходимости обращаться к такой рискованной, плохо контролируемой и, давайте уж признаем, омерзительной процедуре.
Теперь что касается младенцев. Есть основания полагать, что роды при помощи кесарева сечения влекут за собой последствия, о которых мы раньше не подозревали или не знали: они меняют состав первой микробиоты новорожденного. Самый простой, безопасный и очевидный способ защититься от таких последствий – вагинальные мазки. Может быть, это не первое, что приходит в голову роженице, только что подвергшейся полостной операции. Кому-нибудь придется обратиться с убедительной речью к акушерке, медсестре или врачу. Но дело того стоит. Может быть, процедуру не обязательно делать так уж прямолинейно и удастся как-то организовать ритуальное помазание, когда родившегося ребенка привезут домой?
Жутко раздражает и деморализует, когда слышишь, что искусственное молоко – не очень-то хорошая вещь, а при этом у вас обширный маммарный абсцесс[189], ребенок, не желающий сосать грудь, или проблемы с молочницей. Но с микробной точки зрения, естественное вскармливание – оптимальный вариант (предлагаю рекламный слоган: «Грудь – лучший путь!»). Со временем появятся обходные пути: в искусственное молоко станут добавлять тщательно проверенные бактериальные культуры и пробиотики. Но до этого все-таки пока довольно далеко.
А как только ваше расчудесное чадо обзавелось хорошо сбалансированным микробиомом, чем меньше вы будете атаковать этот микробиом при помощи антибиотиков широкого действия, тем лучше. Безумная идея – отказываться от этих замечательных лекарств, когда ваш ребенок (или кто-то еще) заболевает инфекцией, угрожающей жизни. Но если болезнь не столь опасна, подумайте об альтернативных методах, даже если бедняжке плохо. Ничего, пройдет. Если не стремиться мгновенно облегчить боль прямо сейчас, иногда можно избежать проблем в будущем.
Медикам тоже не помешает пересмотреть отношение к антибиотикам (этот процесс уже пошел), причем не только в случае детей, но и в случае взрослых, особенно пожилых. Не забудем, что доля пожилых людей на планете неуклонно увеличивается.
Если же говорить о нелекарственных средствах, то всякие новомодные полоскания для рта и антибактериальные мыла скорее всего принесут вам больше вреда, чем пользы. Покрывая прыщавую кожу очистителями с вяжущим действием, вы можете усугубить проблему. (Мне, к примеру, такое никогда не помогало, а у меня был довольно серьезный случай.) Опять же относитесь критически к рекламе, которая неустанно призывает нас не покладая рук дезодорировать и дезинфицировать все поверхности тела и все уголки жилища. Научно обоснованная критика – вещь полезная.
Да, и вот еще что. Позволять фермерам использовать антибиотики не для лечения животных, а для того, чтобы они быстрее набирали вес, – полный идиотизм. Такую практику надо немедленно запретить там, где она еще почему-то разрешена. Между прочим, там, где она запрещена, эти запреты делаются сейчас еще строже.
И наконец, хотя мы берем на себя обязательство не вести войну против микробиома, это не значит, что мы совершенно перестаем заботиться о гигиене. Патогены по-прежнему есть повсюду. Допустим, вы не хотите убирать всех бактерий со своей кожи, поскольку это облегчит ее колонизацию менее желательными видами. Но мыло и вода этого и не сделают; судя по всему, они лучше справляются с удалением микробов, которые на вашей коже еще не прижились. Так что руки по-прежнему следует мыть.
У меня тут кое-какие вопросы
Узнав, что в системе, которая и является мной, и поддерживает мое существование, обитают триллионы микробов, я стал гораздо больше восхищаться биологией. Большинство всех этих процессов и явлений остаются загадочными не в том смысле, что «здесь действуют силы, кои мы не в силах охватить разумом», а скорее в смысле «елки-палки, да тут масса такого, что еще нужно выяснять».
Иными словами, после чтения огромного количества научных статей по данному предмету (всех, до каких я сумел добраться) у меня по-прежнему остаются вопросы. И не удивительно. Мой суперорганизм – штука молодая. Речь, увы, не о моем возрасте, а о молодости самого понятия. Мы уже какое-то время знаем, что содержим в себе микроорганизмы, но нынешние методики изучения микробиома появились не так давно. Подытожив то, что нам сейчас известно об этих наших микроскопических компаньонах и о том, что они для нас делают, я стал отлично осознавать: речь идет о развивающейся области науки. Сегодня исследователи знают больше, чем в прошлом году. А через год будут знать еще больше. Во всяком случае в их распоряжении будет гораздо больше информации, хотя до полного понимания еще ох как далеко.
Надеюсь, вы готовы согласиться, что уже сейчас сделано достаточное количество свежих открытий и находок, чтобы развивать углубленные (а также широкомасштабные) исследования микробиома. Впрочем, остается масса вопросов. Вот некоторые из наиболее важных, ответы на которые, по-видимому, удастся отыскать в течение ближайших нескольких лет[190].
Подтвердится ли существование энтеротипов? О чем они нам могут поведать?
Иными словами, хочется выяснить, существует ли несколько распространенных типов кишечных бактериальных смесей, стабильных и оказывающих нам все обычные услуги, которые мы рассчитываем получать от наших микробов по части пищеварения, обеспечения витаминами и предотвращения болезней. Но здесь подразумевается гораздо более обширный круг вопросов. Насколько сильно проявляется в кишечном микробиоме индивидуальная вариативность? Как эта вариативность проявляется у разных групп людей – выделяемых и по определенным характеристикам микробиоты, и по более традиционным параметрам (таким, как пол, возраст, социальное положение, принадлежность к той или иной этнической группе, кулинарной культуре)? Распутав этот узел, мы существенно продвинемся на пути выяснения того, сколько разновидностей здорового микробиома вообще существует и как выглядят микробиомы нездоровые.
Предложат ли нам «метагенотипизацию» и о чем она может сообщить?
Уже сейчас нетрудно получить приблизительный «моментальный снимок» населения вашего микробиома. Такой снимок можно при желании делать снова и снова. Выполнять более детальный и интенсивный ДНК-анализ, в принципе, конечно, тоже можно, но в настоящее время это неразумно делать вне рамок хорошо финансируемого научного проекта. Впрочем, в эпоху постоянно дешевеющей геномики следует ожидать, что полная распечатка всех генов микробиома скоро станет доступна каждому. Правда, пока не очень ясно, какие советы понадобятся нам для ее интерпретации и, возможно, применения ее в ходе принятия решений, касающихся нашей жизни.
Как нам обращаться с антибиотиками?
Есть веские основания гораздо избирательнее, чем прежде, подходить к прописыванию антибиотиков и их выбору. Следует взвесить два фактора – их воздействие на наших нормальных микробов и постоянно растущую угрозу возникновения новых микробных видов, устойчивых к антибиотикам. Может быть, первый фактор перевешивает, но ученым еще предстоит многое узнать, чтобы научиться извлекать из антибиотиков одни лишь преимущества, оставляя за скобками их недостатки. Например, врачи могут брать пробы кишечной микробиоты перед тем, как выписывать лекарства, чтобы оценить, высока ли вероятность того, что микробный состав популяции, живущей в организме пациента, восстановится после того, как на нее обрушат эту химическую атаку. Впрочем, такое разумно лишь в случае, когда нет необходимости в срочных мерах. Пожилых пациентов могут регулярно проверять на наличие C. difficile, которая в небольших количествах имеется у здоровых людей. Причина проблем с этой бактерией, возникающих в сравнительно позднем возрасте, – вероятно то, что антибиотики позволили уже существующей популяции вырасти гораздо сильнее нужного или же после курса лечения в организме пациента поселился какой-то другой штамм[191].
Когда появятся методы лечения, основанные на новых микробиомных исследованиях, и какими будут эти методы?
Медицину, лечебную и профилактическую, явно ждут усовершенствования, которых добьются благодаря всем этим микробиомным штудиям. Но дорога к тому, что предприниматели именуют трансляцией от лаборатории к клинике или от лабораторного стола к прикроватному столику (попросту говоря, к внедрению), может оказаться долгой. Многие результаты ученым по-прежнему дают лишь мыши. Процедуры, протоколы обработки данных пока далеки от стандартизации, а значит, результаты различных исследований трудно увязывать воедино для формирования общих выводов или подкрепления уже имеющихся умозаключений. Стоит ожидать появления методик типа «проглоти эту штуку – и посмотрим, что будет», которым, по-видимому, сложно будет дать научную оценку. А для более точных исследований наверняка по-прежнему потребуется детальное (желательно на молекулярном уровне) понимание механизма происходящего. В большинстве случаев микробиомные исследования более высокого уровня дают нам лишь версии на сей счет, и эти версии еще нужно дополнительно проверять. Может быть, при испытаниях, проводимых на ранних стадиях работы, будут использоваться метаболиты микробного происхождения или вещества, имеющиеся на поверхности клеток и отделенные от своих родных видов.
Ждут ли нас новые неожиданности при выяснении функций наших микробов?
Да, почти наверняка. Мы (по определению) не знаем, какими они будут. Но с уверенностью выделим одну сферу, где их можно с наибольшей вероятностью ожидать, – эпигенетику, новую модную науку о том, как гены самым тонким и изощренным образом модифицируются уже после нашего зачатия. Эта область быстро развивается. Она приносит массу сюрпризов, касающихся того, как основной ДНК-код, содержащийся в генах, меняется при добавлении своеобразных «комментариев к основному тексту» – дополнительных химических групп, пристраиваемых к нуклеотидным основаниям генетической последовательности (или при их удалении). Подобные изменения, чаще всего включающие в себя пристраивание метильной (СН3-) группы к ключевым участкам цепочки, чем-то напоминают работу с набором опций и установок компьютерной программы. Эти изменения определяют, какие функции и субфункции будут использоваться и когда, а кроме того, кто получит доступ к определенным рутинным механизмам. Они могут влиять на то, будут ли вообще экспрессироваться определенные гены или наборы генов. Эпигенетические маркеры размещаются на тех или иных позициях в результате того, что переживает организм; этот опыт транслируется в клеточные отклики, а те – в трансформации генома. Уже сейчас есть указания на то, что обитатели микробиома способны оказывать эпигенетическое действие в иммунной системе, а возможно, и везде.
Сколько времени уйдет на составление подробной картины влияния микробиома на нашу иммунную систему?
По-моему, самое большое достижение исследователей микробиома на данный момент – то, что эти работы вызвали такие сильные сдвиги в представлениях о происхождении и функциях нашей иммунной системы. Я уже кое-что рассказал об этом. Впрочем, остается масса открытых вопросов насчет мелких подробностей, всех этих «винтиков и гаечек». Как микробы кишечника влияют на дифференциацию иммунных клеток, особенно Т-лимфоцитов? Почему некоторые виды это делают, а другие – нет? Сумеем ли мы когда-нибудь продемонстрировать непосредственное воздействие микробов на аллергии и аутоиммунные процессы, или же так и будем опираться на неясные, но манящие ассоциации?
И наконец что еще нам нужно узнать?
Этот вопрос непременно витает в воздухе, когда та или иная наука вызывает большой интерес. На данный момент общий ответ, который обычно дают применительно к наукам о живом, таков: нам нужно знать, как развивать «системную биологию». Что это такое? Мне кажется, ее нередко обсуждают так бурно, словно речь идет о каком-то чудодейственном ингредиенте или универсальном растворителе, которые позволят нам расправиться со всеми нерешенными проблемами. На самом деле здесь подразумевается изучение того, как разнообразные компоненты сложного организма работают вместе, – что-то вроде многоуровневой суперфизиологии, интегрированной на каждом уровне. Редукционистский подход поможет выбрать конкретную систему для исследования, но всегда наступает момент, когда вам нужно снова попытаться собрать Шалтая-Болтая.
Эта довольно понятная общая цель подхлестнула весьма впечатляющие попытки получить настоящее представление о компонентах живого, дать им четкое определение. Самую простую из клеток, Mycoplasma genitalium, описали при помощи компьютерной модели, где учтен каждый ген этой бактерии, а также все продукты, порождаемые этими генами. Взаимодействия всего этого прослежены на протяжении полного цикла жизни клетки – от новой клетки, только что возникшей в результате дупликации, до следующего деления[192]. Эта гигантская работа позволила заполнить множество пробелов (опираясь на исследования других видов – скажем, E. coli). Пока это лишь первый черновой вариант, разработанный для одной клетки одного вида; получаемые данным методом расчетные результаты по таким параметрам, как содержание конкретных веществ и скорость их синтеза, лишь приблизительно соответствуют тем, которые мы получаем при наблюдении реальных клеток. Однако это серьезная веха на пути к созданию симулятора целой клетки. На другом конце шкалы – довольно убедительная компьютерная модель бьющегося сердца. Его «клетки» координируются электрическими импульсами. Устройство создано на основе исследований, которыми всю жизнь занимается британский физиолог Дэнис Нобл[193].
Даже в наши дни, когда вокруг несметное количество информации практически обо всем, убедительную теорию суперорганизма, выстроенную с точки зрения системной биологии, по-прежнему трудно найти. Похоже, сейчас об этой сфере стали говорить чаще, но сама она как-то ухитряется все больше скрываться из вида. Разработано множество моделей взаимодействий между двумя или тремя видами бактерий, а также моделей их метаболической конкуренции или кооперации. Пока же в общую картину не включены другие аспекты клеточной жизни, например передача сигналов и уж тем более взаимодействие с многоклеточным организмом-хозяином[194].
На данный момент есть рабочие доказательства принципа, показывающего, к примеру, некоторые пути, какими наш кишечник мог бы проводить отбор нужных бактериальных видов. Эти доказательства убедительны главным образом благодаря тому, что в ходе рассуждений применяются колоссальные упрощения. Джонас Шлютер и Кевин Фостер из Оксфордского университета пытаются объяснить, как поддерживается существование сообщества бактерий, приносящих пользу организму-хозяину. Рассуждая теоретически, конкурентными преимуществами обладает любая бактерия, просто пожирающая все питательные вещества, до каких сможет добраться, и при этом не дающая ничего полезного никаким другим клеткам. Такие иждивенцы будут быстрее расти и размножаться, а значит, в конце концов станут доминировать в популяции, тем самым создавая проблемы для теоретиков, стремящихся объяснить, как может поддерживаться бактериальная кооперация. Оксфордская группа показала на математической модели: то, как бактерии концентрируются возле кишечного эпителия, свидетельствует о том, что слабое влияние на их отбор со стороны эпителиальных клеток организма-хозяина (выделение этими клетками ключевых питательных веществ или антибактериальных соединений затрагивает лишь некоторые виды бактерий) может усиливаться и даже противодействовать тем преимуществам бактериальных нахлебников, которыми они должны бы обладать в теории. Впрочем, модель описывает всего два вида, а не тысячи, и не отражает никаких деталей бактериального метаболизма, так что полученные на ее основе выводы – лишь начало пути[195].
Рассуждая о грядущем применении идеальной системной биологии к сложным организмам, можно надеяться, что она сумеет описать взаимодействие четырех великих информационных и контролирующих систем, о которых я говорил раньше, – генетической, гормональной, нейронной и иммунной. Это взаимодействие регулирует метаболизм, а также рост и развитие клеток и тканей. Непросто разобраться в этом многообразии. Новые представления о микробиоме лишь добавляют понятийную и методологическую сложность. Теперь ученым надо оценить, как микробиота влияет на эти системы и как они в свою очередь влияют на нее. Лишь тогда, возможно, мы придем к подлинной системной биологии суперорганизма.
В современных обзорах научных работ встречается множество намеков, указывающих в этом направлении. Но они дают лишь общую перспективу, не показывая путь в деталях. В одной такой работе сказано, что требуется «более всеобъемлющая карта генетических факторов, играющих роль в переговорах между организмом-хозяином и его микробами, а также в межмикробном общении» и «выявлении взаимозависимостей между микробными видами и сетевыми архитектурами кишечной колонизации». Явный реверанс в адрес системной биологии! Вопрос лишь в том, выясним мы особенности суперорганизма благодаря «более всеобъемлющей карте» – или же для того чтобы понять эту систему, будут применяться совершенно новые идеи и подходы. Интересно было бы узнать.
И снова зеркало
Современная космология показала, что все элементы периодической системы после гелия возникают в звездах, за исключением тяжелых; те рождаются при взрывах сверхновых. Рассеиваясь в космосе и затем слипаясь в планету, элементы создают возможность появления сложных химических веществ, а значит, и жизни. Как пела на Вудстокском фестивале Джони Митчелл, «мы – звездная пыль».
Мартин Риз, британский королевский астроном и популяризатор науки, наделенный очаровательно-шаловливым характером, тоже имеет что сказать по данному поводу. Он обожает уверять всех, что мы – ядерные отходы.
Вероятно, он не имеет в виду, что мы – просто бесполезный мусор, а не замечательный продукт сложнейшего процесса. Нет-нет: он имеет в виду, что факты не говорят сами за себя. Ученые описывают, что происходит, как только они сумеют разобраться. А тогда уж мы придаем этим описаниям тот смысл, какой можем. Или, по крайней мере, выбираем те интерпретации, которые кажутся нам наиболее убедительными.
Так происходит, когда череда новых открытий возбуждает широкий общественный интерес, к примеру, недавние находки касательно жизни, обитающей в нас и на нас. Однако невозможно превратить академические статьи, написанные научным языком, в занимательные сюжеты, понятные для всех, хотя многие и пытаются это делать. Взять хотя бы бурный поток невиданных метафор, сопутствовавший появлению первых сообщений о результатах микробиомных исследований нового уровня. Тут и «инопланетяне внутри нас», и «бактериальная нация», и «легион миниатюрных помощников», и «наши бактериальные приятели», микробные автографы, бактериальные отпечатки пальцев, новое «расширенное Я». Ученые становились авторами этих образов не реже, чем журналисты[196].
Я подбираюсь к концу экспедиции по моему «расширенному Я». Какую историю о себе я могу поведать? Дайте-ка мне снова на себя взглянуть, уже зная кое-что о микроскопических взаимодействиях, которые тоже составляют часть меня.
* * *
Вот он я, снова перед зеркалом. Что изменилось? Это старое тело выглядит таким же. Может быть, я стал иначе о нем думать, иначе воспринимать его? Пожалуй, да.
А если точнее описать эту перемену в восприятии? В каком-то смысле мое тело теперь кажется мне более живым. Звучит странновато даже для меня самого. Я ведь и прежде явно чувствовал себя живым. Попытаюсь объяснить (хотя бы сам себе), что я имею в виду.
Прежде я представлял себя какой-то одной большой вещью – взрослым человеком, кучей плоти, которая неуклонно идет к тому, чтобы стать трупом, но пока еще ого-го. Поздний бэби-бумер, к тому же книгочей. Познавший удачу. Ощущавший здоровье. Мужчина. Я редко думал о своем теле как таковом. Получив первые научные знания в области биохимии, я надолго остался заворожен изысканной красотой молекулярных механизмов. Я воспринимал их как живые механизмы из многих деталей, которые необходимо поддерживать в рабочем состоянии и которые получают нужные объекты на входе и выдают определенные объекты на выходе. Что происходит с этими объектами внутри? Главным образом химические процессы. Объекты на входе интересуют меня, поскольку пища – штука славная. Объекты на выходе интересуют меня не так сильно – за исключением тех моментов, о которых не говорят в приличном обществе: скажем, нежданных вспышек детской радости от производства какашки особенно изысканной формы. Радость длится секунду-две, а затем слышен шум спускаемой воды, уносящей ваше произведение. Что происходит между входом и выходом? Расщепление пищи на маленькие молекулярные компоненты, прелюдия к созданию из них молекул для меня. Процесс, вкратце описываемый на гигантских схемах, украшающих стены кабинетов биохимиков и озаглавленных «Промежуточный метаболизм».
В 1970-е годы биология принесла новости, перетряхнувшие эти представления. Удалось получить убедительные доказательства того, что митохондрии, эти энергогенерирующие органеллы в клетках эукариот, происходят от древних бактерий, которые нашли новый способ жить внутри других клеток. Эти доказательства породили новую картину жизни многоклеточных организмов, в том числе и нас самих. Человек по-прежнему представлял собой гигантский ансамбль сотрудничающих друг с другом клеток, но выяснилось, что каждая из них дает приют другим существам, объектам и сущностям – своеобразным мини-клеткам, в чем-то неполноправным, зато с собственными небольшими наборами генов и четко различимыми мембранами, со своей аппаратурой для синтеза белков. Вместе с великим эссеистом Льюисом Томасом я дивился тому, что казалось «очень большой подвижной колонией дышащих бактерий, орудующих сложной системой ядер, микротрубочек и нейронов для блага и удовольствия своих семейств».
Поразительная мысль! Однако ее легко выкинуть из головы. В конце концов эти мириады эндосимбионтов давно утратили способность к самостоятельному, независимому существованию. Мы поддерживаем с ними столь тесную и древнюю связь, что моя интуиция по-прежнему убеждает своего носителя в том, что они – часть меня, а не какая-то отдельная колония, живущая со мной вместе. Выяснение происхождения митохондрий (похожая история с хлоропластами в листьях растений) заставляет удивляться чудесам эволюции. Но знание о том, что мне сопутствуют эти невидимые пассажиры, остается довольно абстрактным.
А вот с микробиотой дело другое. Мне все равно не разглядеть ее отдельных представителей. Но я знаю, что они постоянно прибывают, размножаются и отбывают. Я ощущаю себя более обитаемым. Велико искушение согласиться с мыслью, что всех этих микробов, живущих во мне и на мне, следует воспринимать как «разумных существ, загнанных в громадные колонии, запертых внутри большого организма, к тому же формируемых окружающим миром, ибо они общаются с ним посредством сложных процессов, благодаря которым вслепую, словно бы по волшебству, рождается функция»[197]. Да, все почти так.
Меня в очередной раз поразил размер этих колоний. Честно говоря, мне трудно вообразить, как выглядит килограмм микробной жижи в моей толстой кишке, но меня впечатляет информация о том, что мои (обычно имеющие четкую форму) испражнения по весу наполовину состоят из микробов. Если считать себя отчасти биореактором, то я – агрегат довольно производительный.
Само это количество наводит на мысль, что микробиом просто обязан иметь какое-то отношение к моему самочувствию – хорошему или плохому. Ученые на все лады твердят о взаимодействиях между моими тканями и триллионами более мелких (по сравнению с моими) клеток, которые в них живут. И это меняет мои представления о собственном Я.
Начнем с того, что теперь я уже не только механическое или химическое существо, хотя известно, что все происходящие во мне взаимодействия по-прежнему управляются молекулами. Тот факт, что я предоставляю среду обитания широкому спектру других видов, чьи популяции увеличиваются и уменьшаются в ходе борьбы видов за ресурсы, наполняет мою внутреннюю жизнь событиями весьма особого рода.
Конечно же, все это вызывает ощущение, что мне следует обращать больше внимания на то, что попадает в систему (то есть на ее вход). Я не просто заправляюсь топливом (или даже сырьем и микроэлементами), дабы автоматические чудеса химического расщепления и биосинтеза могли конструировать новые клетки (хотя и это я по-прежнему проделываю). Я ем, чтобы кормить свою микробиоту, а иногда в процессе еды прибавляю к микробиоте что-то новое. Совсем другие ощущения. Урчание в животе, которое я слышу, лежа в постели после сытного обеда, теперь не кажется мне всего лишь проявлением перистальтического сокращения кишечных мышц, обеспечивающих успешное прохождение пережеванной пищи. Это звуки перемешивающих устройств моего главного биореактора.
Но не только. Это еще и шум экосистемы – одной из нескольких экосистем, с которыми я теперь вынужден считаться. Экосистема и организм – разные вещи. Раньше я представлял себе все экосистемы как нечто внешнее по отношению ко мне самому. Внутренняя экосистема – совсем другое дело. Может, она и сама охотно регулирует себя без всякой опеки или внимания с моей стороны. Но я склонен хотя бы чуть-чуть думать о ней, когда я ем, пью, занимаюсь физическими упражнениями или принимаю лекарства.
Впрочем, мне все-таки кажется, что «биореактор» или «экосистема» – не самые интересные образы для представления моего расширенного микробного ансамбля. Некоторые утверждают, что я вместе со своими микробами составляю некую новую разновидность биологического объекта, заслуживающую отдельного терминологического названия: я – холобионт. Думаю, вряд ли этот термин привьется. Нет-нет, мой вывод таков: на самом деле я – суперорганизм.
Этот термин уже неоднократно появлялся в некоторых биологических контекстах, иной раз вдохновленных открытиями в области микробиологии. Так, суперорганизмом можно считать разные виды или штаммы бактерий, делящие друг с другом один и тот же генофонд, откуда все они могут черпать материал. Некоторые заявляют даже: генетический обмен на всех этажах жизни настолько распространен, что глобальное сообщество геномов можно рассматривать как своего рода гигантский суперорганизм (не путать с планетарным организмом – Геей)[198].
Все это не очень передает идею суперорганизма, которую я теперь исповедую. Это идея о смеси одного высокоорганизованного клеточного сообщества, эукариотического, многоклеточного Я, с невообразимо громадным числом других, более мимолетных живых сущностей, которые предпочли жить вместе, чтобы поддерживать существование чего-то большего – такого, чему трудно подобрать точное определение.
Как же осознание себя суперорганизмом влияет на повседневное самоощущение? Я никакой не супер в смысле превосходства над кем-то. Мой новый статус суперорганизма означает для меня лишь принятие идеи, что каждое другое многоклеточное – тоже в какой-то мере суперорганизм. Однако этот статус побуждает меня восхищаться тем, как в процессе эволюции жизнь объединила большое и малое, связав их самыми тесными узами. У того Я, что является суперорганизмом, более размытые границы, нежели у тела, которое не имело бы микробной нагрузки. Я-суперорганизм складывается, вероятно, под более сильным воздействием случайности. Такое Я менее стабильно, чем мы привыкли думать. В каких-то отношениях это зыбкая сущность, ускользающая от понимания. Она мерцает и переливается, то как будто позволяя увидеть себя вполне ясно, то вдруг незаметно превращаясь во что-то несколько иное. Но она больше связана с остальным миром (особенно с миром биологическим), чем мне казалось раньше. То же самое касается и всех остальных существ на нашей планете, ведь они тоже представляют собой суперорганизмы.
Меня поражает и то, насколько суперорганизм моего типа отличается от просто организма. Организму можно дать вполне четкое биологическое определение. У него есть части, и целое – больше, чем просто сумма этих частей. Все они координируются взаимодействиями, удерживающими целое в нормальном состоянии. Отклонения от заведенного порядка обычно означают болезнь. К примеру, на клеточном уровне злокачественную опухоль можно считать частью человека: у него с ней общий геном по крайней мере на ранних стадиях ее развития. Но ее интересы, некогда общие с человеческими, постепенно начинают сильно от них отличаться. Если опухоль удастся удалить и если она принадлежит к разновидности, почти не оставляющей после себя зримых телесных изменений, то после операции человек скорее будет чувствовать, что его Я восстановилось, а не уменьшилось.
Кое-что из этой идеи всевластного целого можно перенести на еще один тип «суперорганизма»: иногда данный термин применяют к общественным насекомым (а изредка и к млекопитающим – привет, сурикаты!), генетически связанным между собой и функционирующим как единая сущность. С некоторых точек зрения их можно рассматривать как единый организм с отделяемыми частями, каждая из которых по отдельности не обладает жизнеспособностью. Состав таких суперорганизмов также легко определить. К примеру, мы можем узнать, какая пчела из какого улья прилетела.
Совсем иное дело – социальный организм, который попадает в поле зрения при изучении нашего Я в увязке с нашим микробиомом и при попытке мысленно собрать эту систему заново. Не все наши микробы удается точно классифицировать или зафиксировать: конкретный состав популяционной смеси чрезвычайно изменчив и в какой-то степени зависит от случайных событий и от времени. Это вольное сотрудничество, партнеры в котором постоянно меняются[199]. Многие из входящих в него видов или наборов видов с удовольствием жили бы где-то в другом месте. Может показаться, что они служат какой-то более масштабной цели, когда, к примеру, обитают у меня в кишечнике, однако на самом деле бактерии растут и размножаются там, поскольку их устраивает такой образ жизни. Состав и поведение всей этой компании очень трудно предсказать, и ее стабильность может в любой момент нарушиться. Когда я умру, некоторые из бактерий, которыми я питался при жизни, с очаровательным безразличием микробов станут в свою очередь питаться мною. Мы связаны, но наши судьбы отнюдь не являются такими уж неразрывными[200].
Еще одно серьезное изменение в моем восприятии себя то, как я теперь учусь думать о роли иммунной системы в осуществлении этих связей. Представление об ее функционировании как о ведении боевых и разведывательных операций никогда меня толком не убеждало. Похоже, я давно ждал именно такого объяснения, которое сейчас постепенно формируется учеными, всерьез исследующими, как мы уживаемся с таким сложным микробиомом.
Я ловлю себя на том, что теперь представляю себе иммунную систему, другие клетки и ткани, микробиом и даже мозг как участников постоянного разговора. Обычно это беззаботный шепот где-то на заднем плане, болтовня клеток на вечеринке. Но время от времени темп разговора нарастает, и когда общество по-настоящему возбуждается, вспыхивают споры, а порой и более серьезные перепалки. Иногда возникают ужасные случаи недопонимания. Во всем этом, по-видимому, больше нюансов, чем в предыдущих описаниях той же системы. Разговоры могут вестись на большом расстоянии. Обычно они сводятся лишь к чему-то вроде: «Как ты там, все нормально? – Ага, все в порядке. – Ну ладно». Иногда слышится такое: «Думаю, тебе интересно будет к этому присмотреться», а порой доходит и до такого: «Похоже, у нас вот-вот будут неприятности, вот в этом месте, пришлите помощь, пожалуйста!» или даже до «Опасность! Уничтожить! Искоренить!» Но гораздо чаще все стараются быть предельно вежливыми, потому что им хочется избежать неприятностей.
Впрочем, это лишь мои фантазии. К тому же неизвестно, могу ли я влиять на это общение. Я не говорю на их языке, да и речь их едва слышна. Однако, по-моему, важно хотя бы просто признавать, что такое общение происходит.
Это общение соединяет меня с микробной жизнью, а значит, и со всей прочей. Другие связи с ней я теперь ощущаю гораздо острее, чем прежде, – в моих клетках (где есть митохондрии), в моих генах (где есть генетические фрагменты, уцелевшие от бактериальной живности в ходе эволюции), в моем кишечнике (где есть бактерии, составляющие немаловажную часть более крупного клеточного сообщества).
Возможно, это могут быть связи с формами жизни, которые слишком малы, чтобы их разглядеть. Но я все равно рад, что мне выпало жить в эпоху, когда наука делает их видимыми. Товарищеский привет всем нам, суперорганизмам. Рад познакомиться.
* * *
И наконец… Да, мой микробиом можно рассматривать как нечто, позволяющее мне теснее соединяться с прочими живыми существами. Тут уместен грандиозный и очень привлекательный образ, который мне очень нравится. Приятно ощущать суперорганизм как неплотно сплетенную сеть, объединяющую все живое на Земле посредством микробного и вирусного обмена, а иногда, при случае, и обмена генетического. Когда-то я написал книжку о Джиме Лавлоке и его гипотезе Геи[201]. Хотя мне, признаться, не по душе концепция Геи как некоего шедевра планетарной саморегуляции, я остро чувствую различия между этой живой планетой и другими – неживыми. Хорошо быть частью живого!
Впрочем, такое осознание позволяет прийти к очаровательному локальному упрощению для решения некой запутанной проблемы. Речь идет о практическом культивировании микробиома, который является крошечным узелком этой глобальной сети. Мне снова приходит на ум вклад Грэма Рука в гигиеническую гипотезу и его идея о том, что нам необходимо поддерживать знакомство со своими микроскопическими «старыми друзьями». Он настаивает, что отличное место для этого – всякие зеленые пространства. Значит, нужно быть поближе к листьям и почве, к птицам и насекомым? Не обязательно.
Ведь микробы, в конце концов, есть повсюду. Возьмите хоть их популяции, обитающие в воздухе, предлагает Рук. Бактерии, которые имеются в почве и воде, в изобилии присутствуют и в атмосфере. В частности, они содержатся в почве и воздухе крупных городов[202]. Между прочим, в почве нью-йоркского Центрального парка (ну да, у него немалая площадь) при недавнем анализе обнаружили целых 170 тысяч видов микробов[203]. В одном кубическом метре воздуха над газонами и кустами может содержаться миллион живых организмов. А средний человек вдыхает 8 кубометров в день. Так что, может, мне вообще забыть обо всех этих пребиотиках и пробиотиках? Может, больше не думать о том, стоит ли завести собаку из соображений роста микробного разнообразия? Достаточно лишь зайти в парк за углом – и немного там подышать.
Благодарности
Многие люди помогали мне уже тем, что упоминали какие-то интересные вещи, которые можно почитать, посмотреть или послушать. Всем спасибо. Еще более глубокая признательность тем, кто читал черновики этой книги, целиком или частично, и давал попутные комментарии. Это помогало мне делать текст более связным или читаемым (в идеале – одновременно усиливать оба параметра). Если я где-то все-таки бью мимо цели, в этом не их вина.
Спасибо вам за читательские отклики, Маргарет Бушелл, Корра Бушелл, Ник Лейн, Николас Уоллер, Джек Стилгоу, Питер Уошер, Питер Д. Смит, Таня Хершман, Лиз Калахер, Энди Экстенс, Кендра Браун, Тим Хейс, Дэвид Кэмерон (нет, не тот), Маргарет Макфол-Нгаи, Фелисити Меллор (перечислено без особой системы). За то же самое спасибо целой банде Тёрни, у которых меньше шансов в ближайшее время стать добычей тленья, чем у меня. Элеанор, Кэтрин, Даниэла, Майк, Дэвид, спасибо вам всем.
Группа в Icon, превратившая черновик в реальную книгу, также способствовала разнообразным улучшениям текста. Спасибо вам за это и многое другое, Дункан Хис, Роб Шерман, Эндрю Фарлоу и все-все-все.
Как обычно, спасибо моему агенту Луизе Гринберг и авторам незаменимого софта, помогавшего мне управляться с этим материалом; среди таких программ назовем здесь Scrivener, Evernote, Dropbox и активно использовавшуюся ближе к финальным стадиям работы систему поиска по всем «макинтошам» в нашем хозяйстве.
А поскольку в разделе «Благодарности» редко говорят спасибо помощникам, чье количество исчисляется триллионами, хочется выразить признательность всем моим незримым сотрудникам-микробам, которые дали возможность этому суперорганизму протянуть достаточно долго, чтобы написать очередную книгу.
И спасибо тебе, Даниэла, за все остальное.
Библиография
Aagaard, Kjersti, et al (2014). The Placenta Harbors a Unique Microbiome. Science Translational Medicine // 6: 237.
Abeles, Shiar and David Pride (2014). Molecular Bases and Role of Viruses in the Human Microbiome. Journal of Molecular Biology, 07.002.
Adler, Christina, et al (2012). Sequencing ancient calcified dental plaque shows changes in oral microbiota with dietary shifts of the Neolithic and Industrial Revolutions. Nature Genetics, 45: 450–455.
Alcock, Joe, et al (2014). Is eating behaviour manipulated by the gastrointestinal microbiota? Evolutionary pressures and mechanisms. Bioessays, 36: 201400071.
Allen, Stephen (2013). Lactobacilli and Bifidobacteria in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea and Clostridium difficile diarrhoea in older patients (PLACIDE): a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial. The Lancet, 382: 1249–1257.
Azad, M. (2014). Infant antibiotic exposure and the development of childhood overweight and central adiposity. International Journal of Obesity, doi: 10.1038/ijo. 2014.119.
Azad, Meghan, et al (2013). Gut microbiota of healthy Canadian infants: profiles by mode of delivery and infant diet at 4 months. Canadian Medical Association Journal, 185: 385–394.
Bach, J. (2002). The effect of infections on susceptibility to autoimmune and allergic diseases. New England Journal of Medicine, 347: 911–20.
Bain, Robert, et al (2014). Global assessment of exposure to faecal contamination through drinking water based on a systematic review. Tropical Medicine and International Health. 19: 917–927.
Bakalar, Nicholas (2003). Where the Germs Are: A Scientific Safari. John Wiley.
Barr, Jeremy, et al (2013). Bacteriophage adhering to mucus provide a non-host-derived immunity. Proceedings of the National Academy of Sciences. 110: 10771–10776.
Belkaid, Yasmine, and Timothy Ward (2014). Role of the Microbiota in Immunity and Inflammation. Cell, 157: 121–141.
Bercik, P., et al (2011). The intestinal microbiota affect central levels of brain-derived neurotropic factor and behavior in mice. Gastroenterology, 141:599–609.
Bested, Alison, et al (2013). Intestinal microbiota, probiotics and mental health: from Metchnikoff to modern advances. Part 1 – autointoxication revisited. Gut Pathogens, 5: 5.
Bianconi, Eva, et al (2013). An estimation of the number of cells in the human body. Annals of Human Biology, 40: 463–471.
Bjarnadottir, T. K. et al (2006). Comprehensive repertoire and phylogenetic analysis of the G protein-coupled receptors in human and mouse. Genomics, 88: 263–73.
Blaser, Martin (2014). Missing Microbes: How Killing Bacteria Creates Modern Plagues. Oneworld.
Bollinger, R. R., et al (2007). Biofilms in the large bowel suggest an apparent function of the human vermiform appendix. Journal of Theoretical Biology. 249: 826–831.
Borre, Yuliya, et al (2014). Microbiota and neurodevelopmental windows: implications for brain disorders. Trends in Molecular Medicine, XX, 1–10.
Bosch, Thomas (2012). What Hydra has to say about the role and origin of symbiotic interactions. Biological Bulletin, 223: 78–84.
Bosch, Thomas (2013). Cnidarian – Microbe Interactions and the Origin of Innate Immunity in Metazoans. Annual Review of Microbiology, 67: 499–518.
Brandl, K., et al (2008). Vancomycin-resistant enterococci exploit antibiotic-induced immune deficits. Nature, 455: 804–7.
Brodie, Eoin, et al (2007). Urban aerosols harbor diverse and dynamic bacterial populations. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104:299–304.
Callewaert, Chris, et al (2014). Deodorants and antiperspirants affect the axillary bacterial community. Archives of Dermatological Research, 1007/s00403–014–1487–1.
Can, Ismail, et al (2014). Distinctive thanatomicrobiome signatures found in the blood and internal organs of humans. Journal of Microbiological Methods, 106:1–7.
Cao, Xinyi, et al (2013). Characteristics of the gastrointestinal microbiome in children with autism spectrum disorder: a systematic review. Shanghai Archives of Psychiatry. 25: 342–353.
Ciorba, Matthew (2012). A Gastroenterologists’s Guide to Probiotics. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 10:960–968.
Claesson, M., et al (2012). Gut microbiota composition correlates with diet and health in the elderly. Nature, 488: 178–84.
Clemente, Jose, et al (2012). The Impact of the Gut Microbiota on Human Health: An Integrative View. Cell, 148, March.
Collins, Stephen (2012). The interplay between the intestinal microbiota and the brain. Nature Reviews Microbiology. 10: 735–742.
Colson, P., et al (2010). Pepper mild mottle virus, a plant virus associated with specific immune responses, fever, abdominal pains, and pruritus in humans. PLoS One, 2010;5:e10041.
Colson, P., et al (2013). Evidence of the megavirome in humans. Journal of Clinical Virology, 57: 191–200.
Conrad, Peter (1999). A mirage of genes. Sociology of Health and Illness, 21, 228–241.
Courage, Katherine (2014). Why Is Dark Chocolate Good for You? Thank Your Microbiome. ScientificAmerican.com March 19.
Cox, Laura, and Martin Blaser (2013). Pathways in Microbe-Induced Obesity. Cell Metabolism, 17: 883–894.
Cressey, Dan (2014). Microbiome science threatened by contamination – Non-sterile sequencing returns rogue results in dilute microbiome samples. Nature News, 12 November. doi: 10.1038/Nature. 2014.16327.
Dalmasso, Marion, et al (2014). Exploiting gut bacteriophages for human health. Trends in Microbiology, 22: 399–405.
Daston, Lorraine, and Elizabeth Lunbeck, eds (2011). Histories of Scientific Observation. Chicago University Press.
David, Lawrence, et al (2014). Host lifestyle affects human microbiota on daily timescales. Genome Biology, 15/7/R89.
De Filippo, C., et al (2010). Impact of diet in shaping gut microbiota revealed by a comparative study in children from Europe and rural Africa. Proceedings of the National Academy of Sciences. 107: 14691–14696.
De Vrieze, Jop (2013). The Promise of Poop. Science, 341: 954–957.
Dennehy, John (2014). What Ecologists Can Tell Virologists. Annual Review of Microbiology, 68: 117–35.
Dickson, Robert, et al (2014). Towards an ecology of the lung: new conceptual models of pulmonary microbiology and pneumonia pathogenesis. The Lancet Respiratory Medicine, 2: 238–246.
Ding, Tao and Patrick Schloss (2014). Dynamics and associations of microbial community types across the human body. Nature, 509: 357–360.
Donahue, Dallas, et al (2011). The Microbiome and Butyrate Regulate Energy Metabolism and Autophagy in the Mammalian Colon. Cell Metabolism, 13: 517–5269.
Dong, Q., et al (2011). Diversity of bacteria at healthy human conjunctiva. Investigations in Ophthalmology and Vision Science, 52: 5408–13.
Donia, Mohamed, et al (2014). A Systematic Analysis of Biosynthetic Gene Clusters in the Human Microbiome Reveals a Common Family of Antibiotics. Cell, 158: 1402–1414.
Duerkop, Breck, et al (2012). A composite bacteriophage alters colonization by an intestinal commensal bacterium. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109, 17621–17626.
Dunne, J., et al (2014). The intestinal microbiome in type 1 diabetes. Clinical & Experimental Immunology, 177: 30–37.
Dunn, Rob (2011). The Wild Life of Our Bodies – Predators, Parasites, and Partners That Shape Who We Are Today. HarperCollins.
Dutilh, Bas, et al (2014). A highly abundant bacteriophage discovered in the unknown sequences of human faecal metagenomes. Nature Communications, 5: 4498.
Eberl, G. (2010). A new view of immunity: homeostasis of the superorganism. Mucosal Immunology, 3: 450–460.
Eiseman, B., et al (1958). Fecal enema as an adjunct in the treatment of pseudomembranous colitis. Surgery, 44:854–859.
Erdman, S., and T. Poutahadis (2014). Probiotic ‘glow of health’: it’s more than skin deep. Beneficial Microbes, 5: 109–119.
Eren, A. Murat, et al (2014). Oligotyping analysis of the human oral microbiome. Proceedings of the National Academy of Sciences, June 25, E2875–2884.
Erickson, Alison, et al (2012). Integrated Metagenomics/Metaproteomics Reveals Human Host – Microbiota Signatures of Crohn’s Disease. PloS One. 7: e49138.
Everett, M. L., et al (2004). Immune Exclusion and Immune Inclusion: a New Model of Host – Bacterial Interactions in the Gut. Clinical and Applied Immunology Reviews. 5: 321–332.
Fierer, Noah, et al (2010). Forensic identification using skin bacterial communities. Proceedings of the National Academy of Science, 107: 6477–6481.
Foster, Jane, and Karen-Anne Neufeld (2013). Gut – brain axis: how the microbiome influences anxiety and depression. Trends in Neurosciences, 36: 305–312.
Fowler, R. (1986). Howard Hughes: A psychological autopsy. Psychology Today, May, 22–33.
Freddolino, Peter, and Saeed Tavazoie (2012). The Dawn of Virtual Cell Biology. Cell, 150: 248–251.
Funkhouser, Lisa, and Seth Bordenstein (2013). Mom Knows Best: The Universality of Maternal Microbial Transmission. PloS Biology. 11: e1001631.
Furusawa, Yukihiro, et al (2013). Commensal microbe-derived butyrate induces the differentiation of colonic regulatory T-cells. Nature, 504: 446–450.
Ganapathy, Vadivel, et al (2013). Transporters for short-chain fatty acids as the molecular link between colonic bacteria and the host. Current Opinion in Pharmacology, 13: 869–874.
Gest, Howard (2004). The Discovery of Microorganisms by Robert Hooke and Antoni van Leeuwenhoek, Fellows of the Royal Society. Notes and Records of the Royal Society of London, 58: 187–201.
Gevers, Dirk, et al (2014). The Treatment-Naive Microbiome in New-Onset Crohn’s Disease. Cell Host & Microbe. 15: 382–392.
Gibbons, Ann (2014). The Evolution of Diet. National Geographic, August.
Ginsberg, Alexandra, et al (2014). Synthetic Aesthetics: Investigating Synthetic Biology’s Designs on Nature. MIT Press.
Goldenberg, J., et al (2013). Probiotics for the prevention of Clostridium difficile associated diarrhea in adults and children. Cochrane Database Systematic Reviews. 5: CD006095.
Greenblum, Sharon, et al (2013). Towards a predictive systems-level model of the human microbiome: progress, challenges, and opportunities. Current Opinion in Biotechnology, 24:810–820.
Hagymasi, Kristina, et al (2014). Helicobacter pylori infection: New pathogenetic and clinical aspects. World Journal of Gastroenterology. 20: 6386–6399.
Hanage, William (2014). Microbiome science needs a healthy dose of scepticism. Nature, 512: 247–8.
Hickey, Roxana, et al (2012). Understanding vaginal microbiome complexity from an ecological perspective. Translational Research, 160: 267–282.
Hornick, R., et al (1970). Typhoid Fever: Pathogenesis and Immunologic Control. New England Journal of Medicine, 283: 739–746.
Hospodsky, D., et al (2014). Hand bacterial communities vary across two different human populations. Microbiology, 160:1144–1152.
House P. K., et al (2011). Predator cat odors activate sexual arousal pathways in brains of Toxoplasma gondii infected rats. PLoS One, 6: e23277.
Hsiao, Elaine, et al (2013). Microbiota Modulate Behavioral and Physiological Abnormalities Associated with Neurodevelopmental Disorders. Cell, 155: 1451–1463.
Human Microbiome Project Consortium (2012). A framework for human microbiome research. Nature, 486: 215–219.
Human Microbiome Project Consortium (2012). Structure, function and diversity of the healthy human microbiome. Nature, 486: 207–214.
Jackson, Mark (2006). Allergy: The History of a Modern Malady. Reaktion Books.
Jeurink, P., et al (2013). Human milk: a source of more life than we imagine. Beneficial Microbes, 4: 17–30.
Joyce, Christopher (2014). Soil Doctors Hit Pay Dirt In Manhattan’s Central Park. .
Kankainen, M., et al (2009). Comparative genomic analysis of Lactobacillus rhamnosus GG reveals pili containing a human-mucus binding protein. Proceedings of the National Academy of Sciences. 106:17193–17198.
Kaptchuk, Ted, et al (2010). Placebos without Deception: A Randomised Controlled Trial in Irritable Bowel Syndrome. PloS One. 0015591.
Karlsson, F. H., et al (2014). Metagenomic Data Utilization and Analysis (MEDUSA) and Construction of a Global Gut Microbial Gene Catalogue. PLoS Comput Biol 10: e1003706.
Karr, Jonathan, et al (2012). A Whole-Cell Computational Model Predicts Phenotype from Genotype. Cell, 150:398–401.
Keeney, Kristie, et al (2014). Effects of Antibiotics on Human Microbiota and Subsequent Disease. Annual Review of Microbiology. 68: 217–35.
Khanna, Sahil, et al (2014). Clinical Evaluation of SER–90, a Rationally Designed, Oral Microbiome-Based Therapeutic for the Treatment of Recurrent Clostridium difficile. Доклад прочитан на конференции Американской гастроэнтерологической ассоциации. -frontiers-of-fecal-microbiota-transplantation.
Klein, Jan (1982). Immunology: The Science of Self – Nonself Discrimination. John Wiley.
Koenig, Amy, et al (2010). Succession of microbial consortia in the developing infant gut microbiome. Proceedings of the National Academy of Sciences, 1000081107.
Kort, Remco, et al (2014). Shaping the oral microbiota through intimate kissing. Microbiome, 2:41.
Kotula, Jonathan, et al (2014). Programmable bacteria detect and record an environmental signal in the mammalian gut. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111: 4838–4843.
Kroes, I. et al (1999). Bacterial diversity within the human subgingival crevice. Proceedings of the National Academy of Sciences. 96: 14547–52.
La Rosa, Patricio, et al (2014). Patterned progression of bacterial populations in the premature infant gut. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111:12522–12527.
Lax, S., et al (2014). Longitudinal analysis of microbial interaction between humans and the indoor environment. Science, 345: 1048–1052.
Lecuit, Marc and Marc Eloit (2013). The human virome: new tools and new concepts. Trends in Microbiology, 21: 510–515.
Lederberg, Joshua (2000). Infectious History. Science, 288: 287–293.
Lee, Stewart (2010). How I Escaped my Certain Fate – The Life and Deaths of a Stand-Up Comedian. Faber.
Lee, Yun, and Sarkis Mazmanian (2010). Has the Microbiota Played a Critical Role in the Evolution of the Adaptive Immune System? Science, 330: 1195568.
Ley, R., et al (2005). Obesity alters gut microbial ecology. Proceedings of the National Academy of Sciences, 102: 11070–11075.
Li, Juanha, et al (2014). An Integrated Catalogue of reference genes in the human gut microbiome. Nature Biotechnology, выложено на сайте 6 июля 2014 года.
Loscalzo, Joseph (2013). Gut Microbiota, the Genome, and Diet in Atherogenesis. New England Journal of Medicine, 368:17.
Luckey, T. (1972). Introduction to intestinal microecology. American Journal of Clinical Nutrition. 25: 1292–1294.
Lyte, Mark (2014). Microbial endocrinology: Host – microbiota neuroendocrine interactions. Gut Microbes, 5: 28682.
Lyte, Mark, and Primrose Freestone, eds (2010). Microbial Endocrinology: Interkingdom Signaling in Infectious Disease and Health. Springer.
Martin, Emily (1994). Flexible Bodies: The role of immunity in American culture from the days of polio to the age of AIDS. Beacon Press.
Matzinger, P. (2002). The danger model: a renewed sense of self. Science, 296: 301–305.
Maxman, A. (2013). Designing for microscopic life in the great indoors (Interview with Jessica Green). New Scientist, 20 July.
Maynard, Craig, et al (2012). Reciprocal interactions of the intestinal microbiota and immune system. Nature, 489: 231–241.
Mazmanian, S., et al (2005). An immunomodulatory molecule of symbiotic bacteria directs maturation of the host immune system. Cell, 122: 107–118.
Mazmanian, Sarkis, et al (2008). A microbial symbiosis factor prevents intestinal inflammatory disease. Nature, 453: 620–625.
Mazmanian, Sarkis (2009). Microbial health factor. The Scientist, August 1.
McCord, Aleia et al (2013). Faecal microbiomes of non-human primates in Western Uganda reveal species-specific communities largely resistant to habitat perturbation. American Journal of Primatology, 22238.
McFall-Ngai, Margaret (2007). Care for the community. Nature, 445: 153.
McFall-Ngai, Margaret, et al (2013). Animals in a bacterial world, a new imperative for the life sciences. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110, 3229–3236.
Minot, S., et al (2013). Rapid evolution of the human gut virome. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110: 12450–12455.
Modi, Sheetal (2013). Antibiotic treatment expands the resistance reservoir and ecological network of the phage metagenome. Nature, 499: 219–223.
Moeller, Andrew, et al (2012). Chimpanzees and humans harbour compositionally similar gut enterotypes. Nature Communications, 3: 1179.
Moeller, Andrew, et al (2014). Rapid changes in the gut microbiome during human evolution. Proceedings of the National Academy of Sciences, Nov 3. doi: 10.1073/pnas. 1419136111.
Montgomery, Scott (1996). The Scientific Voice. Guilford Press.
Morrow, L., et al (2010). Probiotic prophylaxis of ventilator-associated pneumonia: a blinded, randomized, controlled trial. American Journal of Respiratory & Critical Care Medicine. 182: 1058–1064.
Naik, Shruti, et al (2012). Compartmentalized Control of Skin Immunity by Resident Commensals. Science, 337: 1115–1119.
Nakatsuji, Teruaki, et al (2013). The microbiome extends to subepidermal compartments of normal skin. Nature Communications, 4. Feb 5.
Nelson, David, et al (2012) Bacterial Communities of the Coronal Sulcus and Distal Urethra of Adolescent Males. PloS One, 7: e36298.
Nerlich, Brigitte, and Lina Hellsten (2009). Beyond the human genome: microbes, metaphors and what it means to be human in an interconnected post-genomic world. New Genetics and Society, 28: 19–36.
Noble, Denis (2006). The Music of Life: Biology Beyond Genes. Oxford University Press.
Norris, Vic, et al (2013). Hypothesis: bacteria control host appetites. Journal of Bacteriology, 195:411.
O’Malley, Maureen (2014). Philosophy of Microbiology. Oxford University Press.
Ogilvie, Lesley, et al (2013). Genome signature-based dissection of human gut metagenomes to extract subliminal viral sequences. Nature Communications, 3420.
Okada, H., et al (2010). The ‘hygiene hypothesis’ for autoimmune and allergic diseases: an update. Clinical & Experimental Immunology, 160: 1–9.
Paxson, Heather (2008). Post-Pasteurian cultures: The microbiopolitics of raw-milk cheese in the United States. Cultural Anthropology, 23: 15–47.
Petrof, E., et al (2013). Microbial ecosystems therapeutics: a new paradigm in medicine? Beneficial Microbes 4: 53–65.
Petrof, E., et al (2013). Stool substitute transplant therapy for the eradication of C. difficile infection: RePOOPulating the gut. Microbiome 1:3.
Pollan, Michael (2006). The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. Penguin.
Pradeu, Thomas (2012). The Limits of the Self: Immunology and Biological Identity. Oxford University Press.
Pradeu, Thomas, and Edwin Cooper (2012). The danger theory: 20 years later. Frontiers in Immunology, 3: 287.
Pray, Leslie, et al (2012). The Human Microbiome, Diet and Health: Workshop Summary. Institute of Medicine, US.
Price, Lance (2010). The Effects of Circumcision on the Penis Microbiome. PloS One, 5: e8422.
Pride, David, et al (2012). Evidence of a robust resident bacteriophage population revealed through analysis of the human salivary genome. ISME Journal, 6: 915–926.
Ravel, J., et al (2011). Vaginal microbiome of reproductive-age women. Proceedings of the National Academy of Sciences. 108 Suppl 1:4680–7.
Relman, David (2012). The human microbiome: ecosystem resilience and health. Nutrition Reviews, 70: S2 – S9.
Relman, David, et al (2009). Microbial Evolution and Co-Adaptation – A Tribute to the Life and Scientific Legacies of Joshua Lederberg. National Academy of Sciences, US.
Richmond, Ben (2014). Cola-flavoured Genitals, and Other Potential Uses for Microbiome Hacking. September 11.
Ridaura, V., et al (2013). Gut microbiota from twins discordant for obesity modulate metabolism in mice. Science, 341: 1241214.
Roach, Mary (2013). Gulp: Adventures in the Alimentary Canal. Oneworld.
Rook, Graham (2012). A Darwinian view of the Hygiene or ‘Old Friends’ hypothesis. Microbe, 7: 173–180.
Rook, Graham (2013). Regulation of the immune system by biodiversity from the natural environment: An ecosystem service essential to health. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110: 18360–18367.
Rosebury, Theodor (1969). Life on Man. Secker and Warburg.
Sachs, Jessica Snyder (2007). Good Germs, Bad Germs: Health and Survival in a Bacterial World. Hill and Wang.
Saey, Tina (2014). Here’s the poop on getting your gut microbiome analysed. June 17.
Salter, Susannah, et al (2014). Reagent and laboratory contamination can critically impact sequence-based microbiome analysis. BMC Biology, 12: 87.
Sanford, James, and Richard Gallo (2013). Functions of the skin microbiota in health and disease. Seminars in Immunology, 25: 370–377.
Scheuring, Istvan, and Douglas Wu (2012). How to assemble a beneficial microbiome in three easy steps. Ecology Letters, 15: 1300–1307.
Schluter, Jonas, and Kevin Foster (2012). The evolution of mutualism in gut microbiota via epithelial selection. PLoS Biology, 10: e1001424.
Schnorr, Stephanie, et al (2014). Gut microbiome of the Hadza hunter-gatherers. Nature Communications, 5: 3654.
Scott, Julia (2014). My No-Soap, No-Shampoo, Bacteria-Rich Hygiene Experiment. New York Times Magazine, May 22.
Seekatz, Anna, et al (2014). Recovery of the Gut Microbiome following Fecal Microbiota Transplantation. mBio, 5: e00893.
Shaikh-Lesko, Rina (2014). Visualising the ocular microbiome. The Scientist, May 12.
Shanahan, Fergus, and Eamonn Quigley, (2014). Modification of the gut microbiome to maintain health or treat disease. Gastroenterology, 146: 1554–1563.
Simons, Jake (2014). Biodesign: Why the future of our cities is soft and hairy. -why-the-future-of-our-cities-is-soft-and-hairy.
Singer, Emily (2013). Our bodies, our data. Quanta Magazine online. October. -our-bodies-our-data.
Singh, Nagendra, et al (2014). Activation of Gpr109a, receptor for niacin and the commensal metabolite butyrate, suppresses colonic inflammation and carcinogenesis. Immunity, 40: 128–139.
Smith, Mark, et al (2014). How to regulate faecal transplants. Nature, 506: 290–91.
Smith, Peter (2014). Is your body mostly microbes? Actually, we have no idea. Boston Globe, September 14.
Smith, Peter (2014). A new kind of transplant bank. New York Times, Feb 17.
Sommer, Felix, and Fredrik Bäckhed (2013). The gut microbiota – masters of host development and physiology. Nature Reviews Microbiology, 11: 227–238.
Song, Se Jin, et al (2013). How delivery mode and feeding can shape the bacterial community in the infant gut. Canadian Medical Association Journal, 185: 373–374.
Song, Se Jin, et al (2013). Cohabiting family members share microbiota with one another and with their dogs. eLife, 2: e00458.
Sonnenberg, Justin, et al (2004). Getting a grip on things: how do communities of bacterial symbionts become established in our intestine? Nature Immunology, 5:569–573.
Staley, James and Allen Konopka (1985). Measurement of in situ activities of nonphotosynthetic microorganisms in aquatic and terrestrial habitats. Annual Review of Microbiology, 39: 321–46.
Sterling, Bruce (2002). Tomorrow Now: Envisioning the Next Fifty Years. Random House.
Sullivan, et al (2011). Clinical efficacy of a specifically targeted anti-microbial peptide mouth rinse: targeted elimination of Streptococcus mutans and prevention of demineralization. Caries Research. 45: 415–428.
Tang, W., et al (2013). Intestinal microbial metabolism of phosphatidylcholine and cardiovascular risk. New England Journal of Medicine, 368: 1575–1584.
Thaiss, Christoph, et al (2014). Exploring new horizons in microbiome research. Cell, Host and Microbe. 15: 662–667.
Tillisch, Kirsten, et al (2013). Consumption of fermented milk product with probiotic modulates brain activity. Gastroenterology, 144: 1394–1401.
Tito, Raul (2012). Insights from characterizing extinct human gut microbiomes. PloS One. 7: e51146.
Tomes, Nancy (1998). The Gospel of Germs: Men, Women and the Microbe in American Life. Harvard University Press.
Turney, J. (2003). Lovelock and Gaia: Signs of Life. Icon Books.
Upbin, Bruce (2013). Yogurt is probiotic, why not your steering wheel? Forbes.com, 3/01/2013.
Van Nood, Els, et al (2013). Duodenal infusion of donor feces for recurrent Clostridium difficile. New England Journal of Medicine, 368: 407–415.
Waller, John (2002). The Discovery of the Germ. Icon Books.
Wilcox, Christie (2013). Fake Feces To Treat Deadly Disease: Scientists Find They Can Make Sh*t Up. scientificamerican.com January 10.
Williams, Anna (2014). Your death microbiome could catch your killer // New Scientist, 27 August.
Wolf, M. (2014). Is there really such a thing as ‘one health’? Thinking about a more than human world from the perspective of cultural anthropology. Social Science & Medicine 2014.06.018.
Wopereis, Harm, et al (2014). The first thousand days – intestinal microbiology of early life: establishing a symbiosis. Pediatric Allergy and Immunology, March.
Wrangham, Richard (2009). Catching Fire: How Cooking Made Us Human. Basic Books.
Wylie, Kristine, et al (2012). Emerging view of the human virome. Translational Research, 160: 283–290.
Xiao, Shuiming, et al (2013). A gut microbiota-targeted dietary intervention for amelioration of chronic inflammation underlying metabolic syndrome. FEMS Microbial Ecology, 87: 357–367.
Xu, Jian, and Jeffrey Gordon (2003). Honor thy symbionts. Proceedings of the National Academy of Sciences, 100: 10452–10459.
Yatsuneko, Tanya, et al (2012). Human gut microbiome viewed across age and geography. Nature, 486: 222–228.
Yong, Ed (2014). Searching for a ‘Healthy’ Microbiome. -diversity, 29 Jan 2014.
Youngster, Ilan, et al (2014). Oral, capsulized, frozen fecal microbiota transplantation for relapsing Clostridium difficile infection. Journal of the American Medical Association, Oct 11, doi: 10.1001/jama. 2014.13875.
Zhao, L. (2013). The gut microbiota and obesity: from correlation to causality. Nature Reviews Microbiology. 11: 639–647.
Zimmer, Carl (2008). Microcosm: E. coli and the new science of life. Heinemann.
Zimmer, Carl (2011). A Planet of Viruses. University of Chicago Press.
Zipursky, Jonathan, et al (2012). Patient Attitudes Toward the Use of Fecal Microbiota Transplantation in the Treatment of Recurrent Clostridium difficile Infection. Clinical Infectious Diseases, 55: 1652–1658.
Материал для дополнительного чтения
Количество исследований микробиома человека (и других существ) быстро растет, и область соответствующих изысканий стремительно ширится. В этой книге даются кое-какие полезные указания на то, что следовало бы искать в грядущих результатах. Среди упомянутых мною нерешенных вопросов большинство будет проясняться постепенно, а не путем внезапного прорыва.
Впрочем, вполне понятно, что такая обширная тема подразумевает наличие важных работ, которые я не осветил. В наши дни основная часть таких публикаций появляется в журналах с открытым доступом, что замечательно. Кроме того, литература в этой сфере рассеяна в самых разных местах. Микробиомные статьи появляются и в журналах общего профиля, занимающихся науками о живом, и в специализированной медицинской периодике, и в ежемесячниках, посвященных иммунологии, клеточной биологии, экологии… Из моих примечаний и библиографии можно составить представление о том, где какие исследования обычно печатаются. Вам помогут и новостные страницы научных журналов Science и Nature, и более снисходительный к неспециалистам Scientific American.
Новые материалы лучших интерпретаторов исследований в этой области легко отслеживать в Сети. Так, блоги британца Эда Ёнга «Тоже мне, бином Ньютона» (Ed Yong, «Not Exactly Rocket Science») и американца Карла Циммера «Ткацкий станок» (Carl Zimmer, «The Loom») регулярно представляют весьма вдумчивые сообщения о новых микробиомных исследованиях. Оба блога можно читать на сайте National Geographic: -exactly-rocket-science и -loom.
Кроме того, исследователь Джонатан Айзен регулярно выкладывает посты в «Древе жизни» (), помогая нам, авторам-популяризаторам, оставаться честными и беспристрастными: он регулярно присуждает ироническую премию «За чрезмерные похвалы микробиому».
Все эти славные люди есть и в твиттере – как и Элибазет Бак (@MicrobiomDigest), которая на сайте ежедневно держит своих читателей в курсе новых статей и профессиональных комментариев, касающихся результатов микробиомных исследований. Приятного чтения!
UNIVERSUM О науке и ее творцах – самое интересное и невероятное
Поразительно, но факт: в каждом взрослом человеке живет около 4 кг самых разных микросуществ – бактерий, грибков, вирусов! Для них мы – убежище, дом. Все эти существа вместе образуют то, что ученые называют микробиомом. Если наш микробиом живет с нами в гармонии, мы здоровы и счастливы: пища перерабатывается правильно, иммунная система работает как надо и на душе легко и спокойно. Если же какой-то член микробиома вдруг начинает бунтовать и бурно размножаться, или же в микробиоме появляется непрошеный гость, – к нам приходит болезнь. Человеческий микробиом – живая, подвижная система, о невероятной важности которой ученые совсем недавно и не подозревали.
Джон Тёрни, известный английский популяризатор науки, рассказывает о том, что такое микробиом и какое влияние он оказывает на нашу жизнь. Прочитав эту книгу, вы уже не сможете воспринимать себя по-прежнему.
Вы в этом мире не одни, вы – суперорганизм.
Примечания
1
Человек мягок, податлив и довольно изменчив. Клетки – тоже. Поэтому не так-то просто подсчитать, сколько клеток у среднего взрослого. Часто приводят грубую оценку – от 10 до 100 триллионов. Согласно одной из недавних более осторожных оценок, учитывающей объемы и основные типы клеток различных органов, это количество составляет чуть больше 37 триллионов [Bianconi, 2013]. Короче говоря, их триллионы и триллионы. Сойдемся на этом.
(обратно)2
Некоторые подразумевают под микробиотой совокупность всех микроорганизмов, обитающих в каком-то ограниченном пространстве, а под микробиомом – общий массив генетического материала, который эти микроорганизмы в себе несут. Второй термин, придуманный генетиком Джошуа Ледербергом, несколько двусмысленен, что (на мой взгляд) даже полезно. Термин этот можно воспринимать как результат слияния слов микроб и биом, причем биом здесь воспринимается в экологическом значении – как набор различных взаимодействующих видов. Более свежая версия: термин возник благодаря соединению слова микроб и суффикса – ом, имеющегося в таких терминах, как «геном», «протеом» и другие «-омы», столь любимые нынешними биологами. В этом как бы проявляется напряжение (и сотрудничество), существующее между различными ветвями биологии, изучающими проблемы микробиома. Похоже, на практике термины «микробиота» и «микробиом» взаимозаменяемы, и второй в наши дни часто вытесняет первый. Здесь я буду использовать термин «микробиом» в смысле «все организмы», если только из контекста не явствует, что речь идет лишь о ДНК.
(обратно)3
Многие приводят цифру «100 триллионов» (по сравнению с 10 триллионами клеток тела), однако эта оценка нашего бактериального населения проведена давно и основана на анализе одного грамма кала [Smith, 2014]. Впрочем, точное количество не играет роли в наших дальнейших рассуждениях.
(обратно)4
Когда я писал черновик этого раздела, в самом обширном каталоге числилось 987 9896 генов [Li, 2014]. К тому времени, как текст книги отправился в типографию, это количество перевалило за 10 миллионов [Karlsson, 2014].
(обратно)5
Применительно к данному контексту термин предложен опять же Джошуа Ледербергом. Этот парень вообще повлиял на многое в науке.
(обратно)6
Строго говоря, честь описания первого микроба принадлежит Гуку: он наблюдал грибок, о котором написал как о «маленьких грибах многообразных форм» [Gest, 2004]. Зато Левенгук стал первым, кто описал бактерии.
(обратно)7
Kroes, 1999.
(обратно)8
ОМОБ – термин, взятый мною у Питера Конрада, специалиста по медицинской социологии, предположившего, что микробная и генетическая теории следуют одному образцу [Conrad, 1999].
(обратно)9
Эта история хорошо изложена в: John Waller, The Discovery of the Germ [«Открытие микроба»], 2002.
(обратно)10
Fowler, 1986.
(обратно)11
См.: Nicholas Bakalar, Where the Germs Are [«Где живут микробы»], 2003. Это превосходный, великолепно сбалансированный обзор хороших и плохих микробов (хотя упор в нем делается все-таки на плохих).
(обратно)12
Не всякую рекламу лизола приятно читать. В одном довоенном журнале предпринята по сути серьезная атака на микробиом: в рекламном объявлении утверждалось, будто лизол «по-настоящему очищает вагинальный канал даже в присутствии слизистого вещества. А значит, лизол куда действеннее полумер вроде мыла, соли или соды. Гарантирована безупречная изысканность: устраняется сам источник предосудительного запаха». Женщины, вам следует делать это, чтобы «оставаться желанными». Впрочем, нелишне отметить, что это объявление представляет собой не столько текст о борьбе с нежелательным запахом, сколько не очень-то замаскированную рекламу лизола как спермицида.
(обратно)13
Отмечено в: Jessica Snyder Sachs, Good Germs, Bad Germs [«Микробы хорошие и плохие»], 2007.
(обратно)14
Между прочим, мой экземпляр датируется 1976 годом, так что мне следует похвалить себя за интерес к этой теме, возникший у меня еще в те далекие времена.
(обратно)15
«Прокариоты» и «эукариоты» – вероятно, два самых раздражающих термина в науках и живом. Два слова очень похожи друг на друга. Чертовски трудно запомнить, что есть что. Однако различие между ними – самое важное в классификации живых организмов.
(обратно)16
Покойная Линн Маргулис являлась одной из самых убежденных проповедников этого сбалансированного взгляда на эволюцию жизни. Среди ее нескольких превосходных книг следует выделить «Микрокосмос», написанный совместно с ее сыном Дорионом Саганом [Lynn Margulis, Dorion Sagan, Microcosmos, 1992] и дающий, быть может, лучшее описание жизни с этой точки зрения, хотя некоторые детали устарели с момента выхода книги.
(обратно)17
Для этого лучше всего прочесть замечательную книгу популяризатора Карла Циммера «Микрокосм» [Carl Zimmer, Microcosm], где работа жизни рассматривается через призму E. coli. Полезным дополнением к ней может служить недавно вышедшая «Философия микробиологии» Морин О’Малли [Maureen O’Malley, Philosophy of Microbiology], приправленная биологией и историей.
(обратно)18
Видимо, само появление сложных клеток – событие в высшей степени маловероятное, раз уж в течение двух миллиардов лет единственными живыми организмами на Земле оставались бактерии. Почему химические и физические процессы, сформировавшие энергетику клеточной эволюции, сделали столь маловероятным возникновение эукариотической сложности? Этот вопрос объясняется в замечательно аргументированной книге Ника Лейна «Жизненно важный вопрос» (Nick Lane, The Vital Question), которая должна уже выйти к тому моменту, когда вы будете это читать.
(обратно)19
McFall-Ngai и др., 2013.
(обратно)20
Кутикула – пленка, покрывающая клеточную стенку. (Прим. перев.)
(обратно)21
Отступление для философов. Появление новых методов наблюдения означает, что теперь мы видим что-то по-иному – или что мы видим что-то иное? Дастон [Daston, 2011] предлагает в этой связи еще больше пищи для размышлений. Мне нравятся такие философские дискуссии, поскольку они затрагивают то, чем ученые действительно занимаются. Мой собственный нефилософский ответ: «Вероятно, здесь и то и другое».
(обратно)22
Staley, 1985.
(обратно)23
Singer, 2013.
(обратно)24
Здесь уже не идет речь о парах нуклеотидных оснований: РНК – молекула однонитевая (в отличие от ДНК, которая состоит из двух нитей). (Прим. перев.)
(обратно)25
Salter, 2014.
(обратно)26
Cressey, 2014.
(обратно)27
Еще сравнительно недавно, в 1970-х, в США проводили на заключенных-добровольцах опыты по изучению бактериального токсина, ответственного за некоторые симптомы брюшного тифа. Но времена меняются [Hornick, 1970].
(обратно)28
По мнению биолога Роба Данна, сообщения прессы о первых безмикробных животных вызвали в обществе энтузиазм: теперь-то, считали многие, удастся полностью уничтожить микробов и в среде обитания человека. Мне кажется, это превратное толкование истории, но рассказывает он, что ни говори, убедительно [Dunn, 2011, гл. 5].
(обратно)29
Цит. по: Mazmanian, 2009.
(обратно)30
Лейтмотив работы Exploring Human Host-Microbiome Interactions in Health and Disease [«Исследование взаимодействия «хозяин – микробиом» у здоровых и больных людей»], Hinxton, апрель 2014.
(обратно)31
Это очень грубая оценка, но, как мне представляется, верная хотя бы по порядку величины. Человек в положении лежа занимает 3 квадратных метра, а бактерия микронной длины – одну миллионную одной миллионной квадратного метра. Площадь же континентальной части США – около 9 миллионов квадратных километров.
(обратно)32
Human Microbiome Project Consortium, 2012.
(обратно)33
Keeney и др., 2014.
(обратно)34
Определение вида здесь чисто техническое. Оно связано с последовательностями 16S рРНК. Собственно, речь идет о так называемых «операционных таксономических единицах» (ОТЕ). Вполне допустимо рассматривать их как виды, пытаясь оценить степень микробиологического разнообразия.
(обратно)35
Hanage, 2014.
(обратно)36
Naik, 2012.
(обратно)37
Fierer и др., 2010.
(обратно)38
Sanford и Gallo, 2013.
(обратно)39
Lax, 2014.
(обратно)40
Hospodsky, 2014.
(обратно)41
Nakatsuji, 2013.
(обратно)42
Kort, 2014.
(обратно)43
Eren, 2014.
(обратно)44
Это не из статьи, а из блога -analysis-of-the-human-oral-microbiome
(обратно)45
Ravel, 2011.
(обратно)46
Donia, 2014.
(обратно)47
Nelson, 2012.
(обратно)48
Price, 2010.
(обратно)49
Идея не нова. Томас Лаки из Миссурийского университета с 1970-го каждые два года проводит симпозиумы по микроэкологии кишечника. См., напр.: Luckey, 1972.
(обратно)50
Dickson, 2014.
(обратно)51
Morrow, 2010.
(обратно)52
Dong, 2011.
(обратно)53
Shaikh-Lesko, 2014.
(обратно)54
Karlson, 2014.
(обратно)55
Moeller, 2012.
(обратно)56
Ding, 2014.
(обратно)57
Human Microbiome Project Consortium, 2012.
(обратно)58
Во всяком случае, так я слышал. Я писатель и в менеджменте не очень-то разбираюсь.
(обратно)59
Xu, 2003.
(обратно)60
McFall-Ngai, 2013.
(обратно)61
Хотя она выполняет и эту функцию. Здесь уместно вспомнить о Бристольской таблице кала, где дается классификация структуры человеческих фекалий по семи параметрам. Будучи жителем славного города Бристоля, я убежден, что этот вклад бристольцев в сокровищницу мировой науки заслуживает более широкого признания. Собственно, по особенностям этой структуры оценивают время прохождения еды через пищеварительный тракт.
(обратно)62
Излишне напоминать, что в целях популяризации предмета автор рисует здесь весьма упрощенную картину поведения атомов и молекул. (Прим. перев.)
(обратно)63
Мой рассказ основан в том числе на: Donahue, 2011; Singh, 2014; Yukihiro, 2013; Bjarnadottir, 2006 и Ganapathy, 2013.
(обратно)64
Роль Блейзера в истории H. pylori составляет костяк его недавней книги Missing Microbes: How Killing Bacteria Creates Modern Plagues [«Недостающие микробы. Как убийство бактерий вызывает современные недуги»], 2003.
(обратно)65
Hagymasi, 2014.
(обратно)66
Saey, 2014.
(обратно)67
Maynard, 2012.
(обратно)68
Aagaard, 2014.
(обратно)69
Jeurink, 2013.
(обратно)70
Подробнее о них см. в главе 7. Они называются дендритными (древовидными) благодаря длинным разветвленным отросткам, способным проникать между другими клетками (скажем, между эпителиальными клетками кишечника). Не следует путать их с дендритами нервных клеток – мельчайшими компонентами нервных волокон, похожими на дендритные клетки лишь на первый взгляд.
(обратно)71
Цит. по: Pray, 2012, с. 80.
(обратно)72
Хороший обзор недавних работ см. в: Wopereis, 2014. См. также: Koenig, 2010.
(обратно)73
Song, 2014.
(обратно)74
La Rosa, 2014.
(обратно)75
David, 2014.
(обратно)76
Claesson, 2012.
(обратно)77
Can, 2014; Williams, 2014.
(обратно)78
Чудо коэволюции в данном случае этим не ограничивается. У муравьев есть свой микробиом на поверхности их жесткого экзоскелета. Бактериальные виды этого микробиома играют еще одну ключевую роль в описанной нами системе: они вырабатывают антибиотики, сдерживающие развитие патогенов, которые иначе атаковали бы выращиваемые грибы. Муравьи представляют богатый источник питания для этих бактерий, тем самым поощряя размножение микроорганизмов, конкурирующих друг с другом посредством прямого воздействия (выделяя антибиотики), а не по скорости роста популяции. Система устроена очень изящно, ведь муравей понятия не имеет, что он занимается отбором бактериальных видов, обладающих определенным свойством. При этом не подаются какие-то специальные сигналы и не задействована какая-то особая система распознавания. Система, сложившаяся в процессе эволюции, просто создает условия, в которых «автоматический» отбор происходит благодаря тому, что различные бактерии занимаются вполне обычными для себя делами [Sheuring, 2012].
(обратно)79
Bosch, 2012.
(обратно)80
Размер – штука относительная. Скажем, кишечник дрозофил не впечатляет по сравнению с кишечником любого млекопитающего. Но он все равно крупнее, чем совокупный размер всех представителей примерно 20 видов бактерий, обитающих в нем. В любом случае мне очень нравится это утверждение, и я с нетерпением жду, сумеет ли кто-нибудь проверить это.
(обратно)81
McCord, 2013.
(обратно)82
Полностью эти доводы можно прочесть в: Richard Wrangham, Catching Fire: How cooking made us human [«Гори оно все огнем: как кулинарная обработка пищи сделала нас людьми»]. Меня эти доводы убедили.
(обратно)83
Tito, 2012.
(обратно)84
Adler, 2012.
(обратно)85
De Filippo, 2010.
(обратно)86
Schnorr, 2014.
(обратно)87
Сообщено в: Yong, 2014.
(обратно)88
Moeller, 2014.
(обратно)89
Из: Fram Bakwill, Mic Rolph, Cell Wars [«Клеточные войны»], 1990 (в оригинале – небольшой пропуск). Еще один чуть более ранний путеводитель по иммунной системе дает более узкий взгляд на вещи и называется «Воюющее тело» (Dwyer, The Body At War, 1988).
(обратно)90
Скотт Монтгомери в своем блистательном «Голосе науки» [Scott Montgomery, The Scientific Voice] называет биомилитаризмом характерные метафоры, которыми описывают микробов, болезни, иммунитет и другие системы защиты организма. Он считает, что такой подход пошел еще от Пастера, на чье мышление, вероятно, повлияло поражение Франции во Франко-прусской войне 1870–1871 гг. См.: Montgomery, 1996.
(обратно)91
Martin, 1994, с. 97.
(обратно)92
Matzinger, 2002; Pradeu, 2012.
(обратно)93
О парадигматическом сдвиге см. в: Sommer, 2013; о перевороте в наших взглядах на иммунную систему см. в: Belkaid, 2014.
(обратно)94
По мнению Томаса Придо, бактерии тоже обладают иммунитетом; он направлен против вирусов. Но здесь потребовалось бы говорить о различных клеточных компонентах, умеющих распознавать фрагменты нуклеиновых кислот. Я решил, что в такие подробности нам здесь углубляться ни к чему. См.: Prideau, 2012.
(обратно)95
God – Бог (англ.).
(обратно)96
Оценка взята из: Klein, 1982.
(обратно)97
Как и во многих других случаях, автор сознательно рисует здесь весьма упрощенную картину. Дальнейшее созревание В-лимфоцитов происходит за пределами костного мозга. (Прим. перев.)
(обратно)98
Sonnenberg, 2014.
(обратно)99
McFall-Ngai, 2007.
(обратно)100
Британским читателям рекомендую вместо «Руб Голдберг» читать «Нис Робинсон»: это еще один карикатурист, придумавший замечательные нелепо-сложные машины, выполняющие самые обычные, повседневные задачи.
(обратно)101
Lee, 2010.
(обратно)102
Eberl, 2010.
(обратно)103
Brandl, 2008.
(обратно)104
Bollinger, 2007.
(обратно)105
Everett, 2004.
(обратно)106
Lee, 2010.
(обратно)107
Русский вариант истории про Златовласку – сказка «Три медведя». В обоих случаях героиня, попав в жилище медведей, обнаруживает там по три предмета разного размера: одни ей малы, другие – велики, а вот третьи – «в самый раз». (Прим. перев.)
(обратно)108
Belkaid, цит. соч.
(обратно)109
СВК следует отличать от синдрома раздраженного кишечника (СРК) – еще одного распространенного хронического источника кишечного дискомфорта. СРК не связан с воспалительными процессами. Микробиота при СРК тоже активно изучается; существует много соответствующих исследований, но ясной картины происходящего пока нет.
(обратно)110
Lee, 2010, с. 129.
(обратно)111
История о гельминтах и болезни Крона хорошо изложена в: Rob Dunn, The Wildlife of our Bodies [«Дикая природа в нашем теле»], 2011.
(обратно)112
Mazmanian, 2005, 2008.
(обратно)113
Erickson, 2012.
(обратно)114
Gevers, 2014.
(обратно)115
Tang, 2013; Loscalzo, 2013.
(обратно)116
Azad, 2014.
(обратно)117
Ley, 2005.
(обратно)118
Анастомоз – соединение двух полых органов. (Прим. перев.)
(обратно)119
Xiao, 2013.
(обратно)120
Cox, 2013.
(обратно)121
Обзор см. в: Dunne, 2014.
(обратно)122
Первые исследования сенной лихорадки – хорошая иллюстрация нашей давней привычки объяснять всякую новую (или обострившуюся) медицинскую проблему тем, что наблюдателю не нравится в его непосредственном окружении. Марк Джексон рассказывает, как в США в 1880-х годах этот недуг объявляли нервным заболеванием, вызванным «многообразными пагубными качествами нынешней жизни», в том числе ростом скоростей, повышением общего уровня шума, увеличением темпов деловых операций и научных открытий и даже женским образованием [Jackson, 2006]. Следует иметь это в виду, читая нынешние научные объяснения причин тех или иных болезней.
(обратно)123
Опираюсь на данные из: Jessica Snyder Sachs, Good Germs, Bad Germs [«Микробы хорошие и плохие»], 2007.
(обратно)124
Bach, 2012.
(обратно)125
Эту гипотезу он продолжает отстаивать. См.: Rook, 2012.
(обратно)126
Rook, 2013.
(обратно)127
Элисон Бестед и ее коллеги дают обзор всего этого в первой из трех статей, посвященных взаимодействию кишечника и мозга. Она опубликована в 2013 году. На нее я здесь и опираюсь. См.: Bested, 2013.
(обратно)128
В отечественной литературе встречается название допамин – необдуманная транслитерация английского термина. Оба являются сокращениями систематического наименования 2-(3,4-дигидроксифенил) – этиламин (3,4-dihydroxyphenethylamine), поэтому в русскоязычном сокращении логичнее употреблять букву Ф (от фенил-). (Прим. перев.)
(обратно)129
См., напр., в его книге: Lyte, 2010, гл. 1.
(обратно)130
Lyte, 2014.
(обратно)131
Если бактерии действительно побуждают нас есть шоколад, тогда, быть может, они тем самым даже приносят нам пользу, хотя ее причины тоже бактериальны. Некоторые кишечные микробы способны метаболизировать полифенолы, входящие в состав порошка какао, вырабатывая более мелкие противовоспалительные молекулы, оказывающие благотворное воздействие на иммунную систему. Увы, для этого можно обойтись и без шоколада. Ежевика и чай также питают этот бактериальный субстрат [Courage, 2014].
(обратно)132
House, 2011.
(обратно)133
Другие возможные влияния бактерий на аппетит человека вкратце описаны в: Norris, 2013.
(обратно)134
Bercik, 2011.
(обратно)135
Обо всем этом и многом другом в обзоре: Foster, 2013.
(обратно)136
Hsiao, Elaine, 2013.
(обратно)137
Cao, 2013.
(обратно)138
Tillisch, 2013.
(обратно)139
Это лишь малая часть целого комплекса исследований, предпринятых в Гарварде группой Теда Капчука. Они изучили многие аспекты реакций на плацебо. См.: Чем больше я думаю об этой научной работе, тем больше она кажется мне одной из самых моих любимых. См.: Kaptchuk, 2010.
(обратно)140
Dennehy, 2014.
(обратно)141
Как и о жизни бактерий (см. ссылку в гл. 2), среди наших современников лучше всего рассказывает о вирусах блистательный Карл Циммер [Zimmer, 2011], у которого я и позаимствовал это сравнение.
(обратно)142
Ogilvie, 2013.
(обратно)143
Кстати, не все вирусы малы. Уже в нынешнем веке удалось обнаружить новую разновидность – мегавирусы. Это ДНК-вирусы, обитающие внутри эукариотических клеток. Их тоже иногда находят в человеческих биоматериалах [Colson, 2013].
(обратно)144
Colson, 2010.
(обратно)145
Pride, 2012.
(обратно)146
Modi, 2013.
(обратно)147
Barr, 2013.
(обратно)148
Duerkop, 2012.
(обратно)149
Minor, 2013.
(обратно)150
Экскременты могут завораживать, отталкивать или даже забавлять нас, но следует помнить, что отделение их от основной части нашей жизни – достижение сравнительно недавнее, к тому же пока охватывающее не все население Земли. По оценкам специалистов, сейчас около 1,8 миллиарда людей по-прежнему пользуются питьевой водой, загрязненной человеческими фекалиями [Bain, 2014].
(обратно)151
Eisemann, 1958.
(обратно)152
Опрос пациентов, проведенный в 2012 году, показал, что получение фекалий через назогастральную трубку – «самый непривлекательный» из существующих методов [Zipursky, 2012].
(обратно)153
Youngster, 2014.
(обратно)154
Smith, 2014.
(обратно)155
De Vrieze, 2013.
(обратно)156
Seekatz, 2014.
(обратно)157
Shanahan, 2014.
(обратно)158
Smith, 2014.
(обратно)159
В 2014 году – 32,6 миллиарда. См.: -releases/marketsandmarkets-global-probiotics-market-worth-us326-billion-by-2014–81304537.html
(обратно)160
Характерные туманные термины, регулярно используемые этими – как их – пропробиотическими авторами (адептами пробиотиков), скажем, Рафаэлем Келлманом, доктором медицинских наук, осчастливившим человечество книгой «Микробиомная диета» [Raphael Kellman, The Microbiome Diet, 2014]. Пока мы еще слишком мало знаем, чтобы прописывать такие штуки. Должен признаться: главным образом именно поэтому я не стал тратить время на знакомство с данным творением. Впрочем, мне известно, что в одной из статей того же автора предлагается диета, куда входит, помимо всего прочего, соляная кислота как один из компонентов, якобы необходимых нам для «возмещения нехватки желудочной кислоты и пищеварительных ферментов». Не имею ни малейшего понятия, какое отношение это может иметь к микробиому, но сама идея – очень плохая. Соляную кислоту пить вредно. Вот ссылка на эту сомнительную статью: -answers/balanced-microbiome-key-health-weight-loss
(обратно)161
Gibbons, 2014.
(обратно)162
Она может даже чем-то напоминать «палеодиету», которую сейчас так продвигают в некоторых кругах, но антропологические данные свидетельствуют, что в реальном рационе наших предков содержалось гораздо меньше мяса и гораздо больше листьев для жевания, чем вынесло бы большинство наших современников.
(обратно)163
Кимчхи – квашеные овощи с острыми приправами, традиционное блюдо корейской кухни. Доса – блинчики из чечевичной и рисовой муки, традиционное для Южной Индии блюдо. В приготовлении доса задействован процесс брожения. (Прим. перев.)
(обратно)164
Erdman, 2014.
(обратно)165
Kankainen, 2009.
(обратно)166
Ciorba, 2012.
(обратно)167
Созданная в Великобритании международная некоммерческая организация, занимающаяся подготовкой и распространением систематических обзоров медицинских методов и их воздействия на человека. (Прим. перев.)
(обратно)168
Allen, 2013.
(обратно)169
Petrof, 2013.
(обратно)170
Khanna, 2014.
(обратно)171
Callewaert, 2014.
(обратно)172
В середине 2014 года опубликовано первое сообщение о перепрограммированных бактериях, выращенных в кишечнике мышей. Авторы недвусмысленно заявляют, что их ближайшая цель – использовать эти бактери в человеческом организме [Kotula, 2014].
(обратно)173
Sachs, 2007, с. 204–205.
(обратно)174
За признаками продвижения этой работы можно следить здесь: -prevention
(обратно)175
Sullivan, 2011.
(обратно)176
Это довольно убедительно показывает Ричард Пауэрс в замечательном романе «Орфей» [Richard Powers, Orfeo, 2014].
(обратно)177
Подробности доступны пока лишь в пресс-релизе . rice.edu/2014/05/12/no-bioengineered-gut-bacteria-no-glory-2
(обратно)178
В живом организме (лат.).
(обратно)179
Scott, 2014.
(обратно)180
Идею принял всерьез по крайней мере один из исследователей микробов, которые обитают в искусственно созданной среде, окружающей нас [Upbin, 2013].
(обратно)181
Maxman, 2014.
(обратно)182
Simons, 2014.
(обратно)183
Paxson, 2008.
(обратно)184
(обратно)185
Richmond, 2014.
(обратно)186
Подробности взяты из великолепной книги, посвященной всему проекту «Синтетическая эстетика» [Synthetic Aesthetics] [Ginsberg, 2014].
(обратно)187
Sterling, 2002, с. 13.
(обратно)188
О дистилляционном процессе он написал целую книгу. Pollan, 2006.
(обратно)189
Я лично наблюдал это: лихорадка, бредовое состояние. Потребовалась экстренная хирургическая операция. Все выжили, но мы тогда порядком переполошились.
(обратно)190
Некоторые взяты из: Thaiss, 2014.
(обратно)191
Обзор современного состояния дел см. в: Keeney, 2014.
(обратно)192
Karr, 2012; Freddolino, 2012.
(обратно)193
Довольно провокативное введение в свой метод он дает в: Noble, 2006.
(обратно)194
Greenblum, 2013. Всеобъемлющий обзор, который начинается с признания, что «развитие прогностической модели системного уровня для микробиома стало существенным скачком вперед и может еще много лет остаться вне досягаемости».
(обратно)195
Schluter, 2012.
(обратно)196
Образы удобно собраны в: Nerlich, 2009.
(обратно)197
Вольное изложение ключевого пассажа из «Эгоистичного гена» Ричарда Докинза [Richard Dawkins, The Selfish Gene], взятое, однако, из рассказа Дэниса Нобла о противоположном взгляде на роль генов в организме: Noble, 2006, с. 12.
(обратно)198
Другие значения термина я узнал из: O’Malley, 2014.
(обратно)199
Там же [O’Malley, 2014] используется понятие «сотрудничество», которое толкуется так: «гибкие симбиотические взаимоотношения с возможностью включения и исключения партнеров, с изменчивым функционалом, без фиксированных таксономических связей».
(обратно)200
Эти мысли появились в результате раздумий над неопубликованным эссе Джессики Хауф [Jessica Houf] о микробном суперорганизме.
(обратно)201
Turney, 2003.
(обратно)202
Brodie, 2007.
(обратно)203
Joyce, 2014.
(обратно)
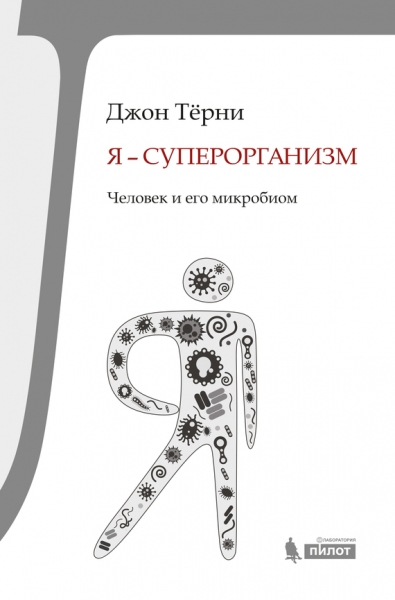



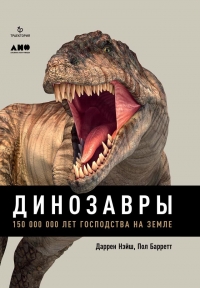



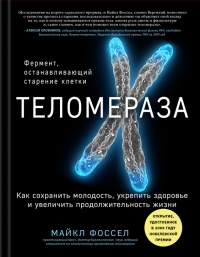
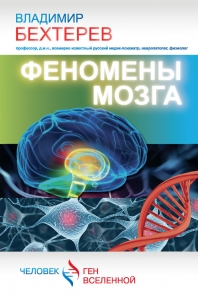
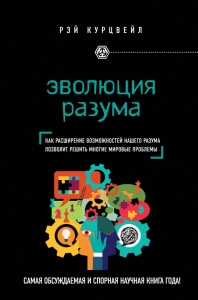
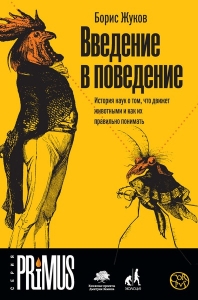
Комментарии к книге «Я – суперорганизм!», Джон Терни
Всего 0 комментариев