Брайан Китинг Гонка за Нобелем. История о космологии, амбициях и высшей научной награде
© Brian Keating, 2018
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2019
© Электронное издание. ООО «Альпина Диджитал», 2019
* * *
Издание подготовлено в партнерстве с Фондом некоммерческих инициатив «Траектория» (при финансовой поддержке Н. В. Каторжнова).
Фонд поддержки научных, образовательных и культурных инициатив «Траектория» () создан в 2015 году. Программы фонда направлены на стимулирование интереса к науке и научным исследованиям, реализацию образовательных программ, повышение интеллектуального уровня и творческого потенциала молодежи, повышение конкурентоспособности отечественных науки и образования, популяризацию науки и культуры, продвижение идей сохранения культурного наследия. Фонд организует образовательные и научно-популярные мероприятия по всей России, способствует созданию успешных практик взаимодействия внутри образовательного и научного сообщества.
В рамках издательского проекта Фонд «Траектория» поддерживает издание лучших образцов российской и зарубежной научно-популярной литературы.
* * *
Моей матери Барбаре, которая дала мне жизнь, и Саре, которая дает мне жизнь
Введение. Завещание Нобеля
Каждый год 10 декабря тысячи идолопоклонников собираются в Стокгольме, чтобы почтить память человека, который при жизни был известен как торговец смертью. Эсхатологический ритуал воспроизводит обряд, приличествующий похоронам египетского фараона. Звучит назойливая траурная музыка, и почитатели при полных регалиях оплакивают почившего. Его призрак витает над собравшимися, пока те предаются экзотическому торжеству в окружении свежесрезанных цветов, доставленных с места его смерти. Кульминацией церемонии становится вручение золотых портретов, выгравированных по его образу и подобию.
Этот обряд — ежегодная церемония вручения премии имени Альфреда Нобеля, но вполне простительно, если вы приняли ее за оккультное таинство. Хотя подобный траурный лейтмотив может показаться странным, Нобелевская премия, по сути, родилась из смерти. Смерть Альфреда, изобретателя динамита, дала рождение премии, восстановив его доброе имя и став лучшим посмертным PR-инструментом из всех возможных.
Нобелевская премия не просто самая почетная награда в науке, но и самая престижная награда в мире. Ее цель — вознаграждать ученых, литераторов и миротворцев, приносящих наибольшую пользу человечеству и обогащающих его духовно, независимо от каких бы то ни было идеологических и иных веяний. Когда «все делается правильно», это действительно превосходная система меритократического вознаграждения. Но в этой книге я хочу обсудить фундаментальные изъяны Нобелевской премии, и в первую очередь Нобелевской премии по физике, утверждая, что ее дни могут быть сочтены, если она не будет подвергнута радикальной трансформации.
Кто-то может удивиться: в обществе, где разного рода наград и премий чуть ли не больше, чем талантливых людей, что может быть не так с одной из них, к тому же преследующей самую благородную из целей — способствовать улучшению жизни человечества посредством науки? Я бы сказал, что у Нобелевской премии, как и у медали, три стороны. Лицевая, положительная сторона передает уважение к науке и ученым. Оборотная, отрицательная сторона показывает, как она вредит сотрудничеству и провоцирует ожесточенную конкуренцию за дефицитные ресурсы. Наконец, неустойчивое ребро медали символизирует ее неопределенное будущее в мире современной науки. Многие молодые ученые сегодня задаются вопросом: не фальшивая ли это монета — Нобелевская премия?
Эта книга не преследует цель разжечь полемику или не оставить камня на камне от нобелевского института. Вместо этого я предлагаю уникальный инсайдерский взгляд на самую влиятельную премию в мире, которая способна преломлять и даже искажать реальность для ученых, как это случилось со мной в моей попытке прочитать космический пролог. На протяжении 30 лет я был загипнотизирован ее золотым блеском. Я разработал эксперимент, достойный нобелевской славы, но медаль выскользнула у меня из рук. Крах этой мечты раскрепостил мою душу ученого. Я ясно увидел, что эта награда вовсе не Божественное помазание, а дело рук человеческих и как таковая страдает от несовершенств. Признаюсь, на пути к этому пониманию мне пришлось пережить глубокое разочарование, гнев и даже горечь обиды, но не они определяют дух этой книги.
Эта книга родилась из моего искреннего желания, чтобы Нобелевская премия по физике вернула свое благородное предназначение: быть маяком совершенства для всех физиков. История Нобелевской премии и моя книга — это судьбы людей, это повесть об идолах и идеалах, о гордости и престиже, о коварстве и лжи, о позоре и искуплении. Но в первую очередь эта книга — о страсти, которая побуждает ученых шагать в неизведанное, пусть даже делая по одному крошечному шагу за раз.
Стокгольм, сентябрь 1864 года
Небо над Стокгольмом было прекрасно. Стоял конец лета, и чернильная синева небесного купола манила на улицу. Нежный ветерок проникал через окна лаборатории, дразня любовным шепотом: приди, поиграй со мной. Но Эмиль Нобель был поглощен куда более увлекательной игрой. Хотя лаборатория компании Nobel & Sons в Хеленеборге с ее толстыми каменными стенами напоминала тюрьму, именно здесь Эмиль чувствовал себя абсолютно свободным — здесь он был магом, пытавшимся подчинить себе силы природы. Возможно, на этот раз ему удастся заставить природу раскрыть еще одну тайну? Для Эмиля, младшего и самого любимого из семерых детей Эммануила Нобеля, трое из которых умерли еще в младенчестве, лаборатория была домом.
Каждый удачный эксперимент приводил его в восторг: это был магический фокус, значение которого знал только он. Здесь, вдали от глаз властолюбивого отца и строгих старших братьев, Эмиль мог играть со своими идеями. Возможно, он сумеет найти способ спасти семейную компанию Nobel & Sons, некогда ведущего производителя взрывчатых веществ для военных целей, от банкротства.
Но семейный бизнес умирал. Русское правительство резко сократило закупки морских мин — основную продукцию компании. Старший сын, Людвиг Нобель, которому Эммануил передал дела, пытался перепрофилировать бизнес. Почти все семейное состояние он вложил в новую тогда нефтяную отрасль. Но в середине XIX века основным горючим была китовая ворвань, которая использовалась главным образом в лампах; до появления первых автомобилей оставалось почти полвека.
Эмиль был увлечен взрывчатыми веществами. При всем уважении к ним, рассуждал он, что может быть проще, чем взрывчатая смесь на основе нитроглицерина? Немного азотной кислоты, которой полно на складах, немного говяжьего жира для производства глицерина. Ему нужно всего лишь найти способ стабилизировать смесь — и готово: ее можно транспортировать куда угодно, даже в Америку, которая как раз расширяла сеть железных дорог в сторону Западного побережья. На этот раз изобретение Нобелей может послужить мирным целям. Но как укротить гремучую смесь? Что, если эту летучую маслянистую жидкость охладить, превратив ее в стабильную твердую массу, похожую на сливочное масло? В конце концов, глицерин производится из жира с животов дойных коров! Нужно превратить его во «взрывчатое масло» — вещество со вполне мирным названием, безопасное в обращении, но таящее внутри огромную взрывную силу, которую может извлечь из него должным образом обученный маг. Да, хеленеборгская лаборатория была его игровой площадкой — пусть старшие братья пытают счастье, добывая заменитель китовой ворвани.
* * *
Ударная волна, распространившись в 30 раз быстрее скорости звука, сотрясла толстые стены лаборатории. Эмиль буквально не мог ее услышать. Как Прометей, он украл огонь у Солнца и принес его на Землю. Конец истории был столь же трагичен.
* * *
Взрыв унес жизни Эмиля и еще четырех рабочих. Альфред отделался легкими ранениями. Ни он, ни отец так и не оправились от этой потери. Вскоре после гибели Эмиля Эммануил перенес тяжелый инсульт и через несколько лет воссоединился с младшим сыном на небесах: он умер восемь лет спустя в тот же день, что и Эмиль.
В чистом виде нитроглицерин крайне неустойчив и чувствителен к малейшим сотрясениям и электрическим разрядам. На самом деле, если сильно тряхнуть емкость с нитроглицерином или уронить ее (что, вероятно, и произошло с Эмилем), взрыв почти неизбежен. Что еще хуже, со временем нитроглицерин становится гораздо менее устойчивым, что делает его чрезвычайно опасным для транспортировки. (Ни один из этих широко известных несчастных случаев не удержал автора в 15-летнем возрасте от попытки победить в конкурсе научных талантов памяти Вестингауза и с этой целью синтезировать нитроглицерин из химикатов, купленных в местном супермаркете A&P. К счастью, тогда все обошлось без инцидентов.)
Из 355 патентов Альфреда Нобеля самыми известными и прибыльными стали патенты на комбинацию нитроглицерина с абсорбентами и инертными стабилизаторами. Это изобретение позволило добиться контролируемого взрыва нитроглицериновой смеси с помощью электрических или пиротехнических зарядов (помните те бикфордовы шнуры, с которыми никак не мог справиться Элмер Фадд, заклятый враг Багза Банни?). Идеальным стабилизатором оказался распространенный антацид, а идеальным абсорбентом — мелоподобный порошок, называемый диатомовой землей (еще одно распространенное в фармацевтике природное вещество, которое до сих пор используется в некоторых ведущих марках зубной пасты и косметики). Диатомит прекрасно поглощал жидкую взрывчатку и надежно ее удерживал, превращая в известный нам динамит. По иронии судьбы смертельная взрывчатка полностью состояла из съедобных компонентов (жир, антацид и нитроглицерин). Более того, поскольку Альфред Нобель страдал стенокардией, врачи назначили ему нитроглицерин. Это сильно позабавило Нобеля, который писал своему другу Рагнару Зольману: «Только представь, доктора велели мне принимать нитроглицерин! Они называют его тринитрином, чтобы не пугать химиков и прочую публику». Альфред понимал, насколько важно правильно преподнести открытие, поэтому сначала окрестил свою новую взрывчатку «безопасным порошком Нобеля».
В 1867 году, всего три года спустя после смерти Эмиля, Альфред получил патент на свой «безопасный порошок», который позже назвал динамитом (от греческого слова динамо — «сила»). Хотя это изобретение принесло ему огромное состояние, думаю, его грызло чувство вины: если бы эта гениальная идея пришла Альфреду в голову на несколько лет раньше, его любимый младший брат был бы жив, отец здоров, а семейная компания Nobel & Sons спасена от разорения! Динамит сделал Альфреда одним из самых богатых людей в мире, но смерть продолжала преследовать сыновей Эммануила Нобеля.
Убийственный Нобель
Жизнь Альфреда Нобеля и премия его имени окружены множеством легенд. Некоторые из них объясняют, почему не существует Нобелевской премии по математике, намекая на скандальную ситуацию с женой Альфреда (хотя он никогда не был женат). Из всех этих историй лишь одна, о происхождении премии, как бы неправдоподобно она ни звучала, похожа на правду. Итак, в 1888 году, находясь в Париже, Альфред прочитал в газете сообщение о собственной смерти под заголовком «Le marchand de la mort est mort» — «Торговец смертью мертв». Альфред был потрясен. Его описывали как изобретателя динамита, который дал людям возможность убивать друг друга гораздо быстрее и эффективнее. Разумеется, сам Альфред был жив; газетчики перепутали его со старшим братом Людвигом, который недавно скончался в Каннах. После гибели Эмиля Альфред и Людвиг не общались много лет, но, к счастью, за год до этого сблизились снова. Этот ошибочный некролог шокировал Альфреда, заставив его задуматься над тем, какую память о себе он сам оставит человечеству после смерти.
Альфред любил Францию, но любовь не была взаимной. Он предложил французскому правительству купить у него технологию производства нового взрывчатого вещества, но получил отказ: ходили слухи, что Нобель уже продал эту технологию Италии, которая на тот момент была одним из главных противников Франции. Французы видели в Альфреде врага государства, и он был вынужден уехать. Оглядываясь в прошлое, в ошибочном некрологе можно усмотреть готовность парижан принять желаемое за действительное.
Альфред поселился в Сан-Ремо и вернулся в Париж лишь однажды, в 1895 году. Во время этой поездки он тайно, от руки, написал свое завещание. Год спустя Нобель умер от кровоизлияния в мозг. Последние годы Альфред вел замкнутый образ жизни и хранил секрет даже от немногочисленных друзей. Его публичное оглашение было подобно разорвавшейся бомбе — вполне в духе изобретателя динамита:
Все мое движимое и недвижимое имущество должно быть обращено моими душеприказчиками в ликвидные ценности, а собранный таким образом капитал помещен в надежный банк. Доходы от вложений должны принадлежать фонду, который будет ежегодно распределять их в виде премий тем, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству… Указанные проценты необходимо разделить на пять равных частей, которые предназначаются: одна часть — тому, кто сделает наиболее важное открытие или изобретение в области физики…{1}
Предложение, от которого я не смог отказаться
13 октября 2015 года, через неделю после объявления лауреатов Нобелевской премии 2015 года, я приехал в свой офис в Центре астрофизики и космических наук Калифорнийского университета в Сан-Диего и обнаружил интригующее письмо от Шведской королевской академии наук. «Странно, — сказал я в шутку одному из своих аспирантов, — если бы это было то, чего я заслуживаю, им следовало связаться со мной на прошлой неделе». В конверте находился ценный документ, приглашающий меня в конечном итоге в путешествие к самому себе и к освобождению[1].
Профессору Брайану Китингу
От лица Шведской королевской академии наук мы, члены Нобелевского комитета по физике, имеем честь пригласить вас выдвинуть свои предложения по присуждению
Нобелевской премии по физике за 2016 год.
Стокгольм, сентябрь 2015 года Анн Люилье, председательПоначалу я воспринял это как огромную честь. Но затем на меня навалились гнетущие сомнения. За год до получения письма мне пришлось пережить неприятную историю: меня фактически исключили из числа соавторов открытия, претендовавшего на Нобелевскую премию, хотя я был инициатором эксперимента. Если я приму приглашение, не будет ли это молчаливой поддержкой той самой системы, которая, по мнению многих, включая меня, нуждается в фундаментальной трансформации? Не изменю ли я тем самым собственным убеждениям? У меня скрутило живот, когда я осознал все лицемерие этой ситуации. Этические дилеммы не частое явление в жизни космологов.
Приглашение номинировать на премию пришло ровно через 15 лет после того, как я получил докторскую степень. Учитывая, что типичная карьера ученого длится в среднем около 30 лет, я находился на экваторе своей профессиональной жизни: что ж, вполне подходящее время для кризиса. В памяти всплыли слова Джона Кеннеди, сказанные им в 1959 году: «В китайском языке слово „кризис“ состоит из двух иероглифов: один означает опасность, а другой — возможность»{2}. Приглашение стать номинатором было для меня возможностью — шансом помочь реформировать Нобелевскую премию, улучшить ее, чтобы она и дальше могла сохранять свой высочайший престиж и репутацию. Втайне я надеялся, что эффект второго иероглифа — предвещающий опасности для моей карьеры — будет минимальным.
В конверте содержался ряд инструкций. Прежде всего я не должен был распространяться о предложении выступить номинатором. Таким образом, поскольку вы читаете об этом в моей книге, подозреваю, что для меня приглашение от Нобелевского комитета стало последним{3}.
«Вы не можете номинировать себя», — продолжала инструкция, тем самым сокращая список потенциальных кандидатов на одного. Что ж, даже я был не настолько тщеславен, чтобы выдвигать собственную кандидатуру. Как истинный ученый, я решил подойти к делу с полной ответственностью и начать с изучения первоисточника. Почему бы не прислушаться к пожеланиям самого учредителя? Уже после первого предложения — с оговоркой, что премируются открытия, сделанные в предыдущем году, — я начал подозревать, что Нобель должен перевернуться в гробу.
В предыдущем году? Какие открытия или изобретения в физике, сделанные в 2015 году, могли принести пользу всему человечеству? И как вообще оценить степень полезности физических открытий? Например, открытие процесса ядерного деления — который, как и динамит, может использоваться как в мирных целях, так и для разрушения — принесло человечеству в итоге больше пользы или вреда?{4} Условие «пользы» проистекало из мечты Альфреда о лучшем мире, который, он был уверен, можно построить с помощью науки, движимой альтруистическими и миролюбивыми побуждениями. Я задался вопросом: а в моей области — астрофизике — были сделаны какие-либо открытия, способные сравниться в своей полезности с первым нобелевским открытием по физике?
* * *
8 ноября 1895 года Вильгельм Рентген случайно завоевал первую Нобелевскую премию по физике. Экспериментируя в своей венской лаборатории с так называемой катодной трубкой, он обнаружил, что та испускает некие таинственные лучи. Когда ученый помещал перед катодным лучом фотопластинку, она засвечивалась, даже если была покрыта непрозрачной алюминиевой фольгой. Экспериментируя с различными предметами, Рентген обнаружил, что некоторые из них непроницаемы для лучей, в том числе человеческие кости. В конце концов он уговорил свою жену Анну-Берту положить руку на фотопластинку и держать ее неподвижно около 15 минут. Так был сделан первый в истории рентгеновский снимок. Говорят, что, когда Анна-Берта увидела собственные кости, она воскликнула: «Господи, я вижу свою смерть!» К счастью, Анна прожила еще несколько десятилетий, а рентгеновские лучи помогли спасти и улучшить жизнь миллиардам человек.
Скорость освоения этого открытия на практике — путь от физической лаборатории до кабинетов врачей, пройденный буквально за год, — была беспрецедентной, а его полезность для человечества трудно переоценить. Альфред Нобель написал свое завещание всего через несколько недель после серендипного[2] изобретения Рентгена. И хотя премия была присуждена Рентгену только шесть лет спустя, Вильгельм Рентген стал образцом для будущих нобелевских лауреатов — ученый-одиночка, сделавший открытие, которое мгновенно улучшило жизнь людей. Быстро, благотворно и однозначно — в полном соответствии с пожеланиями Альфреда.
Приглашение выдвинуть кандидатов на Нобелевскую премию по физике, полученное мной спустя 114 лет, не оставляло сомнений в том, что Нобелевский комитет больше не придерживается условия о сроках, оговоренного самим учредителем. Допуская к награде открытия, сделанные задолго до номинации, комитет, таким образом, признавал реалии современной науки, когда для подтверждения открытий и достижения ими статуса научного канона требуются годы и даже десятилетия. На самом деле число Нобелевских премий по физике, присужденных за открытия или изобретения, сделанные в течение предшествующего года, очень невелико. Иногда премии присуждались спустя почти полвека. Мне стало любопытно: условие учредителя о «предыдущем годе» вообще когда-нибудь рассматривалась как обязательное требование, а не простое пожелание?
Это первое из отклонений от завещания Альфреда Нобеля. С этой модификацией я в целом согласен. Наука требует времени; сегодня экспериментальные исследования длятся десятилетиями. Еще несколько десятилетий требуется порой, чтобы проверить и подтвердить сделанные открытия. И это не зря потраченные годы, поскольку важно убедиться в том, что результаты выдержали проверку временем, и предупредить поспешные выводы, зачастую сопровождающие «научные прорывы».
Но у этого условия есть и обратная сторона. Как мы узнаем в 5-й главе, процесс, растянувшийся на несколько десятилетий, часто превышает среднюю продолжительность человеческой жизни и в результате некоторые потенциальные лауреаты просто не доживают до того момента, когда их достижения получают признание по меркам Нобелевского комитета.
Другие корректировки завещания Альфреда более коварны. Будь учредитель премии жив, он вряд ли бы их одобрил. Я считаю, что эти отклонения от последнего волеизъявления Нобеля искажают его альтруистическое видение научных открытий, делающих этот мир лучше, и, самое главное, негативно отражаются на научном ландшафте в целом. Как ни странно, больше всего от этого страдает научная карьера молодых ученых-физиков.
Как и другие пять нобелевских призов, премия по физике обременена произвольными ограничениями и спрятана за секретным процессом. В то время как фундаментальные открытия в области физических наук, как правило, менее спорны, чем, скажем, в экономике или медицине — областях с наибольшим грузом этических последствий, премия по физике страдает от системных ошибок, серьезных изъянов, в которых, что особенно печально, есть вина самих физиков.
В первые годы премия по физике была окрашена неприкрытым антисемитизмом: основатель «арийской физики» и любимец Гитлера — лауреат Нобелевской премии 1905 года Филипп Ленард — лично возглавил кампанию против получения премии Альбертом Эйнштейном. К счастью, эта постыдная глава давно закрыта (Ленард наверняка был бы удручен огромным количеством еврейских лауреатов). При этом, однако, за более чем 100 лет Нобелевская премия по физике всего дважды присуждалась женщинам, хотя достойных кандидатов было гораздо больше. Ни одна женщина не получила премию по физике после 1963 года.
Другие нобелевские премии также вызывали немало споров. Нобелевский комитет резко критиковали за присуждение премии по химии в 1918 году Фрицу Габеру, который использовал свои открытия для производства химического оружия{5}. В 1949 году Нобелевская премия по физиологии и медицине была присуждена Антониу Монишу «за открытие терапевтического эффекта лоботомии при некоторых формах психических заболеваний», что привело к популяризации этого метода несмотря на его сомнительные этические последствия. Нобелевской премии по экономике, не предусмотренной Альфредом Нобелем, больше не существует; в настоящее время она известна как Премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Но что заставило так радикально реформировать единственную премию в области общественных наук, связанную с именем Нобеля?
Даже премия мира, которая ближе всего была сердцу Альфреда, запятнала свою репутацию награждением в 1973 году двух главных поджигателей войны во Вьетнаме, а в 1994 году — палестинских и израильских лидеров, которые едва ли внесли существенный вклад в «снижение численности существующих армий», как это сформулировал Альфред. Несколько лет назад три прошлых лауреата подали иск против Нобелевского фонда, оспорив присуждение премии мира 2012 года Евросоюзу, который не «осуществляет политику демилитаризации, предусмотренную Нобелем для мирового порядка», нарушает условия завещания Нобеля{6}. Даже Нобелевская премия по литературе, присужденная в 2016 году популярному музыканту Бобу Дилану, вызвала возмущенные протесты{7}.
Существует множество примеров того, как хорошим институтам не удается в полной мере реализовать заложенный в них потенциал, и Нобелевская премия не исключение. Проблемы и противоречия, с которыми сталкиваются другие пять премий, могут послужить полезными уроками для Нобелевской премии по физике, чье золото, как я опасаюсь, рискует потускнеть. К счастью, у нас есть время провести реформы, пока не слишком поздно.
Итак, в трех главах книги (5-й, 10-й и 13-й — для удобства эти главы выделены серыми полями) я диагностирую и подробно обсуждаю пагубное влияние на науку трех основных составляющих Нобелевской премии: признание заслуг, денежное вознаграждение и сотрудничество. Эти «разбитые линзы», как я их называю, искажают отношение к науке, особенно со стороны молодых ученых. Наконец, в 16-й главе («Возвращение к видению Альфреда») я излагаю свои предложения по реформированию этой самой выдающейся в истории человечества награды не просто с целью улучшить ее «оптику», но сделать эффективным механизмом содействия науке, отражающим реалии современного научного мира. Эти четыре главы предлагают неравнодушный взгляд инсайдера на анатомию нобелевского процесса и возможности его усовершенствования (хотя есть вероятность, что к тому моменту, когда вы будете читать эту книгу, я стану уже аутсайдером).
Поначалу проблемы Нобелевской премии меня не волновали. На самом деле десятилетиями, в годы моего становления как ученого, я пребывал в блаженном неведении. Признаться, даже знай я о них, меня бы это не обескуражило. Как и многие другие, я был загипнотизирован блеском ее антуража. Для ученого эта премия все равно что статуэтка «Оскара» для актера, олимпийская золотая медаль для спортсмена или успешное IPO для предпринимателя. Нобелевские лауреаты — это интеллектуальная элита общества. Они настолько популярны, что комнаты моих детей увешаны не плакатами со звездами спорта, а портретами нобелевских лауреатов по физике — от Альберта Эйнштейна до Марии Гёпперт-Майер{8}. Лауреатами и о лауреатах написано огромное количество книг. У меня дома собрана целая библиотека: Ричард Фейнман, Стивен Вайнберг, Фрэнк Вильчек и многие другие. Также признаюсь, что я прочитал несколько книг в духе «Как выиграть Нобелевскую премию», пользы от которых, однако, было не больше, чем от советов, как выиграть в лотерею{9}. Нобелевские медали ценятся так высоко, что, когда их продают на аукционе, стоимость достигает астрономических сумм. Недавно на Christie’s отдельные экземпляры продавались за 400 000 и 4,75 млн долларов{10}.
С момента вручения первых премий в 1901 году Нобелевский фонд распределил больше миллиарда долларов. Но, разумеется, для физиков главное в этой награде не денежный приз в размере более 1 млн долларов, не 18-каратная золотая медаль и не торжественный ужин с королем Швеции. Нет, то, чего они жаждут, дороже всех этих бонусов, вместе взятых: они хотят остаться в вечности. А что может быть благороднее стремления обессмертить себя, улучшив жизнь всего человечества?
В «Отрицании смерти», сочинении Эрнеста Беккера о материализме, смертности и смысле жизни, время — антагонист. С незапамятных времен цари и фараоны, правители и президенты воздвигали разного рода мавзолеи и святыни, чтобы увековечить память о своем недолгом существовании. Согласно Беккеру, все мы движимы непреодолимым желанием продлить свое присутствие на планете после того, как покинем ее. Как писал Беккер, это есть causa sui («причина себя»), одушевляющий импульс: причина, достойная того, чтобы посвятить ей жизнь, пусть даже только символически, ради того, чтобы побороть ее бессмысленность. Но за бессмертие приходится платить. Пирамиды стоят недешево. Нобелевская премия тоже.
* * *
А теперь приглашаю вас совершить путешествие в вечность: мы отправимся на край Земли, чтобы заглянуть в начало времен. Я знал, что этот путь, достойный нобелевской славы, навсегда изменит мою жизнь. Но ни я, ни кто-либо из нас не могли предугадать, как этот необычный эксперимент изменит космологию и науку в целом.
Глава 1. Космический пролог
Всякий, всматривающийся в одну из четырех вещей, лучше было ему не являться на свет: что наверху? что внизу? что прежде? что после?
Талмуд, трактат Хагига 11б, 450 год н. э.Одни утверждают, что время началось вместе с рождением Вселенной в ходе события, которое принято называть Большим взрывом. Другие считают, что время — континуум без начала и конца. Третьи склоняются в пользу космологических теорий, предполагающих, что «взрыв» был не один, а бесконечное множество. К счастью для моих коллег-теоретиков, их заявки на гранты не рассматриваются талмудистами V в. Но даже у этих древних мудрецов находятся двойники среди современных космологов, в том числе Стивен Хокинг, назвавший вопрос о том, что предшествовало Большому взрыву, таким же бессмысленным, как и вопрос: «Что находится к северу от Северного полюса?»
Почему альтернативы Большого взрыва, такие как модели стационарной Вселенной, циклической Вселенной или Большого отскока, не находят поддержки среди самых блистательных умов космологии? Да, они не так широко известны, как теория Большого взрыва, в их честь не названы сериалы, но на протяжении всей истории они привлекали многих светил науки, от Аристотеля до Альберта Эйнштейна и современных космологов вроде Роджера Пенроуза. Модели без Большого взрыва входят в моду и выходят из моды чаще, чем широкие галстуки на Уолл-стрит. Некоторые, в том числе лауреат Нобелевской премии Стивен Вайнберг, считают, что эти альтернативы привлекают многих светских ученых, помимо прочего, тем, что позволяют «деликатно обойти проблему генезиса». Если не было Большого взрыва, не нужно искать и его «инициатора».
Самое интригующее, с какой легкостью эти альтернативные теории отвечают на вопрос о том, что предшествовало Большому взрыву: наш нынешний космос родился в результате большого схлопывания или сжатия — мучительной гибели предыдущей вселенной? Но все это только предположения. Лично меня всегда мучил другой вопрос: можно ли с помощью инструментов современной космологии, таких как компьютеры, телескопы, сверхчувствительные датчики и, разумеется, человеческие мозги (т. е. на основе реальных наблюдений и реальных данных), определить, существовало ли начало у самого времени?
Вернуться к «началу всех начал», если таковое вообще было, в свете сегодняшних космологических знаний — значит подтвердить или опровергнуть доминирующую теорию космогенеза, известную как инфляция. Предложенная в начале 1980-х годов инфляционная модель служила неким средством, которым космологи надеялись излечить смертельные, как казалось, раны, обнаруженные в теории Большого взрыва в ее первоначальном понимании. Что это за изъяны, я объясню ниже. Назвать теорию инфляции смелой было бы преуменьшением: она утверждает, что наша Вселенная началась со стремительного расширения (лат. inflatio — «вздутие»), происходившего с непостижимой скоростью — скоростью света или даже быстрее! К счастью, согласно гипотезе, такое расширение продолжалось лишь в первую крохотную долю секунды существования Вселенной. За этот микроскопический промежуток времени была сформирована матрица современного космоса. Все, что когда-либо существовало и будет существовать (по крайней мере, в космическом масштабе), — огромные скопления галактик и геометрия пространства между ними — было предопределено именно в этот момент.
Более 30 лет инфляционная модель оставалась удручающе бездоказательной. Некоторые говорили, что ее невозможно доказать. Но все сходились в одном: если космологи сумеют обнаружить уникальный сигнал в излучении ранней Вселенной[3], известном как космический микроволновой фон (cosmic microwave background — CMB), то билет в Стокгольм обеспечен.
И вот в марте 2014 года представления человечества о космосе пошатнулись. Группа ученых, участником и одним из основателей которой был я, дала утвердительный ответ на вечный вопрос: у времени было начало.
17 марта 2014 года
Этой даты я ждал несколько долгих недель. Наша команда лихорадочно завершала обработку результатов своих исследований, чтобы обнародовать их. Мы в тысячный раз пересматривали данные и критически обсуждали мельчайшие аспекты того, что должно было стать одним из величайших научных открытий в истории человечества. В высококонкурентном мире современной космологии ставки вряд ли могли быть выше. Если мы были правы, наше открытие позволило бы приподнять завесу тайны над рождением Вселенной. А каждого из нас ожидали стремительный взлет карьеры и научное бессмертие. Проще говоря, подтверждение теории инфляции Вселенной гарантировало нобелевское золото.
Но что, если мы ошибались? Это было бы катастрофой не только для нас как ученых, но и для самой науки. Финансирование проекта было бы закрыто, профессиональные репутации безнадежно испорчены, и про постоянные академические должности, о которых мечтает любой университетский преподаватель, пришлось бы забыть. Едва блеснувшее золото Нобеля потускнело бы. И вместо славы нас ожидали крушение надежд, смятение и, возможно, даже позор.
Ставки были сделаны. 17 марта 2014 года руководители группы, уверенные в качестве наших результатов, провели в Гарварде специальную пресс-конференцию, где объявили, что в ходе экспериментов BICEP2[4] были получены, пусть и косвенные, данные о первых родовых муках Вселенной.
BICEP2 — это небольшой телескоп, второй из серии, установленный в Антарктиде. К изобретению первого телескопа я приложил руку больше десяти лет назад, будучи скромным постдоком в Калтехе (Калифорнийском технологическом институте). Эта работа стала следствием моей давней одержимости идеей обнаружить видимые следы таинственного рождения Вселенной.
Конструкция BICEP была простой. Маленький рефракторный телескоп — зрительная труба наподобие Галилеевой, с двумя линзами, преломляющими входящий свет и направляющими его не к человеческому глазу, а на современные сверхчувствительные детекторы. Поскольку телескоп работает тем лучше, чем в более «стерильном» — свободном от разнообразных земных помех — месте он установлен, наш выбор пал на Южный полюс. Целью было обнаружить следы космической инфляции, отпечатавшиеся на послесвечении Большого взрыва — реликтовом излучении.
В течение нескольких лет BICEP2 искал закручивания и завихрения в поляризации космического микроволнового фона, которые, по мнению космологов, могли быть вызваны только гравитационными волнами, сжимающими и расширяющими пространство-время, по мере того как они прокатываются по зарождающейся Вселенной. Что могло породить эти волны? Инфляция, и только инфляция. Если бы BICEP2 зарегистрировал такую вихревую поляризацию, это доказало бы существование первичных гравитационных волн — и, следовательно, подтвердило бы гипотезу космической инфляции.
Наконец мы их увидели. И поняли: пути назад нет.
* * *
Пресс-конференция из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики привлекла внимание всего мира. Больше 10 млн человек смотрели ее прямую трансляцию в интернете. Пресса, от ведущих новостных изданий наподобие The New York Times и The Economist до провинциальных газет в индийской глубинке, пестрела громкими заголовками. Мои дети узнали об этом от учителей в школе. Мою мать засыпали вопросами ее партнеры по маджонгу.
Глядя прямой эфир, я читал комментарии с места событий. «Я присутствую на пресс-конференции в Гарвардском университете, — писал физик из MIT Макс Тегмарк, — где только что было объявлено об одном из важнейших, на мой взгляд, научных открытий в истории. Уже через несколько часов его будет обсуждать весь мир, и думаю, что уже в ближайшее время оно принесет по крайней мере одну Нобелевскую премию».
Наконец-то ученые увидели то, что хотел увидеть весь мир. Команда BICEP2 сумела прочитать космический пролог — единственную, по сути, историю, которая не начинается in medias res[5].
Но в марте 2014 года я оказался не участником, а всего лишь одним из зрителей этого грандиозного шоу. Оставаясь официально членом команды BICEP2, я уже активно работал над другим проектом под названием POLARBEAR, целью которого было обнаружение тех же реликтовых инфляционных отпечатков. За пару лет до роковой пресс-конференции научный руководитель BICEP2 Джон Ковач поставил под сомнение мою приверженность проекту. Руководитель эксперимента в науке — эквивалент генерального директора, и наш гендиректор Ковач счел меня скорее конкурентом, чем соавтором. Я сделал ставку не на ту команду и проиграл. В мире ведется добрый десяток экспериментов по поиску вихревых мод (B-мод) поляризации в реликтовом излучении, и POLARBEAR был всего лишь одним из участников этой гонки.
Когда на сцену вышли четверо ведущих исследователей проекта BICEP2, стало ясно, что эпохальное открытие может войти в историю без меня. В лучшем случае мою фамилию укажут в скромной сноске. Учитывая темпы и масштабы развития современной науки, хорошо, если за всю научную карьеру ученому выпадает хотя бы один шанс претендовать на престижного Нобеля. И я знал, что этим шансом для меня был BICEP2. Шансом, который я упустил. Меня охватили смешанные чувства: радость и негодование, гордость и ревность, ощущение победы и поражения.
И все же меня одолевали сомнения. По всем меркам это казалось революционным открытием. Но так ли это было на самом деле? Выступая в 1974 году перед выпускниками Калтеха, легендарный физик Ричард Фейнман предостерег: «Главный принцип — не обманывать самого себя. А себя как раз легче всего обмануть». Космологи, как никто другой, осознают эту опасность и с невротической одержимостью, которой мог бы позавидовать сам Вуди Аллен, стараются избежать предвзятых выводов (confirmation bias) — склонности человека видеть то, что он хочет видеть, и игнорировать все, что противоречит ожидаемым результатам. От этой когнитивной ошибки не застрахован никто. Даже ученые, вопреки распространенному мнению, редко могут похвастаться абсолютной беспристрастностью. Ученые тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Когда сталкиваются желания и данные, эмоции порой берут верх над очевидностью. Мы в команде BICEP2, разумеется, помнили о предостережении Фейнмана, но исключить все искажающие факторы было просто невозможно. Не могли ли мы просмотреть что-то важное?
Самым тревожным аспектом сигнала BICEP2 была его сила. Как выразился один из членов нашей группы, это все равно что в поисках иголки в стоге сена обнаружить лом. Во время нашего заявления мы опасались критики со стороны главного конкурента — команды из Европейского космического агентства, которая вела исследования в том же направлении с помощью космического телескопа Planck стоимостью в миллиард долларов. Еще до пресс-конференции BICEP2 команда Planck не стала рассматривать сигнал В-мод, в два раза более слабый, чем зарегистрированный нами. Космологи ожидали услышать шепот. Мы же услышали рев.
В ходе пресс-конференции серверы Гарварда с трудом справлялись с массовым наплывом зрителей со всего мира. Веб-трансляция постоянно подвисала и тормозила, но я сумел расслышать, как Джон Ковач сказал: «Я хотел бы подчеркнуть вклад других участников, которые сотрудничали с проектом BICEP2 на протяжении многих лет, в том числе группы Брайана Китинга из Калифорнийского университета в Сан-Диего…»
Что ж, по крайней мере он назвал меня первым. До этой минуты я сомневался, вспомнят ли они вообще о моем участии в проекте. Еще неделю назад логотип нашего университета UCSD (Калифорнийского университета в Сан-Диего) красовался в верхней части слайдов PowerPoint, рядом с логотипами четырех других институтов, отвечавших за реализацию проекта BICEP2. Теперь же ему было отведено скромное место в самом низу. Конечно, по степени вероломства этот поступок вряд ли мог сравниться с путинской аннексией Крыма (что произошло на следующий день после пресс-конференции), но как бы то ни было, наши имена шли последними.
Заслужил ли я такое поражение? В конце концов, я сделал ставку не на ту команду… Для уверенности перед пресс-конференцией я позвонил своему другу Марку Каменковски, астрофизику из Университета Джона Хопкинса. «В твоей жизни будет еще масса пресс-конференций», — успокоил он меня по телефону. «Надеюсь, не таких, как эта», — со вздохом отозвался я. 17 марта 2014 года Марк сидел рядом с четырьмя ведущими исследователями проекта BICEP2 в качестве независимого консультанта и комментировал для прессы это сложное научное открытие. Я был рад за него. Именно его работа не в последнюю очередь вдохновила меня в 2001 году на создание BICEP. Но больше я не входил в круг избранных. Уже несколько лет.
Пресс-конференция продолжалась еще час, экстатический восторг бил через край, и подвисающие гарвардские серверы лишь добавляли сюрреалистичности происходящему. Смотреть на будущих нобелевских лауреатов и не видеть себя среди них было настоящей мукой. Не в силах больше сносить эти страдания, я выключил компьютер и поехал в университет, чтобы в уединении своего кабинета предаться жалости к себе.
Внезапно зазвонил телефон. Это был Джим Саймонс, миллиардер, математик и меценат, финансирующий проект Simons Array в нашем университете. Система Simons Array занималась поиском тех же сигналов, которые теперь обнаружил BICEP2. Джим был коллегой моего отца и с годами стал моим наставником и другом. Он знал, что именно я изобрел BICEP, и был озадачен, не увидев меня на пресс-конференции. Что стряслось? И почему команде BICEP2 удалось опередить команду Simons Array? «Что происходит, Брайан?» — настойчиво спрашивал он со своим резким бостонским акцентом. И правда, что же тогда происходило?
Глава 2. Я теряю веру
Полярная исследовательская станция Амундсен — Скотт, Антарктида, декабрь 2005 года
«Отец умирает, — услышал я в трубке пробивающийся сквозь треск голос старшего брата Кевина, — но не говори ему, что ты знаешь». Я словно оцепенел и не мог сказать ни слова. Времени было мало: через несколько минут коммуникационный спутник скроется за ослепительно белым горизонтом и связь прервется.
Моей первой реакцией было отрицание. Он же недавно прошел полное медицинское обследование! Нас с братом воспитывала мать — родители развелись, когда мы были совсем маленькими, — и мы возобновили общение с отцом всего несколько лет назад, уже будучи взрослыми. Нам предстоит потерять его… еще раз? Однако нежелание поверить в печальную новость быстро сменилось горечью.
Проклятье, какой неподходящий момент! Вся моя научная карьера, мои устремления как ученого, мои мечты о Нобелевской премии были завязаны на этом масштабном космологическом проекте на краю света. Команда BICEP прибыла на Южный полюс в поисках начала времен. Нетрудно догадаться, это не было увеселительной прогулкой. Чтобы добраться до Южного полюса, нам понадобилось четыре года.
Антарктида — коварное место даже при самой хорошей погоде. Девять месяцев в году континент отрезан от внешнего мира: туда не могут попасть корабли или прилететь самолеты. В январе 1912 года британский исследователь Роберт Фолкон Скотт достиг Южного полюса и написал в своем дневнике знаменитую фразу: «Боже Всемогущий! Какое страшное место ты создал!» Два месяца спустя он и четверо его людей замерзли в той самой ледяной пустыне, посреди которой сейчас находился я.
Я прибыл на Южный полюс, мучительно ожидая, что в поисках примет сотворения мира, возможно, обнаружу свидетельства творения, а возможно, и доказательства существования Творца: Бога по версии Скотта или иного. По крайней мере, я рассчитывал на то, что Антарктида будет ко мне более благосклонна, чем к несчастным британцам. Звонок от брата означал крушение всех моих надежд.
Я огляделся вокруг. Прожив на станции почти месяц, я все еще ощущал себя астронавтом, заброшенным на таинственную планету. Жизнь в 13 000 км от дома, на трехкилометровой толще снега, в зданиях, стоящих на сваях посреди бескрайнего ледяного поля, казалась сверхъестественной. Здесь, где все временны́е зоны Земли сходятся в одной точке, я совершенно потерял чувство времени. Слепящее солнце, никогда не сходящее с горизонта над сверкающим снежным царством, делало пребывание снаружи почти невыносимым. Даже в Сахаре летний день в конце концов сменяется сумерками. Но не здесь и не сейчас. И так месяц за месяцем.
В той самой точке, где Земля вращается на своей оси, мой мир сходил со своей. Я невольно задержал взгляд на красной аварийной кнопке, которой мы оборудовали массивную стойку телескопа. В нештатной ситуации нужно было нажать на эту кнопку, чтобы не позволить многотонной стальной махине раздавить незадачливого астронома, стоящего под ней. Мне вдруг отчаянно захотелось надавить на кнопку в тщетной надежде на то, что время остановится. Но здравый смысл возобладал.
Как ни странно, хотя станция была построена специально для проведения астрономических исследований, единственным небесным телом, которое, помимо Солнца, можно было наблюдать в небе на протяжении шести месяцев полярного дня, была Луна. Глядя на нее сквозь одно из толстых стекол обсерватории, я испытывал необычайное умиротворение. Ее знакомое лицо приветливо взирало на меня с неба совсем как в те времена, когда я был маленьким мальчиком. В отличие от неумолимого Солнца, Луна то нарастала, то убывала, меняя свое обличье и не позволяя мне утонуть в реке безвременья. Сколько лет прошло с тех пор, как Луна пробудила во мне интерес к космосу, неутолимое любопытство и жажду открытий! Именно из-за нее я был здесь. Из-за нее мы все были здесь.
Доббс-Ферри, штат Нью-Йорк, 4 часа ночи, сентябрь 1984 года
Черт, я снова забыл выключить настольную лампу! Спросонья я шарил рукой по столу, пытаясь найти выключатель. И вдруг замер. Свет исходил не от лампы. Он лился с улицы. Я выглянул в окно. Это был не уличный фонарь и не автомобильные фары. Это была Луна, и она была не в одиночестве! Рядом с раздобревшей полной Луной, повисшей над самым горизонтом, сияла завораживающе яркая звезда. Что это за звезда, способная соперничать с Луной? Мне было 13 лет, и я никогда не видел ничего подобного.
Следующие несколько ночей я не спускал глаз с Луны и ее сверкающей спутницы, которые совершали неспешный тур по влажному небу Уэстчестера, каким оно бывает только в конце лета. Я был заинтригован. Всезнающий Google появится только через 14 лет. Единственным источником, где я мог получить информацию, был воскресный выпуск The New York Times с традиционным разделом «Космос». Но до воскресенья оставалось еще несколько дней!
Едва закончилась воскресная церковная служба, как я бросился покупать газету. То, что я там прочитал, стало для меня куда более мощным и волнующим откровением, чем любая проповедь, которые я, прислуживая в алтаре, сопровождал взмахами кадила. Оказалось, что увиденная мной «звезда» была вовсе не звездой, а планетой Юпитер! Неужели настоящую планету можно разглядеть без телескопа и не с космического корабля, невооруженным глазом? Что же тогда можно увидеть через телескоп?!
Теперь мне срочно требовался телескоп. Но наша семья жила бедно, и даже 79 долларов — столько стоила самая дешевая подзорная труба, которую мне удалось найти, — были для нас крупной суммой. Мне удалось устроиться разнорабочим на четыре часа в неделю в продуктовый магазин «Венецианские деликатесы» в Доббс-Ферри, где мне платили целых 3,35 доллара за час каторжного труда. По моим подсчетам, чтобы заработать на телескоп, мне понадобится шесть недель. Но к тому моменту лето останется далеко позади, начнутся занятия в школе, и ночные астрономические наблюдения придется отложить до следующих каникул.
К счастью, как и у многих других подающих надежды будущих ученых, у меня нашелся меценат — моя мать Барбара, которая своим щедрым грантом пополнила мои скудные накопления. Так что вскоре я стал настоящим астрономом с собственным пятисантиметровым телескопом-рефрактором. Теперь я с нетерпением ждал наступления ночи. Часами я наблюдал за Юпитером и его спутниками — четырьмя яркими точками, окружавшими короля планет подобно суетливой свите боксера-супертяжеловеса. Таким образом в моей жизни появилось целых пять лун вместо одной. Затем я увидел высокие горы и глубокие кратеры на Луне. Наконец, моему взору предстало бесконечное разнообразие разноцветных звезд и призрачных объектов «глубокого космоса», таких как туманности и галактики.
В то лето я стал небесным евангелистом, который с фанатичной страстью пытался убедить всех «просто посмотреть». Но мои попытки поделиться своим восторгом с окружающими редко увенчивались успехом. Кто-то проникался. Но большинство — нет. «А можно еще разок посмотреть на ту соседскую девушку?» Или, что еще хуже: «Ты имеешь в виду ту расплывчатую кляксу в небе? И это все?»
Когда мне требовалось произвести по-настоящему убойное впечатление, я призывал на помощь Сатурн. Даже у законченных игроманов отвисала челюсть, когда они видели величественного бледно-желтого гиганта, окруженного загадочными кольцами. К сожалению, Сатурн был виден лишь в определенное время года, а остальным небесным телам не хватало зрелищности, чтобы впечатлить непосвященных. Это было все равно что прививать любовь к музыке ученикам, которым медведь на ухо наступил. Мягко говоря, это было удручающе.
Почему никто не испытывал такого восторга перед этими небесными ландшафтами, как я? Конечно, телескоп для меня был не просто инструментом для астрономических наблюдений — он давал мне возможность абстрагироваться от домашних неурядиц, от постоянных ночных ссор между отчимом и матерью, главной причиной которых были деньги, вернее их отсутствие. Меня тревожил наш предстоящий переезд, который означал, что мне придется сменить четвертую школу за пять лет. Мой телескоп стал для меня машиной времени, порталом, через который я мог сбегать в иные миры.
Вскоре я понял, что мне недостаточно еженедельной порции астрономических знаний из воскресного выпуска The New York Times. Я жадно поглощал всю астрономическую литературу, какую только мог найти в библиотеках, и вел подробный журнал своих ночных наблюдений. Небесные объекты, видимые через объектив телескопа, завораживали меня тем сильнее, чем больше я читал о них в библии. Разумеется, не в настоящей Библии, а в «Полевом справочнике звезд и планет Петерсона» (Peterson Field Guide to the Stars and Planets), который стал моим священным писанием. Прыщавый 13-летний астро-Дракула, я читал его целыми днями, с нетерпением ожидая наступления темноты и обретая покой лишь под покровом ночи. Этот справочник и сегодня стоит на книжной полке в моем кабинете в Университете Сан-Диего, а первую страницу гордо украшает автограф автора Джея Пасачоффа, профессора астрономии в Колледже Уильямса. Перелистывая его страницы, я снова становлюсь тринадцатилетним мальчишкой.
В справочнике содержались подробные сведения о каждой планете вместе с указаниями, когда и как лучше ее наблюдать. Кроме того, в нем были приведены описания планет, данные великим Галилео Галилеем — первым астрономом, которому пришло в голову направить подзорную трубу в небо. В конце концов астрономические наблюдения убедили Галилея в том, что учение Коперника верно: действительно, не Земля, а Солнце является центром Солнечной системы. Оказалось, что я неумышленно повторил тот же путь, по которому прошел Галилей четыре века назад: сначала увидел спутники Юпитера, потом кратеры на Луне, а затем кольца Сатурна. Разумеется, я счел это совпадение неслучайным, как и тот факт, что меня, как и его, поддерживали богатые венецианские покровители (в моем случае это были хозяева магазинчика «Венецианские деликатесы»).
Галилей стал моим первым кумиром. Я прочитал все, что написал он сам и что было написано о нем. Я хотел пройти его жизненный путь… Ну, за исключением разве что последних лет, когда по воле папы римского его держали под домашним арестом. Та история серьезно пошатнула мою веру — причудливый поворот на моем извилистом пути к религии. Позвольте мне объяснить.
Хотя оба моих биологических родителя были евреями, они были далеки от иудаизма. Мы никогда не ходили в синагогу и не отмечали религиозных праздников. Свиные отбивные были нашим любимым блюдом. Но потом родители развелись, и отец переехал в Калифорнию. А я остался жить с матерью и отчимом Рэем Китингом.
В отличие от нас, Рэй вырос в глубоко религиозной ирландской католической семье, где было девять детей, и все его родственники приняли нас с такой же теплотой и любовью, как если мы были урожденными членами их клана. Поэтому вскоре после того, как наша мать вышла за него замуж, мы — мать, мой старший брат Кевин и я — решили перейти в Римско-католическую церковь и прошли обряд крещения. А через год мой биологический отец дал Рэю разрешение усыновить Кевина и меня.
Мне сразу понравилось католичество. Меня пленили достоинство, торжественность и дух братства на воскресных службах. Я полюбил монсеньора Роберта Скелли, чья мудрость уступала разве что его чувству юмора. В 12 лет, когда еврейские мальчики начинают готовиться к церемонии бар-мицва, я стал алтарником в церкви. По воскресеньям я помогал отцу Скелли вести службу, гордясь тем, как красиво размахиваю кадилом и как ловко раскладываю причастные облатки на языки верующих. Я солгу, если скажу, что не получал удовольствия, докучая прижимистым прихожанам, которые пытались сделать вид, что не замечают моего ящика для сбора пожертвований.
Но в своих ранних экспериментах с католицизмом я был нерешителен. Помимо того, что я морально не чувствовал себя достойным стать священником, меня сильно беспокоила перспектива безбрачия. Я знал, что не готов быть отцом в католическом понимании слова.
Именно в это время я заразился астрономией и познакомился с Галилеем. Чем больше я учился, тем сильнее была моя жажда знаний. Вскоре я узнал достаточно, чтобы мои знания стали опасными. Прочитав о том, что католическая церковь обвинила Галилея в ереси и заставила «от чистого сердца и с непритворной верою отречься, проклясть и возненавидеть» свое учение о гелиоцентрической системе мира, я был глубоко удручен (особенно после того, как узнал, каким образом инквизиция добивалась таких «чистосердечных» отречений). Как мог Ватикан угрожать ему пытками только из-за его научных взглядов?
Даже в 1984 году, когда состоялось мое знакомство с Галилеем, через три с половиной столетия после позорного суда, он так и не был официально реабилитирован Церковью. Это переполнило мою чашу. Галилей стал для меня не просто примером для подражания, а божеством, разговаривавшим со мной через века. Его слова стали моим кредо: «Я не считаю должным верить в то, что тот же Бог, который одарил нас чувствами, разумом и пониманием, намеревался заставить нас отказаться от их использования, а знания, которые мы способны получить с их помощью, дать нам каким-то иным путем»{1}. Теперь я верил в науку, и только в науку. Вскоре я отказался от должности мальчика-алтарника. Мне не нужен был Отец на небесах; в конце концов, я прекрасно обходился без отца на Земле.
На протяжении следующих десяти лет я был убежденным атеистом и гордился этим. Наука была единственным, что имело для меня значение. Я хотел знать о природе все, что только возможно. Таким образом, в возрасте 17 лет я оказался на физическом факультете Университета Кейс Вестерн Резерв, а окончив его в 1993 году, отправился в Университет Брауна, чтобы получить докторскую степень в области экспериментальной космологии.
Хотя мы, космологи, и обладаем здоровым самомнением, наши научные эксперименты не подразумевают создания и разрушения вселенных. Мы изучаем космос с помощью новейших телескопов, которые сами же изобретаем и строим. Будучи аспирантом, я работал в лаборатории, где занимались созданием телескопов с использованием самых передовых технологий — сверхчувствительных датчиков, работающих при сверхнизких температурах. Я был в восторге. Мне платили (хотя и немного) за любимое дело — создание новейших телескопов, которые, возможно, позволят ответить на главный вопрос: как возникла наша Вселенная? Но меня мучил еще один вопрос: может ли простой аспирант внести вклад в действительно значимое научное открытие?
Вскоре выяснился ответ — «да». Через месяц после моего пребывания в Университете Брауна, были объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике 1993 года. Половина премии досталась молодому астрофизику Расселу Алану Халсу. Будучи 23-летним аспирантом, он вместе со своим научным руководителем Джо Тейлором открыл новый тип пульсаров. Это был так называемый «двойной пульсар» — у космического радиомаяка, располагающегося в 24 000 световых лет от Земли, есть сосед. Орбита этой двойной системы постепенно уменьшается. Халс и Тейлор доказали, что характер этого уменьшения хорошо согласуется с темпами потери энергии, обусловленными испусканием объектами гравитационных волн, — в полном соответствии с тем, что Эйнштейн предсказал больше полувека назад. Мальчишка чуть старше меня сумел сделать столь значимое научное открытие! Я был воодушевлен и мечтал совершить нечто подобное.
Прошедшее несовершенное время
Каждый из нас хотя бы раз задавался вопросом: что, если бы я мог вернуться в прошлое? Что бы я сделал иначе, что изменил? И что, если бы это не улучшило, а ухудшило мою жизнь в настоящем? Пока мы не умеем путешествовать в прошлое. Может быть, это и к лучшему: довольно трудно жить, когда знаешь, что будет завтра… и послезавтра…
Над этими вопросами размышляли мы с коллегами по лаборатории, занимаясь охлаждением наших датчиков до сверхнизких температур. И хотя мы знали, что не можем вернуться назад в прошлое, теоретически время можно остановить, по крайней мере в микроскопическом масштабе. Для этого требуется создать условия, которых нет даже на Южном полюсе, а именно температуру, равную абсолютному нулю. То, что мы называем температурой объекта, определяется коллективным движением всех его атомов. Теоретически можно охладить атомы до такой степени, когда их движение полностью прекратится. Это происходит при абсолютном нуле по шкале Кельвина, что соответствует –273 °C (–460 °F). В таком состоянии атомы «впадают в анабиоз» — и время для них словно останавливается.
Некоторые утверждают, что время, как и температура, эмерджентное[6] явление, т. е. его можно толковать только в связи с движением. Когда я впервые узнал об абсолютном нуле, будучи начинающим аспирантом, то задался вопросом: возможно, у времени тоже было начало? Об эмерджентной природе температуры стало известно лишь тогда, когда появились криогенные технологии, позволяющие достигать максимально низких температур, так, может быть, и о времени мы узнаем больше, если изобретем нужную машину? К счастью, у нас, астрономов, уже есть такие устройства — телескопы. Несмотря на то что свет движется с чрезвычайно высокой скоростью, он не перемещается мгновенно, а преодолевает определенное расстояние за определенный отрезок времени. Следовательно, когда вы видите объект, находящийся от вас на большом расстоянии, вы видите его не таким, какой он есть «сейчас», а таким, каким он был, скажем, восемь минут назад, если это Солнце, или 13,82 млрд лет назад, если это космический микроволновый фон. Но даже реликтовое излучение не переносит нас в самое начало. Для этого нужен особый телескоп, способный видеть гравитационные волны. Каким образом? Вскоре я вам объясню. Если мы построим такой телескоп, то сможем заглянуть в начало начал, когда возникло само время, а быть может, еще дальше.
В общежитии Брауновского университета мы делили комнату с общительным иностранцем Томасом, приехавшим в Соединенные Штаты изучать театральное искусство. Но существовала и другая, более важная причина: он хотел быть поближе к своему биологическому отцу. Как и у меня, родители Томаса развелись, когда он был совсем ребенком. В студенческие годы он помирился с отцом, и между ними установились близкие отношения. Меня восхищало то, как они дружны, как подолгу разговаривают по телефону, как вместе проводят каникулы. Казалось, Томас искренне простил своему старику вполне обоснованные, на мой взгляд, обиды. «Знаешь, это как тяжелая ноша, — сказал он. — От тебя зависит, освободишься ты от нее или будешь тащить дальше». Однажды Томас, зная о моем прошлом, сказал: «Вот ты изучаешь рождение Вселенной… а сам не знаешь даже половины истории собственного рождения!»
Его слова поразили меня. Я прожил столько лет вдали от своего биологического отца, что убедил себя в том, что он мне вовсе не нужен. Но к 1994 году мое любопытство взяло верх. Я знал, что мой отец, Джим Акс, был профессором математики в Университете штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук. Чтобы узнать, чем именно он занимался, я отправился в университетскую библиотеку. Наверное, он изучал что-то настолько непостижимое и нудное, думал я, что этим можно лечить от бессонницы.
Но меня ожидало одно из самых сильных потрясений в моей жизни. Его последние научные работы перед уходом в отставку были посвящены не математике, а физике, причем тем фундаментальным вопросам, которые интересовали меня больше всего: происхождению времени, поведению света, природе материи!{2} Оказалось, я не только пошел по стопам отца в выборе научной карьеры, но и каким-то образом унаследовал его интеллектуальные пристрастия.
Я понял, что Томас был прав. Я хотел заменить тот смутный образ, который сохранился у меня в памяти с семилетнего возраста, другой версией, посмотрев на отца глазами взрослого человека. Я даже не знал, жив ли он, но решил попытаться его найти.
В то время обе мои биологические бабушки жили во Флориде, недалеко друг от друга. Городок Санрайз был настоящей меккой (прощу прощения за невольный оксюморон) для еврейских бабушек. Поэтому я попросил свою мать узнать у ее матери Лилиан, не хочет ли мать отца, Эстер, поговорить со мной. Разумеется, эта новость быстро долетела до моего отца, и он сам позвонил мне в общежитие. Больше 15 лет я не слышал его голоса, но узнал мгновенно. «Это Джим Акс», — представился отец с характерным акцентом уроженца Бронкса.
Мы проговорили пару часов. Он повторно женился, жил в Лос-Анджелесе и, казалось, был счастлив, хотя я чувствовал, что воспоминания о разводе и брошенных детях по-прежнему доставляют ему боль. За прошедшие полтора десятилетия он часто думал о нас и винил себя в том, что пошел на поводу у нашей матери и разрешил нас усыновить. С его словами о матери я не согласился: она самый замечательный человек из всех, кого я знаю. Мы договорились с отцом поддерживать общение. Но, честно признаться, каждый раз, когда мы с ним встречались и даже просто говорили по телефону, меня раздирали противоречивые чувства.
Уйдя из университета, отец не бросил науку. Он переключился с математики на физику и занялся исследованием природы материи и энергии на субатомном уровне вместе со своим давним коллегой, профессором математики из Принстонского университета Саймоном Коченом. Отец невероятно гордился тем, что его родной сын изучает космологию и пытается найти ответы на фундаментальные вопросы мироздания, пусть даже сам он дал мне только гены и не растил меня. Вскоре после первого телефонного звонка мы с Кевином встретились с отцом. Мы общались легко, как ни в чем не бывало.
Следующие несколько лет мы, все трое, старались наверстать упущенное. Мне казалось, что между мной и отцом установились гораздо более близкие отношения, чем те, что обычно связывают 20-летних сыновей с их родителями. Отец объяснял это свежестью наших отношений: «Меня не было рядом, когда ты рос. А теперь я могу наслаждаться общением с тобой без всех этих подгузников и прочих детских прелестей». Все шесть лет, пока я в Брауне учился создавать телескопы, способные обнаружить следы рождения Вселенной, мы с отцом находили массу захватывающих тем для обсуждения. После того как в 1999 году я защитил диссертацию, он сказал: «Я рад твоим успехам. К сожалению, в них нет моей заслуги. Ты всем обязан своей матери». И добавил: «Но я горжусь тем, что в тебе мои гены, пусть даже всего половина». Благодаря нашему воссоединению у него появился второй шанс принять участие в моей жизни. И ни он, ни я не хотели упускать эту возможность.
В том же году я перебрался в Стэнфордский университет. Отчасти я выбрал Стэнфорд потому, что хотел работать под руководством талантливого молодого профессора физики Сары Чёрч. Ее лаборатория занималась разработкой новых микроволновых телескопов, предназначенных для наблюдения за далекими галактиками. Но у моего переезда на Запад была и другая причина: я хотел быть ближе к отцу.
Веет ветер свободы
Жизнь в Пало-Альто в 1999 году для постдока с мизерной зарплатой в 35 000 долларов, из которой вычитали кредит за обучение, прямо сказать, была несладкой. Мое настроение менялось обратно пропорционально индексу NASDAQ. Бум на фондовом рынке в конце 1990-х поднял цены на жилье до небес.
Единственная квартира, которую я мог себе позволить, находилась в нескольких световых годах от университетского кампуса, на главной ветке Калтрейна[7], соединяющей Кремниевую долину с деловым центром. Как раз напротив моих окон находилась «точка Х», где машинисты были обязаны давать 150-децибельный гудок, предупреждая потенциальных самоубийц о неотвратимом роке. Первый гудок раздавался в пять утра. Говорят, что именно наблюдение за движением поездов вдоль платформы вдохновило молодого Эйнштейна разработать новые концепции света, энергии и материи. К счастью, Эйнштейн не жил рядом с линией Калтрейн, иначе он никогда не придумал бы свое знаменитое E = mc2.
Хорошо, если мне удавалось поспать пять часов. Я был вымотан и подавлен. Конечно же, мой руководитель Сара обратила на это внимание. Иногда я засыпал прямо в лаборатории, и мне снился телескоп нового типа, способный заглянуть в самое далекое прошлое, вплоть до Большого взрыва и рождения нашей Вселенной. С Сарой своими идеями я не делился. У нее были собственные заботы — свои телескопы и испытательный срок перед постоянным контрактом. Я же после десяти лет университетской учебы жаждал самостоятельности: хотел работать над собственными идеями, решать собственные задачи, вести собственные астрономические исследования. Я хотел свободы.
Первые месяцы в Стэнфорде я был всецело поглощен недавно опубликованной работой под названием «Руководство по изучению поляризации» (Polarization Pursuers’ Guide), написанной космологами Эндрю Джаффе, Марком Каменковски и Лимином Вангом{3}. Как и «Полевой справочник звезд и планет» Пасачоффа 16 лет назад, это руководство стало моим священным писанием. Оно поразило меня: впервые я услышал о том, что существует возможность экспериментальным путем исследовать первые мгновения космической истории, этот таинственный этап рождения Вселенной, называемый инфляцией (обещаю, что в 7-й главе я расскажу о ней во всех подробностях).
Более того, эти три космолога утверждали, что увидеть, действительно ли инфляция имела место, можно с помощью небольшого телескопа. С таким же маленьким телескопом, как тот, что я разработал для своей докторской диссертации{4}. Я знал, что у небольших телескопов имеется масса преимуществ: они гораздо проще, дешевле и подчас даже эффективнее своих гигантских собратьев. Теперь же я узнал, что с помощью небольшого телескопа, улавливающего микроволны, а не излучение оптического диапазона, которое мы называем светом, как это делал телескоп Галилея, можно изучать инфляционный этап ничуть не хуже, чем с помощью огромного дорогостоящего телескопа. Это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Однажды вечером, когда я сидел в лаборатории и, как обычно, мечтал о собственном телескопе, в дверь вошла Сара Чёрч. Она сказала мне, что недовольна ни моей работой, ни моим поведением, ни моей трудовой дисциплиной. Поэтому она меня увольняет. Моя карьера завершилась, едва успев начаться. У меня в голове проскользнула дурацкая мысль, что и в этом мы с Галилеем похожи: у обоих плохие отношения с Церковью[8]. Я не мог спорить с Сарой. Она была права. Те полгода, что я провел в Стэнфорде, мечтая о собственных проектах, мне следовало потратить на работу над ее проектами.
Было стыдно и горько. Я переехал на Запад, чтобы стать светилом науки, предметом гордости своего отца, а вместо этого мне придется впервые за 20 лет жить под его крышей, спать на его диване и выслушивать упреки мачехи в том, что им приходится кормить безработного. Казалось, что легче предстать перед судом Святой инквизиции…
Когда Сара ушла, мой взгляд упал на лабораторный журнал. На его обложке была секвойя — эмблема Стэнфордского университета, а под ней девиз: Die Luft der Freiheit weht — «Веет ветер свободы». Да уж, меня как ветром сдуло, подумал я, но, с другой стороны, теперь я свободен! Я не связан никакими обязательствами (коль скоро мне не обязаны теперь платить).
До увольнения мне приходилось участвовать в чужих экспериментах. Теперь я мог сосредоточиться на собственных идеях. Но мне нужна была поддержка. Легко убедить себя в собственной незаурядности. Труднее склонить к этой мысли других. К счастью, наука была на моей стороне: не только я, но и некоторые именитые космологи считали, что исследовать начальный этап рождения космоса возможно экспериментальным путем. А для этого мне требовались три вещи: крутая команда, захватывающий проект и подходящее место для наблюдений.
Сара обеспечила мне щедрое выходное пособие. Некоторое время она продолжала денежные выплаты и познакомила меня со своим бывшим научным руководителем Эндрю Ланге, космологом-экспериментатором[9] из Калтеха. Спустя несколько недель после моего увольнения, в июне 2000 года, Сара позвонила мне и сказала, что Ланге будет выступать в Стэнфорде. Я был уверен, что это станет репетицией благодарственной речи будущего нобелевского лауреата.
Почему я так думал? В апреле 2000 года эксперимент BOOMERanG, осуществленный командой Ланге, привел к потрясающему открытию{5}. Телескоп, поднятый к верхней границе стратосферы с помощью гелиевого воздушного шара, зарегистрировал специфический паттерн в реликтовом излучении, который позволил определить возраст, состав и структуру Вселенной более точно, чем когда-либо прежде. На мой взгляд, этот эксперимент, возглавляемый талантливым и харизматичным научным руководителем, верной дорогой вел к Нобелевке. Можно сказать, что он позволил решить геометрическую задачу в буквальном смысле вселенского масштаба — измерить кривизну пространства Вселенной.
Зал Стэнфордского университета, где выступал Ланге, был забит до отказа. Прежде я никогда не встречал такого ученого — наполовину Стив Джобс, наполовину Тони Роббинс. Спокойный и уверенный в себе, он буквально загипнотизировал аудиторию, когда принялся рассуждать о будущих направлениях развития космологии. Свое выступление Ланге начал с захватывающего рассказа о том, как работали сверхчувствительные болометры (от греческого «измерители излучения»). Болометры — это приборы, измеряющие электромагнитное излучение, сначала превращая его в тепло, а потом, определяя рост температуры, преобразуя тепло в электрические сигналы. Паутинные болометры телескопа BOOMERanG (рис. 1) поглощали космическое микроволновое фоновое излучение с помощью мелкоячеистой сетки. Микроволны, как и световые волны, являются разновидностью электромагнитного излучения, только микроволны в несколько тысяч раз длиннее волн видимого света.
Идея конструкции болометров, описанных Ланге, была подсказана самой природой — величайшим изобретателем во Вселенной. Паук сводит к минимуму затраты биологической энергии, плетя паутину, которая способна ловить ровно столько мух, сколько ему необходимо для выживания. Он не плетет сплошное полотно, которое ловило бы всех насекомых подряд, — это требовало бы слишком больших биологических затрат. Но не плетет и слишком редкую паутину, сквозь которую свободно пролетали бы мухи. По словам Ланге, частота плетения паутины на их болометрах была идеально выверена для того, чтобы улавливать микроволны, порожденные Большим взрывом, средняя длина которых составляет около 2 мм. Ланге был гениальным рассказчиком. Аудитория слушала его затаив дыхание.
Благодаря собранным с помощью BOOMERanG данным космологи выяснили, что наша Вселенная — плоская. Это означает, что если нарисовать треугольник между тремя звездами, тремя галактиками или любыми другими внеземными объектами, то, независимо от размеров треугольника, сумма его внутренних углов всегда будет равна 180° — как у тех треугольников, которые древнегреческий математик Евклид рисовал на папирусе несколько тысячелетий назад. Это открытие было таким же революционным для современной науки, как доказательство Эратосфена, что Земля не плоская, в 200 году до н. э. В свою очередь, это открытие подтверждало теорию инфляции, согласно которой Вселенная должна быть плоской, поскольку первичное гиперрасширение пространства должно было полностью сгладить любую кривизну, какой бы значительной она ни была вначале. (Как именно инфляция разгладила громадную кривизну пространства-времени, я подробно расскажу в главе 7.)
Когда Ланге и его группа опубликовали свои поразительные результаты, космолог Майкл Тернер из Чикагского университета назвал это «днем, который изменил космологию»{6}. Хотя за шесть месяцев до этого группа, возглавляемая физиком из Принстонского университета Лайманом Пейджем, опубликовала данные, указывающие на те же выводы, многие ученые сочли результаты эксперимента BOOMERanG более убедительными, заявив, что они подтверждают теорию инфляции{7}. Однако Ланге сказал, что результаты их эксперимента на самом деле не доказывают факта инфляции. В лучшем случае они могут рассматриваться как косвенное свидетельство. Тот тип измерений, который проводил BOOMERanG, в принципе не позволял подтвердить инфляционную модель с достаточной степенью достоверности.
После выступления Ланге согласился уделить мне несколько минут. Я так много слышал о нем, что казалось, будто хорошо с ним знаком. Ему было 42 года, в Калтех он пришел в 1993 году после стремительного взлета карьеры от новоиспеченного постдока в 1987 году до профессора Калифорнийского университета в Беркли. Калтех сделал все, чтобы переманить Ланге к себе, считая, что он продолжит свой взлет. BOOMERanG доказал, что они были правы. По слухам, Ланге был самым популярным профессором в Калтехе, и лекция, которую я только что услышал, полностью это подтверждала.
Ростом чуть выше 180 см, в оксфордской рубашке с двумя расстегнутыми пуговицами вместо общепринятой одной, Ланге напоминал мне рекламного агента 1950-х годов. Из-за его пристального, пронизывающего взгляда казалось, будто он всецело сосредоточен на мне, отчего слова застревали у меня в горле. Ланге поразил меня, когда сказал, что читал мою диссертацию и счел ее «сильной». Разумеется, я принял комплимент без всяких возражений. Потом он поинтересовался моими планами после Стэнфорда, словно не было никакого постыдного увольнения. «Почему бы вам не приехать в Пасадену? Мы бы могли кое-что обсудить», — сказал Ланге.
Через месяц я прибыл в Пасадену и остановился в захудалом мотеле в миле от фешенебельного кампуса Калтеха. Я нервно репетировал свою речь, понимая, что это мой единственный шанс произвести впечатление на величайшего шоумена в космологии. И вот решающий день настал: выступая перед Ланге и его группой, я описал им свой телескоп мечты, которым был одержим весь последний год. Это был инновационный телескоп, основанный на принципах, изложенных в «Руководстве по изучению поляризации», и способный заглянуть намного дальше в прошлое, чем BOOMERanG. Мимоходом я заметил, что, согласно «Руководству», небольшой телескоп может быть не менее эффективен, чем гораздо больший по размеру и, следовательно, более дорогой. Это было в духе того же рационально-минималистского подхода, который лежал в основе паутинных болометров телескопа BOOMERanG. Ланге был впечатлен и после моей презентации спросил, не хочу ли я присоединиться к его команде. Я сказал: «Да!», прежде чем он успел закончить предложение.
Два месяца спустя я начал работать над проектом, который впоследствии привел к созданию телескопа BICEP. Я знал, что у меня есть все шансы на успех, и решил добиться его во что бы то ни стало. Помимо меня в лаборатории Ланге работали еще шесть постдоков. С его энтузиазмом, славой и блестящим умом, а также с нашей фанатичной приверженностью космологии группа была силой, с которой приходилось считаться.
Ланге часто устраивал у себя дома вечеринки и явно наслаждался ролью старшего товарища. Вскоре мы с ним стали близкими друзьями. Частенько он делал наставления, которые называл «отеческими советами»: делился житейской мудростью в самых разных областях, от тонкостей научной карьеры до темы отцовства. Последнее, хотя и не было актуальным для меня на тот момент, производило глубокое впечатление. Ланге буквально боготворил своих трех сыновей. Его кабинет был музеем их детского творчества. Все полки были заставлены их школьными «научными проектами», среди которых ютились его собственные награды и детали настоящих ракет, которые он запускал в космос.
По понедельникам Ланге с восторгом рассказывал мне, чем они с сыновьями занимались в выходные: ночевали в палатке в горах, запустили модель ракеты в пустыне Мохаве и т. п. Было ясно, что сыновья для него всё, и это стало для меня воодушевляющим откровением: оказывается, можно быть одним из самых гениальных ученых в мире и при этом — хорошим отцом! Думаю, Ланге вряд ли догадывался, насколько я ценю общение с ним: я скрывал от него историю отношений со своим отцом.
И вот четыре года спустя, под руководством Эндрю, я оказался у самого основания планеты и на самой вершине научного мира. Мы построили телескоп BICEP, получили финансирование и были готовы начать эксперимент, о котором я мечтал много лет, — эксперимент, с помощью которого мы могли увидеть начало космоса и времени. Но потом, почти сразу же после того как я прибыл на Южный полюс, время остановилось.
Декабрь 2005 года
«Сколько ему осталось?» — спросил я у брата. «Не знаю, — ответил он, — но тебе лучше вернуться как можно скорее». В этот момент коммуникационный спутник исчез за ледяным горизонтом и связь прервалась. Я был испуган и одинок.
Глядя на массивный сине-белый BICEP, я вспомнил свой маленький телескоп из детства. Только теперь мне пришло в голову, что, как и BICEP, тот был преломляющим телескопом, который использовал линзы для сбора и фокусировки света от удаленных объектов, и в этом смысле ничем не отличался от зрительной трубы, через которую Галилей разглядывал небо над Падуей несколько столетий назад. Всего за несколько дней до этого BICEP увидел «первый свет» (так называют первое официальное использование телескопа для астрономических наблюдений) — знаменательное событие для любого телескопа и его создателей. Приключение только начиналось. Но для меня оно закончилось.
Я вспомнил, как много всего изменилось с тех пор, как я купил свой первый телескоп. Тогда я не подозревал, как сложится моя жизнь. Я просто понял, что моей путеводной звездой будет наука, а не религия. В то время мы не общались с отцом. Сегодня же я не знаю, сколько минут общения нам с ним осталось.
Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле…
Исход 20:12Хотя отец был атеистом, но любил эту пятую заповедь. Он часто цитировал ее, когда просил меня принести ему что-нибудь из холодильника. Отец поднимал палец в небо и шутливо грозил мне Божьей карой, если я его ослушаюсь. «Помни пятую заповедь, сын мой!» — грозно восклицал он, а я изображал притворный испуг.
Я начал изучать свои иудейские корни всего за несколько лет до экспедиции на Южный полюс. Чтобы разорвать негативный отеческий цикл, запущенный моим дедом и отцом, я принялся искать образцы для подражания — другие примеры отцов — всюду, где мог их найти. Я даже обратился к давно умершим людям, таким как библейские патриархи. Отец неохотно мирился с моим новообретенным интересом к вере, в которой я родился, скептически замечая: «Я не верю в Бога, но я верю в дьявола, потому что он заставил тебя поверить в Бога».
В подростковом возрасте, когда отношение Церкви к Галилею серьезно пошатнуло мою веру, я бы, возможно, с ним согласился. Но теперь, имея за плечами кое-какой жизненный опыт и мудрость, хотелось более методично изучить вопросы веры. Как ученый я считал, что каждое фактологическое утверждение может быть проверено с использованием инструментов экспериментальной науки. Почему изучение религии должно отличаться от исследования клеток или космоса? Священное Писание должно быть доступно для эмпирической проверки или по крайней мере для опровержения.
Для этого мне требовалось разработать эксперимент (оставалось только надеяться, что это не окажется пустой затеей!). Я начал думать о том, как можно проверить библейские утверждения с точки зрения науки. Разумеется, я был не первым, кто решил это сделать. Мне было известно о теологическом аргументе, известном как пари Паскаля.
Еще в XVII веке французский философ Блез Паскаль придумал свой знаменитый способ оценить два противоположных убеждения: Бог есть/Бога нет. Для каждой из двух возможностей Паскаль описал по два сценария и провел анализ издержек и преимуществ для каждого из четырех вариантов. Например, наказание для безбожника, если Бог есть, — вечные муки, что, пожалуй, хуже даже, чем последипломная учеба. Но Паскаль думал о минимизации страданий; ученого не интересовала фундаментальная истинность или ложность этих противоположных гипотез. Кроме того, его аргумент предполагал, что в случае существования Бога награда за покорность ожидает человека лишь после смерти. Но как протестировать эти две гипотезы здесь и сейчас?
И вот я решил взять конкретные библейские постулаты и постараться их опровергнуть. Если мне удастся это сделать, я покажу несостоятельность и самого Священного Писания. Но какую Божественную гипотезу взять? Тщательно изучив текст Библии, я понял, что только одна из десяти заповедей, а именно пятая заповедь, обещает непосредственное вознаграждение еще при земной жизни. Почему никто прежде не обратил на это внимания?
Поразительно, что книга, столь почитаемая (и оскорбляемая) за свои проклятия и моральные предписания, сама предлагает способ протестировать ее утверждения. Награда за соблюдение пятой заповеди — продление земной жизни — особенно привлекала меня как физика. Это было равносильно эйнштейновскому эффекту замедления времени, только применительно к реальной жизни. Но если замедление времени по Эйнштейну требовало ускорения, близкого к скорости света, то пятая заповедь давала мне возможность испытать мою неокрепшую веру: почитая своего отца, заботясь о нем, утешая до последних дней, можно экспериментально протестировать Библию. И я был уверен, что разоблачу обман.
Я позвонил Эндрю Ланге и рассказал ему о болезни отца. Он знал, как много значит для меня BICEP, но считал, что семья важнее любой науки. «Брайан, тебе нужно бросить все и поехать к отцу», — сказал он.
Я знал, что он прав. Но все-таки не мог избавиться от чувства горечи. Эта поездка на Южный полюс должна была стать самым большим приключением в моей жизни, путешествием к началу времен и — если бы наши поиски оказались успешными — дорогой к Нобелевской премии. Отец был уверен в успехе моего грандиозного предприятия.
Во всем этом была горькая ирония. Годами я вынашивал идею приподнять завесу тайны над происхождением Вселенной, тогда как моя собственная версия оставалось в целом загадкой. И вот в тот самый момент, когда мое «дитя» BICEP достигло зрелости, я был вынужден покинуть его ради человека, который бросил меня еще в детстве. В глубине души я знал, что в моей жизни еще будет много телескопов, а отец есть отец, несмотря на все его недостатки.
Итак, в декабре 2005 года мне пришлось прервать свою экспедицию на Южный полюс и вернуться на север. Впрочем, из того места, где я находился, все пути лежали на север. Нужно было просто следовать по невидимому меридиану, соединяющему меня с отцом, который сейчас умирал где-то там, за ледяным горизонтом.
Глава 3. Краткая история машин времени
Путешествие, которое мы с вами собираемся предпринять, ведет нас к началу Вселенной. Но чтение космического пролога требует особых очков, набора линз, и придумал их не кто иной, как великий Галилео Галилей, в одну из теплых июньских ночей 1609 года.
В ту ночь Галилей сделал то, чего никто никогда до него не делал: он смотрел в небо через зрительную трубу. Эту трубу он создал, прямо скажем, нечестным путем, совершив один из смертных грехов научного мира: плагиат. Некоторое время назад его друг Паоло Сарпи рассказал ему о новом изобретении одного голландского оптика, способном зрительно приближать удаленные объекты. Хотя Галилей никогда не видел этого голландского устройства, он не только сумел воспроизвести его конструкцию, но и значительно ее усовершенствовать. Вскоре его perspiculum («перспективная», или подзорная, труба) стала самым коротким из рычагов, созданных когда-либо для того, чтобы сдвинуть Землю.
Конструкция трубы была предельно проста: две стеклянные линзы внутри свинцовой трубки. Одна сторона каждой линзы была плоской. Другая сторона у одной из линз была выпуклой, как чечевица (на самом деле слово «линза» происходит от латинского слова lens — «чечевичное зернышко»), а у второй — вогнутой. Обе линзы имели около 5 см в диаметре. Обращенная к объекту линза, объектив, находилась на расстоянии вытянутой руки от той, к которой наблюдатель прикладывал свой глаз. Комбинация этих линз, расположенных на правильном расстоянии друг от друга, многократно увеличивает отображение удаленных предметов.
После той исторической июньской ночи Галилей продолжил дорабатывать свое устройство. Вскоре он добился 30-кратного увеличения, уменьшил оптические искажения и дополнил прибор регулируемой треногой, что было весьма полезно, поскольку труба стала гораздо больше и тяжелее. Голландская «зрительная труба» была всего лишь забавной вещицей. Усовершенствованная Галилеем, она превратилась в мощный научный инструмент — телескоп (от греческого «далеко смотрю»). Не чуждый ничему человеческому, Галилей быстро сообразил, что телескоп может сделать его богатым. У него было несколько незаконнорожденных детей и брошенных любовниц, которых приходилось содержать. Пока Галилей обладал монополией, он мог продать свою улучшенную подзорную трубу тому, кто предложит самую высокую цену, — желающих купить нашлось бы немало. Например, телескоп был бы чрезвычайно полезен в военном деле. С его помощью военные моряки могли обнаруживать вражеские флотилии, едва те появлялись на горизонте, таким образом исключая возможность внезапного нападения.
Прежде всего требовалось сохранить монополию. Галилей не доверял никому. Он бдительно охранял свое изобретение, пока не подготовился обнародовать его, и обратился за кредитом{1}. Развернув публичную кампанию в духе реалити-шоу Shark Tank[10], он в конце концов продал свой телескоп — точнее, несколько готовых телескопов — венецианскому дожу и сенату. Галилей также добился того, чтобы ему дали пожизненную профессуру в Пизанском университете и удвоили жалованье. (Как профессор, я искренне преклоняюсь перед деловой хваткой коллеги. Он не только мгновенно получил постоянную работу, но и удвоил свои вложения в бизнес.)
Разумеется, Галилей вошел в историю науки не своей молниеносной карьерой, которой особенно завидуют астрономы. Он первый открыл возможности телескопического зрения, и ему стали доступны любые плоды с древа познания. Представьте себе, что вы построили собственный Большой адронный коллайдер — самый мощный в мире ускоритель частиц. Согласен, это не входит в список желаний большинства нормальных людей. Тем не менее допустим, вы можете использовать его по своему усмотрению. С какой легкостью вы открыли бы все субатомные частицы, не боясь конкуренции со стороны других ученых!
Разумеется, даже лучшие инструменты в руках невежды ни на что не способны. К тому же для того, чтобы наилучшим образом распорядиться своим талантом и инструментами, нужны желание и страсть. Вот почему космологи учатся так долго: четыре года бакалавриата по физике плюс еще лет десять аспирантуры и работы после получения ученой степени. Мы жаждем знаний и мудрости, чтобы максимально реализовать возможности этих мощных инструментов, будь то телескопы, или суперкомпьютеры, или даже наши собственные мозги.
Ошибки, их было немного[11]
К счастью для науки, Галилей обладал не просто техническим талантом, его отличали необычайные любознательность, неутомимость и последовательность в работе. Он был первым физиком в истории человечества и первым, кто начал заниматься наблюдательной астрономией с помощью телескопа. Некоторые даже утверждают, что Галилей был первым настоящим ученым — первым, кто использовал научный метод, в том числе итеративный подход к сбору фактов и уточнению модели.
В отличие от Ньютона, который увлекался алхимией и другими сомнительными идеями, или Аристотеля, чьи «законы природы», по сути, все оказались неверны, научная репутация Галилея — одна из самых непогрешимых. Отчасти этим он обязан строгой самоцензуре: Галилей старался не распространяться о собственных ошибках. Он также был искусным селф-промоутером и никогда не упускал возможности заявить о приоритете своих открытий, особенно если те обещали принести деньги{2}. Духа состязательности ему было не занимать. Галилей был так озабочен тем, чтобы сохранить за собой пальму первенства, что намеренно скрывал свои открытия от главного конкурента — немецкого астронома Иоганна Кеплера, который первым из ученых правильно описал движение планет.
В своем революционном сочинении «Звездный вестник» (Sidereus Nuncius) Галилей писал с безграничной уверенностью: «Великим, конечно, является то, что сверх бесчисленного множества неподвижных звезд, которые природная способность позволяла нам видеть до сего дня, добавились и другие бесчисленные и открылись нашим глазам никогда еще до сих пор не виденные, которые числом более чем в десять раз превосходят старые и известные»{3}, [12]. Маэстро никогда не боялся раздвигать границы своих теорий. Как показало дальнейшее развитие событий, ему следовало быть осторожнее.
Тем не менее грандиозность его притязаний простительна. Помимо того что публичные заявления помогали Галилею утвердить собственный приоритет, он был вправе гордиться своими успехами, достигнутыми несмотря на существенное отставание астрономии того времени от других научных дисциплин. Надо сказать, что астрономии вообще не под силу конкурировать с другими экспериментальными науками. Даже современные астрономы не могут проводить настоящие научные эксперименты с изучением причинно-следственных связей — испытания, где используются переменные, которые можно произвольно менять, или контрольные параметры, которые можно поддерживать, изолируя влияние переменных факторов. Астрономы не могут создать в лаборатории черную дыру, потом изменить какие-то условия, посмотреть, что произойдет, и после этого сравнить результат с реальностью. Нам остается лишь вылавливать «обломки кораблекрушений», которые электромагнитные волны приносят из космоса к земным берегам, и тщательно изучать их с помощью наших телескопов.
Великие дебаты
До Галилея не было даже этого. Родившись из астрологии, предсказывающей будущее земных событий на основе небесных явлений (и никогда не стремившейся к научной доказательности), астрономия вынужденно довольствовалась ограниченными данными. Тем не менее эти первые астрономы проделали ценную работу: они накопили архивные данные, которые, оказавшись в руках Кеплера и Галилея, позволили тем пошатнуть господствующие догмы своей эпохи и положить начало так называемым Великим дебатам.
Великие дебаты — это многовековые споры о том, действительно ли человечество принадлежит привилегированному классу наблюдателей, оказавшихся в нужное время в нужном месте Вселенной. Все началось с заявления польского астронома Николая Коперника, что в центре Солнечной системы, которая в те времена считалась всей Вселенной, находится Солнце{4}. Тем самым Коперник низвел статус Земли от центра мироздания до скромной рядовой планеты, вращающейся вокруг Солнца среди пяти других планет. Его дерзкая теория была пощечиной Птолемею, астроному II века н. э., чья геоцентрическая модель мира, помещавшая Землю в центр Вселенной, незыблемо держалась вот уже больше тысячелетия. После смерти Птолемей обрел мощного сторонника — католическую церковь, согласно которой из текстов Священного Писания следует, что все сущее в космосе вращается вокруг Земли.
В январе 1610 года Галилей сделал зарисовки Луны, после чего обратил внимание на два самых ярких странствующих тела в ночном небе — Венеру и Юпитер. (Само слово «планета» на древнегреческом означает «странник».) Увиденное изумило его. Телескоп позволил обнаружить, что с течением времени обе планеты меняют свой облик. В частности, Венера проходила те же фазы, что и Луна: узкий полумесяц, который Галилей увидел при первом наблюдении, несколько месяцев спустя превратился в круг. Такое изменение освещенности, пришел к выводу Галилей, возможно лишь при одном условии — если Венера вращается не вокруг Земли, а вокруг источника света, т. е. Солнца. Эта революционная идея полностью опровергала геоцентрическую модель Птолемея. Хотя Коперник высказал ее несколькими десятилетиями раньше, именно полученные Галилеем данные позволили перевести ее из разряда предположений в доказанный факт.
Но наиболее убедительные свидетельства в пользу теории Коперника дали наблюдения за вторым небесным странником — Юпитером. Следуя принципу, что один рисунок стоит тысячи слов, Галилей нарисовал первую в истории покадровую анимацию движения небесных тел (рис. 2).
Взгляд через телескоп обнаружил удивительную вещь: оказалось, что Юпитер обладает собственным микрокосмом, системой внутри системы. У него имелись свои странствующие вассалы: четыре крошечные светящиеся точки, которые Галилей счел звездами и подхалимски назвал в честь своих покровителей — братьев Медичи. Было совершенно очевидно, что эти четыре небесных тела вращаются вокруг Юпитера, а не Земли{5}. Он следил за движением «звезд Медичи» в течение нескольких дней в январе 1610 года и нарисовал немой черно-белый фильм, который стал настоящим блокбастером.
Его наблюдения за Юпитером со всей очевидностью опровергали геоцентрическую модель Птолемея. Не только Вселенная находилась в движении, но и Земля не была единственным центром этого движения (рис. 3). Хотя Галилей не доказал, что в центре Вселенной находится Солнце{6}, он доказал несостоятельность геоцентризма, положил конец первым Великим дебатам, подорвал репутацию Птолемея (и Церкви) и подтвердил правоту Коперника. Телескоп-рефрактор Галилея стал первым рычагом, с помощью которого наша планета была вытолкнута из центра мироздания, где она находилась с древних времен. Это стало первым доказательством в пользу того, что позже назвали принципом Коперника, который утверждает, что ни один астрономический объект не занимает во Вселенной какое-то особое привилегированное место.
…чтобы вы… не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству…
Числа 15:39Воодушевленный своими открытиями, Галилей распространил наблюдения за пределы Солнечной системы, продолжив искать доказательства в поддержку теории Коперника. Зимой 1610 года он направил телескоп на Плеяды — скопление звезд в созвездии Тельца — и обнаружил в нем намного больше семи звезд, давших группе одно из ее названий — Семь сестер[13]. Вместо этого его взору предстало бесчисленное множество звезд, бо́льшая часть которых была невидима без телескопа. И еще: звезды были окружены таинственным голубоватым сиянием. Что его вызывало?
Галилей, образец универсального человека эпохи Возрождения, был не только ученым, но и художником. У всех великих художников есть муза, и у Галилея их было целых семь: Плеяды. Лазоревый ореол Семи сестер — словно кто-то вылил голубую люминесцентную краску на чернильно-черный бархат ночного неба — потряс его до глубины души. Он не мог объяснить это явление. Однако рисунок Плеяд, сделанный им в начале 1610 года, показывает не только его сверхчеловеческий интеллект, но и то, что ему, как и всем людям, было свойственно ошибаться (рис. 4).
В сочинении «Звездный вестник» Галилей объединил свои телескопические наблюдения с революционными научными гипотезами. Сделанные им зарисовки спутников Юпитера уже убедительно опровергали геоцентрическую модель Вселенной. На этом Галилею и следовало бы остановиться. Но телескоп наделил его туннельным зрением — чем дальше в глубины космоса заглядывал маэстро, тем хуже видел в перспективе. Ему было мало опровергнуть Птолемея; он искал все новые подтверждения теории Коперника.
Свою кампанию в поддержку Коперника в «Звездном вестнике» он продолжил, заявив, что «млечный блеск вроде беловатого облака», окружающий Плеяды, создается слиянием света бесчисленных звезд и на самом деле то, что раньше считалось пустым пространством между звездами в Плеядах и в остальной части Млечного Пути, заполнено «невидимыми звездами» (невидимыми для невооруженного глаза). Разумеется, телескоп делал Галилея первым среди равных, вооруженных лишь ограниченным человеческим зрением. Позже он говорил, что его наблюдения лишили «прежних авторов всякого авторитета, ведь если бы оные увидели то, что увидели мы, они бы пришли к тем же заключениям, к коим пришли мы».
Следуя индуктивной логике, Галилей считал, что более сильный телескоп позволит увидеть еще больше звезд. «Предметом нашего наблюдения была сущность или материя Млечного Пути. При помощи зрительной трубы ее можно настолько ощутительно наблюдать, что все споры, которые в течение стольких веков мучили философов, уничтожаются наглядным свидетельством, и мы избавимся от многословных диспутов», — писал он. (Во все времена находились физики, которые не могли устоять против соблазна упрекнуть философов.)
Гипотеза Галилея исходила из того, что Плеяды (и другие так называемые туманности) состояли из скоплений несметного количества звезд, вместе создававших это туманное свечение. Более того, весь Млечный Путь образован такими звездами, чем и обусловлено его сходство с молоком. То, что сначала Галилей проделал с Землей, теперь он проделывал с Солнцем: он низвел его до ранга обычной звезды среди мириад звезд Млечного Пути, до уровня рядового статиста в почти бесконечном звездном ансамбле. Мало того что человечеству он отводил в нашей Солнечной системе столь скромное место, дело дошло и до звезд.
Сегодня мы знаем, что млечные туманности Плеяд (и другие, такие как туманность Ориона) почти полностью состоят из облаков межзвездной пыли и газов, подсвечиваемых соседними звездами. В космосе удивительно много пыли, которая, впрочем, больше похожа на сажу, чем на ту пыль, что оседает на мебели. Помимо соединений железа и никеля в ней содержится большое количество чистого углерода, а в некоторых случаях даже алмазная пыль — точно как в колыбельной «Мерцай, мерцай, маленькая звездочка», где поется о сверкающих в небесах алмазах. Впоследствии было установлено, что Плеяды представляют собой типичный образец так называемых отражательных туманностей — «звездных яслей», где находятся гигантские скопления космического «родового материала», и вся эта газопылевая пелена отражает потусторонний голубоватый свет окутанных ею новорожденных звезд. Какие бы мощные телескопы мы ни использовали, отражательные туманности наподобие туманностей Плеяд или Ориона нельзя разложить на звезды{7}.
Галилей был введен в заблуждение пылью. Но у межзвездной пыли имелся еще один коварный сообщник — желание. Принимая желаемое за действительное, Галилей искал все новые подтверждения коперниковской модели Вселенной.
Между Луной и Ватиканом
Публикация «Звездного вестника» мгновенно принесла Галилею громкую научную славу. Но низвержение космической гордыни человечества привело к поражению и его самого. Как профессор Падуанского университета, Галилей находился под пристальным взором Ватикана и Святого Престола, исполнительной власти инквизиции. И хотя названные в честь Медичи спутники Юпитера обеспечили Галилею благосклонность влиятельных покровителей, но, возносясь все дальше в небесные сферы с помощью своего телескопа, маэстро забыл про всякую земную осмотрительность.
Через несколько десятилетий наблюдений Галилей окончательно сформировал то, что он считал неопровержимым набором доказательств гелиоцентрической модели. В книге «Диалог о двух главнейших системах мира» (Il Dialogo sopra i due massimi sistemi delmondo) он излагает основы гелиоцентрической теории, описывая воображаемую беседу между сторонником библейского взгляда на космологию по имени Симпличио («простак»), который сбивчиво приводит аристотелевские аргументы, и Сальвиати, альтер эго Галилея, чей интеллект затмевает сами астрономические объекты. Облекая столкновение науки и религии в такую форму, Галилей рассчитывал привлечь внимание некогда благосклонного к нему папы Урбана VIII. Важнейшим аргументом в поддержку учения Коперника в «Диалоге» была теория происхождения океанских приливов и отливов: они, как утверждал Галилей, вызваны движением Земли и как бы расплескиванием жидкости, вызванным вращением планеты вокруг своей оси и вокруг Солнца.
По правде говоря, это было еще более грубой ошибкой, чем его гипотеза о Плеядах. Приливы и отливы обусловлены гравитационным влиянием Луны, а не движением и вращением Земли. В очередной раз склонность к подтверждению своей точки зрения свела на нет его блестящую аргументацию. Галилей исходил из модели Коперника, поэтому из нее должно было вытекать все, даже морские волны.
Как бы то ни было, гелиоцентризм был запрещен Церковью с 1616 года. Папа Урбан не смог закрыть глаза на подобное богохульство. В 1633 году Галилей предстал перед неправедным судом Святой инквизиции и без лишних проволочек взят под стражу. Несмотря на якобы произнесенную Галилеем крамольную фразу «А все-таки она вертится!», папа милостиво разрешил астроному прожить оставшийся ему десяток лет под домашним арестом возле его внебрачной дочери на расположенной на холме вилле, откуда открывался прекрасный вид на Флоренцию. Подозреваю, однако, Галилей был бы сражен, узнав о результатах исследования, по иронии судьбы проведенного Национальным научным фондом США в 450-ю годовщину рождения Галилея: в 2014 году четверть американцев и треть европейцев не знали, что Земля вращается вокруг Солнца{8}.
Тешим наше космическое эго
Но противостояние Галилея и Святой инквизиции завершило лишь первый этап Великих дебатов. Тот факт, что Земля не была центром Солнечной системы, еще не означал, что сама Солнечная система не занимает привилегированное место во Вселенной.
Галилей умер в январе 1642 года. К счастью, континуум великих физиков не прервался: на Рождество того же года на свет появился Исаак Ньютон. Среди своих занятий алхимией и оккультизмом Ньютон нашел время, чтобы изобрести новый тип телескопа — зеркальный телескоп, в котором свет собирался и фокусировался не линзами, а изогнутыми зеркалами. Главное преимущество телескопа-рефлектора состояло в том, что зеркала большого диаметра было гораздо проще изготовить, чем большие линзы. Благодаря этому рефлекторные телескопы имели гораздо большую приемную площадь, что позволяло им улавливать свет от более слабых (тусклых) объектов. (На рис. 5 приведено сравнение рефрактора и рефлектора.)
Именно на слабые объекты обратил свой взор Уильям Гершель, выдающийся астроном XVIII века, перенявший телескопическую эстафету у Галилея и Ньютона. Но в отличие от Галилея Гершель использовал телескоп как Архимедов рычаг, чтобы вернуть Земле ее почетное центральное место, вызвав тем самым вторую волну Великих дебатов. И снова пыль и желание — коварные спутники астрономов — завели Гершеля на территорию заблуждений, как Галилея за столетие до него. Каким образом, я скоро объясню.
Используя самый большой рефлекторный телескоп своего времени — с диаметром зеркала 1,2 м и фокусным расстоянием 12,2 м, Гершель принялся изучать ночное небо над Британскими островами. Несмотря на исполинские размеры телескопа, Гершель ставил перед собой весьма скромные цели: он надеялся открыть какие-нибудь новые звезды и, если повезет, пролетающую мимо комету. Но вместо этого неожиданно для самого себя он удвоил размеры Вселенной.
Открыв у Сатурна два новых спутника, Гершель обратил внимание на маленький, неизвестный прежде дискообразный объект. Скопировав сценарий Галилея, он окрестил новый объект Звездой Георга в честь английского короля Георга III. Впоследствии эта звезда была признана планетой и переименована в Уран. Хотя Уран находится в два раза дальше от Солнца, чем Сатурн, его можно увидеть невооруженным глазом — если знать, что искать.
Левиафан Гершеля пролил свет и на другие тусклые объекты. Наиболее важными среди них были туманности (в астрономии их называют латинским термином nebula, что означает «облако»), которые, как мы помним, Галилей считал скоплениями звезд. Несмотря на гораздо более мощный телескоп, Гершель не смог выделить в туманностях отдельные звезды. Возможно, Галилей ошибался и относительно истинной природы Млечного Пути? Этот вопрос заставил Гершеля реализовать самый амбициозный астрономический проект XVIII века — составить первую подробную карту галактики Млечный Путь, на что потребовалось несколько десятилетий кропотливого труда.
Возможно, он бы не сумел этого сделать, не будь у него секретного оружия — гениальной сестры Каролины, которая позже стала первой в истории женщиной-ученым, принятой на равных коллегами мужского пола{9}. Она не только помогала брату, но и самостоятельно открыла множество комет и ранее неизвестных туманностей (которые, что интересно, в те времена часто принимали за кометы). Она стала первой женщиной, избранной почетным членом Лондонского королевского астрономического общества и получившей от него золотую медаль, — достижение, которое лишь 200 лет спустя повторила Вера Рубин.
Когда Гершель закончил составление своей карты Млечного Пути, космическое эго человечества было реабилитировано. Солнечная система гордо красовалась посреди огромного массива звезд (рис. 6). Коперник опровергнут: все-таки мы были в центре всего, что за пределами нашей Солнечной системы.
Самонадеянность Гершеля простительна: он пал жертвой мощной оптической иллюзии. Чтобы объяснить это, воспользуюсь правом дипломированного физика и сравню туманность с облаком. Одна старая научная шутка о том, как физик пытался решить проблему коровы, не дающей молока, начинается со слов: «Возьмем корову сферической формы…» Хотя я никогда в жизни не видел сферической коровы, я как пилот-любитель много раз видел сферические облака, вернее облака, которые казались мне таковыми. Когда вы летите внутри облака, то видите только на несколько метров вокруг себя, поэтому облако кажется вам белой сферической оболочкой. Многие пилоты описывают это визуальное ощущение так, как будто вы находитесь внутри шарика для пинг-понга. Эта иллюзия вызывается феноменом под названием «рассеяние Ми».
Облака состоят из крошечных молекул воздуха и более крупных молекул воды. Воздух и вода прозрачны, так что млечный эффект не связан с цветом самих молекул. Капли воды намного больше, чем длина волн солнечного света, проходящего через облако. Солнечный свет может казаться желтым, но на самом деле в нем множество цветов, что хорошо видно в радуге после дождя. Когда солнечный свет проходит через капли воды, все цвета смешиваются, и рассеянный цвет кажется белым. Помимо этого, рассеяние уменьшает интенсивность света по пути от его источника к нам.
Таким образом, какой бы причудливой ни была реальная форма облака, пилоту, который летит внутри него, она представляется сферической белой оболочкой, центрированной вокруг самолета (рис. 7.).
В 1847 году астроном Вильгельм Струве[14] обнаружил причину, по которой Гершель центрировал нашу Галактику вокруг Земли: рассеяние{10}. Вид с Земли можно сравнить с видом из кабины самолета; мы все пилоты и находимся на борту космического корабля под названием Земля. Но здесь аналогия заканчивается, поскольку вместо молекул воды, рассеивающих солнечный свет в облаке, в галактике Млечный Путь крошечные частицы межзвездной пыли рассеивают свет звезд. В какую бы сторону космоса мы ни посмотрели, количество звезд стремительно уменьшается с увеличением расстояния. Струве назвал эту комбинацию затухания и рассеяния света межзвездным поглощением, хотя он и не знал, чем именно это явление вызывается. Как бы то ни было, межзвездное поглощение мешало определить, находимся мы в центре Галактики или нет. Где бы мы ни находились, нам все равно казалось бы, что мы в центре.
На следующие несколько десятилетий в астрономической науке наступило затишье, пока астрономы не построили еще более мощные телескопы и наконец-то классифицировали туманности на два типа: содержащие отдельные звезды и очевидно состоящие из «млечности», которая не разлагается на отдельные звезды, какие бы сильные телескопы ни использовались.
В 1912 году американский астроном Весто Слайфер вернулся к любимым Галилеем Плеядам и измерил спектр туманности. Чтобы получить спектр, нужно пропустить свет через призму или дифракционную решетку (ее можно сделать, например, из компакт-диска). Проходя через такое приспособление, свет разделяется на составляющие его цвета. Разные атомы производят разные спектры излучения. Например, пары натрия при нагревании дают яркий желтый свет, поэтому их часто используют в лампах для уличных фонарей. Хотя невооруженному глазу этот свет кажется желтым, как и солнечный, если пропустить его через призму, вы увидите преимущественно желтые линии, тогда как солнечный свет состоит из множества цветов. По этой причине ученые называют спектр «химическим отпечатком пальцев», по которому можно довольно точно определить состав источника света.
Когда Слайфер разложил свет, исходящий от туманности Плеяд, цвет за цветом, он обнаружил, что спектр туманности соответствует спектру звезд, окруженных млечным свечением. Слайфер сделал вывод, что эта туманность образована звездным светом — светом от тех же звезд, рассеянным в крошечных зеркалах — частицах пыли.
Эта же пыль была причиной межзвездного поглощения и вызвала ту самую оптическую иллюзию, из-за которой Гершель считал, что мы находимся в галактическом центре. Галилей и Гершель были обмануты одним и тем же миражом. Космическая пыль затуманила первые Великие дебаты — и продолжает оставаться карой небесной для космологов вплоть до наших дней.
Вскоре после того, как была установлена причина межзвездного поглощения, астрономы вернулись к исследованию Млечного Пути в надежде преодолеть иллюзию, жертвой которой пал Гершель, и определить настоящее положение Земли внутри Галактики. Но для этого им потребовалось изобрести новый астрономический инструмент.
Космическая линейка Генриетты Ливитт
В 1918 году астроном Харлоу Шепли обнаружил специфический тип звезд внутри плотного, шаровидного их скопления, известного как шаровое скопление. Эти массивные кластеры, каждый из которых включает больше 100 000 звезд, подобны небесным сундукам сокровищ. В них сокрыты настоящие звездные бриллианты — переменные пульсирующие звезды, носящие общее название «цефеиды». Шепли мгновенно сообразил, что наткнулся на нечто действительно важное, — благодаря работе американского астронома Генриетты Ливитт.
В 1912 году Ливитт объявила о замечательном открытии. Учитывая, что излучаемый цефеидами свет пульсирует с регулярной периодичностью, Ливитт поняла, что предсказуемость изменения блеска можно использовать для измерения расстояния до далеких астрономических объектов. «Легко провести прямую линию между каждой из двух последовательностей точек, соответствующих максимуму и минимуму, — писала она, — тем самым показывая, что есть простая связь между яркостью переменных звезд [цефеид] и их периодами»{11}.
Используя эту зависимость, известную сегодня как закон Ливитт, она установила, что цефеиды функционируют как эталонные небесные хронометры. Период пульсации цефеид непосредственно связан с их светимостью: чем ярче звезда, тем медленнее она пульсирует. Цефеида с однодневным периодом имеет светимость (суммарное излучение энергии за отрезок времени) в сотню раз больше, чем Солнце. Цефеида с пятидневным периодом в десять раз ярче однодневной цефеиды.
«Прямая линия» Ливитт, по сути, стала самой длинной линейкой, придуманной человечеством. Поскольку яркость[15]любого светящегося объекта уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния до него, цефеиды стали для астрономов идеальными ориентирами, с помощью которых можно было измерить расстояние до далеких астрономических объектов. В 1918 году Харлоу Шепли сделал именно это: когда он обнаружил цефеиду с однодневным периодом на неизвестном расстоянии, которая была на четверть ярче, чем цефеида с таким же однодневным периодом, расположенная на известном расстоянии от Земли, он смог рассчитать, что более тусклая цефеида находится вдвое дальше. Это было поразительное открытие: тиканье часов превратилось в отметки на космической линейке, простирающейся далеко за пределы Солнечной системы.
Шепли использовал закон Ливитт для измерения расстояний до нескольких шаровых скоплений. Он определил их местоположение на космической карте и показал, что они никоим образом не центрированы вокруг Солнечной системы. Вместо этого они центрированы относительно некой точки недалеко от созвездия Стрельца, расположенной на расстоянии более миллиона триллионов миль от Земли. Как и Галилей с его наблюдением спутников Юпитера, Шепли использовал небесные объекты, которые не вращаются вокруг нас, чтобы избавить человека от геоцентрических иллюзий. Мы не только не находимся в центре Солнечной системы, но и наша Солнечная система не в центре галактики! Шепли разрешил вторые Великие дебаты в пользу Коперника: мы не привилегированные наблюдатели, а обитатели галактической периферии.
Итак, мы не в центре Млечного Пути. Но по крайней мере Млечный Путь — это все-таки вся Вселенная… Или нет? Конечно, нет.
Вскоре после того, как Шепли нашел настоящий центр Млечного Пути, между ним и астрономом Гебером Кёртисом начались споры о существовании других галактик{12}. Эти споры известны как Большие дебаты. (Но, хотя их так назвали, по сути, это третий этап в нашей серии дебатов о том, занимает ли человечество некое привилегированное место в космосе.)
Дебаты Кёртиса — Шепли стали первой публичной дискуссией в истории астрономии. Они бушевали на протяжении нескольких лет, когда противники атаковали друг друга, публикуя научные статьи. Шепли был загипнотизирован размерами Млечного Пути. По его расчетам, длина нашей Галактики в поперечнике составляла 300 000 световых лет (сегодня мы знаем, что эта цифра в три раза меньше). Поэтому, утверждал он, Млечный Путь — это и есть вся Вселенная.
Как Шепли, этот титан астрономии, ярый сторонник коперниканского принципа, сумевший переместить Солнечную систему из центра Галактики на периферию, мог так заблуждаться? В этом снова была виновата космическая пыль — остатки давно умерших звезд.
Роковой телескоп
Галилеев телескоп положил начало Великим дебатам. Телескоп Гершеля расширил тему дискуссии за пределы Солнечной системы на весь Млечный Путь, поместив нас в привилегированное центральное положение. Гебер Кёртис утверждал, что структура нашей Галактики слишком неоднородна, чтобы быть всей Вселенной. Но это вопроса не решало. Вот если бы ему удалось открыть другую галактику, тогда Кёртис мог бы поставить Млечный Путь на место, сбросив нашу Галактику с трона короля всей Вселенной.
Самым подходящим кандидатом на другую галактику была туманность Андромеды. Несмотря на свое название, туманность Андромеды, как нам известно сегодня, такая же галактика, как наша. Но, чтобы доказать это, Кёртису требовался точный ориентир, а он не доверял Ливитт и ее новомодным цефеидам.
В качестве такого ориентира Кёртис выбрал так называемые новые звезды — эти звезды, известные с древних времен, характеризуются внезапными резкими всплесками светимости (их называют вспышками или взрывами). Кёртис сравнил новые звезды, расположенные в туманности Андромеды, с новыми звездами в Млечном Пути. Поскольку новые звезды в туманности Андромеды были намного тусклее, по мнению Кёртиса, это означало, что либо эти звезды находились гораздо дальше, — как мы знаем, интенсивность света уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния (рис. 8), — либо он обнаружил новый класс новых звезд. Но привлечение нового феномена, чтобы решить старые проблемы, для астронома так же неудобоваримо, как фастфуд — для истинного гурмана. Конечно, так можно чего-то добиться, но потом вы себя ненавидите.
Кёртис выиграл третий раунд Великих дебатов техническим нокаутом: в целом астрономы признали, что туманность Андромеды должна находиться на очень большом расстоянии, но на каком именно, на тот момент было неизвестно. Это огромное расстояние удалось измерить лишь несколько лет спустя, причем — кто бы мог подумать! — благодаря любимым цефеидам Харлоу Шепли.
Звезда, которая потрясла космос
Ночь 5 октября 1923 года не предвещала для Эдвина Хаббла ничего необычного. Он, как всегда, находился в лаборатории Маунт-Вилсон к северу от Пасадены, Калифорния, и изучал ночное небо через огромный телескоп диаметром 254 см. Этот монстр был в два раза больше левиафана Гершеля. Астрономы управляли его неуклюжими движениями, сидя в клетке, прикрепленной сбоку телескопа. Должно быть, Хаббл ощущал себя кем-то вроде вождя маори, оседлавшего кита, чтобы исследовать таинственные глубины космоса на спине чудовища.
В тот вечер Хаббл фотографировал туманность Андромеды. Проявив фотопластинку, он увидел на ней светящийся объект, который счел обыкновенной новой звездой на окраине туманности. Хаббл видел много таких и раньше. Он спокойно пометил положение звезды на фотопластинке буквой N (nova) как обычную вспыхнувшую звезду, предположив на этом основании удаленность туманности Андромеды. Поскольку изменение яркости при вспышках новых звезд не повторяется, Кёртис, да и кто-то другой, не мог измерить точно, как далеко находится туманность Андромеды.
Оказалось, что отмеченная Хабблом звезда вовсе не новая. Спустя несколько ночей Хаббл снова вернулся к телескопу и, взглянув на тот же участок неба, с удивлением обнаружил, что яркость звезды периодически менялась. Новые звезды вспыхивают ярким светом и так же быстро меркнут, и невозможно предсказать, когда они вспыхнут снова и вспыхнут ли вообще. В отличие от этого обнаруженная Хабблом звезда пульсировала подобно тикающим часам, как цефеиды Ливитт.
Хаббл тут же понял, что может использовать эту драгоценную звезду в качестве космической линейки, как это делала Ливитт больше десяти лет назад. Он достал фотопластинку, стер букву N и вместо нее жирными заглавными буквами вывел «VAR!» — variable, или переменная звезда (рис. 9). Волнение Хаббла было понятно. Используя закон Ливитт, он смог рассчитать, что туманность Андромеды находится на расстоянии более 2,5 млн световых лет от Земли. Это расстояние в десять раз превышало диаметр Млечного Пути. Туманность Андромеды не могла находиться в нашей Галактике. Следовательно, это была отдельная, самостоятельная галактика. А это означало, что Млечный Путь не мог быть всей Вселенной, хотя предположительно и составлял важную ее часть. Еще один болезненный удар по космическому эго человечества, еще один триумф коперниканского принципа.
* * *
Сегодня мы знаем, что галактика Млечный Путь (рис. 10) состоит из трех основных частей: утолщения — так называемого балджа, тонкого диска и большого сферического гало. Шепли был прав, утверждая, что шаровые скопления находятся в гало. В центре Млечного Пути расположена массивная черная дыра — своего рода гравитационная воронка, вокруг которой вращается вся наша Галактика.
Тонкий диск, в котором находится Солнце, состоит преимущественно из молодых звезд, газа и пыли. Пыль может как отражать свет (как это происходит в туманности Плеяд), так и поглощать его, как поднимающийся из трубы дым. В пылевых спиральных рукавах диска формируется бо́льшая часть новых звездных систем, и именно в диске пыль поглощает больше всего света. Шепли не учел, что шаровые скопления и их цефеиды находятся в относительно беспылевых зонах, в отличие от цефеид в диске, которые он использовал как ориентиры для измерения размеров Галактики. Темные пылевые регионы поглощают свет от удаленных источников и делают его слабее, чем он есть на самом деле, точно так же, как через запыленное стекло уличный фонарь кажется тусклее, чем через чистое (рис. 11). Если не сделать поправку на запыленное стекло, можно решить, что уличный фонарь находится гораздо дальше, чем в реальности.
Марку Твену приписывают знаменитое высказывание: «История не повторяется, она рифмуется». В астрономической саге последних веков пыль присутствовала в каждой ее строфе. Пыль вводила в заблуждение величайших астрономов в истории, от Галилея до Гершеля и Хаббла, и продолжит свои божественные рифмы в грядущих дебатах. Из пыли мы пришли, в пыль и уйдем.
Глава 4. Большой взрыв — большие проблемы
Каждый из нас либо старается оправдать надежды своего отца, либо повторяет его же ошибки.
Барак Обама. Дерзость надеждыЭдвин Хаббл был не из тех, кто разочаровывал своего отца. Настоящее воплощение родительской мечты: блестящий ум, подающий надежды спортсмен, он стал одним из первых получателей престижной стипендии Родса в Оксфордском университете. Хотя Хаббл с детства увлекался астрономией, он подчинился воле отца, желавшего, чтобы сын делал карьеру в такой области, в которой мог сделать себе имя. Так Эдвин взялся за юриспруденцию, но между усердными занятиями юриспруденцией выкраивал время на лекции по астрономии: зов звездных сирен был слишком силен, чтобы Хаббл мог его игнорировать. Вскоре после смерти отца в 1913 году он бросил юридическую практику, по слухам заявив: «Лучше я буду второразрядным астрономом, чем перворазрядным адвокатом».
Как мы уже знаем, Эдвин Хаббл стал далеко не второразрядным астрономом. В 1923 году, всего через пять лет после получения докторской степени (перед этим Хаббл ушел добровольцем в армию и к концу Первой мировой войны дослужился до звания майора), он сделал одно из величайших открытий в истории астрономии, перевернув представления о том, что раньше считалось обычной туманностью, и признав в ней целую галактику — нашего ближайшего соседа Андромеду. Но даже этого титанического деяния ему было мало.
Хаббл начал охотиться за цефеидами за пределами нашей Галактики. Чем больше таких цефеид — и галактик — он находил, тем больше становилась наша Вселенная. Используя метод спектрального анализа излучения астрономических объектов, усовершенствованный Весто Слайфером, Хаббл обнаружил, что может измерять не только расстояние, но и скорость движения галактик. Слайфер пытался это делать еще в 1917 году{1}. На тот момент астрономы уже открыли феномены синего и красного смещения: спектр излучения астрономического объекта кажется более синим, если объект приближается к нам, и более красным, если удаляется. Это явление — оптический аналог хорошо знакомого нам акустического эффекта Доплера, который объясняет, например, почему при приближении машины скорой помощи звук сирены становится более высоким, а при удалении — более низким. Красное и синее смещение проявляется в виде заметного сдвига спектральных линий в красную или синюю сторону на спектрограммах (так называются фотографии спектров астрономических объектов).
Хаббл начал с туманности Андромеды и обнаружил, что та медленно, но верно приближается к Млечному Пути. Это было вполне объяснимо, поскольку галактики находятся под действием взаимного гравитационного притяжения. Такое же сближение наблюдалось и с некоторыми другими близлежащими галактиками. Вселенная стала казаться понятной. Пока в один прекрасный день все не изменилось.
* * *
В 1922 году, за год до того, как Хаббл открыл свою знаменитую цефеиду VAR! Эйнштейн получил Нобелевскую премию. Назвать эту награду разочаровывающей было бы преуменьшением; предстоящий приз он обещал передать к тому времени уже бывшей жене Милеве, что было оговорено условиями их развода в 1918 г.{2} Хотя многие считают, что Эйнштейн получил премию за создание специальной теории относительности, на самом деле это было не так. Не стало предметом награды и второе его крупнейшее достижение — общая теория относительности, которая описывает, как массивные объекты искривляют ткань пространства-времени, влияя тем самым на траекторию движения света в космосе. Ученые мужи в Нобелевском комитете сочли эти два чисто теоретических открытия «еврейской физикой, вводящей мир в заблуждение». В действительности Эйнштейн получил нобелевское золото за объяснение фотоэлектрического эффекта — феномена, открытого лауреатом Нобелевской премии 1905 года Филиппом Ленардом. Нежелание Нобелевского комитета присуждать высокую научную награду за общую теорию относительности отчасти было понятным: даже сам Эйнштейн не до конца сформулировал ее выводы.
Вскоре после завершения работы над общей теорией относительности в 1916 году Эйнштейн продемонстрировал, что она позволяет объяснить явления, которые не мог объяснить закон всемирного тяготения Ньютона (предложенная в XVIII веке теория, описывающая гравитационное притяжение), например, некоторые странные особенности орбиты Меркурия. В следующем году Эйнштейн сделал еще более смелый шаг. Он решил проверить, действуют ли законы ОТО за пределами Солнечной системы. В конце концов, если принцип Коперника верен, ОТО должна быть применима ко всей галактике Млечный Путь, которая в те времена считалась всей Вселенной.
Увы, Эйнштейн сразу же столкнулся с проблемой. Согласно уравнениям ОТО, Вселенная должна была со временем уменьшаться из-за гравитационного притяжения поля всех звезд. Но Млечный Путь вовсе не сжимался; звездная спектроскопия показывала, что далекие звезды двигались как в сторону Земли, так и прочь от нее. Поэтому Эйнштейн модифицировал свою теорию в соответствии с наблюдаемыми свойствами космоса. Как вы помните, это было задолго до открытий Хаббла, когда все, включая Эйнштейна, считали, что космос за пределами Солнечной системы и горстки соседних звезд неподвижен. Чтобы согласовать модель ОТО со стационарной Вселенной, он ввел в свои уравнения поправочный коэффициент, позже названный космологической постоянной, который предполагал существование своего рода «антигравитации» и таким образом объяснял странное нежелание Вселенной уменьшаться в размерах. На какой-то момент во Вселенной воцарилось равновесие.
В 1922 году, уже после того, как Эйнштейн получил Нобелевскую премию, российский космолог Александр Фридман заинтересовался моделью Эйнштейна. Фридман задался вопросом: что, если включить в уравнения ОТО всю материю и энергию, которые есть во Вселенной? К своему изумлению, он обнаружил, что космос должен либо сжиматься, либо расширяться, но не может быть стационарным, как утверждал Эйнштейн в 1917 году. Сжатие хорошо объяснилось гравитацией. Но Фридмана заинтриговала идея расширения: как такое могло происходить?
К сожалению, жизнь Фридмана оборвалась слишком рано, чтобы он сумел раскрыть эту тайну. В 1925 году, возвращаясь из свадебного путешествия, он заразился брюшным тифом и умер в возрасте 37 лет. Тем не менее его блистательные научные идеи были подхвачены двумя выдающимися космологами — в то время аспирантом Георгием (Джорджем) Гамовым и бельгийским католическим священником и астрономом Жоржем Леметром, преподававшем в Лёвенском католическом университете.
В 1927 году Леметр изучал следствия модели Фридмана: что, если Вселенная действительно не сжимается, а расширяется?
Эйнштейн высмеял идею Леметра, назвав ее «вопиюще» неправильным применением его теории. Учитывая скудость внегалактических наблюдений на тот момент, такой приговор был отчасти объясним. Действительно, к 1927 году уже было открыто множество других галактик, находящихся за пределами Млечного Пути и туманности Андромеды, и их спектры все чаще показывали красное смещение, что означало, что больше половины из них удалялись от нас. Тем не менее эти попытки доказательства расширения Вселенной едва ли были убедительны. Леметр опирался на очень неточные и неполные данные.
К сожалению для Леметра, Хаббл тоже занимался этой темой и, в отличие от бельгийского священника, был вооружен самым мощным телескопом в мире — 254-сантиметровым монстром на горе Вилсон, с помощью которого он мог измерять такие непостижимо огромные космические расстояния, как то, что отделяет нас от туманности Андромеды.
К вопросу о спектре
В 1929 году, после нескольких лет погони за цефеидами и спектроскопических исследований, Хаббл смело сформулировал закон: чем дальше от нас находится галактика, тем с большей скоростью она удаляется{3}. Это было дерзкое утверждение, поскольку данных на тот момент имелось недостаточно. Однако подчас даже несовершенные теории позволяют делать правильные описания, как это было в случае гелиоцентрической гипотезы Галилея или предположения Шепли о гигантских размерах Млечного Пути. Часто даже несовершенные данные подкрепляют хорошую теорию. (Предостережение для моих коллег-космологов: такое случается крайне редко!) В конечном счете зависимость между скоростью удаления галактик и расстоянием до них стала называться законом Хаббла[16]. Отец Эдвина Хаббла мог бы гордиться своим сыном: хотя тот не стал известным адвокатом, его именем был назван важный закон.
Из закона Хаббла вытекало, что Вселенная не только находится в динамичном движении, но и расширяется наподобие воздушного шара (рис. 12). В это было трудно поверить. Казалось, это нарушает коперниканский принцип: неожиданно мы опять стали особенными, если почти всё в космосе удаляется от нас в разные стороны. Представьте, что вы находитесь на многолюдной вечеринке, где половина танцующих удаляется от вас, а половина приближается к вам. А теперь представьте, что все танцующие удаляются от вас: вы можете сделать вывод, что с вами что-то не так. Но с расширяющейся Вселенной Хаббла было еще хуже. Из расширяющейся модели следовал поистине безумный вывод: если повернуть часы назад, то у Вселенной было начало — момент, до которого не существовало ни Вселенной, ни времени! Это превосходило самые дерзкие научные фантазии. Куда комфортнее было верить в то, что Вселенная вечна, без начала и конца, и списать разбегание галактик на простую оптическую иллюзию. Даже Эйнштейн много лет спустя после публикации наблюдений Хаббла в 1929 году продолжал придерживаться теории вечной Вселенной{4}. Таким образом, Хаббл открыл четвертый раунд Великих дебатов: находится ли человечество не только в самом удачном месте, но и в самое удачное время в истории Вселенной.
Первые количественные данные, полученные космологами, при всей их неточности ясно показывали: наша Вселенная меняется. Но, подобно тому как наблюдения Галилея не доказывали гелиоцентрическую модель, а опровергали представление о том, что Земля находится в центре Солнечной системы, наблюдения Хаббла опровергали стационарную модель Вселенной, но не доказывали, что у Вселенной было начало. Даже если у Вселенной действительно было начало, как мы можем об этом узнать? И что вообще могло привести к рождению Вселенной?
В гениально провидческой статье, опубликованной в 1931 году в журнале Nature, Леметр представил предтечу теории, известной нам сегодня как теория Большого взрыва. Кстати, термин «Большой взрыв» был придуман не им — кем, вы вскоре узнаете. Леметр назвал свою модель «гипотезой первичного атома», утверждая, что Вселенная могла возникнуть «из единственного атома, атомная масса которого равняется всей массе Вселенной». Он предположил, что процесс рождения Вселенной представлял собой стремительное расширение (хотя вся заслуга за эту гипотезу приписывается Хабблу).
Леметр не только первым описал Большой взрыв, но и впервые выдвинул некоторые идеи о том, что мы теперь называем квантовой гравитацией. Это теория, связывающая эйнштейновские гравитационные взаимодействия с квантовой механикой — законами физики, описывающими поведение субатомных частиц, таких как фотоны и электроны. Однако Леметру пришлось поплатиться за свое научное провидение. Идея квантового происхождения Вселенной слишком опередила свое время, чтобы научное сообщество восприняло ее всерьез. В 1930-е годы сама квантовая механика только-только начала делать первые шаги, и ее объединение с теорией гравитации до сих пор остается для физиков недостижимой мечтой. Таким образом, к концу 1930-х годов четвертый этап Великих дебатов по-прежнему происходил в отсутствии жюри.
В любой неудаче начало, безусловно, половина дела.
Джордж ЭлиотГипотеза Леметра о том, что Вселенная родилась из материи и энергии, сжатых в одну, вероятно бесконечно малую точку, пошатнула тысячелетние представления о вечности и неизменности космического мироздания. Из нее вытекало, что в прошлом Вселенная была меньше и плотнее, а до какого-то момента и вовсе не существовала. Вместе с наблюдениями Хаббла гипотеза первичного атома Леметра породила четыре серьезные проблемы как физического, так и философского свойства.
Проблема № 1: пространство. Закон Хаббла устанавливал прямо пропорциональную зависимость между расстоянием до далекой галактики (измеренным на основе закона Ливитт) и скоростью ее удаления (измеренной с помощью открытого Слайфером эффекта красного смещения спектра). Прямая пропорциональность означала, что галактика, находящаяся на расстоянии 10 млн световых лет, удаляется от нас в два раза быстрее, чем галактика, расположенная на расстоянии 5 млн световых лет. Эту зависимость можно инвертировать: измерив расстояние и скорость удаления галактик сегодня, мы можем «перемотать» историю Вселенной назад и определить время, когда все галактики во Вселенной «соприкасались» друг с другом. Но эта логика в конце концов приводит нас к заключению, что, когда начиналось расширение, Вселенная была бесконечно мала. Ограниченное вещество, сжатое в бесконечно малом объеме, означает, что космическая плотность была неограниченной, как и температура.
Но такое состояние ничем не подтверждалось. Казалось невероятным, что Вселенная эволюционировала от состояния полной бесконечности (например, бесконечной плотности) к состоянию с конечными значениями тех же физических свойств. Как можно быть уверенным в том, что сами законы физики остались бы неизменными в ходе такого события? Например, могли ли сохраняться в бесконечно плотной и горячей ранней Вселенной такие фундаментальные константы, как скорость света? Если нет, теория заходит в тупик.
Проблема № 2: время. Опираясь на очень неточные и неполные данные, Хаббл неправильно рассчитал скорость галактик — он завысил ее в семь раз по сравнению с сегодняшней оценкой. Такая скорость предполагала, что разбегание галактик должно было начаться относительно недавно. Это привело к тому, что Хаббл значительно недооценил возраст Вселенной, определив его всего в 2 млрд лет — ровно в семь раз меньше, чем считают современные ученые. Что ввело Хаббла в заблуждение? Как и Гершель и Шепли, он пал жертвой вездесущего бича Вселенной — космической пыли. Пыль затмевала свет драгоценных цефеид, которые Хаббл использовал для своих измерений, заставляя их казаться более удаленными, чем они были на самом деле{5}.
Из-за этих грубых ошибок в измерениях Вселенная Хаббла получилась слишком стремительной и слишком молодой: она была моложе некоторых существующих в ней звезд и даже моложе Земли, возраст которой был довольно точно установлен в 1930-х годах. Хаббловская оценка вызвала у космологов смущение сродни тому, которое испытывает пасынок при мысли, что он старше новой жены своего отца.
Проблема № 3: материя. Модель Леметра не могла объяснить, каким образом во Вселенной из ничего возникла материя. В своей статье 1931 года Леметр предвосхитил модную сегодня теорию «Вселенной из ничего», ссылаясь на «квантовые колебания» первичного атома как на возможный механизм происхождения космоса. Но, как и сегодня, так и тогда, физики с подозрением отнеслись к идее рождения Вселенной ex nihilo. Слишком уж сильно это напоминало библейское сотворение мира. Несмотря на то что Леметр был католическим священником, теологические обертоны модели немало его смущали, и он всеми силами старался от них дистанцироваться{6}. Но их было невозможно игнорировать.
Проблема № 4: принцип. Хуже всего было то, что модель Леметра шла вразрез с предположением, которое астрономы называют «совершенным космологическим принципом», распространяющим принцип Коперника за пределы Солнечной системы на всю Вселенную. Совершенный космологический принцип всего лишь развивает идею заурядности точек в пространстве применительно к событиям в пространстве и времени, т. е. в пространстве-времени. (Согласно теории относительности Эйнштейна, пространство и время представляют собой единое целое.) Таким образом, рождение Вселенной — самое особое событие в ее истории — противоречит совершенному космологическому принципу, который утверждает, что ни одна точка в пространстве и ни одно событие во времени не могут претендовать на какую бы то ни было исключительность.
Британский космолог Фред Хойл счел гипотезу первичного атома Леметра настолько возмутительной, что в 1949 году в насмешку окрестил ее Big Bang, подразумевая, очевидно, британский эвфемизм для оргазма. Но ему было мало высмеять модель Леметра — Хаббла. Вместе со своими коллегами Томми Голдом и Германом Бонди Хойл решил разработать собственную альтернативную модель, такую, которая разрешила бы все эти сбивающие с толку проблемы.
Те, кто не изучает прошлое, обречены его повторить.
Джордж СантаянаХойл, Голд и Бонди сдружились в Британском адмиралтействе, где работали во время Второй мировой войны. Однажды вечером, уже после войны, они посмотрели фильм «Глубокой ночью» (Dead of Night), положивший начало новому жанру психологического хоррора. В картине кошмарный сон повторяется в виде событий реальной жизни, которые, в свою очередь, оказываются кошмарным сном. Кажется, главный герой обречен переживать этот цикл снова и снова, в вечном дежавю.
Фильм потряс Голда. Ученый задался вопросом: а что, если существует некое подобие «космической репетиции», повторяющийся цикл, который можно рассматривать как альтернативу Большому взрыву? Вскоре он показал, что вечная Вселенная, постоянно создающая новую материю, позволяет объяснить удаление далеких галактик, которое обнаружил Хаббл. В вечной Вселенной нет неловких проблем с возрастом и нет нарушения совершенного космологического принципа. Модель получила название теории стационарной Вселенной. Сама идея была далеко не нова, появляясь в различных вариациях на протяжении тысячелетий; новым в этой модели было то, что она предполагала непрерывное образование новой материи по всему космическому пространству.
Модель стационарного состояния Вселенной была полной противоположностью модели Большого взрыва. Если Большой взрыв предполагал некое начало, то стационарная модель в таковом не нуждалась. В первой модели Вселенная молода, даже слишком молода; во второй она вечна. И если Большой взрыв подразумевал, что весь космос произошел из «первичного атома», то в стационарной модели такой бессмыслицы не было.
Тем не менее в модели стационарной Вселенной также не обошлось без ухищрений. Поскольку изменение Вселенной во времени было практически установленным фактом, приверженцы модели позволили космосу со временем меняться, но постулировали непрерывное образование небольшого количества новой материи, которая обеспечивала постоянную плотность космического пространства. Они утверждали, что такое образование материи — очень малыми темпами — гораздо правдоподобнее, чем возникновение из бесконечно малой точки в ходе единичного события. Хойл поэтически описывал это как «один атом в столетие в объеме, равном Эмпайр-стейт-билдинг». Такое количество новой материи невозможно обнаружить экспериментальным путем, что надежно защищало модель от опровержения путем наблюдений.
Так откуда же берется новая материя в модели стационарной Вселенной? Она материализуется из пустого пространства и конденсируется, формируя звезды в ходе ядерного синтеза, который в конце 1940-х годов еще был плохо изучен. Таким образом, расширяющаяся Вселенная постоянно рождает новые галактики, при этом каким-то магическим образом сохраняя среднее расстояние между ними. Это было довольно изощренно и витиевато, но для многих ученых более приемлемо, чем идея происхождения Вселенной ex nihilo (из ничего), как это предполагала теория Большого взрыва.
Модель стационарного состояния Вселенной позволяла объяснить даже открытую Хабблом зависимость между расстоянием и лучевой скоростью. Наконец, она полностью подчинялась принципу Коперника и, уж конечно, не напоминала теорию сотворения мира из Книги Бытия, 1: 1.
Модель вечной Вселенной, циклически повторяющей процесс творения, по одному атому за раз, в глубинах космической ночи, могла посоперничать с самыми дерзкими голливудскими сценариями и требовала немалой доли художественного воображения.
В 1948 году Голд и Бонди опубликовали описательную версию модели стационарного состояния Вселенной, а Хойл — отдельно — количественные расчеты, дополнявшие описание техническими деталями. Их теория разрешала все четыре фатальные проблемы теории Большого взрыва. Отныне на ринге Великих дебатов появилось два сильных соперника. Хотя две модели были почти полными противоположностями друг друга, у каждой имелись свои сильные стороны и свои явные недостатки. Что разрешит исход противостояния?
Некоторые любят погорячее
Существуют ли какие-то следы, некое подобие археологических источников, с помощью которых космологи смогли бы изучить историю Вселенной? В 1948 году, когда была постулирована теория стационарной Вселенной, Джордж (Георгий) Гамов и его аспирант Ральф Альфер открыли необычные космические часы, впрочем больше напоминавшие термометр, чем хронометр. Это было ядро изотопа водорода под названием дейтрон, которое позволило ученым заглянуть в прошлое, а именно в период между одной секундой и примерно 20 минутами после гипотетического Большого взрыва, который стал самым хорошо изученным этапом в космологической истории.
Гамов предположил, что понимание того, как сформировались самые легкие атомы в периодической таблице Менделеева (помните школьные уроки химии?), может пролить свет на события ранней Вселенной. Если Большой взрыв действительно был, то оставшиеся от него следы должны быть самыми легкими, самыми маленькими и самыми простыми по строению атомами, состоящими из минимального количества протонов и нейтронов. Эти легкие атомы были единственными «реликтами», возраст которых могли установить космические археологи. Гамов и Альфер показали, что относительное изобилие химических элементов может служить своего рода времязависимым термометром, который был наиболее чувствителен в период горячей Вселенной сразу после Большого взрыва.
В 1932 году американский физик Гарольд Юри открыл дейтерий (лат. deuterium — второй), чье название указывает на то, что ядро состоит из двух частиц. (Ядро атома водорода содержит один протон, дейтерий по химическому составу идентичен «разновидности» водорода, изотопу, ядро которого содержит протон и нейтрон.) Дейтрон, как называется ядро дейтерия, фактически представляет собой половину ядра гелия. Следовательно, кулинарный рецепт приготовления ядра гелия мог бы звучать так: «Возьмите два дейтрона и запекайте их при температуре в несколько миллиардов градусов в течение минуты». Тепловое излучение этой раскаленной печи, состоящее из частиц света (фотонов), способно прижать два дейтрона друг к другу достаточно сильно, чтобы преодолеть силу электрического отталкивания между двумя положительно заряженными протонами. (Конечно, реальный процесс образования гелия немного сложнее, но суть его такова.) Однако в этом кулинарном рецепте есть два критических условия. При малейшем превышении определенного порога температуры — примерно в 10 млрд градусов Цельсия — основной ингредиент, дейтрон, распадается на части. Следовательно, чтобы создать ядро гелия, температура должна быть выше нескольких миллиардов градусов, но ниже 10 млрд градусов. И вторая сложность: нестабильность нейтрона. Если он не связан с протоном в течение примерно десяти минут, происходит его радиоактивный распад.
Таким образом, чтобы во Вселенной осталось хоть сколько-нибудь дейтерия, строительного материала для гелия, а также свободных нейтронов, необходимых для формирования новых дейтронов, ее температура должна была упасть ниже магического порога в 10 млрд градусов за довольно короткое время — менее чем за 600 секунд. Благодаря неустойчивости нейтронов дейтерий стал для ученых температурозависимыми «часами» — термохронометром. Но что могло вызвать такое быстрое охлаждение от бесконечных температур до этой высокой, но все же конечной температуры? Расширение Вселенной. При расширении все охлаждается — например, вы сталкиваетесь с этим, когда распыляете аэрозоль. Когда выпускается содержимое баллончика, газ внутри него становится менее плотным и металлическая поверхность охлаждается.
Пока снижение температуры Вселенной не преодолело планку в 10 млрд градусов, кишащие в раскаленной плазме фотоны мгновенно разбивали любые образующиеся дейтроны, таким образом обрывая в самом начале цепочку реакций, ведущую к синтезу гелия. Как только Вселенная немного остыла, началось стремительное образование гелия. Но строительный ядерный бум продлился недолго. Через 20 минут после того, как началось охлаждение с бесконечных температур, все было кончено: Вселенная стала слишком холодной, чтобы сплавлять дейтроны в ядра гелия, и процесс, показанный на рис. 14, подошел к концу. С тех пор количество первозданного гелия в космосе оставалось неизменным. Только представьте: за отрезок времени короче одного эпизода сериала «Теория Большого взрыва» образовались почти все легкие элементы во Вселенной!
Три самых легких ядра — дейтроны и ядра водорода и гелия — стали древними артефактами, с помощью которых можно было протестировать модель Большого взрыва{7}. В 1949 году Гамов и Альфер предсказали, что на каждое ядро гелия должно приходиться 12 ядер водорода плюс небольшое количество остаточного дейтерия (который в то время астрономы не умели обнаруживать). Наблюдения за звездами в Млечном Пути в значительной степени согласовывались с этим прогнозом. Ободренные этим подтверждением, Гамов и Альфер пошли еще дальше и предположили, что все элементы, даже углерод, основа жизни, могли быть образованы в первые несколько минут после Большого взрыва в огненном шаре ранней Вселенной.
Позже Альфер и его коллега Роберт Херман выдвинули предположение, что процесс охлаждения Вселенной продолжается по сей день. При этом тепло, оставшееся от первоначального огненного шара, и сегодня подогревает космос до температуры в 5 кельвинов — на пять градусов выше абсолютного нуля по шкале Цельсия. Мы можем увидеть это тепло в виде микроволнового фонового излучения, равномерно заполняющего всю Вселенную.
Идея, что Вселенная превратилась из некогда кипящей и бурлящей точки сингулярности — состояния материи и энергии, с которого все началось, — в ледяную ванну из света, окружающего нас повсюду, была слишком нелепа, чтобы воспринимать ее всерьез. На самом деле только один космолог воспринял эту идею как вызов: Фред Хойл. И он сделал все, чтобы ее опровергнуть.
Опровержение творения
Теория образования химических элементов Альфера — Гамова — Хермана, впоследствии получившая название первичного нуклеосинтеза, для Хойла была неудобоварима: он не сомневался, что все можно объяснить в рамках модели стационарной Вселенной. Сделав это, он не только покончит с конкурирующей теорией космогенеза, но и впишет свое имя в историю космологии.
К четырем первородным грехам теории Большого взрыва Хойл добавил еще два. Во-первых, он доказал, что модель нуклеосинтеза Большого взрыва могла привести к образованию только трех самых легких элементов в периодической таблице: водорода, гелия и лития (имеющего в ядре три протона) и их изотопов. Большой взрыв, предположительно, начался с расширения Вселенной из ничтожно малой частицы, содержавшей зародыши легких элементов, которые, в свою очередь, стали строительным материалом для более тяжелых. Но модель Большого взрыва не предусматривала синтез элементов тяжелее лития. Теория, способная объяснить образование всего трех из почти сотни известных на тот момент элементов и изотопов, т. е. всего 3 %, вряд ли могла внушать доверие. Но Хойл на этом не остановился.
Вторая атака Хойла была направлена на предположение Альфера и Германа о том, что оставшееся от огненного шара тепло можно наблюдать в форме микроволнового фона температурой 5 кельвинов. Здесь тоже была проблема. Поскольку при расширении все охлаждается, а Вселенная в модели Большого взрыва все время расширялась, занижение Хабблом возраста Вселенной привело к тому, что Альфер и Герман (и позже Гамов) значительно завысили температуру этой микроволновой ванны. Чем моложе Вселенная, тем теплее она должна была быть. Оценка Альфера и Германа оказалась почти в два раза выше, чем могла быть максимальная температура фона Вселенной согласно измерениям, сделанным в 1941 году{8}.
Хуже того, через год они опубликовали другой прогноз, повысив космическую температуру с 5 до 28 кельвинов{9}. Такая игра с цифрами никак не способствовала доверию к их модели{10}. Напротив, модель Хойла не имела теплового фона, не говоря уже о микроволновом свечении, которое не соответствовало наблюдаемым данным и менялось с каждой последующей публикацией.
Но Хойл не просто опровергал модель Большого взрыва. Он предложил собственную альтернативную гипотезу о том, как могли сформироваться все химические элементы, не только первые три. Хойл был уверен, что все они образовались внутри звезд. Это была критическая проблема, которую модель Большого взрыва так и не сумела разрешить. Напомним: чтобы объяснить происхождение всех элементов, необходимо объяснить не только процесс их образования, но и то, откуда берутся новые ядра. Хойл поместил источник генерации новых ядер в самое логичное место в космосе — в звезды. И вскоре он продемонстрировал, каким образом звезды могут производить самый важный элемент для жизни во Вселенной — углерод.
В 1954 году Хойл показал, что для образования углерода должно было произойти чудо{11}. Конечно, он не называл это именно так. Но, учитывая тот факт, что все мы состоим из углерода и нигде во Вселенной не обнаружены ядра с такими атомными массами, из которых мог бы образоваться углерод, Хойл пришел к выводу, что внутри звезд должно существовать особое состояние материи, которое каким-то образом катализирует преобразование гелия в углерод. Это особое каталитическое состояние, которое он назвал «резонансом», теперь известно как состояние Хойла (рис. 15). Не будь состояния Хойла, некому было бы сейчас читать эту книгу.
Три года спустя группа исследователей из Калтеха, возглавляемая Вилли Фаулером, обнаружила и подтвердила этот физический процесс{12}. Хойл оказался прав: углерод может создаваться только внутри звезд. Чудеса бывают.
Успех ободрил Хойла. Он не просто опроверг теорию Большого взрыва, не просто забил шестой и, вероятно, последний гвоздь в крышку ее гроба. Он выдвинул смелое предположение, которое могло оказаться ошибочным, однако этого не случилось.
В 1957 году Хойл начал проект, который впоследствии привел к Нобелевской премии, хотя и не для него. Работая вместе с Вилли Фаулером и Джеффом и Маргарет Бербидж, Хойл придумал комплексную модель образования всех элементов внутри звезд — звездного нуклеосинтеза в противоположность нуклеосинтезу Большого взрыва, которая оказалась умопомрачительно сложной, но удивительно эффективной. В своей эпохальной статье, опубликованной в 1957 году и известной как статья ББФХ по инициалам ее авторов, квартет изложил общую теорию термоядерного синтеза, который может протекать внутри различных типов звезд и приводить к образованию всех известных элементов. Важнейшая часть работы легла на хрупкие женские плечи Маргарет Бербидж, единственного астронома в команде, которая собрала наблюдаемые данные для подтверждения теоретической модели и навечно поместила квартет ББФХ в Зал научной славы (попутно обеспечив нобелевское золото Фаулеру).
Между тем Гамов и его бывший аспирант Альфер не оставляли попыток найти свидетельства Большого взрыва. На самом деле потребовались годы наблюдений, чтобы достичь изощренности конкурирующей модели стационарной Вселенной или убедительности доказательств чуда Хойла. Хойл был беспощаден. В окончательном варианте статьи ББФХ он заявил, что формирование легких элементов в альтернативной модели Большого взрыва требует «состояния Вселенной, никаких доказательств которого у нас нет». Напротив, звездный нуклеосинтез был обычным процессом во Вселенной, который подтверждался более чем 100 млрд примеров в одной только нашей Галактике.
Еще больше трещин в модели Большого взрыва
В статье ББФХ утверждалось, что все химические элементы могут образовываться в звездах, если они обладают достаточной массой. Гамов же, применительно к Большому взрыву, настаивал, что ядра сформировались задолго до рождения каких бы то ни было звезд, не говоря уже о массивных{13}. Более того, Гамов считал, что большие звезды умирают молодыми, поэтому у них просто недостаточно времени, чтобы произвести тяжелые элементы. Но в 1958 году астрофизик Эдвин Солпитер доказал, что, несмотря на короткий срок жизни, массивные звезды могут производить тяжелые элементы, и на самом деле многие из них именно это и делают. Модель стационарной Вселенной выдержала очередную проверку, а модель Большого взрыва получила еще одну трещину. Если последняя не способна объяснить формирование тяжелых элементов, как можно доверять тому, что она говорит о легких элементах?
Наконец, последний вопрос, вызывавший жаркие споры между сторонниками конкурирующих теорий космогенеза, имел отношение не столько к науке, сколько к религии. Креационистские обертоны теории Большого взрыва отталкивали многих ученых-атеистов. По словам Хойла, это был наихудший пример ненаучного заблуждения: «Большой взрыв может нравиться только тем ученым, чей разум затуманен Книгой Бытия». Напротив, модель стационарного состояния Вселенной была законным наследником коперниканского принципа, присовокупляя к заурядности человечества в пространстве его заурядность во времени. Благодаря Хойлу человечество познало истинное смирение. Вряд ли ставки были выше со времен первых Великих дебатов, когда Галилей противостоял самой Церкви.
Какое-то время казалось, что Большой взрыв обречен обернуться горой астрономического пепла. Но в 1964 году случилось неожиданное: подобно супертяжеловесу, сбитому с ног в финальном раунде, модель стационарной Вселенной получила два сокрушительных удара.
Первый удар исходил от самих авторов модели. В опубликованной осенью 1964 года статье «Загадка космического изобилия гелия» Фред Хойл и его коллега Роджер Тайлер объявили об удивительном открытии{14}. Изучив множество астрофизических источников, от Солнца до туманности Ориона, они обнаружили, что в космосе слишком много гелия — намного больше, чем могло образоваться исключительно внутри звезд. Хотя Хойл, Фаулер и Бербиджи в 1957 году показали, что звезды способны создавать все известные элементы и их изотопы, существовала одна проблема: звезды не могли производить достаточное количество второго по важности строительного материала — гелия. Звезды были подобны кустарным мастерским, неспособным масштабироваться до массового производства.
Хойл, который прежде заявлял, что у конкурирующей модели Гамова и Альфера «нет никаких доказательств», сам нашел пусть и косвенное, но все же свидетельство в ее пользу. В статье 1964 года он делал вывод, что «Вселенная либо имела сингулярное происхождение, либо имеет колебательную природу». Это заключительное утверждение поставило модель стационарного состояния на край пропасти: «сингулярное происхождение» по сути было эвфемизмом «Большого взрыва».
20 мая 1964 года новый тип телескопа, исследовавший небо над Нью-Джерси, вынес окончательный приговор модели стационарной Вселенной. Если зрительная труба Галилея в свое время подтвердила принцип Коперника, то этот телескоп нанес ему смертельный удар.
Коммуникационные сбои
В то время как 1960-е годы стали периодом серьезных потрясений для американского общества, для физики они были поистине золотым веком. Как ни парадоксально, от холодной войны между США и СССР научный мир получал щедрые дивиденды. Запуск Советским Союзом первого искусственного спутника на орбиту Земли заставил правительство США вливать деньги в любые проекты, дающие хотя бы малейшую надежду на потенциальное военное превосходство. Тогда же наступила новая эра в финансировании науки в частном секторе, а такие компании, как Kodak, Bell Labs и IBM, начали играть роль современных Медичи.
В Bell Labs — в те времена это было исследовательское подразделение телекоммуникационного конгломерата AT&T — построили огромную радиоантенну особой конструкции в виде рупора диаметром 6 м. Предназначалась она не для радиоастрономии, а для межконтинентальной связи и вместе с гигантским воздушным шаром с металлизированной оболочкой должна была использоваться в проекте НАСА с говорящим названием «Эхо». Идея проекта была проста: посылать из лаборатории реактивного движения в Пасадене, Калифорния, радиоволны, чтобы, отражаясь от наполненного гелием воздушного шара, находящегося на большой высоте, они возвращались на антенну Bell Labs. Успех проекта «Эхо» оказался под вопросом, так как интенсивность радиоволн стремительно снижалась с расстоянием, что существенно затрудняло прием трансконтинентальных радиосигналов.
Технические проблемы программы были существенны, а запуск советского спутника и вовсе свел ее на нет{15}. Американское правительство опасалось, что Соединенные Штаты могут проиграть не только космическую, но и телекоммуникационную гонку. Размещение передатчика в космосе позволяло решить многие из проблем, связанных с воздушными шарами. Поскольку передатчик мог усиливать радиоволны, сигналы, передаваемые им обратно на Землю, были намного сильнее. И находивший в космосе спутник становился видимым на принципиально бо́льших расстояниях. Ответом США Советскому Союзу стал первый активный спутник связи Telstar. Антенна Bell Labs с ее сверхчувствительной детекторной системой осталась не у дел, но, к счастью, ей нашли другое применение. Два радиоастронома, Арно Пензиас и Роберт Уилсон, быстро перековали телекоммуникационные мечи на космологические орала. Массивную рупорную антенну они приспособили под телескоп для астрономических наблюдений, который в скором времени нанес второй смертельный удар по стационарной космологической модели Хойла.
В поисках ничто и не там, где надо
Пензиас и Уилсон были радиоастрономами и специализировались на радио- и микроволновой части электромагнитного спектра — на электромагнитных волнах с длиной волны от 1 м до 1 мм, что соответствует частотам от 300 МГц до 300 ГГц. Во время обучения в Калтехе Уилсон посещал лекции по космологии самого Фреда Хойла в тот период, когда тот вместе с Вилли Фаулером занимался разработкой теории звездного нуклеосинтеза. Идеи Хойла и его модель стационарного состояния Вселенной произвели на Уилсона глубокое впечатление. Свой путь в историю два радиоастронома начали с простой цели: найти ничто. Но зачем искать ничто? Дело в том, что таким образом они могли откалибровать антенну, чтобы использовать ее как телескоп.
Если видимый свет отражается от каждой заряженной частицы и крупицы пыли, которая встречается у него на пути, то радиоволны перемещаются через межзвездное пространство почти беспрепятственно. Однако в 1964 году, всего через три десятилетия после того, как было открыто радиоволновое излучение Млечного Пути и положено начало новой науке — радиоастрономии, очень мало было известно о том, как «выглядит» наша Галактика на более высоких частотах, т. е. в микроволновом диапазоне излучения с длиной волн в 10–100 раз короче, чем у радиоволн.
Астрономов интересовало, зависит ли микроволновое излучение Млечного Пути от того, куда вы смотрите. Предполагалось, что если смотреть в направлении, далеком от дисковой части Галактики, в сторону так называемых «высоких галактических широт», то излучение меньше, подобно тому как звезды в зените видятся нам более четко, чем звезды у горизонта. Радиоастрономы также ожидали, что галактическое излучение на более высоких частотах (с более короткими длинами волн) должно быть намного слабее, чем на низких. Следовательно, если настроить радиотелескоп на высокие частоты и направить его на галактические полюса, он не должен уловить никаких волн.
Пензиас и Уилсон знали, что даже для наблюдения за самой спокойной точкой Галактики в направлении одного из ее полюсов и вдали от ее диска в первую очередь требуется откалибровать инструмент. Калибровка необходима во всех экспериментах, но особенно в астрономических, где физически невозможно добраться до источника сигнала. Чтобы откалибровать свой инструмент, астрономы направляют его на источник с известной величиной излучения и сравнивают показания измерений с этой величиной. Одна такая величина — это ноль, т. е. место, откуда не исходит никаких микроволн. Если задача «найти ничто» представляется вам сомнительным научным предприятием, отчасти вы правы: попробуйте получить финансирование под такой проект. Но когда вы смотрите в бездну, порой происходят удивительные вещи.
Как и Уильям Гершель, который рассчитывал найти несколько новых звезд, а вместо этого открыл планету Уран, Пензиас и Уилсон с их сверхчувствительным радиотелескопом поставили перед собой скромную цель: «Мы пытались убедиться в том, что нельзя измерить отсутствие излучения Млечного Пути, но вместо этого обнаружили излучение, исходящее, очевидно, из-за пределов Млечного Пути»{16}. Поначалу они восприняли это излучение как досадный радиошум.
Радиоастрономы измеряют интенсивность электромагнитных волн несколько странным способом, а именно с точки зрения того, насколько горячим, в градусах Кельвина, должен быть идеальный источник излучения — абсолютно черное тело, чтобы испускать обнаруженные ими сигналы. Таким образом, радиоастрономы говорят, что данный источник излучает столько-то кельвинов. Это также означает, что с помощью радиотелескопа можно дистанционно «измерять температуру» астрономических объектов с такой же точностью, как мы измеряем температуру более доступных земных объектов с помощью термометра.
В 1961 году, за три года до Пензиаса и Уилсона, инженер Bell Labs Эдвард Ом пытался откалибровать эту же антенну, но нашел ее слишком «шумной». Совершенных радиотелескопов не существует: любой инструмент генерирует некоторый шум, т. е. даже если направить его на объект с температурой абсолютный ноль, прибор покажет, что тот излучает какое-то тепло. Однако Ом счел, что телескоп слишком шумный, даже после того, как выявил и учел все возможные источники ошибки, так называемую «систематическую погрешность». Ом суммировал вклад всех известных ему источников помех, производивших избыточный сигнал, который показывали измерения: 22,2 кельвина с погрешностью в 2,2 кельвина{17}. (На первый взгляд это преобладание «2» кажется подозрительным, но для Ома дело было не в двойках.)
Модель Ома предполагала, что, если направить телескоп на самые темные участки неба, тот должен показать температуру около 19,1 кельвина. Именно этого он и ждал. Однако при измерениях она оказывалась почти на 3 кельвина больше расчетной величины — 22,2 кельвина. Ом списал этот избыток на неудачу и отмахнулся от не устраивавших его данных. При этом он допустил непростительную при анализе данных ошибку — склонность к подтверждению своей точки зрения. Вместо того чтобы предположить, что сигнал реален, и попытаться докопаться до его причины, он откинул его, исходя из своих представлений о том, каким этот сигнал должен быть. На самом деле ложноотрицательный результат хуже ложноположительного: если не говорить о шоке при страшном известии, то, как вы думаете, что лучше — чтобы ваш доктор не смог диагностировать у вас рак, который есть, или чтобы он сказал, что у вас рак, тогда как вы не больны?
В своей статье Ом делал ложноотрицательный вывод: нет необходимости учитывать фоновое тепловое излучение, предсказанное в расчетах Альфера и Германа. Всякий раз, когда я думаю об этом, у меня возникает острое желание схватить Ома за его узкий черный галстук по моде 1960-х и спросить: «Как ты мог, Эдвард?» Это противоречит всему тому, чему учат студентов-практикантов в научных лабораториях: нельзя относиться к данным избирательно, отбрасывая те, которые вам не нравятся. Впрочем, Ом и без того понес суровое наказание, собственноручно лишив себя Нобелевской премии.
Свет, которого не видел Ом
Айзек Азимов однажды сказал, что архетипическая реакция настоящего ученого на новое открытие вовсе не «Эврика!», а сомнение. Часто это сомнение смешивается со страхом — страхом ошибиться, стать жертвой непреднамеренного заблуждения и опорочить свою репутацию.
Пензиас и Уилсон были храбрыми. Они не стали списывать расходящиеся с нулем результаты измерений на несовершенное оборудование. Вместо этого ученые решили узнать причину раздражающего радиошума — это реальность или просто они что-то сделали не так?{18}
Поначалу их рупорная антенна была развернута в сторону Нью-Йорка, который находился всего в 80 км от Холмдела и со своим лесом радиовышек был наиболее очевидным источником потенциального загрязнения. Понятно, что никому бы в голову не пришло устанавливать оптический телескоп в сверкающем огнями районе Лас-Вегас-Стрип. Но эта антенна первоначально предназначалась для связи, а не для радиоастрономии, поэтому и была построена так близко к мегаполису. Астрономы отвернули ее в сторону, чтобы избежать шума, но сигнал сохранялся, куда бы они ее ни направили.
Не сумев возложить вину на ньюйоркцев, Пензиас и Уилсон принялись искать других виновников загрязнения сигнала. Вскоре они обнаружили новые улики: в уютном, защищенном от непогоды и хищников рупоре антенны обосновалось семейство голубей, покрыв внутреннюю поверхность рупора большим количеством «белого диэлектрика». Ну что возьмешь с птичек? Пензиас и Уилсон тщательно очистили свой рупор от помета и отвезли пернатых в Филадельфию{19}. Но голуби вернулись обратно — недаром птицы славятся своей способностью находить путь домой. «Чтобы избавиться от них, пришлось достать дробовик… Никто из нас не был в восторге от такого решения проблемы, но это был единственный выход», — покаянно вспоминал впоследствии Арно Пензиас{20}.
Но и победа над голубями не позволила избавиться от радиошума. Оставался только один источник, который мог производить такой сигнал, исходящий со всех сторон, неизменный и непрерывный, в любое время дня и ночи: сам космос. Конечно, это еще требовалось доказать. И подтверждение, как ни странно, пришло от соперников, которые даже не собирались вступать в бой.
* * *
«Парни, нас обскакали!» — с перекошенным от досады лицом сообщил коллегам Боб Дикке. Он только что поговорил по телефону с Арно Пензиасом. Тот получил номер Дикке от Бернарда Бёрка, радиоастронома из MIT, который видел черновик статьи Джима Пиблса, талантливого молодого коллеги Дикке по Принстону. В своей статье Пиблс развивал сделанное десятилетие назад предположение Альфера и Германа о том, что если водород и гелий образовались миллиарды лет назад, то остаточное тепло должно проявляться в виде фонового микроволнового излучения. Пензиас рассказал Дикке о загадочном микроволновом шуме, обнаруженном им с Уилсоном. Мимоходом он заметил, что этот шум не мог исходить из галактики Млечный Путь. Дикке сразу понял, что это значит.
Упустив шанс стать первооткрывателями космического микроволнового фона (реликтового излучения), команда Дикке по крайней мере могла дать свое объяснение. Исследователи считали, что для возникновения такого фонового излучения от Вселенной требовалось наличие высокой температуры и трех ингредиентов — протонов, электронов и фотонов. В таком состоянии вся Вселенная, по сути, представляла собой раскаленную плазму. Плазму иногда называют «четвертым состоянием материи» в дополнение к более знакомым газообразному, жидкому и твердому состояниям. Плазму можно описать как горячий газ, состоящий из заряженных частиц, таких как электроны и протоны.
В статье Дикке, опубликованной в том же номере астрофизического журнала, что и статья Пензиаса и Уилсона, содержалось множество ссылок на статьи Хойла, Бонди и Голда 1948 года, посвященные модели стационарного состояния Вселенной{21}. На самом деле в своей статье Дикке не определил причину такой высокотемпературной фазы и даже не упоминал фразы «Большой взрыв». В пресс-релизе Bell Labs от 23 мая 1965 года было сказано только, что сделанное открытие подтверждает «расширение Вселенной от высокотемпературного коллапсированного состояния»{22}.
Два месяца спустя Дикке и его коллеги опубликовали еще одну статью, в которой утверждали, что материя в нашей Вселенной могла образоваться в результате «предыдущего расширения замкнутой Вселенной, колеблющейся все время»{23}. В конце каждого цикла Вселенная гибнет в огненном смерче, который стирает все следы предыдущей Вселенной. Такая цикличность, по словам Дикке и его соавторов, «освобождает нас от необходимости обсуждать происхождение материи в какой-либо конечный момент времени в прошлом… пепел от предыдущего цикла перерабатывается обратно в водород, необходимый для формирования звезд в следующем цикле»{24}. Циклична Вселенная или нет, было ясно одно: с моделью стационарного состояния покончено.
Рассказ очевидца
На что могло походить горнило творения? В течение примерно 20 минут после Большого взрыва или после Большого сжатия в конце предыдущего цикла (в циклической модели) картина была, вероятно, поистине захватывающей: вся Вселенная превратилась в термоядерный реактор, в котором за короткое время была синтезирована бо́льшая часть всех существующих ныне ядер гелия. Наблюдатель, который сумел бы выжить в этом вселенском инферно, увидел бы вокруг себя бурлящее варево из заряженных частиц (протонов и электронов), непрерывно бомбардируемых стремительными фотонами. После этого все стало довольно скучно.
Однообразие закончилось спустя 380 000 лет. В этом нежном возрасте Вселенная расширилась достаточно, чтобы остыть ниже магической температуры в 3000 кельвинов и заполниться интенсивным инфракрасным излучением. Чтобы понять, как измерение сегодняшней температуры CMB помогает космологам оценить свойства Вселенной, какой она была почти 14 млрд лет назад (таков ее возраст по современным оценкам), обратимся к простой аналогии. Представьте, что вы — Роберт Фолкон Скотт, который в далеком 1911 году отправился со своей экспедицией к Южному полюсу. Как истинный англичанин, вы решаете приготовить себе чашку чая. Для этого в своей холодной палатке кипятите воду.
Когда вода в чайнике закипает, палатка наполняется паром. Пар настолько густой, что не видно ничего на расстоянии вытянутой руки. Внезапно снаружи слышится попискивание пингвина. Зная, что в пингвиньем мясе идеально сочетаются вкус курицы и вкус рыбы, вы выбегаете с ружьем, чтобы схватить добычу и сделать себе сэндвич к чаю. Пока вы охотитесь, пламя гаснет и вода в чайнике остывает. Водяной пар конденсируется в воду при температуре ниже 100 °C. Когда вы возвращаетесь с трофеем в палатку, то обнаруживаете, что туман исчез. Сколько же времени потрачено на охоту? Зная температуру оставшейся в чайнике воды, а также физические свойства воды, в том числе температуру, с которой началось охлаждение (100 °C), вы можете легко рассчитать это время.
Температура в 3000 кельвинов — точка ионизации водорода — аналогична температуре кипения воды в 100 °C: обе величины известны. Знаем мы и физические свойства водорода. Исходя из известной нам точки ионизации водорода и нынешней температуры реликтового излучения, 3 кельвина, мы полагаем, что с того времени, когда Вселенной было 380 000 лет, она расширилась в тысячу раз во всех направлениях. Помните о красном смещении в спектре удаляющихся от нас источников света? Так вот, в модели Большого взрыва, когда Вселенная расширилась в тысячу раз, длина всех электромагнитных волн также увеличилась в тысячу раз. Длина волны инфракрасного излучения, заполнившего Вселенную при образовании водорода, растянулась с примерно одного микрона до нескольких миллиметров, и излучение перешло в микроволновый диапазон.
Когда протоны и электроны остыли ниже 3000 кельвинов, плазма «конденсировалась», только не в воду, а в водород. Водородный газ нейтрален и проницаем как для световых волн, так и для микроволн, поэтому начиная с этого момента (380 000 лет) вся Вселенная стала прозрачной, как воздух в вашей гипотетической палатке после охлаждения и конденсации водяного пара. Благодаря конденсации плазмы в водород мы можем заглянуть назад в то время, когда образовалось фоновое излучение. Эта эпоха продлилась всего 100 000 лет — крошечный период по сравнению с возрастом Вселенной в 13,8 млрд лет. На самом деле это время было настолько коротким, что об эпохе, когда плазма конденсировалась в водород, космологи говорят как о воображаемой оболочке «толщиной» в 100 000 световых лет, известной как «поверхность последнего рассеяния». Поверхность последнего рассеяния окружает нас и представляет собой сферическую оболочку — именно из нее фотоны, которые мы видим сегодня как реликтовое микроволновое излучение, начали свое путешествие почти 14 млрд лет назад.
В модели Дикке и его команды фактический возраст Вселенной не имел значения. Разница между фактическим возрастом Вселенной (если у нее действительно было начало несколько миллиардов лет назад) и возрастом в 380 000 лет, когда произошла рекомбинация водорода, — ничто в сравнении с «вечностью». Так или иначе Вселенная в далеком прошлом была намного горячее и плотнее, чем сегодня, возможно бесконечно горячей, если был Большой взрыв (рис. 18). Независимо от того, какая модель верна — Большой взрыв или стационарное состояние Вселенной, обе предусматривают космическое микроволновое фоновое излучение.
Не уверенные в космологической интерпретации своего открытия, Пензиас и Уилсон осторожно назвали статью, опубликованную в июне 1965 года, «Измерение избыточной антенной температуры на частоте 4080 МГц». За этим скромным названием скрывалось «самое важное открытие всех времен», которое принесло космологии первую Нобелевскую премию. В достойном похвалы жесте благодарности и благородства Пензиас предложил Дикке стать третьим автором статьи об открытии реликтового излучения. В конце концов, только благодаря совместной работе двух команд космология сумела окончательно возвыситься до статуса «точной науки».
Но Дикке отказался со словами, что это заслуга двух авторов открытия, исключив себя тем самым из списка претендентов на первую Нобелевскую премию за исследования в области космологии. Пензиас и Уилсон получили в 1978 году премию по физике «за открытие космического микроволнового фонового излучения»{25}.
В 1988 году радиотелескоп в Холмделе стал Национальным историческим памятником США. Эта причудливая конструкция в виде огромного алюминиевого рупора, вращающаяся на платформе вокруг своей оси, — своего рода Стоунхендж XX века. Он символизирует собой триумф благородства над завистью, смелости над страхом, упорства над человеческими слабостями. Для меня Холмдел — священная земля: самый осязаемый памятник, воздвигнутый человечеством в своем стремлении постичь Вселенную и самих себя.
Глава 5. Разбитая линза Нобелевской премии № 1: проблема признания заслуг
Я готов простить Альфреду Нобелю изобретение динамита, но только дьявол в людском обличье мог выдумать Нобелевскую премию.
Джордж Бернард Шоу, лауреат Нобелевской премии по литературе 1925 годаАльфред Нобель вовсе не был дьяволом. Он был идеалистом, желавшим оставить после себя наследие, которое послужит на благо человечества. Но в мире физики его престижная премия вымостила дорогу в ад.
Это первая из трех глав о том, что я называю «разбитыми линзами» Нобелевской премии: об отступлениях от воли Альфреда Нобеля, которые искажают его ви́дение научных открытий, способных улучшить мир. В этой главе мы поговорим о проблеме признания заслуг в науке и о механизме Нобелевской премии как наивысшей награды в научном мире. В следующих двух главах мы рассмотрим, как Нобелевская премия по физике влияет на распределение научных ресурсов, включая человеческий и финансовый капитал. Такие отклонения деформируют отношение современных физиков к своему делу. К счастью, достаточно простых реформ, которые можно осуществить немедленно, чтобы вернуть Нобелевской премии ее благородное предназначение.
Признание с опозданием
В истории Нобелевской премии вряд ли кто-то ждал признания своих заслуг дольше, чем ученые-физики Франсуа Энглер и Питер Хиггс. Они были награждены в 2013 году «за теоретическое открытие механизма, который помогает нам понять происхождение масс субатомных частиц и который был недавно подтвержден благодаря открытию предсказанной элементарной частицы в ходе экспериментов ATLAS и CMS на Большом адронном коллайдере в CERN»{1}. Эта частица больше известна нам как бозон Хиггса.
Об открытии бозона Хиггса в рамках экспериментов на Большом адронном коллайдере было объявлено в июле 2012 года. Между открытием и присуждением нобелевского золота прошел всего год, что прекрасно согласуется с волей Альфреда Нобеля, не так ли?
Отнюдь нет. Энглер и Хиггс сделали свои теоретические предсказания не в 2012-м, а в далеком 1964 году, т. е. за 48 лет до присуждения им премии. Никто не сомневается том, что они заслуживают этой высокой научной награды. Однако, когда никого из тех, кто действительно обнаружил эту «предсказанную элементарную частицу» среди петабайт экспериментальных данных, не включили в список лауреатов, многие физики были деморализованы. Хотя масштаб затрат на коллайдер — около 10 млрд долларов на его конструирование и сооружение — кажется астрономическим, если подумать о том, что благодаря ему удалось заглянуть в самые удивительные глубины истории, цена кажется справедливой.
Две отдельные экспериментальные группы, работающие на детекторах ATLAS и CMS, делали десятки миллионов снимков столкновений частиц в секунду. Свой удивительный подвиг ученые совершали под Землей почти на 100-метровой глубине. Столкновение частиц происходило в туннеле длиной 27 км, внутри которого обеспечивалось давление ниже, чем в космическом пространстве. Камеры БАК должны быть сверхточными, но при этом достаточно надежными, чтобы останавливать пучки частиц, проносящихся по туннелю с мощью товарного поезда по 3 трлн раз в день. Десятилетия ушли на строительство. Потребовались годы, чтобы проанализировать данные. Кульминацией стало открытие бозона Хиггса — едва ли мгновенный успех, которого, похоже, требует завещание Альфреда.
Но не это удручало меня в Нобелевской премии по физике 2013 года. Я не мог смириться с тем, что признание досталось только Энглеру и Хиггсу. По правилам Нобелевского комитета премия может присуждаться не более чем трем ученым (еще одна «разбитая линза», о которой мы подробнее поговорим в 13-й главе). Однако в этих двух экспериментах участвовало около 6000 ученых. И даже при ограничении «не больше трех» премия 2013 года была присуждена только двоим, хотя на тот момент в живых оставалось как минимум еще три физика, внесших значительный вклад в это открытие.
Одним из этих проигнорированных ученых был Джеральд Гуральник, один из моих наставников в Университете Брауна, где он преподавал нам расширенный курс квантовой механики. Но я научился у него гораздо большему, и прежде всего тому, как правильно руководить молодыми учеными.
Джерри был блестящим ученым и замечательным человеком. Его статья, написанная в соавторстве с Робертом Хагеном и Томом Кибблом, была опубликована в том же номере Physical Review Letters за 1964 год, что и статья Энглера и Роберта Браута. Многие физики считали работу Гуральника, Хагена и Киббла по крайней мере столь же значимой, что и работы Энглера, Браута и Хиггса. Из всех работ, которые могли претендовать на пальму первенства в теоретическом прогнозировании бозона, именно в работе Гуральника и его соавторов была действительно решена проблема надоедливых голдстоунских бозонов{2}. Но Джерри, казалось, не испытывал никакой горечи по поводу того, что Нобелевский комитет обошел его стороной. После того как Энглер и Хиггс получили награду, Джерри сказал: «Я испытываю потрясающее чувство удовлетворения и воодушевления. Мы взялись за решение интересной и сложной абстрактной проблемы — и полученный нами ответ поистине поразителен»{3}.
В отличие от него, я не был столь невозмутим. Я намеревался исправить несправедливость и выдвинуть кандидатуру Джерри, если у меня будет право номинировать лауреатов. Но я не успел: Джеральд Гуральник умер в 2014 году в возрасте 77 лет, за год до того, как я получил заветное письмо-приглашение.
Королева тьмы
Получив приглашение стать номинантором, первым делом я подумал о Вере Рубин. У нее были все шансы: по слухам, ее номинировали на Нобелевскую премию на протяжении нескольких десятилетий. Она собрала в своей копилке почти все существующие научные награды и почести. Она стала второй женщиной-астрономом после Маргарет Бербидж, выбранной членом Национальной академии наук. Путь Веры Рубин в пантеон астрономии начался в Калифорнийском университете в Сан-Диего в 1963 году, где ее наставниками были талантливые супруги Бербидж (помните первые два Б в статье ББФХ, посвященной звездному нуклеосинтезу?){4}.
Рубин была причастна к открытию темной материи[17]. Как и Эдвин Хаббл, Вера Рубин была зачарована миром галактик и их причудливой динамикой. Но если Хаббл изучал движение системы галактик в целом, то Рубин сосредоточилась на изучении странного поведения самих галактик.
Ранее Маргарет Бербидж обнаружила, что во вращении галактики имеются некоторые необъяснимые странности, но не стала углубляться в их причины. Вскоре эти космические вертушки стали фирменным инструментарием Рубин. Под руководством Маргарет Рубин сделала первые измерения вращения галактики, используя методы спектрографии. Точные спектрограммы позволили Рубин рассчитать скорость вращения звезд в отдаленных галактиках. Анализируя небольшое красное и синее смещение в частоте вращения звезд в спиральных рукавах галактик, она обнаружила нечто удивительное: скорость их вращения не замедлялась по мере удаления от центра, чего можно было ожидать, если бы звезды в галактиках подчинялись тем же законам, что и планеты в Солнечной системе. Вместе со своим коллегой Кентом Фордом Рубин показала, что такое отсутствие замедления на периферии наблюдалось повсеместно: ни одна галактика не вела себя так, как увеличенная Солнечная система, у которой бо́льшая часть массы сосредоточена в Солнце, которое является и основным источником излучения.
На своем пути к звездам Рубин столкнулась и с другими темными силами. После долгого противостояния обструкционизму в какой-то момент она даже подумывала оставить астрономию: женщинам-астрономам запрещали работать в обсерватории под предлогом того, что там нет женских туалетов. Рубин восстановила равноправие. Вот как рассказывала об этом астроном Нета Бакалл: «Она взяла лист бумаги, вырезала из него маленькую юбку и приклеила ее на изображение человечка на двери мужского туалета. „Теперь у нас есть женский туалет“, — заявила она»{5}.
Наставничество Маргарет и Джеффа Бербидж сыграло решающую роль в успехе Рубин. «Интерес Бербидж к моим исследованиям убедил меня в том, что я могу внести вклад в астрономическую науку», — сказала Рубин в 2002 году, подчеркивая, как важны примеры для подражания в физической науке, где представлены не все группы населения{6}.
Было много споров вокруг того, почему в 2016 году Нобелевский комитет — в который раз — не удостоил Рубин премии. Это было тем более странно, что Нобелевская премия по физике за 2011 год была присуждена за открытие темной энергии. Многие считали, что это чистой воды сексизм. Другие говорили, что Рубин «просто» сделала «открытие» — т. е. обнаружила эффект, но не дала ему научного объяснения. Но, по словам физика-теоретика Лизы Рэндалл, то же самое можно сказать и о таких открытиях, получивших нобелевское золото, как открытие космического микроволнового фона, темной энергии и высокотемпературной сверхпроводимости{7}. Открытие Рубин отвечало лучшим традициям точной науки. За два десятилетия исследований она практически доказала реальность темной материи. Как заметил астроном Джереми Острайкер, «благодаря работам Веры к началу 80-х годов большинство астрономов признали существование темной материи»{8}. Хаббл мог бы гордиться.
Вере Рубин так и не позвонили из Швеции. Она умерла на Рождество 2016 года. Многие мои коллеги оплакивали ее уход не только потому, что это было огромной потерей для человечества, но и потому, что так мало осталось тех, кто был свидетелем последнего случая, когда женщина получала Нобелевскую премию за физику[18]. Казалось бы, кто, как не Рубин?
Стокгольмские сезоны
Как и у природы, у Нобелевской премии есть свои сезоны. Каждый год в октябре начинается сезон объявления победителей в шести номинациях. За этим следует сезон награждения: церемония вручения премии ежегодно проводится 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля. Существует также менее известный нобелевский сезон: сезон номинации, который заканчивается глухой зимой в полночь 31 января по стокгольмскому времени. Это конечный срок, к которому номинаторы должны представить свой список кандидатур. Здесь нет никаких поблажек и промедление недопустимо.
Я рассчитывал, что одну номинацию смогу использовать для своих коллег из гравитационно-волновой обсерватории LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory), которые, по слухам, ходившим в астрономическом сообществе в конце 2015 года, впервые в истории зарегистрировали гравитационные волны. Эти волны, предсказанные общей теорией относительности Эйнштейна, исходили от двух черных дыр с массами примерно в 30 раз больше солнечной, за несколько миллисекунд до их слияния. Подобно тому как корабль оставляет кильватерный след на воде, движущиеся массивные астрономические объекты создают гравитационные волны — «рябь» на ткани пространства-времени. Проект обсерватории LIGO был предложен в начале 1990-х годов Райнером Вайссом, Кипом Торном и Роном Древером, и постепенно вокруг него сформировался целый международный консорциум из тысяч ученых, который несколько десятилетий занимался поиском этой ряби пространства-времени. Я надеялся, что они опубликуют свои долгожданные результаты до 31 января. Но они отказались спешить с анализом, чтобы успеть к дедлайну, произвольно назначаемому Шведской королевской академией наук.
К счастью, детекторы LIGO смогли зафиксировать сигнал почти сразу после ввода установки в эксплуатацию. После месяцев кропотливого анализа более чем 1000 ведущих членов консорциума 11 февраля 2016 года команда наконец объявила о своем поразительном открытии. Многие считали, что это верное нобелевское золото. Восемь месяцев спустя, с приближением нобелевского сезона, слухи стали более интенсивными. Мало кто знал, что срок номинации истек до того, как ученые опубликовали свои результаты. Большинство считали, что премия должна достаться Вайссу, Торну и Древеру, хотя многие также называли Барри Бариша, который в 1994 году фактически спас проект LIGO, когда тот был признан «неперспективным», и с того времени успешно им руководил{9}.
Если бы команда LIGO успела к дедлайну 31 января 2016 г., даже Бариш признает, что вряд ли вошел бы в число лауреатов, учитывая «правило трех»{10}. В следующем году, когда был объявлен приз 2017 года по физике, тройка была уже немного другой: Райнер Вайсс, Кип Торн и Барри Бариш, где нобелевское золото вручалось с формулировкой «за решающий вклад в детектор LIGO и за наблюдение гравитационных волн». А почему не Древер?
Тогда как гравитационным волнам, движущимся со скоростью света, потребовалось 1,3 млрд лет, чтобы достичь детекторов LIGO, всего 11 дней изменили судьбу Нобелевской премии по физике 2017 г. Рон Древер, один из трех отцов-основателей LIGO, умер 7 марта 2017 года в возрасте 85 лет, через год после того, как команда LIGO объявила о своем открытии.
Никто не сомневался, что лауреаты Нобелевской премии 2017 года достойны награды. И все же нельзя игнорировать то, как Нобелевский комитет решил одну проблему — запрет на награждение больше трех — с помощью другого произвольного запрета: на посмертное присуждение. В ситуации, когда ученый умер через год после того, как четыре десятилетия кропотливого труда наконец-то увенчались эпохальным открытием, и, таким образом, потерял право на высочайшее признание своих заслуг, было столько же горькой иронии, сколько бессердечия и даже жестокости. Еще печальнее то, что при объявлении о премии 2017 года роль Древера в эксперименте LIGO была преуменьшена{11}.
Мертвых не награждать
В 1974 году в статут Нобелевского фонда было внесено новое правило: Нобелевская премия не может присуждаться посмертно{12}.
Решение лишить умерших людей права на получение премии, которая была учреждена по завещанию ее основателя после его смерти, можно назвать по меньшей мере странным. Посмертно премия присуждалась всего дважды: в 1931 году — поэту Эрику Акселю Карлфельдту (по литературе) — и в 1961 году — дипломату Дагу Хаммаршёльду (премия мира). Нисколько не умаляя их достоинств, хочу заметить, что оба они были шведами. Более того, Карлфельдт был постоянным секретарем Шведской академии — организации, которая выбирает победителей Нобелевской премии по литературе.
Даже после 1974 года смерть не лишила премии двух лауреатов. В 1996 году Уильям Викри умер через несколько дней после объявления его лауреатом Нобелевской премии по экономике (которая официально называется Премией Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля). А в 2011 году Ральф Стейнман скончался буквально за день до объявления его лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине. «Мы все очень растроганы тем, что многолетняя напряженная работа нашего отца удостоена Нобелевской премии, — сказала его дочь Алексис Стейнман на церемонии награждения. — Он посвятил свою жизнь работе и семье и, без сомнения, воспринял бы это как большую честь»{13}. В пресс-релизе Нобелевский фонд заявил, что «решение о присуждении премии Ральфу Стейнману было принято Нобелевским комитетом добросовестно, исходя из предположения, что лауреат жив» и, следовательно, случай подпадает «под положение статута, касающегося человека, который был объявлен нобелевским лауреатом и умер до церемонии вручения премии»{14}.
Но к чему такие сложности? Разве не лучше разрешить посмертное присуждение премии, если лауреат умирает в течение определенного времени до объявления о награждении?
Конечно, тут могут посыпаться насмешки в духе: «Давайте тогда наградим Шекспира и Гомера премией по литературе, Ньютона — по физике, а Адама Смита — по экономике!»{15} Но позвольте мне ответить на это известной шуткой, кстати говоря принадлежащей лауреату Нобелевской премии Джорджу Бернарду Шоу. Как-то на светском приеме Шоу заявил, что за деньги люди готовы сделать что угодно — все зависит от суммы.
— Неправда! — заявила его собеседница.
— Вот вы, — спросил Шоу, — согласились бы провести со мной ночь за миллион фунтов?
— Ну, за такую сумму, пожалуй, да.
— А за десять шиллингов?
— Разумеется, нет! За кого вы меня принимаете? За проститутку? — возмутилась дама.
— В принципе мы уже договорились, сейчас же просто выясняем, сколько вы стоите, — сказал Шоу.
Стейнман умер в короткий промежуток времени между принятием решения о присуждении ему премии и публичным объявлением об этом. Но что, если бы он умер за день до принятия решения — комитет наградил бы его? Возможно. А если бы он скончался за шесть месяцев до этого? Нет, как показывает история Рона Древера. Таким образом, нам осталось всего лишь договориться о дате, и она будет справедлива для всех. Я считаю, что было бы разумно разрешить посмертное присуждение премии, если номинант умирает в период между 31 января и той датой, когда Шведская королевская академия наук официально объявляет имена победителей, обычно это начало октября{16}. В этом случае номинаторам не пришлось бы играть роль ясновидцев, пытаясь предугадать, умрет ли выдвигаемый ими кандидат в ближайшие несколько месяцев или нет.
Установление этой даты было бы справедливо и для семей номинантов. Почему у семей выдающихся ученых отнимают возможность испытать такое же чувство благодарности и гордости, которое испытала семья Ральфа Стейнмана, лишь из-за того, что потенциальный лауреат «неудачно выбрал» дату смерти? Это сделало бы Нобелевскую премию куда более гуманным институтом, как того желал Альфред Нобель.
Сегодня многие ученые получают Нобелевскую премию в весьма преклонном возрасте. Средний возраст лауреатов премии по физике вырос с 41 года в 1930-х годах до 66 лет сегодня, т. е. на четверть века (рис. 20){17}. В 2017 году премия по физике была присуждена ученым в возрасте 77, 81 и 85 лет. Уровень сложности, масштабы и временны́е рамки исследований, достойных нобелевского золота, стремительно растут, в то время как финансирование снижается до уровней, которых наука не видела уже много десятилетий. Продолжительность человеческой жизни не может угнаться за темпами этих изменений, что означает, что все больше и больше ученых будут лишаться шанса получить заслуженную ими награду.
Пока я писал эту книгу, из жизни ушли многие из моих старших коллег, которыми я искренне восхищался. Помимо упомянутых мной Веры Рубин и Рона Древера следует также назвать Дебору Джин и Милдред Дресселгауз. То, что ни один из них не получил премию, очень тревожный сигнал для физиков: получается, что случайные правила важнее объективных достижений. Что же будет с премией, если молодые ученые наблюдают отсутствие подлинной меритократии, предполагающей, что заслуги признаются независимо от возраста ученого, политических взглядов, пола, или статуса? Посмертное присуждение Нобелевской премии создало бы замечательный прецедент; это вернуло бы ученым веру в то, что главное — это открытие, независимо от того, сколько времени оно потребует.
Глава 6. Прах к праху
Когда я был ребенком, то обожал комиксы «Мелочь пузатая», но моим любимым персонажем был не главный герой Чарли Браун. Cлишком уж робкий и нервный. И не его сестра Люси — властная и жестокая. Шрёдер был слишком самодовольный и надменный. Вот кого я обожал, так это Пиг Пена, вечно взъерошенного грязнулю, окутанного облаком пыли. Смельчак и бунтарь, он был солью земли. Он плевал на социальные условности, не смущаясь тем, что другие дети убегали при его появлении: настоящие друзья оставались. Жизнь для него не была битвой за популярность. Его пыль была его историей, и он гордился этим.
Космическая пыль невероятно усложняет космологам жизнь, но в ней — история Вселенной. Малозаметная и вездесущая, пыль не бросается в глаза, однако ее невозможно игнорировать, поскольку из пыли образована сама земная твердь под нашими ногами.
И, возможно, за пределами нашей планеты пыль играет еще бо́льшую роль на космической сцене, а не просто служит своего рода космической помехой?
Большой взрыв или Большое сжатие?
Через семь лет после открытия реликтового излучения разбирательство по делу против модели стационарного состояния в защиту Большого взрыва было далеко не закончено. Даже Роберт Уилсон признался, что ни он, ни Арно Пензиас не считали, что открытие реликтового излучения стало приговором для стационарной модели: «По правде говоря, никто из нас не принимал космологию [Большой взрыв] всерьез. На самом деле мы хотели оставить вопрос открытым, чтобы наши коллеги из лагеря стационарной теории могли предложить свое объяснение этого феномена»{1}.
В своей монументальной монографии по космологии, вышедшей в 1972 году, лауреат Нобелевской премии Стивен Вайнберг писал: «В некотором смысле это несогласие является достоинством стационарной модели; она является единственной в космологии моделью, предсказания которой настолько определенны, что ее можно опровергнуть на основании даже тех ограниченных наблюдаемых данных, которые имеются в нашем распоряжении. Стационарная модель настолько притягательна, что многие ее приверженцы все еще пребывают в надежде на то, что аргументы против нее исчезнут при совершенствовании наблюдений. Однако если… космическое микроволновое излучение действительно является излучением черного тела, то очень трудно усомниться в том, что Вселенная развивалась из некоторого более плотного и более горячего состояния в прошлом»[19],{2}. Излучение черного тела означает, что излучение исходило от идеального излучателя с температурой выше абсолютного нуля. Такие черные тела имеют предсказуемую эмиссию для всех длин волн, и спектр излучения зависит только от их температуры (рис. 21). Черное тело — это своего рода противоположность черной дыры. И черное тело, и черная дыра полностью характеризуются их площадью и еще одним качеством: массой в случае черных дыр и температурой, если мы говорим о черных телах. Тогда как черная дыра поглощает весь падающий на нее свет, независимо от длины волн, поляризации и энергетического состояния, черное тело излучает все возможные типы света: на всех частотах, со всеми возможными видами поляризации. Все, что нагревается и при нагревании излучает свет или микроволны, — раскаленная кочерга, лампа накаливания, газовые шары, в которых водород превращается в гелий (т. е. звезды), и т. д. — это черные тела.
Если бы реликтовое излучение можно было измерить на всех длинах волн, стационарная теория была бы опровергнута, но почти три десятилетия после его открытия никто не мог это сделать. Вскоре после обнаружения реликтового излучения Фред Хойл и Джефф Бербидж показали, что весь существующий во Вселенной гелий не мог образоваться только путем звездного нуклеосинтеза — удары по стационарной модели шли один за другим{3}. Тем не менее ее авторы и наиболее ярые приверженцы продолжали держаться за свою теорию, хотя и признавали, что в своем первоначальном виде она нежизнеспособна.
В статье, опубликованной параллельно со статьей Пензиаса и Уилсона, Дикке и его соавторы объясняли реликтовое излучение в контексте циклической Вселенной, которая переживает бесконечные циклы коллапса (сжатия) и расширения. Согласно циклической модели, легкие элементы (водород, гелий и литий) могли образоваться из «пепла предыдущего цикла», другими словами, смерть в огне предыдущей Вселенной могла обеспечить необходимое сырье, энергию и материю для следующего цикла. Но откуда в циклической модели мог появиться космический микроволновый фон? И почему его температура должна составлять 2,7 кельвина, как посчитали Пензиас и Уилсон?
Хойл, работавший с Бербиджем, понимал, что стационарная космологическая модель требует серьезного пересмотра. Первая проблема заключалась в неизменности стационарного состояния. Название тоже нуждалось в пересмотре. Они переименовали модель в космологию квазистационарного состояния. Но что означает «квази»?
Если модель стационарного состояния «начиналась» без какого-либо начала вообще, с постулата, что Вселенная вечна и непрерывно рождает материю и антиматерию в соотношении, необходимом, чтобы сохранить всю схему Понци[20], то новая Вселенная Хойла и Бербиджа была циклической, заново рождающейся после каждого цикла. Хотя такое состояние нельзя было назвать действительно стационарным, циклы были чрезвычайно длинными: 500 млрд лет плюс-минус несколько миллиардов. Благодаря таким непостижимо огромным временны́м рамкам — в 100 раз больше возраста Солнца — эта модель сохраняла лучшие свойства модели стационарного состояния, например механизм звездного нуклеосинтеза, объяснявший образование тяжелых элементов во Вселенной, тогда как именно этого особенно не хватало модели Большого взрыва{4}.
Три степени разделения
Хойл и Бербидж рассчитали, что «энергия, высвобождаемая в ходе синтеза космического гелия из водорода, почти точно совпадает с энергией, содержащейся в космическом микроволновом фоновом излучении»{5}. Однако то, что они могли объяснить точное количество энергии, возникающей в процессе нуклеосинтеза, еще не означало, что они могли объяснить, почему реликтовое излучение имело именно ту температуру, которую называли Пензиас и Уилсон. Почему именно 2,7 кельвина?{6} Хойл задал этот вопрос сторонникам модели Большого взрыва и не получил ответа. Хойл объяснил, что их предпочтение теории Большого взрыва, как это часто бывает, результат склонности к подтверждению своей точки зрения. Они поступают как студенты, которые в погоне за хорошей оценкой подгоняют расчеты под правильный ответ. «Если бы измерения показали температуру 27 кельвинов вместо 2,7 кельвина, — написал он, — тогда их модель объяснила бы 27 кельвинов. Или 0,27 кельвина. Или любую другую величину»{7}. Температура 2,7 кельвина не была предсказанием, вытекающим из модели Большого взрыва, но свободным параметром, который требовал дополнительных наблюдений.
Хойл рассматривал реликтовое излучение как возможность, а не как вызов. Он был уверен, что, в отличие от модели Большого взрыва, его модель позволит предсказать температуру космического фона в 2,7 кельвина исходя из основных принципов. Чтобы это сделать, он и его коллеги обратились за помощью к самой скромной субстанции во Вселенной — к пыли.
Мы приходим в вечном вращении из небытия, рассеивая свет звезд как пыль.
РумиКак гласит поговорка, если все, что у вас есть, — молоток, вы повсюду будете видеть гвозди. Гвоздями Хойла были звезды. Он понимал их, как никто другой. Чтобы возродить свою обновленную модель стационарного состояния буквально из пепла и таким образом продолжить четвертый раунд Великих дебатов, Хойл использовал обнаруженное им и Бербиджем совпадение: что создаваемая звездами энергия равна энергии черного тела с температурой 2,7 кельвина. Проблема была в том, что, как это хорошо видно на примере Солнца, звездный свет не находится в микроволновой части электромагнитного спектра. Звезды излучают преимущественно видимый свет. Поэтому Хойлу и Бербиджу нужно было каким-то образом преобразовать видимый свет звезд в микроволновое излучение, чтобы объяснить сделанное Пензиасом и Уилсоном открытие.
Хойл постулировал, что космическое микроволновое фоновое излучение не реликт Большого взрыва, а результат трансформации обычного видимого звездного света при взаимодействии с космической пылью. Пыль, рассевающая звездный свет в небытии космоса, как писал Руми.
К 1960-м годам уже было известно, что, поскольку пыль рассеивает свет коротковолнового диапазона (например, синий) гораздо сильнее, чем длинноволновый свет (такой как красный), попадающий на телескопы свет выглядит намного краснее, чем в момент излучения{8}. Вы можете наблюдать это явление на закате, когда желтое днем Солнце вдруг начинает пылать алым цветом. Разумеется, дело не в самом Солнце — оно излучает все те же 5500 кельвинов. Вечерний свет кажется таким красным, так как проходит через атмосферу гораздо большее расстояние от горизонта до ваших глаз и по пути сталкивается с бóльшим количеством атмосферной пыли, чем в полдень (рис. 22).
Если солнечный свет краснеет из-за малого количества пыли в земной атмосфере, то свет далеких звезд, путешествующий по пыльному космосу миллиарды лет, должен быть чрезвычайно красным. На самом деле красное смещение должно выйти за пределы видимого спектра в микроволновый диапазон. Разумеется, рассеивание звездного света пылью было намного более простым объяснением реликтового излучения, чем теория Большого взрыва, трактовавшая его как остаточное излучение от огненного шара с бесконечно высокой температурой.
Хойл знал о коварстве космической пыли, которая затуманила взор даже великому Галилею. Он утверждал, что реликтовое излучение — всего лишь очередной пылевой мираж, вселивший надежды в сторонников Большого взрыва. Но сколько пыли в космосе? Из чего она состоит? Как она образовалась? На эти вопросы нужно было дать ответ, иначе модель космологии квазистационарного состояния сама рисковала рассыпаться в пыль.
И снова глотать пыль
Астрономам не надо искать пыль — она сама их находит. Пыль была врагом астрономов задолго до открытия реликтового излучения. Именно пыль, затеняя обширные участки нашей Галактики, заставила Гершеля отвергнуть принцип Коперника, доказанный Галилеем больше века назад. Рассеивая свет далеких звезд, пыль обманула Хаббла, заставив его прийти к выводу, что далекие галактики находятся гораздо дальше, чем они есть на самом деле. Но откуда в космосе пыль?
Этот вопрос мучил астрономов всю первую половину XX века. К 1930-м годам они смогли оценить размер крупиц, вызывающих красное смещение спектра{9}. Эти частицы должны быть больше, чем длина волны красного света (около половины миллионной части метра). Таким образом, исключались отдельные атомы или молекулы, которые были значительно меньше. С другой стороны, это не могли быть и слишком крупные частицы, так как они отражали бы все длины волн звездного света одинаково. Оставалось одно: пыль должна состоять из твердых частиц, сопоставимых по размеру с длиной волны видимого света. Но форма и состав этих частиц по-прежнему оставались загадкой. На что похожа космическая пыль — на песок или на обычную домашнюю пыль, которую вы убираете пылесосом? Или это что-то совсем другое?
Ключ к разгадке состава космической пыли был найден в 1950-х годах, когда астрономы обнаружили, что свет далеких звезд не только смещен в сторону красного диапазона, но и имеет еще одно свойство — поляризацию{10}.
Электромагнитные волны видимого светового и микроволнового диапазона, как и полагается волнам, колеблются при движении со скоростью света. С этими колебаниями и связана поляризация. Направление колебаний всегда перпендикулярно направлению светового луча (рис. 23). Характер поляризации звездного света может многое рассказать о том, что происходило со светом по пути от звезды к телескопу. Сегодня ученые строят специальные устройства — поляриметры, которые измеряют различия в интенсивности света в плоскости, перпендикулярной направлению движения света. Телескоп BICEP2, по сути, тоже поляриметр.
Не весь свет поляризован. Горячие светящиеся объекты, такие как лампы накаливания или Солнце, излучают преимущественно неполяризованный свет, поскольку электроны внутри этих объектов колеблются в случайных направлениях. Неполяризованный свет, такой как солнечный, может стать поляризованным при отражении от поверхности, скажем, океана. Горизонтальная поверхность океана поглощает световые лучи, которые поляризованы вертикально, т. е. перпендикулярно поверхности. Световые лучи, поляризованные в горизонтальной плоскости, частично отражаются. В результате неполяризованный солнечный свет после отражения становится поляризованным.
Другой способ сделать неполяризованный свет поляризованным — пропустить его через специальный фильтр. Такое устройство называют поляризатором: оно избирательно поглощает один из поляризованных компонентов, а другие беспрепятственно пропускает. Поляризационные солнцезащитные очки делают именно это: они поглощают свет, отражающийся от поверхностей, например от снега или океана, и, устраняя слепящие солнечные блики, позволяют вам видеть гораздо лучше и четче (рис. 24).
В чем сущность пыли?
Астрономы предполагали, что у красного смещения света звезд и его поляризации может быть один хорошо известный виновник: пыль.
Модель квазистационарной Вселенной Хойла требовала много пыли, причем не только внутри нашей Галактики, но и по всему пространству между всеми галактиками, рожденными в течение 500 млрд лет текущего цикла. И это не могла быть просто пыль. Чтобы преобразовать звездный свет ранней Вселенной в наблюдаемое реликтовое излучение, крупицы пыли должны представлять собой так называемые «волоски» — крошечные цилиндрики длиной меньше миллиметра. И они должны состоять из металла или, по крайней мере, включать металлические вкрапления{11}.
Металлические волоски Хойла вели себя как бесчисленные крошечные компасные иголки. Они легко выравнивались под действием магнитных полей, пронизывающих космическое пространство, и собирались в плотные облака, которые, подобно «космическим вышибалам», пропускали через себя только свет, поляризованный перпендикулярно к их ориентации, и задерживали свет, поляризованный вдоль их продольных осей (рис. 25){12}. Этот отраженный свет мотался между частицами пыли, как пьяница от бара к бару. В конце концов он приходил к тепловому равновесию с характеристической температурой, определяемой формой и составом пылевых волосков.
Таким образом, модель квазистационарного состояния не только объясняла происхождение реликтового излучения, но и показывала причины поляризации звездного света. Казалось, Хойл находится в одном шаге от того, чтобы подтвердить коперниканский принцип, повергнуть в прах модель Большого взрыва и предсказать точную температуру реликтового излучения. И, что самое потрясающее, Хойл сделал все это, исходя из основных принципов, используя материю с обычной плотностью и обычной температурой, а не бесконечные величины, которых требовала модель Большого взрыва. Единственное, чего не хватало модели Хойла, — это источника волосков. Что могло произвести на свет эти магические пылевые волоски?
Хойл снова не разочаровал. Он был космическим алхимиком: в его Вселенной послушные ему звезды могли делать все, что он пожелает{13}. Физическое сообщество уже признало, что все тяжелые элементы периодической таблицы возникли внутри звезд. По сути, звезда — это ядерный реактор, в котором легкие элементы (например, водород) соединяются в более тяжелые элементы (например, гелий). Процесс ядерного синтеза сопровождается выделением огромного количества энергии в виде тепла. Это тепло создает давление, которое противодействует колоссальной гравитационной силе, стремящейся сжать звезду. Гелий, в свою очередь, сливается в более тяжелые ядра, такие как углерод, и т. д. Но когда в достаточно массивной звезде заканчиваются запасы более легких элементов и начинается ядерный синтез железа, то не остается избыточной тепловой энергии, противодействующей сжатию. Звезда схлопывается, создавая ударную волну, которая выбрасывает железо и другие тяжелые элементы в окружающую межзвездную среду, и в результате образуется так называемая сверхновая II типа (рис. 26) {14}.
Межзвездная среда — так называется все, что находится между звездами, — очень холодное и пустое пространство. В ней расплавленное железо конденсируется в твердые частицы. Обширные свидетельства этого процесса мы можем видеть и на Земле. Каждый день на нашу планету оседают тонны микрометеоритов, многие из которых при увеличении оказываются крошечными железными волосками, которые, как считают ученые, образовались в ходе взрывов сверхновых (рис. 27) {15}.
Если частицы пыли действительно состоят из железа, как и многие метеориты, значит, они обладают магнитными свойствами и магнитные поля Млечного Пути должны упорядочивать их. Конечно, микрометеориты имеют не межзвездную, а межпланетную природу{16}. Но эта техническая деталь не волновала ученых, когда они поняли, что можно произвести похожие металлические волоски в лабораториях{17}. А приступив к делу, они обнаружили, что лабораторная пыль обладает свойствами, поразительно похожими на свойства ее космической сестры. И, что было лучше всего, почти в каждой известной астрономам галактике имелись триллионы тонн пыли со свойствами, которых требовали расчеты Хойла, и значительные массы такой пыли были выброшены взрывами в межгалактическое пространство{18}.
Даже после открытия реликтового излучения в 1965 году большинство космологов сомневались в «начальной сингулярности», на которую опиралась модель Большого взрыва. Но никто не сомневался в существовании пыли. И никто не сомневался в реальности вспышек сверхновых звезд. Все компоненты, необходимые для преобразования видимого света звезд в космическое микроволновое излучение, были на месте{19}. Хойл и его команда произвели необходимые детальные расчеты и обнаружили, что их модель предсказывала температуру реликтового излучения ровно в 2,7 кельвина{20}. Они победили.
Модель стационарной Вселенной возродилась, как феникс из пепла, в виде теории квазистационарного состояния, и все благодаря пыли — веществу, презираемому первыми астрономами, затеявшими Великие дебаты. Отныне субстанция, заставлявшая астрономов думать, что Солнце находится в центре Млечного Пути, не могла ввести астрономов в заблуждение. Четвертые Великие дебаты, на этот раз включавшие вопрос о благоприятном для существования человечества времени, снова разрешились в пользу Коперника. Наконец-то у пыли наступил свой звездный час.
Через тернии в Стокгольм
Открытие в 1965 году реликтового излучения было лишь первым шагом. Теперь космологам нужно было измерить микроволновый фон на всех длинах волн. Конечно, эти измерения не доказали бы окончательно модель Большого взрыва, но убедительно показали бы несостоятельность стационарной модели. И вот спустя два с половиной десятилетия неопределенности, в 1990 году, спектрометр дальнего инфракрасного диапазона FIRAS (Far Infra Red Absolute Spectrophotometer), установленный на борту космической обсерватории COBE (Cosmic Background Explorer), с беспрецедентной точностью измерил «радугу» космического микроволнового фона — яркость его излучения на всех частотах. Результаты измерений полностью соответствовали предсказаниям модели для абсолютно черного тела, таким образом став неопровержимым свидетельством того, что CMB имеет чернотельную природу{21}. Однако теоретики квазистационарного состояния сумели объяснить и это: чернотельное излучение может точно так же исходить от звезд, поскольку пылевые волоски способны рассеивать звездный свет в достаточной степени, чтобы охлаждать излучение до температуры, зарегистрированной FIRAS.
Тем не менее для большинства космологов FIRAS доказывал Большой взрыв. Последовало еще несколько Нобелевских премий — но не для авторов-теоретиков. Георгий Гамов, которого называли «отцом Большого взрыва», умер задолго до эксперимента FIRAS, через три года после открытия реликтового излучения{22}. Ральф Альфер также не удостоился приза, хотя и был жив в 2006 году, когда половина Нобелевской премии по физике досталась Джону Мазеру, руководителю группы FIRAS, за открытие чернотельной структуры спектра реликта. (Другая половина была присуждена Джорджу Смуту, руководителю второй экспериментальной программы COBE под названием Differential Microwave Radiometer/DMR. С помощью этого высокочувствительного радиометра было установлено, что реликтовое излучение имеет незначительную степень анизотропии — отклонения от изотропии, или идеальной однородности. Оказалось, что реликтовое излучение не совсем гомогенно.) Альфер умер в следующем году. Роберт Герман умер в 1997 году. Таким образом, из-за введенного в 1974 году произвольного запрета на посмертное присуждение все теоретики, выдвинувшие гипотезу Большого взрыва, навсегда лишились прав на нобелевское золото.
Их оппоненты, отстаивающие теорию стационарной Вселенной, также остались с носом, хотя Фред Хойл все же получил утешительный приз: в 1997 году Шведская королевская академия наук, присуждающая Нобелевские премии, вручила ему престижную премию Крафорда, которая сопровождается довольно весомым денежным вознаграждением в размере трех четвертей от Нобелевки. Многие восприняли это как попытку Академии искупить свою вину за то, что в 1983 году она наградила соавтора Хойла Фаулера, а самого автора модели оставила за бортом. При вручении премии Крафорда Академия отдала должное неординарному мышлению Хойла: «В самой известной работе Хойла о звездном происхождении элементов был описан ряд наиболее важных процессов, которые могут протекать внутри звезд и приводить к образованию всех элементов за исключением самых легких из них. Его более поздние работы были сосредоточены на космологии и природе межзвездной пыли. Эти работы характеризуются новыми интересными идеями и иногда догадками»{23}.
Упоминание «догадок» намекало на модель квазистационарного космологического состояния и магические пылевые волоски Хойла. Судя по всему, в 1997 году Нобелевский комитет все же считал пылевой механизм Хойла правдоподобным объяснением происхождения фонового излучения и его температуры в 2,7 кельвина.
Несмотря на недостатки квазистационарной модели, ни один из них не казался фатальным. Ее авторы находили способы уклониться от критики; они сумели объяснить даже незначительные колебания интенсивности реликтового излучения, обнаруженные в 1992 году радиометром DMR на борту спутника COBE{24}. Однако объяснение результатов DMR, при всей их убедительности, стало последней победой сторонников квазистационарной модели.
На волосок от победы
Судьба избавила Фреда Хойла от мучительной участи наблюдать за агонией своей любимой теории. Он умер в 2001 году, всего за год до того, как квазистационарная космологическая модель пала жертвой своего ключевого свойства, которое притягивало к ней многих ученых: ее фальсифицируемости.
Чтобы модель квазистационарной Вселенной была жизнеспособной, весь космос должен быть заполнен особой пылью. У этой пыли было много дел. Во-первых, обязанность поглощать звездный свет, который, как мы знаем на примере Солнца, почти полностью состоит из света видимого диапазона. Во-вторых, от нее требовалась термализация, т. е. вся межзвездная среда с ее пылевыми облаками должна была находиться в тепловом равновесии при температуре 2,7 кельвина, которую наблюдали сначала Пензиас и Уилсон, а затем FIRAS. В-третьих, для того чтобы поддерживать тепловое равновесие и не нагреваться под воздействием звездного света, пыли надлежало излучать энергию в форме микроволн, которые проходят дальше через Вселенную. Чтобы выполнять столь разные функции, пылевые частицы должны были иметь форму так называемых волосков — крошечных цилиндриков меньше миллиметра длиной.
Исходя из этих предположений, модель квазистационарного состояния предсказывала поляризацию реликта, причем не просто поляризацию, а высокую степень поляризации в результате прохождения излучения через бесчисленные упорядоченные облака из пылевых волосков. Это было важное фальсифицируемое предсказание, проверяемое экспериментальным путем. Теперь оставалось измерить поляризацию реликтового излучения и таким образом подтвердить или опровергнуть модель Хойла.
В 2002 году телескоп Degree Angular Scale Interferometer/DASI (Интерферометр с градусным угловым разрешением) впервые измерил поляризацию космического микроволнового фона{25}. Эксперимент, которым руководил один из самых выдающихся экспериментальных космологов нашего времени — Джон Карлстром — вместе со своим аспирантом Джоном Ковачем, убедительно показал, что поляризация космического микроволнового фона и близко не соответствовала величине, предсказанной квазистационарной моделью. Она была незначительной, всего на уровне 0,00001 %, т. е. примерно в 1000 раз меньше, чем должны были обеспечить волоски Хойла{26}. Пыль здесь была ни при чем.
Однако новые поляризационные данные прекрасно вписывались в нарратив Большого взрыва. Согласно этой модели, реликтовое излучение изначально было неполяризованным, как и любое излучение черного тела. Но в первые 380 000 лет после рождения Вселенной его первичные фотоны постоянно сталкивались с электронами, которыми кишела первичная плазма, прежде чем она немного остыла и позволила электронам связаться с протонами с образованием ядер водорода. Процесс упругого столкновения фотонов с электронами известен как томсоновское рассеяние. (Физики любят давать процессам и эффектам имена открывших их ученых. Этот процесс был назван в честь Дж. Дж. Томсона, лауреата Нобелевской премии по физике 1906 года.) В отличие от пылевого рассеяния, рассеяние Томсона дает гораздо более слабую поляризацию. И это предсказание было подтверждено измерениями DASI. Результаты DASI вскоре были подкреплены и другими экспериментами, включая эксперимент CAPMAP, проведенный группой из Принстона во главе с Сьюзан Стаггс, и обновленную версию эксперимента BOOMERanG под названием B2K.
Измерение поляризации космического микроволнового излучения нанесло решающий удар по стационарной модели, чего не смогли сделать ни Хаббл, ни Пензиас и Уилсон, ни сам Хойл, обнаруживший избыточное содержание гелия в космосе. Но ничто не могло переубедить последнего из оставшихся в живых создателей квазистационарной модели — Джеффа Бербиджа. Он продолжал превозносить достоинства своей теории даже в 2009 году в статье «Факты и гипотезы в космологии», написанной в соавторстве с бывшим аспирантом Хойла Джайантом Нарликаром, где ни словом не упоминалось про результаты DASI{27}. Как бы то ни было, после первых измерений поляризации реликта модель квазистационарной Вселенной сама достигла конечного стационарного состояния: ее смерть была признана официально.
Закат стационарности
После защиты диссертации новоиспеченный постдок Джон Ковач страстно хотел попасть в группу Эндрю Ланге в Калтехе. Он мечтал работать над проектом BICEP, который только что получил финансирование Национального научного фонда. Ланге обратился ко мне как к одному из руководителей проекта: «Что ты думаешь по поводу Ковача? Будет ли он полезен в нашей лаборатории?» «Разумеется, он нам нужен», — ответил я. Его диссертация была превосходна; к тому же он имел опыт работы в Антарктиде, где на протяжении года почти единолично руководил экспериментом DASI. С Ковачем на борту перед командой BICEP открывались новые горизонты.
В январе 2010 года в возрасте 84 лет скончался Джефф Бербидж. Через год мне предложили занять его бывший кабинет в Калифорнийском университете в Сан-Диего. Трепетно упаковывая оставшиеся после него бумаги, я в полной мере осознал тот титанический вклад, который внес этот человек в астрономическую науку. Он был автором более 400 статей, в том числе в таких важнейших областях, как природа самых мощных галактик, образование элементов и вращение спиральных галактик (опираясь на работы Бербиджа в этой области, Вера Рубин впоследствии открыла темную материю).
Раньше я считал Джеффа своего рода астрономическим донкихотом, который продолжал сражаться с межзвездными мельницами вопреки здравому смыслу. На самом же деле он был настоящим бойцом, который никогда не сдавался. У лесорубов есть присказка, что размер дерева можно увидеть лишь после того, как оно упало. К сожалению, то же самое нередко можно сказать об ученых и их теориях.
Пыль не могла спасти модель квазистационарной Вселенной. Несколько лет спустя, в 50-ю годовщину открытия реликтового излучения, пыль снова сыграла с космологами злую шутку. Всегда готовая к маскараду и обману, пыль по-прежнему любит заманивать недостаточно добросовестных космологов в ловушку заблуждений. В астрономии побеждают педанты и параноики.
Глава 7. Искра, воспламенившая Большой взрыв
Никто никогда не принимает решения на основании цифр. Людям нужна история.
Даниэль Канеман, лауреат Премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля 2002 годаКак ни мучительно космологам было это признавать, наиболее правдоподобная теория космогенеза оказалась, по сути, библейской историей о сотворении мира. Первая попытка связать цифры с историей была предпринята в середине 1600-х годов, когда ирландский архиепископ Джеймс Ашшер вычислил, что Бог сотворил мир субботней ночью 22 октября 4004 года до н. э. Вероятно, Ашшер переоценил данные, которыми располагал: первые две главы Библии.
Сегодня астрономы, вооруженные продвинутыми версиями зрительной трубы Галилея, такими как телескоп BICEP2, подобно Ашшеру, пытаются определить, когда и как все началось. Это неудивительно: вопрос собственного происхождения всегда волновал человечество.
Модель Большого взрыва вышла победителем из противостояния с конкурирующими концепциями, но и сама страдала большими изъянами. Она так и не ответила на ряд ключевых вопросов, и прежде всего: что взорвалось? Что привело к возникновению состояния сингулярности с бесконечной температурой и плотностью? Казалось, модель полностью нарушает известный каждому школьнику третий закон Ньютона, гласящий, что каждое действие вызывает равное по силе ответное действие/реакцию. Большой взрыв, казалось, был одной сплошной реакцией, которой не предшествовало никакого равного по силе действия. Короче говоря, все это слишком напоминало первую главу Книги Бытия.
По мере того как телескопы и детекторы становились более чувствительными, астрономы стали узнавать о космосе все более тонкие детали. И при более внимательном рассмотрении модель Большого взрыва начинала трещать по швам. Какое-то время казалось, что она тоже обречена.
Проблема однородности. Несмотря на то что космический микроволновый фон, казалось, был убедительным доказательством существования огненного шара ранней Вселенной, астрономов продолжали мучить сомнения: это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Модель Большого взрыва предполагала, что источником реликтового излучения была плазма — газ из электронов и протонов, слишком горячий для того, чтобы конденсироваться в водород, наполнявший Вселенную в первые 380 000 лет ее существования. Для плазмы характерна непрозрачность — сквозь нее не проходит свет, и она очень однородна. Пензиас и Уилсон обнаружили, что то же самое относится и к реликтовому излучению: «Эта остаточная температура [т. е. температура реликта] в пределах наших наблюдений изотропна, не поляризована и не зависит от времени года»{1}. Ранняя Вселенная была воплощением гомогенности, хотя и удивительно скучной. На протяжении более чем трех десятилетий не обнаружилось чего-то, способного навести на другие предположения.
Но что в этом плохого? В конце концов, модель Большого взрыва предполагала, что реликтовое излучение родилось из плазмы, а плазма повсюду одинакова. Разве однородность реликтового излучения не была еще одним доказательством в пользу этой теории? Не совсем. Идеальная однородность реликта создавала проблему: если Вселенная действительно была идеально однородной, почему тогда возникли звезды, галактики и планеты? Если первичная плазма была океаном единообразия, где ни одно место не отличалось от всех остальных, она должна была навечно остаться в таком состоянии. Ничто не могло вызвать процесс конденсации водорода в звезды где-либо во Вселенной. Что-то должно было нарушить идеальную монотонность ранней Вселенной, иначе нас бы сейчас не было.
Не найдя в своих первоначальных данных никаких следов анизотропии — отклонений от абсолютной изотропии — Пензиас и Уилсон не стали копать дальше, решив, что одного знаменательного открытия с них довольно. Прошло еще 27 лет, прежде чем команда COBE (Cosmic Background Explorer) в 1992 году объявила о том, что научная аппаратура на борту спутника наконец-то зарегистрировала анизотропию реликтового излучения. По словам Джорджа Смута, это было все равно что «увидеть лицо Бога»{2}. Отклонения от безупречной гомогенности были чрезвычайно малы: температура реликта изменялась всего на 30 миллионных кельвина по всему небу, т. е. уровень отклонений в 100 000 раз меньше по сравнению с температурой микроволнового фона в 2,7 кельвина (рис. 29).
Как почти каждое новое открытие, результаты COBE вызвали еще больше вопросов. И прежде всего, что создало эти флуктуации?
На самом деле космологи Райнер Сакс и Артур Вулф ответили на этот вопрос еще в 1967 году, всего через два года после открытия реликта. Когда свет проходит вблизи массивного тела, гравитационное поле притягивает его и вызывает смещение в сторону красной части спектра, увеличивая длину волн. Чем больше длина волны фотона — чем краснее свет, тем меньше у него энергии. Сакс и Вулф предположили, что в ранней Вселенной существовали области с большей массой — области с более высокой плотностью, которые оказывали более сильное гравитационное влияние на фотоны реликтового излучения, чем области с низкой плотностью. Этот эффект получил название гравитационного красного смещения. Таким образом, немного более прохладные участки карты микроволнового фона, увиденные COBE в 1992 году, соответствовали тем участкам в первичной плазме, где плотность материи и, следовательно, гравитация были чуть выше среднего, — то была своего рода рябь на ткани пространства-времени. Но эта рябь заставила космологов призадуматься.
Хотя Сакс и Вулф показали, каким образом неоднородные по плотности участки ранней Вселенной могли вызвать колебания температуры реликтового излучения, они не объяснили, как эти флуктуации возникли, не говоря уже о том, почему эти колебания были очень небольшими, но отличными от нуля. Этот незначительный, но ненулевой уровень требуемых отклонений стал известен как проблема однородности модели Большого взрыва.
Проблема горизонта. Температура реликта была почти одинакова повсюду — не только в соседних регионах, но и в тех, что расположены на противоположных сторонах неба. Эти регионы соответствовали участкам Вселенной, которые находятся друг от друга на гораздо большем расстоянии, чем расстояние, которое успел бы преодолеть свет с момента Большого взрыва (рис. 30). Отдаленные регионы космоса имели одинаковую температуру, несмотря на то что никогда не сближались достаточно, чтобы их температура уравновешивалась.
Это необъяснимое наблюдение стало известно как проблема горизонта. Наверное, вы думаете, что «горизонт» подразумевает «край», а это, в свою очередь, означает, что у Вселенной есть «центр»… и мы находимся как раз в нем! Но здесь под «горизонтом» космологи понимают максимальное расстояние, на которое могут быть удалены друг от друга два события, чтобы свет от них успел дойти до наблюдателей на Земле.
Чтобы понять, насколько важна эта проблема, представьте себе магазин бытовой техники, который никогда не закрывается и продает только один товар — мини-печь с фиксированной температурой в 500°. Недостаток разнообразия магазин компенсирует количеством: на его полках стоят тысячи таких мини-печей, и к каждой приставлен свой продавец. Работа продавцов очень проста: они могут только включать и выключать мини-печи, но имеют право делать это, когда захотят.
Температура во включенной печи в какой-то момент достигает 500°. При выключении температура будет промежуточной между максимальной и комнатной, в зависимости от того, сколько времени назад печь была выключена.
Какой температуры можно ожидать, если зайти в магазин? Логично предположить случайное распределение температур между комнатной и 500°. Представьте свое удивление, когда вы обнаружите, что все мини-печи имеют одинаковую температуру, скажем 272° плюс-минус 0,005°! Как объяснить такое явление? Оно явно не может быть случайным. Выглядит как тайный сговор. Но даже если так, то продавцам пришлось бы синхронизировать длительность работы каждой печи и точное время выключения. Подобный сговор потребовал бы практически мгновенного согласования действий продавцов по всему огромному магазину.
Теория Большого взрыва объясняла подозрительное совпадение тем, что первичная Вселенная была почти идеально однородной и осталась таковой, даже когда расширилась более чем на 90 млрд световых лет. Это было неудовлетворительное объяснение — очередная констатация факта, не поддающегося проверке, и такое же проклятие для космологов, как начало Вселенной.
Проблема плоскостности. Если внимательно посмотреть на поверхность конского седла или футбольного мяча, можно заметить две основные особенности: 1) они изогнуты в большом масштабе; 2) имеют множество неровностей на поверхности в малом масштабе. Математики называют такую изогнутость и неровности кривизной.
Принято говорить, что мяч имеет положительный радиус кривизны, можно сказать, что он выгнут наружу, или выпуклый. И наоборот, седло имеет отрицательный радиус кривизны, кривая обращена внутрь, и ее можно назвать вогнутой. Плоская поверхность, такая как лист бумаги, имеет бесконечно большой радиус кривизны, что фактически эквивалентно ее отсутствию. Как уже упоминалось выше, в 1992 году в ходе эксперимента COBE были обнаружены небольшие вариации яркости космического микроволнового фона. Эти флуктуации были вызваны неравномерным распределением материи/энергии в первичной плазме, которые создавали рябь на ткани пространства-времени. Но в 1992 году не было известно, «изогнута» ли Вселенная в большом масштабе. И если изогнута, является ее радиус кривизны положительным (как у мяча) или отрицательным (как у седла)? Или он бесконечен, как у плоского листа бумаги?
Существует простой способ измерить кривизну поверхности — нарисовать треугольник и сложить величины его внутренних углов. Две тысячи лет назад Евклид доказал, что, если нарисовать треугольник любого размера на плоском папирусе и посчитать сумму его углов, она всегда будет равна 180°. Но в треугольнике, нарисованном на поверхности с положительной кривизной, такой как поверхность земного шара, сумма углов будет превышать 180°. Представьте, что вы находись в столице Эквадора Кито, расположенной на экваторе. Оттуда вы отправляетесь точно на восток, на противоположную сторону планеты в Куала-Лумпур, Малайзия. Далее вы едете на Южный полюс, а затем возвращаетесь обратно в Кито. Сумма внутренних углов этого треугольника составит почти 360° — в два раза больше, чем на плоской поверхности. Таким образом, с помощью обычного треугольника можно измерить кривизну двумерной поверхности. На протяжении многих лет астрономы проводили похожие измерения, используя в качестве углов треугольника планеты, звезды и даже целые галактики. И всякий раз они не находили никаких свидетельств кривизны Вселенной (рис. 31).
Эти треугольники были относительно небольшими, по космическим меркам по крайней мере. Чтобы измерить кривизну всей Вселенной, нужен треугольник, у которого хотя бы одна из сторон простирается максимально далеко от Земли, т. е. заканчивается в точке, которая существовала сразу после Большого взрыва. Такой треугольник с максимально удаленной вершиной и известной длиной стороны мог стать космической линейкой, позволяющей измерить радиус кривизны Вселенной.
Оказалось, что такие «стандартные линейки» существовали; это были мелкомасштабные колебания — звуковые волны, которые распространялись через плазму, создавшую реликтовое излучение, и трансформировались в температурные вариации с угловым масштабом на небесной сфере порядка 1°{3}. Это были самые большие структуры, которые могли сформироваться в ранней Вселенной, — линейки, равные по длине возрасту Вселенной, умноженному на скорость звука. Если вернуться к рис. 30, то размер этих линеек был равен диаметру маленьких кругов. Эти колебания были обнаружены через восемь лет после эксперимента COBE в ходе эксперимента BOOMERanG и немедленно использованы для измерения кривизны Вселенной. Оказалось, что радиус кривизны бесконечен, т. е. наша Вселенная — плоская. Какой бы большой треугольник вы ни нарисовали, сумма его углов всегда будет равна 180° (рис. 32).
Как и результаты COBE, результаты BOOMERanG опрокидывали прежние представления. Наша Вселенная не могла быть плоской. Плоскостность неустойчива, а это означает, что, если только Вселенная не была идеально плоской с самого начала, ее расширение должно было значительно увеличить любую, даже крошечную, кривизну. Однако наблюдаемая сегодня почти нулевая пространственная кривизна Вселенной предполагает, что всего за одну наносекунду после Большого взрыва Вселенная достигла так называемой «критической плотности» — состояния, когда количество материи в среднем составляет 447 225 917 218 507 401 284 016 граммов на кубический сантиметр{4}. Если бы плотность одного кубического сантиметра Вселенной была выше этого параметра на один грамм, она была бы слишком плотной, чтобы избежать коллапса.
Из наблюдений BOOMERanG следовало, что наша Вселенная, по сути, всегда была идеально плоской. Это говорило о кризисе модели Большого взрыва. Согласно Леметру, Большой взрыв начался с «первичного атома», и теперь сделанные группой Ланге измерения пространственной кривизны Вселенной показали, что радиус кривизны этого «первичного атома» бесконечно близок к нулю. В очередной раз ученые столкнулись с тем, что наша Вселенная родилась с уникально тонкими настройками: абсолютно плоской в большом масштабе и почти абсолютно гладкой на малых масштабах. Космологи ненавидят такие счастливые случайности. Это необъяснимое плоское состояние стало известно как проблема плоскостности, которая стала третьей по счету неразрешимой проблемой теории Большого взрыва.
Одержимость Гута
Как Вселенная могла разгладиться до столь плоского состояния и в больших, и в малых масштабах? Представлялось, будто Вселенная вырвалась из первичной сингулярности, а потом настолько сильно расширилась, что все первичные неровности расправились. Хотя однородность и кривизна Вселенной были измерены только в 1992 и 2000 годах соответственно, космологи за несколько десятилетий до этого предвидели, что такие доказательства в конце концов будут получены.
В 1978 году, когда Нобелевская премия впервые была присуждена за открытие в области космологии известным нам Пензиасу и Уилсону, молодой постдок Алан Гут набирался знаний и опыта в Корнеллском университете. Однажды в Корнелл прибыл Боб Дикке, физик из Принстона, благодаря которому удалось объяснить микроволновый фон (а он добровольно отказался от права претендовать на нобелевское золото), чтобы прочитать лекцию о проблемах горизонта и плоскостности в теории Большого взрыва.
Гут был озадачен услышанным. «Из лекции Дикке можно было сделать вывод, что традиционная теория Большого взрыва упускает что-то действительно важное», — впоследствии сказал он{5}. Дикке и его коллега Джим Пиблс утверждали, что, исходя из антропного принципа, Вселенная должна быть почти плоской и однородной. Антропный принцип выражает довольно простую идею: Вселенная не может слишком отличаться от того, что мы наблюдаем, учитывая, что здесь мы за ней и наблюдаем. Если бы Вселенная была слишком неоднородной, вся материя под воздействием гравитации коллапсировала бы до тех пор, пока не осталось бы ничего, кроме нескольких черных дыр; в такой Вселенной просто некому было бы беспокоиться о недостатке однородности{6}. И наоборот, если бы Вселенная была слишком однородной, в ней не cмогли бы сформироваться звезды и планеты. В этом случае также некому было бы мучиться вопросом, почему Вселенная настолько однородна. Но антропные аргументы все равно что вегетарианская пища для любителя барбекю по-техасски: вы вроде едите, но не наедаетесь. Алан Гут жаждал большего.
Вскоре после лекции Дикке Гут перешел из Корнеллского университета в Национальную лабораторию SLAC (Stanford’s Linear Accelerator Center). Постоянной должности ему не предложили, но Гуту нужно было содержать семью, поэтому теперь предстояло зарекомендовать себя на научном поприще, чтобы получить преподавательское место. Недостатки теории Большого взрыва не выглядели как источник несказанных богатств. Однако в интеллектуальном отношении это оказалось именно так.
Гут не переставал размышлять о лекции Дикке. Однажды ночью в декабре 1979 года он сделал в записной книжке загадочную запись. Подобно Хабблу, который, обнаружив драгоценную цефеиду в туманности Андромеды, в волнении нацарапал на фотопластинке жирными буквами «VAR!», Гут был так потрясен озарившей его идеей, что написал поперек страницы заглавными буквами: «ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ МЫСЛЬ!» Годы спустя космологи приравняли идею Гута по значимости к самой теории Большого взрыва{7}.
Прошло два года. Гут превратился из постдока в профессора Массачусетского технологического института, прежде чем разработал детально свою теорию. В эпохальной статье «Инфляционная Вселенная: возможное решение проблем горизонта и плоскостности» Гут засеял семенами совершенно новое поле космологии{8}. Но взойдут ли эти семена?
Реальность превзошла самые смелые его ожидания.
Поле чудес
В начале 1980-х годов семена Гута пали на благодатную почву. Это была замечательная эпоха в физике, когда теории конденсированных сред — теории газов, жидкостей и твердых тел — соединялись с теориями физики высоких энергий, описывающими частицы, силы и поля.
Захватывающая мысль Гута состояла в соединении двух, казалось бы, не связанных между собой областей физики: физики конденсированного состояния и физики элементарных частиц. Он утверждал, что в самой ранней Вселенной существовал необычный феномен — поле. При определенных свойствах этого поля Вселенная могла за доли секунды расшириться от микроскопического до мегаскопического масштаба, став при этом плоской, а потом породить крошечные флуктуации, чтобы в один прекрасный день навести Алана Гута на мысль об инфляционной Вселенной. Но чтобы понять, что такое инфляция, сначала нам нужно выяснить, что такое поле.
Поле — это математический инструмент, описывающий, как физическая величина, скажем температура, меняется в разных точках пространства. Например, температура воздуха в помещении — это поле: набор чисел, которые меняются в зависимости от положения — немного ниже у окна и выше рядом с обогревателем. Такие поля, которые представляют собой простой набор чисел, соответствующих конкретным точкам в пространстве, называются скалярными полями.
Гут математически показал[21], что если в ранней Вселенной сразу после ее рождения присутствовало особое скалярное поле с определенными свойствами, то потом могли произойти поистине фантастические вещи. Он окрестил это первичное скалярное поле инфлатонным полем, или просто инфлатоном. Откуда взялось это инфлатонное поле, Гут так и не смог объяснить. Но, по его словам, это было не так важно.
Если инфлатонное поле существовало с самого начала, пока Вселенная расширялась и охлаждалась, в нем тоже должны были происходить заметные изменения. Представим себе цилиндр, наполненный газом, который можно сделать сжатым или разреженным с помощью поршня, как показано на рис. 33. Если бы вы внезапно увеличили объем цилиндра, то плотность и температура газа соответственно уменьшились бы. Точно так же, если выдвинуть поршень достаточно быстро и сильно, температура газа снизится настолько, что газ конденсируется в жидкость, т. е., как говорят физики, претерпит фазовый переход.
У Гута цилиндр — это Вселенная, вместо газа в цилиндре инфлатонное поле, а рука, вытягивающая поршень, играет роль «посредника». Хотя наша Вселенная экспоненциально расширилась по неизвестным причинам, тем не менее заполняющее ее инфлатонное поле претерпевало фазовый переход. Но поскольку в реальности ничто не бывает идеальным, фазовый переход инфлатона не может быть одинаковым во всех точках Вселенной. Например, в нашем опыте с цилиндром, наполненным обычным газом, если расширение произойдет очень быстро, внутри жидкого конденсата могут остаться области газообразной фазы — в виде пузырьков газа.
Буря в цилиндре
Аристотель утверждал: «Natura ablwrret vacuum» («Природа не терпит пустоты»). Как и бо́льшая часть сказанного Аристотелем о физике, это неверно. Для физиков вакуум означает отсутствие материи и энергии. В отличие от Природы, Гут полюбил такую пустоту. Его инфлатонное поле требовало особого типа вакуума, известного как ложный вакуум — ложный не потому, что его не существует, а потому, что это не истинный вакуум.
Истинный вакуум — это состояние, в котором система имеет наименьшее из возможных количество энергии. Если взять шар, скатывающийся по склону, то подножие будет тем местом, где шар достигнет низшего уровня гравитационной энергии (рис. 34). Это и есть состояние истинного вакуума. Однако, если шар попадет в углубление где-то посреди склона, он может пребывать в этом месте в состоянии покоя, но не будет находиться в состоянии наименьшей энергии, которое для него возможно. Такое состояние, когда гравитационная потенциальная энергия шара соответствует «локальному», а не глобальному минимуму, называется ложным вакуумом.
Чтобы понять первый вариант инфляционной модели, предложенный Гутом, рассмотрим цилиндр, наполненный материей, которая находится одновременно в двух разных состояниях: жидкая вода, а в ней пузырьки воздуха. Вода в жидкой фазе стабильна, но имеет более высокую энергию и плотность, чем воздушные пузырьки, находящиеся в состоянии истинного вакуума. Эти пузырьки движутся в жидкости случайным образом и время от времени сталкиваются, что приводит к высвобождению накопленной в их стенках энергии.
Гут предположил, что вся наблюдаемая нами Вселенная некогда могла быть отдельной «областью» инфлатонного поля в фазе ложного вакуума (в нашем примере это пузырящаяся жидкость в цилиндре). По мере движения времени формировались пузырьки истинного вакуума. То, что пузырьки находились в состоянии истинного вакуума, означает, что плотность и давление внутри них были абсолютно одинаковыми. Это имело важные последствия для дальнейшей эволюции Вселенной, позволяя преодолеть проблемы плоскостности и горизонта, присущие модели Большого взрыва.
Между тем бо́льшая часть предынфляционной Вселенной — жидкость в цилиндре в состоянии ложного вакуума — экспоненциально увеличивалась в размерах. Когда пузырьки истинного вакуума сталкивались и сливались, высвобождаемая при этом энергия превращалась в материю (согласно уравнению Эйнштейна E = mc2).
Во Вселенной Гута Большой взрыв — своего рода кипящий космический котел. Неважно, каким образом жидкость оказалась в цилиндре: «Инфляционный сценарий начинается с того, что одна из областей Вселенной каким-то образом оказывается в состоянии ложного вакуума. Механизм, посредством которого это происходит, никак не влияет на ее последующую эволюцию»{9}.
В модели Гута наша область Вселенной началась с небольшого пространства — размером, возможно, меньше электрона. Пока исходная область находилась в состоянии ложного вакуума, она расширялась. Если это расширение продолжалось хотя бы одну триллионную триллионной триллионной доли секунды, Вселенная за это время успела раздуться до макроскопических размеров.
Крошечные размеры исходной области объясняли ее однородность: там просто не было места для каких-либо вариаций. Тем самым разрешались проблемы однородности и горизонта. Вся наша Вселенная — вернее, та область, которую мы называем нашей Вселенной, — была маленькой частью некоего первичного ложного вакуума. Когда инфляция расширила эту область до размера наблюдаемой Вселенной, она также увеличила радиус кривизны космического пространства. Это можно сравнить с надуванием огромного воздушного шара: находящемуся на его поверхности муравью видимая ему область будет казаться плоской, как на рис. 31.
Таким образом была решена еще одна проблема модели Большого взрыва — проблема плоскостности. Без инфляции Вселенная должна была «родиться» почти идеально плоской с кривизной, отличающейся от нуля не более чем на 1/1060 (60-я степень означает единицу с 60 нолями за ней) — в самом деле, чрезвычайно тонкая настройка. С инфляцией изначальная кривизна могла быть любой, в том числе близкой к нулю, как это предполагала модель Леметра, поскольку к моменту измерения она все равно казалась бы нам совершенно плоской.
И последнее, но не менее важное. Гут объяснил природу Большого взрыва: стремительное расширение Вселенной было вызвано магическим ложным вакуумом. Как только инфляция закончилась, скорость расширения Вселенной замедлилась до той относительно небольшой величины, которую обнаружил Хаббл. Таким образом, Гут не только объяснил первоначальное расширение Вселенной, но и показал, что «по сути, вся материя, энергия и энтропия наблюдаемой Вселенной были созданы в результате расширения и последующего распада ложного вакуума». На какой-то момент показалось, что бурлящий высокоэнергетический ложный вакуум Гута ответит на все вопросы космологов. Но вскоре пузырь лопнул.
Хлоп — и дело дошло до космоса
Жидкость в состоянии ложного вакуума и пузырьки в состоянии истинного вакуума были критическими компонентами модели Гута. Каждый из них играл определенную роль: ложный вакуум вызывал экспоненциальное расширение, а пузырьки истинного вакуума накапливали энергию на своих поверхностях. Когда эта энергия поверхностного натяжения высвобождалась, она превращалась в частицы и излучение, такие как лептоны, кварки, фотоны и нейтрино. Все это происходило в первые мгновения — в первую триллионную триллионной триллионной доли секунды — после рождения нашей Вселенной. Когда Вселенная достигла этого «зрелого» возраста, она начала стремительно раздуваться и через несколько минут такой инфляции расширилась и охладилась настолько, что в ней началось образование ядер. Все остальное, как говорится, уже космическая история (рис. 35).
Но и у инфляционной модели имелся изъян, и он казался фатальным. Темпы расширения ложного вакуума были столь стремительны, что Вселенная должна была раздуваться быстрее скорости света — и, следовательно, пузырьки не успевали сливаться. Поскольку накопленная в пузырьке энергия высвобождается только при столкновении с другим пузырьком — в процессе, называемом перколяцией, — это также означало, что во Вселенной неоткуда было взяться энергии, из которой могла образоваться материя. Пузырьки не могли встретиться, и Вселенная должна была оставаться стерильной, холодной и бесплодной, что явно противоречило наблюдениям. Более того, при таких условиях инфляция продолжалась бы безостановочно — эту головоломку вскоре назвали «проблемой изящного выхода». Если бы инфляционное расширение никогда не прекращалось, это стало бы спасительным смертельным ударом.
Наверняка вы уже заметили тенденцию: когда космологи не могут до конца разобраться с теорией, они называют это проблемой и, чтобы решить ее, выдвигают новую идею. Однако решение приносит новые проблемы. Это напоминает борьбу с тараканами: вы прихлопываете одного, а из-за угла выбегает десяток других. Сейчас вы думаете: «Держу пари, нашелся космолог, который придумал чисто теоретическое объяснение, решающее проблему изящного выхода, и это объяснение создало новую проблему». Что ж, вы совершенно правы. Но для того и существует экспериментальная космология: мы, экспериментаторы, не позволяем этим теориям размножаться, как тараканам, и готовим пестициды в форме наблюдательных данных!
Итак, когда модель Гута начала вызывать скепсис, на сцене появился Пол Стейнхардт. Стейнхардт специализировался на физике высоких энергий, но не хуже разбирался в физике конденсированного состояния (так называется большая ветвь физики, изучающая фазовые переходы). Как потом оказалось, он был идеальным кандидатом, чтобы вывести инфляционную модель на нужный путь.
В 1980 году Стейнхардт случайно услышал лекцию Алана Гута, как раз когда проблема изящного выхода казалась избавлением от инфляционного фатума. Он был зачарован. Его заинтриговала математика инфляционной модели и взаимодействия между физикой элементарных частиц и физикой конденсированных сред, а неспособность изящно завершить инфляцию взбудоражила. «Это была самая захватывающая и самая удручающая лекция, какую мне доводилось слышать», — вспоминает Стейнхардт{10}. Он не сомневался, что сможет найти решение, и притом быстро. «Я подумал, что отвлекусь на эту тему на несколько недель, — поделился со мной Стейнхардт в 2017 году. — В результате занимаюсь ею по сей день!»
Стейнхардт и его аспирант Андреас Альбрехт закатали рукава. Вскоре они поняли: чтобы решить проблему изящного выхода, им придется отказаться от любимой идеи Гута — внезапной перколяции пузырьков. Они заменили его более плавным процессом, называемым «медленное скатывание». Вместо стремительного соединения пузырьков в их обновленной модели фигурировал инфлатон, который превращался в обычную материю и излучение. Процесс по-прежнему занимал всего одну триллионную триллионной триллионной доли секунды. Вскоре российский физик Андрей Линде пришел к аналогичному решению, что добавило убедительности концепции, предложенной Стейнхардтом и Альбрехтом. Модифицированная теория получила название «новая инфляция».
После модернизации концепции инфляции Стейнхардт вместе с физиком Майклом Тернером из Чикагского университета решил посмотреть, как может выглядеть квантовая теория инфляции. Всем нам знакомы «классические» поля, такие как температура; в современной же физике поля квантовые. В отличие от плавных непрерывных функций, таких как значения температуры, квантовые поля могут иметь только определенные дискретные, или квантованные, значения.
Почти сразу же Стейнхардт и Тернер наткнулись на нечто удивительное[22]. Квантуя инфлатон, они добивались, чтобы он «скатывался» в дискретной, прерывистой (квантовой) манере, а не непрерывно и плавно, как обычный шар. Неожиданно ученые получили дивиденд: новая инфляция неизбежно порождала крошечные вариации в искривленности пространства-времени, маленькие складки.
Эти складки возникали в силу неравномерной инфляции на разных участках. Там, где энергия поля инфлатона была больше, даже случайно, расширение происходило быстрее, чем в других регионах. Эти регионы Вселенной превращались в пустоты с меньшей в среднем концентрацией материи и более слабой гравитацией. На картах температурной анизотропии реликта они выглядят как горячие пятна. Для областей инфлатона с меньшей плотностью энергии был характерен противоположный эффект: на картах CMB мы видим их в форме холодных пятен (рис. 36) {11}. Но, хотя новая квантовая инфляционная модель описала механизм возникновения флуктуаций, она не смогла объяснить, насколько велики, а точнее, малы эти флуктуации.
Тем не менее новая инфляционная модель имела большой успех. Наконец-то теория, описывающая начало Вселенной, решила больше проблем, чем создала. Хотя предсказанный паттерн искажений CMB был зарегистрирован аппаратурой COBE только в 1992 году, в конечном итоге его сочли первым успешным предсказанием — в противоположность ретроспекциям вроде проблем горизонта и плоскостности, которые инфляция была предназначена решить.
А как насчет уникальных предсказаний новой инфляции, надежных тестов, позволяющих поднять элегантное математическое построение на уровень полной теории космогенеза? Космологам требовалась неопровержимая улика, чтобы не подвергать инфляцию здоровым сомнениям, иначе этой теории было суждено остаться очередной историей, подобной библейскому нарративу о сотворении мира.
Гравитационные волны
Мы, космологи, ненасытны. Открытие реликтового излучения заставило нас задуматься о том, однородно оно или нет. После открытия анизотропии космологи захотели узнать, как возникли эти крошечные складки. В конце концов мы решились задать вопрос: что было до возникновения микроволнового фона? Существуют ли какие-то реликтовые следы, позволяющие нам вернуться к «нулевой точке во времени» и узнать, действительно ли Вселенная пережила стремительную инфляцию? Нужны были самые первые и вездесущие следы, достаточно устойчивые, чтобы они могли сохраниться до наших дней.
Фотоны реликта с их бесконечным сроком жизни соответствовали этим критериям, но они возникли слишком поздно — только через 380 000 лет после Большого взрыва. Два других кандидата — стабильный и вездесущий гелий и дейтерий — образовались в первые 20 минут и первые две минуты после рождения Вселенной соответственно. Это было гораздо лучше, но все равно не то. Космологи хотели заглянуть в самое начало — в первую крошечную долю секунды от начала отсчета времени.
И такой древний вестник был найден: гравитационные волны, возмущения поля тяготения, которые движутся со скоростью света и распространяются по всему космосу. Хотя гравитация может показаться самой мощной силой природы, особенно когда вам нужно передвинуть диван, на самом деле это самая слабая из четырех фундаментальных сил. Но в этой слабости — ее сила. И когда дело доходит до тестирования инфляционной модели, гравитация особенно полезна.
Вскоре после того, как была предложена новая инфляционная теория, космологи пришли к выводу, что инфлатон, будучи квантовым полем, не может скатываться плавно. Он должен подергиваться и напоминать скорее нетвердую походку пьяного, чем ровное, уверенное движение вниз. В 1984 году физики Ларри Эббот и Марк Вайз показали, что хаотическое движение инфлатона в новой модели неизбежно должно было порождать гравитационные волны — события, происходившие не в первые 20 минут, а в первую триллионную триллионной триллионной доли секунды после Большого взрыва{12}.
Как и фотоны, гравитационные волны живут вечно. Но, в отличие от света, они проникают повсюду — нет материи во Вселенной, способной помешать им. Это объясняется тем, что гравитационные волны представляют собой рябь внутри самой ткани пространства-времени, тогда как фотоны движутся по пространству-времени. Они могли сохраниться со времен эпохи инфляции до момента формирования реликтового излучения, когда они могли исказить гравитационное поле, воздействовавшее на фотоны.
Представьте, что вы живете на небольшой планете, практически полностью покрытой водой, как показано на рис. 37. Если на такой планете произойдет взрыв, вы сможете узнать о нем, даже не видя и не слыша его, просто наблюдая волны на поверхности океана, и даже определить его мощность. Гравитационные волны играют для космологов такую же роль, неся информацию о сгенерировавшей их инфляции. Единственное, вам нужно дождаться, когда эти волны дойдут до вашего поля зрения. В нашем случае порожденные инфляцией гравитационные волны должны были прокатиться по первичной плазме и вызвать ее специфические деформации, которые неизбежно должны отразиться на ее свечении, которое сегодня мы видим в форме реликтового излучения. Другими словами, наблюдаемый космический микроволновой фон должен содержать специфические структуры, которые несут информацию о мощи инфляционного «взрыва», произошедшего задолго до формирования самого реликтового излучения. Если эти структуры будут обнаружены экспериментальным путем, это станет весомым доказательством в пользу инфляционной модели; если же нет, может оказаться охотой за призраками.
Да здравствуют В-моды!
Всего через три года после открытия микроволнового фона астрофизик из Кембриджского университета Мартин Рис предсказал, что реликтовое излучение может быть поляризовано, если свечение первичной плазмы содержало незначительные отклонения от идеальной однородности{13}. Как мы видели в 6-й главе, поскольку свет, окружавший электроны в плазме в момент последнего рассеяния, не был абсолютно изотропным — идеально однородным, рассеянный свет мог стать поляризованным, даже если изначально он был неполяризован. Именно это и обнаружилось в ходе эксперимента DASI.
Необходимое количество анизотропии могло образоваться самыми разными путями, но гравитационные волны, вызванные инфляцией, особенно интересны. Двигаясь со скоростью света, гравитационные волны сжимают пространство-время в одном направлении и растягивают в перпендикулярном. Соответственно, первичные гравитационные волны могли сжать и растянуть первичную плазму таким образом, что вдоль оси сжатия фотоны стали немного горячее (и сместились в синюю сторону спектра), а перпендикулярно этой оси, наоборот, немного холоднее (и сместились в красную сторону), как показано на рис. 38.
В 1985 году российский астрофизик Александр Полнарев, который позже стал моим наставником, пришел к выводу, что чередующееся асимметричное сжатие и растяжение пространства-времени, вызванное гравитационными волнами, неизбежно должно индуцировать закручивающуюся, «вихревую» структуру в ориентации поляризации древнего света. Полнарев предположил, что эту вихревую поляризацию в принципе можно обнаружить экспериментальным путем. По сути, такая уникальная структура поляризации (рис. 39) должна быть признаком инфляции, поскольку она может существовать только в одном случае: если космологические гравитационные волны взаимодействовали с первичной плазмой в момент излучения фотонов микроволнового фона. Впоследствии эта вихревая структура была названа В-модой поляризации{14}.
Если первичных гравитационных волн достаточно, B-моды поляризации должны обнаруживать себя в виде реликтового излучения — конечно, если мы могли бы их увидеть (рис. 40). И это стало бы неопровержимым свидетельством инфляции.
Теоретически история инфляции прояснилась. Получился настоящий детектив, где главный подозреваемый — инфлатон; его тайное убежище и поведение в первые доли секунды от начала времен были раскрыты (рис. 41). Оставалось лишь найти «дымящийся пистолет» — гравитационные волны, которые обеспечили бы неопровержимые улики. А дымком из пистолета стали знаменитые завихрения B-мод.
Именно это я отчаянно желал увидеть с помощью телескопа, который проектировал, будучи постдоком. Я надеялся, что BICEP станет очками для чтения величайшей из когда-либо рассказанных историй.
Глава 8. Мы строим машину времени
Вся жизнь — эксперимент. Чем больше вы экспериментируете, тем лучше.
Ральф Уолдо ЭмерсонКазалось, между экспериментальной космологией и инфляционной моделью существует некий сговор: все полученные наблюдательные данные свидетельствовали в пользу этой теории. Открытый Пензиасом и Уилсоном космический микроволновый фон предполагал, что Вселенная пережила расширение и охлаждение, — инфляция объясняла причину. COBE обнаружил крошечные флуктуации в безликом, казалось бы, реликтовом излучении — это было предсказано инфляционной моделью. Эксперимент BOOMERanG убедительно показал, что наша Вселенная — абсолютно плоская, и это тоже вписывалось в картину инфляции. Реликтовое излучение уподобилось игровому автомату в Стокгольме, щедро раздающему золотые призы.
Между тем признаки расширения, плоскостности и однородности, обнаруженные в наблюдаемых данных о реликтовом излучении, были необходимым, но недостаточным условием доказательства инфляции. Вот почему B-мода поляризации так волновала: это был лучший шанс на Нобелевскую премию.
На самом деле открытие поляризации В-типа должно было принести не одну, а как минимум три Нобелевские премии, рассуждал я. Одна, разумеется, должна быть присуждена собственно за обнаружение B-мод, что окончательно доказало бы инфляцию и существование ее нового скалярного поля — инфлатона. (Открытие нового скалярного поля, позволившее предсказать бозон Хиггса, уже привело к Нобелевской премии по физике 2013 г.) Вторая премия должна была достаться за косвенное обнаружение первичных гравитационных волн. И третья (по порядку, но не значимости) — за доказательство того, что B-моды в реликтовом излучении вызваны не просто гравитационными волнами, а первичными гравитационными волнами, порожденными квантовыми флуктуациями в инфлатонном поле. Это было бы нашим первым и, вероятно, единственным доказательством квантовой гравитации{1}. Это была не просто космология. И даже не экспериментальная космология. Это была экспериментальная квантовая космология, открытие на все века.
Я был уверен, что смогу это сделать. Разумеется, не в одиночку. В Стокгольм не ездят по одному.
Присоединяйся и слушай![23]
«Я слышал, вы любите играть в теннис». Это была осень 2000 года. Прошло всего несколько месяцев с тех пор, как меня выгнали из Стэнфорда, и я обосновался в Пасадене. И вот наконец-то я набрался смелости, чтобы завести разговор с д-ром Джейми Боком. Высокий, блестяще образованный, с длиннющим послужным списком, он вызывал у меня робость. Он выглядел как президент какого-нибудь студенческого братства на Восточном побережье[24] — во всех своих появлениях, вплоть до роскошного спорткара Mazda Miata, на котором приезжал в Калтех.
После окончания Университета Дьюка Бок поступил в аспирантуру Калифорнийского университета в Беркли, где в лаборатории Эндрю Ланге построил небольшой космический телескоп. После этого, оказавшись в подвешенном состоянии между постдоком и профессором, он принял предложение стать научным сотрудником в Лаборатории реактивного движения НАСА. К сожалению, главным препятствием на его пути к преподавательскому месту в Калтехе был сам Ланге. Большинство университетов, даже таких богатых, как Калтех, не могут позволить себе держать двух профессоров, работающих над одним и тем же проектом. Таким образом, Бок, вынужденный ежегодно подавать заявки на финансирование и, по-видимому, не имеющий шансов получить постоянное преподавательское место в Калтехе, оказался в незавидном положении.
Но Бока, похоже, это не напрягало. Он обожал свое дело. Не будучи генератором идей, как Ланге, он был техническим гением: Бок мог найти самое технологичное и элегантное решение, какую бы задачу перед ним ни поставил Ланге. Он был, как Стив Возняк при Стиве Джобсе, мастер-виртуоз и незаметный труженик.
Когда я с ним познакомился, Бок уже был легендой в сообществе экспериментальных космологов. Он был ключевой фигурой во многих успешных экспериментах Ланге, включая эксперимент BOOMERanG, подтвердивший плоскую форму Вселенной. BOOMERanG принес Ланге всемирную известность, а также, на мою удачу, привел его с лекцией в Стэнфорд в тот самый момент, когда я стоял на перепутье. Хотя именно Бок разработал гениальную конструкцию паутинных болометров, как вы могли догадаться, бо́льшая часть славы досталась именно Ланге.
Итак, в 2000 году BOOMERanG подтвердил предположения теоретиков о том, что наша Вселенная лишена кривизны — это означало, что либо Вселенная была идеально плоской изначально, либо стала такой под действием какого-то механизма наподобие инфляции. Проект BOOMERanG и открытия COBE об однородности Вселенной означали, что все низко висящие фрукты инфляционной модели уже сорваны. Однако до сих пор не было данных, объясняющих, почему наша Вселенная плоская, плодородная и пригодна для жизни. И такими данными могли стать B-моды поляризации, обнаруженные в реликтовом излучении.
Чтобы осуществить эксперимент с реликтом в Калтехе, мне требовалась поддержка Ланге. Хотя на собеседовании я сумел бодро донести до Ланге идею с новым телескопом и произвести на него впечатление, это всего лишь открыло мне двери в его лабораторию. Я находился в некотором роде на испытательном сроке; в конце концов, Ланге узнал обо мне от своей бывшей аспирантки Сары Чёрч всего несколько месяцев назад, после того как она уволила меня из Стэнфорда. Мне еще предстояло завоевать доверие и благосклонность этого корифея экспериментальной космологии. За его внимание шла ожесточенная борьба. Помимо меня в лаборатории Ланге работали еще шесть постдоков, и каждый из нас надеялся однажды получить его благословение: хвалебное рекомендательное письмо — гарантированный билет на постоянное преподавательское место. Мне нужно было выделиться из этой орды постдоков во что бы то ни стало. И я рассчитывал, что в этом мне поможет правая рука Ланге — Джейми Бок.
В старших классах школы я занимался теннисом, но потом забросил его и потерял форму. Вскоре после прихода в Калтех я заметил на столе у Бока теннисную ракетку. Как раз напротив лаборатории Ланге, по ту сторону Калифорнийского бульвара, находилось несколько теннисных кортов, которые вечерами в будни часто бывали свободны. По правде говоря, бо́льшая часть спортивных сооружений в Калтехе обычно пустовала: там было не так много заядлых любителей спорта.
Мы с Боком договорились играть раз в неделю по четвергам. Это была редкая возможность сменить интеллектуальные нагрузки Калтеха с его сверхконкурентной обстановкой на физические. В отличие от многих спортивных состязаний в Калтехе, домашняя команда в лице Джейми Бока почти всегда побеждала. Но я не терял интерес, и он никогда не отменял наши матчи. В перерывах между сетами мы обсуждали мои идеи новых экспериментов.
Через несколько недель мне удалось впервые выиграть матч. Ободренный победой, я беззастенчиво эксплуатировал его страсть к теннису. «Джейми, — сказал я, — что, если попытаться доказать существование первичных гравитационных волн, используя B-моду поляризации реликтового излучения? Разве это не будет самым большим из всех Больших шлемов?»
По-видимому, не желая травмировать мое и без того ущемленное теннисом эго, он не стал сразу высмеивать мою идею. «Ну да, конечно, может быть», — деликатно пробормотал он. Однако я не сдавался. Идея протестировать инфляцию его заинтриговала, но, не будь у меня технической приманки, он бы не попался на мой крючок и мой единственный шанс получить нобелевское золото прошел бы мимо.
Я объяснил ему свои мысли по поводу применения новой технологии, которой занимались он и Ланге. Перед ними стояла задача разработать новые болометры для будущего спутника Planck, которые, в отличие от предыдущих паутинных детекторов, будут чувствительны к поляризации реликта. Эти новые болометры в сочетании с простым телескопом, используемым в эксперименте для моей диссертации (POLAR), могли бы измерять инфляционные B-моды. А главное, там должно быть много важной технической работы.
Я закинул удочку, но мне требовалась помощь. К счастью, почти одновременно со мной в Калтех пришел профессор Марк Каменковски, талантливый молодой физик-теоретик, один из авторов того самого «Руководства по изучению поляризации», которое весь прошлый год не выходило у меня из головы и отвлекало от обязанностей постдока в лаборатории Сары Чёрч. Каменковски помог мне составить несколько графиков, наглядно показывающих эффективность небольшого телескопа в охоте за B-модами.
Предлагаемый мной подход был привлекателен по ряду причин. Именно небольшой преломляющий телескоп позволил Галилею увидеть спутники Юпитера и таким образом получить решающий аргумент для опровержения геоцентризма. Каждый телескоп имеет предельное разрешение, от которого зависит наименьшая величина видимого им астрономического объекта. Разрешение зависит от диаметра линзы или зеркала телескопа и длины световых волн, которые он собирает. Диаметр телескопа для астрономов так же важен, как площадь недвижимости для риелторов, уступая только хорошему месторасположению. Но стоимость телескопов растет пропорционально не их диаметру, а площади, собирающей поверхности, т. е. пропорционально квадрату диаметра. Телескоп диаметром 60 см стоит в четыре раза дороже, чем телескоп диаметром 30 см. Умные астрономы строят телескопы ровно того размера, который позволяет уловить нужные им сигналы, и ни сантиметром больше.
Каменковски помог мне убедить Бока. Теперь нужно было, чтобы Бок помог мне убедить Ланге. Мы придумали, как преподнести идею в духе презентации в лифте: мы сделаем снимок новорожденной Вселенной в первые доли секунды после Большого взрыва с помощью небольшого телескопа-рефрактора, который одобрил бы сам Галилей — наш с Ланге общий кумир. И вот день нашего питча наступил. Едва мы выпалили свое предложение, Ланге прорвало: «Да это будет стоить несколько миллионов!»
Мое сердце остановилось. Ланге был прагматиком, который не покупался на «гениальные» идеи, особенно если те стоили миллионы долларов. Я был сокрушен; моя мечта умерла, не успев родиться. Но тут Ланге вздохнул и добавил: «Но идея хорошая… очень хорошая!» Он клюнул.
Его благословение имело решающее значение. Мы получили добро и приступили к работе. Убедившись, что телескоп действительно способен выполнить возлагаемую на него задачу, я придумал эксперименту броское название: «Фоновое отображение космической внегалактической поляризации» (Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization), сокращенно BICEP — бицепс[25], мышца, необходимая для упражнений под названием «завихрения», как Каменковски, Артур Косовски и Альберт Стеббинс называли вихревой компонент поляризации, широко известный как B-моды.
Нашим вторым приоритетом были деньги. В отличие от Галилея, который ревностно оберегал свое изобретение от широкой огласки, у нас была противоположная задача: нам требовалось внимание. Первую заявку на финансирование мы с Ланге и Боком подали в 2002 году. Президент Калтеха (и лауреат Нобелевской премии по физиологии/медицине) Дэвид Балтимор стал нашим Козимо Медичи, согласившись профинансировать наш проект из средств президентского дискреционного фонда. Я абсолютно убежден, что без его финансовой поддержки наш эксперимент никогда бы не состоялся; астрономы привыкли считать, что чем больше телескоп, тем лучше. Наш эксперимент бросал вызов этой парадигме и казался слишком умозрительным, чтобы более консервативные федеральные агентства были готовы разделить этот риск. Вряд ли их стоит в этом винить. Даже Ланге часто шутил, что поиск B-мод поляризации в реликтовом излучении может оказаться охотой за призраками.
Вскоре после того, как мы получили финансирование, Ланге отправил меня в «рекламный тур», чтобы привлечь внимание к проекту BICEP. Он даже заставил меня поехать в Кону на Гавайи, где проходила астрономическая конференция. Это путешествие вылилось в мою первую научную статью, где впервые с момента открытия Йеркской обсерватории больше века назад описывалась новая конструкция рефрактора{2}.
BICEP: требуется сборка
Чтобы построить телескоп BICEP, нам потребовалось пять лет и 2 млн долларов. Вы тоже можете провести эксперимент с поляриметром — для этого на закате наденьте поляризационные солнцезащитные очки и поворачивайтесь вокруг себя, стоя на месте и глядя на зенит. Поскольку при рассеянии на молекулах воздуха свет поляризуется, вы заметите, что за один полный оборот яркость неба дважды меняется со светлой на темную и наоборот (рис. 42). Такое двукратное изменение яркости является характерным признаком поляризации.
Как и обычные солнцезащитные очки, все поляриметры включают четыре элемента: оптическую систему (у вас это хрусталик глаза), поляризационный фильтр, разделяющий вертикально и горизонтально поляризованный свет (ваши очки), детектор (сетчатка глаза) и поляризационный модулятор (ваши ноги, позволяющие вам вращаться), благодаря ему интенсивность света, проходящего через каждый поляризационный фильтр, меняется предсказуемо.
Все эти четыре компонента были и в BICEP. Его оптическая система состояла из 30-сантиметровых линз, изготовленных из полиэтилена высокой плотности (из подобного материала делают пластиковые бутыли для молока). Хотя нам эти контейнеры кажутся непрозрачными, они почти идеально пропускают микроволны. Две линзы обеспечивали четкую видимость в поле зрения порядка 20°, что эквивалентно двум кулакам, если держать их на расстоянии вытянутой руки.
Поляризационные фильтры и детекторы были объединены в так называемые поляризационно-чувствительные болометры (рис. 43). BICEP не требовались отдельные поляризационные очки и сетчатка, поскольку сами его детекторы предназначались для улавливания поляризации света. Каждый пиксель BICEP содержал два болометра: один для горизонтальной поляризации, другой — для вертикальной.
На самом деле наша сетчатка глаза состоит не из одного «детектора». Она насчитывает около 6 млн колбочковидных зрительных клеток, улавливающих частоту света и способных различать миллионы цветов, и 100 млн палочковидных зрительных клеток, позволяющих нам видеть самые слабые источники света, даже один фотон{3}. Как и человеческая сетчатка с ее миллионами колбочек и палочек, «сетчатка» BICEP имела большое количество детекторов. Конечно, по сравнению с человеческим глазом или даже камерой смартфона количество детекторов BICEP — 98 штук— казалось жалким. Но они были способны уловить, если нам повезет, следы первичных гравитационных волн в самом древнем свете во Вселенной. Такого не мог сделать ни один самый продвинутый смартфон.
Чтобы уловить фотоны реликтового фона, детекторы требовалось охладить до температуры на 0,25 °C выше абсолютного нуля. И здесь лилипутские размеры BICEP давали ему огромное преимущество. Благодаря небольшому размеру — меньше 1,5 м в длину — весь телескоп можно было поместить внутрь большого криостата. Этот криостат представлял собой цилиндрический сосуд, внутри которого были размещены все оптические элементы и детекторы BICEP и поддерживалось давление в миллион раз ниже, чем на уровне моря (рис. 44).
Поддержание вакуума внутри криостатной трубы телескопа имело решающее значение; если бы внутри осталось слишком много молекул воздуха, они бы забирали тепло со стенок и переносили его на детекторы, делая их бесполезными. Внутри трубы находились две камеры с жидким гелием и специальное охлаждающее устройство, в котором использовалась жидкая форма изотопа гелия — жидкий гелий-3. Обычный жидкий гелий позволял охладить BICEP до 3 кельвинов, а гелий-3 помогал достичь температуры в 0,25 кельвина. Впервые в человеческой истории мы охладили весь телескоп до температуры межзвездной среды. Галилей, который кое-что знал о термометрии, несомненно, это бы оценил.
Наконец, четвертым ключевым компонентом всех поляриметров является поляризационный модулятор. В BICEP эту функцию выполняла станина весом больше 4500 кг, которая позволяла управлять сложными вращениями телескопа с фантастической точностью. Больше года мы собирали и разбирали эту конструкцию и подвергали всевозможным тестам, чтобы убедиться в ее безупречной работе (рис. 45). Нам нужно было отладить все системы BICEP в Пасадене — здесь это сделать было гораздо проще, чем в том удаленном от цивилизации месте, где телескопу предстояло выполнять свою работу.
Проект BICEP был экспериментальным, а экспериментов, в которых все идет гладко, не бывает. Собрав новый инструмент, мы, экспериментаторы, тратим огромное количество времени на то, чтобы понять его несовершенства и свести к минимуму «погрешности», хотя этот термин плохо отражает суть работы.
Погрешности — это не ошибки. Напротив, они неизбежный побочный результат экспериментов в нашем несовершенном, зашумленном мире. Погрешность отражает разницу между полученным результатом и тем, который показал бы совершенный инструмент (его значение вам неизвестно). Неопределенность измерений — это диапазон, который предположительно содержит правильное количественное значение. После того как эксперимент запущен, экспериментаторы оценивают уровень достоверности своих измерений, определяющий вероятность того, что истинное значение измеряемой величины, т. е. то, что было бы получено при использовании совершенного инструмента, попадает в заданные границы неопределенности.
Следует выделить два основных типа погрешностей. Первый — инструментальная систематическая погрешность. Например, термометр, который постоянно показывает на 10° выше, необходимо корректировать, откалибровать, например сравнив его показания с показаниями другого. После этого полученную разницу можно просто вычитать. Второй тип погрешностей называется шумом; он обусловлен случайными вариациями результатов измерений. К счастью, шум ведет себя предсказуемым образом и может быть сведен к минимуму путем многократных повторных измерений для получения усредненного результата.
Чем лучше организован эксперимент, тем он устойчивее к систематическим ошибкам и шуму. Потенциальных источников искажений великое множество: они могут исходить и от самого инструмента, и от условий. Систематические погрешности связаны с измерениями, с конструкцией инструмента, с методом анализа данных или физическими факторами. Экспериментаторы стараются создать инструмент с минимальным уровнем случайных помех, а потом бóльшую часть времени тратят на устранение систематических погрешностей. Их цель — максимизировать как прецизионность (с учетом всех случайных помех), так и достоверность своих измерений (близость результатов к истинному значению). Обратите внимание, что прецизионность не подразумевает достоверности, и наоборот.
Говоря о качестве измерений, экспериментаторы используют величину, называемую отношением сигнал/шум, сокращенно С/Ш{4}. С/Ш показывает, насколько значимым является измерение, т. е. насколько мы уверены в том, что оно отражает реальный сигнал, а не просто случайное колебание. Низкое значение С/Ш указывает на низкую уверенность в измеренном сигнале, вплоть до того, что это может быть просто статистическая случайность. Высокое значение С/Ш указывает на высокую уверенность в реальности сигнала. Как правило, чтобы заявить об открытии нового астрономического феномена, мощность сигнала должна быть как минимум в три раза выше мощности шума. Так было у Пензиаса и Уилсона: они измерили новый сигнал с температурой в 3,5 кельвина — космическое микроволновое фоновое излучение — с неопределенностью около 1 кельвина. Это означало, что их С/Ш составляло 3,5. Результаты были быстро подтверждены, поскольку другие экспериментаторы зарегистрировали сопоставимые сигналы.
Однако напомним, что Пензиас и Уилсон не пытались ничего доказать и ничего не искали. Мы же, в проекте BICEP, искали конкретный сигнал, хотя и не знали, сможем ли его уловить и существует ли он вообще. Мы ничего не знали о нашем сигнале. Он вполне мог оказаться равным нулю, а нулевой сигнал всегда дает С/Ш = 0.
Радарная любовь
У Пензиаса и Уилсона имелось еще одно преимущество перед командой BICEP: во-первых, в их распоряжении была та же рупорная антенна, которую использовал Эд Ом. Во-вторых, к ним в руки попала убойная технология, изобретенная их конкурентом Робертом Дикке пару десятилетий назад, когда он занимался разработкой радара для нужд армии во время Второй мировой войны. Модулятор, получивший название переключателя Дикке, предназначался для калибровки радиометров, и с его помощью Пензиас и Уилсон наконец-то сумели устранить систематические погрешности измерений, преследовавшие Ома. Урок был ясен: чтобы избавиться от систематических погрешностей, нам нужно было изобрести собственный «переключатель». Мы не собирались идти по стопам Ома.
Мы с Ланге не вылезали из лаборатории, пытаясь разобраться в тонкостях работы нашего криогенного телескопа и его поляризационно-чувствительных болометров. Казалось, Ланге был очарован неожиданной сложностью, порой даже капризностью нового инструмента. Я же чувствовал себя немного виноватым, ведь я соблазнил его простотой эксперимента. «Поведение этой машины сложнее, чем вся космология вместе взятая», — однажды пошутил он, посоветовав мне не отчаиваться из-за странных выходок нашего детища. И добавил: «Новый эксперимент — как влюбленность. Это сильнее тебя»{5}.
Мы с Ланге разработали новое устройство, действующее подобно переключателю Дикке, назвав его фарадеевским модулятором. И оно работало! Причем так хорошо, что мы решили его запатентовать. И у меня, и у Ланге этот патент был первым{6}. Чтобы догнать Альфреда Нобеля, нам оставалась запатентовать еще 354 изобретения.
Мы по-прежнему не определились с тем, в какой именно части неба искать поляризованный отпечаток первичных гравитационных волн. Мы знали, что сигнал B-мод, если он существует, будет самым сильным на угловом масштабе в 2°, что означает, что этот паттерн поляризации может быть обнаружен на участке неба величиной с ваш большой палец, если держать его на расстоянии вытянутой руки. Но ограничиться сканированием одной двухградусной области было недостаточно. Даже если бы обнаружилось что-то интересное, это могло оказаться простой флуктуацией. Чтобы получить надежные результаты, нам нужно было исследовать большое количество таких двухградусных участков неба.
С помощью нашего коллеги Эрика Хивона, также постдока в Калтехе, мы рассчитали, что BICEP необходимо охватить регион неба площадью примерно в 1000 квадратных градусов. На таком огромном участке потенциально могли уместиться сотни B-мод, что существенно повысило бы значимость измерений.
Но где найти такой участок неба? Нам требовался регион с минимальным загрязнением от Млечного Пути. Как известно, наша галактика Млечный Путь содержит большое количество газа и пыли — этой космической субстанции, которая играла в свои грязные игры с астрономами еще со времен Галилея. К 2001 году еще не было проведено никаких полноценных исследований поляризации неба на таких угловых масштабах и на таких частотах. Оставалось самим искать подходящий регион неба, что могло оказаться сложной задачей. В отличие от Галилея, мы не могли просто направить наш телескоп на какой-нибудь яркий объект в небе, такой как Юпитер. Более того, наш сигнал представлял собой микроволновое излучение; по сути, мы не могли видеть искомую цель. А от того, насколько правильно мы выберем место, зависело очень многое.
Место, место и место
Мы знали, что сигнал инфляционных гравитационных волн в космическом микроволновом фоне будет чрезвычайно слабым. Даже если он действительно существует, понадобятся годы, чтобы его найти. Мы также знали, что существует множество источников микроволн, которые могли сымитировать инфляционные B-моды. Эти источники загрязнения могли находиться в атмосфере и окружающем телескоп ландшафте. Вся галактика Млечный Путь купалась в микроволнах; одни исходили от космической пыли, облучаемой светом звезд, другие — от электронов, вращавшихся вокруг магнитных полей Галактики.
Поиски идеального места наша группа начала с космической «недвижимости». Мы обнаружили некое подобие «зоны Златовласки» — участок неба, подходящий для наших целей: не слишком большой и не слишком маленький, который можно было изучать годами.
Теперь нам требовалось найти подходящее место для размещения BICEP на Земле. Мы не могли вести наблюдения из Калифорнии из-за слишком высокого содержания водяного пара в атмосфере, даже над пустынями на юге штата. Вода, хотя и является основой жизни, существенно затрудняет жизнь космологам, поскольку прекрасно поглощает микроволны. В идеальном мире мы вышли бы за пределы земной атмосферы. Но для этого понадобился бы спутник, строительство и запуск которого обошлись бы в миллиард долларов.
Для ученых, которым не по карману наблюдения из космоса, есть более бюджетный вариант — Антарктида. По сути, Антарктида — это самая большая и самая высокогорная пустыня в мире (2,7 км над уровнем моря) с минимальным годовым количеством осадков. Снег, который вы видите на фотографиях Южного полюса, в основном занесен сюда ветрами из прибрежных районов. Это самый холодный материк на нашей планете. Но этот холод в известном смысле пошел на пользу нашему телескопу, уменьшив избыточное тепло, которое могло загрязнить наши измерения. Кроме того, полярная ночь в Антарктиде длится целых шесть месяцев. И наконец, именно здесь находился телескоп DASI, который в 2002 году впервые зарегистрировал поляризацию CMB. Короче говоря, это был идеальный выбор.
С помощью одного из бывших аспирантов Ланге, Билла Хольцапфеля, теперь космолога в Калифорнийском университете в Беркли, мы сумели получить финансирование от Бюро полярных программ (Office of Polar Programs) Национального научного фонда на размещение BICEP на антарктической исследовательской станции Амундсен — Скотт. Финансирование программы стало огромным стимулом для всех нас, и особенно для меня, поскольку это был мой первый проект такого уровня. Казалось, все идет лучше некуда.
Помимо денег, Бюро полярных программ предоставило в наше распоряжение бо́льшую часть здания со зловещим названием Лаборатория Темного сектора, расположенного всего в полумиле от Южного полюса. (Я с облегчением узнал, что Дарт Вейдер не имеет к Темному сектору никакого отношения: эта зона называется темной просто потому, что в ней не разрешена радиосвязь.) Итак, к концу 2005 года BICEP был готов покинуть родное гнездо и отправиться на долгую зимовку на юг.
Постепенно до меня дошло: путь в Стокгольм лежал через Южный полюс. Это было вовсе не то путешествие, о котором я мечтал. Честно признаться, у меня из головы не выходила печальная судьба Роберта Скотта и его товарищей, замерзших до смерти посреди безжизненной ледяной пустыни. Но я зашел слишком далеко, чтобы повернуть назад. Я стал пленником собственной мечты. Пришлось, имитируя героизм и непреклонность бритта, отправиться навстречу невероятному приключению в надежде, что оно не окажется последним в моей жизни.
Глава 9. Герои льда и пламени
К тому же следует признать, что я никогда не питал страсти к полярным исследованиям.
Роберт Фолкон Скотт, 1904 годОт одного только слова «Антарктика» у меня по спине пробегал озноб. Антарктида — это самое холодное, самое ветреное, самое пустынное и самое удаленное от цивилизации место на Земле. Здесь есть несколько научных аванпостов, но людей на них едва ли не меньше, чем на Международной космической станции. Транспортное сообщение с материком чрезвычайно ограниченно. Попасть на Южный полюс — и выбраться оттуда — еще труднее.
Готовясь к путешествию, я тщательно изучил историю героев-первооткрывателей XXI века. Почти сразу после открытия Антарктиды Южный полюс — эта небольшая точка в самом низу планеты — стал центром притяжения для многих исследователей. Они стремились туда, несмотря на смертельные опасности. По сравнению с ними я чувствовал себя трусом и слабаком. Тем не менее я обнаружил общую черту у героев-полярников и героев науки, которые были моими кумирами: страсть.
Победа, будь то в науке или исследовании новых земель, приносит всемирную известность и вечную славу. То и другое требует невероятного напряжения интеллектуальных и физических сил почти на грани человеческих возможностей. Как и первые полярные исследователи, некоторые ранние лауреаты Нобелевской премии заплатили здоровьем за награду — самые известные из них Пьер и Мария Кюри{1}. И в обеих областях царят разобщенность, конкуренция и даже предательство.
В 1901 году, когда Вильгельм Рентген получил первую Нобелевскую премию по физике, Роберт Фолкон Скотт отправился в свою первую экспедицию на Антарктиду, чтобы стать первым человеком, достигшим Южного полюса. Хотя он и его команда не смогли дойти до полюса — пройдя около 500 миль вглубь материка, они были вынуждены повернуть назад из-за цинги, — но много узнали о географии и климате этого заповедного континента. В 1904 году Скотт покинул Антарктиду, полный решимости вернуться.
Несколько месяцев перед моим отбытием «во Льды»[26], назначенным на декабрь 2005 года, я не мог оторваться от дневника Скотта, написанного им в ходе второй, оказавшейся фатальной, экспедиции к Южном полюсу{2}. Своей манерой письма он напоминал мне современного ученого-лидера, настоящего «научного руководителя». Скотт педантично перечислял все взятые припасы и снаряжение, подробно описывал членов команды (разношерстного сборища из интеллектуалов и бандитов). Как и нам, ему была присуща непоколебимая вера в науку, включая такие новые направления, как полярная метеорология{3}.
И наоборот, его конкурент из Норвегии Руаль Амундсен сделал ставку на стремительный марш-бросок к Южному полюсу на собачьих упряжках, не утруждая себя задачами и логистическими сложностями научно-исследовательской экспедиции. Бедные собаки не только тащили упряжки, но и служили норвежцам едой после лыжных пробегов. Пока Скотт готовился к походу на полюс, к своему ужасу, он обнаружил, что Амундсен, которому не удалось первым оказаться на Северном полюсе, вступил в соревнование с ним. Боясь проиграть, Скотт совершил, по мнению многих, смертельную ошибку: вместо того чтобы вернуться назад, как в 1904 году, он решил опередить норвежцев. Это означало, что Скотту и его команде пришлось передвигаться намного быстрее, быстрее расходуя драгоценное топливо и еду. Оглядываясь сегодня в прошлое, мы можем сказать, что их погубил не холод. Их погубил страх проиграть гонку за полярный приз, борьбе за который Скотт посвятил свою жизнь.
Гонка по нисходящей[27]
К счастью, за организацию моего путешествия отвечали опытные сотрудники из Бюро полярных программ. На Южный полюс меня доставляли в основном на военном самолете; а самым большим потрясением стала информация, что в летных документах пассажиры официально называются «самозагружающимся грузом».
Мое первое путешествие на Южный полюс в 2005 году помнится так ярко, словно это было вчера. Как и Роберт Фолкон Скотт, я вел подробный дневник. Как и Скотт, не знал, когда вернусь на Большую землю. Но, в отличие от него, не испытывал ни малейших лишений. Я двинулся в путь 10 декабря 2005 года, в 109-летнюю годовщину смерти Альфреда Нобеля, с двумя чемоданами: в одном были запасы кошерных продуктов на месяц «экспедиции». Второй предназначался для теплой одежды. Как и все матери, моя дала мне мудрый совет: «Возьми куртку!» Я легкомысленно отмахнулся: «Мама, мне дадут куртку. На самом деле мне дадут две, если я захочу: одну — Carhartt, а другую на гусином пуху». Последняя была ярко-красного цвета с отражателем на спине, чтобы в случае чего поисково-спасательной команде было проще найти во льдах мое замерзшее, безжизненное тело. Будучи послушным сыном, об этом я умолчал.
После короткого перелета из Сан-Диего в Лос-Анджелес я двинулся в традиционное место отправки антарктических экспедиций. Это был Крайстчерч — милый небольшой городок в Новой Зеландии, построенный по образу и подобию Стратфорда-на-Эйвоне в Англии. Даже река там называется Эйвон, и можно провести денек, катаясь по ней в деревянной лодке. Именно отсюда Роберт Скотт отбыл в свое последнее путешествие к Южному полюсу, а после того как он не вернулся, его жена изваяла скульптуру из белого мрамора. Трагическое изображение Скотта, идущего на север, словно он возвращается к ней, в Лондон.
Одного дня в Крайстчерче более чем достаточно, чтобы зарегистрироваться на рейс и собраться в поездку. Вам не нужно ходить по магазинам, чтобы закупить необходимое снаряжение: его выдают на месте — при условии, что вы сумеете разобраться в местном сленге. «Зайдите в ЦВО и получите ЭХП. Только после этого вы допускаетесь до вылета из КТЧ в МКМ!» — гласила суровая табличка в пункте сбора. В переводе на нормальный язык: ЦВО — центр выдачи одежды; ЭХП — снаряжение для экстремально холодной погоды; КТЧ — Крайстчерч; МКМ — американская антарктическая станция Мак-Мердо. Я был встревожен, так как узнал, что могу полететь на старом турбовинтовом грузовике C-130, прозванном «Геркулес», вместо нового турбореактивного C-17 Globemaster, перелет на котором занял бы вдвое меньше времени.
В день отъезда рассвело рано (по крайней мере, для астронома), и как раз в этот момент, в 5:30 утра, раздался звонок вежливого владельца хостела, в чьем лице, собственно, и состоял весь его штат. Я распаковал и натянул на себя новенький комплект ЭХП, без которого меня бы не пустили на борт самолета. Упакованный почти в 20 килограммов теплой одежды, — напомню, что дело было летом, — я отправился выпить последнюю чашечку настоящего кофе в Антарктическом центре в аэропорту Крайстчерча. В этом центре находится замечательный музей, в котором посетителям предлагается возможность почувствовать себя полярниками — испытать на себе антарктические ветра и минусовые температуры, прокатиться на настоящих снегоходах Snowcat по искусственно созданным заснеженным ландшафтам и многое другое. Я не стал покупать билет на аттракционы, решив, что вскоре меня ждут настоящие антарктические приключения. После того как веселые парни из новозеландских ВВС проверили, нет ли у нас незаконных веществ, — кажется, это единственное, что запрещено на всем континенте, — я был готов к вылету.
Четырехмоторный военно-транспортный самолет C-130, введенный в эксплуатацию еще в 1950-х годах, — местная турбовинтовая рабочая лошадка. Внутри спартанская обстановка, как и подобает самолету, предназначенному перевозить взводы морпехов и военные грузы. Это вьючное животное, участвовавшее в десятках войн после того, как было введено в эксплуатацию шесть десятков лет назад, не имеет удобных откидывающихся кресел. По правде говоря, на нем вообще нет сидений для пассажиров — девять часов предстояло провести на жесткой скамье или грузовой сетке. Вместо туалета — две 20-литровые бадьи в задней части самолета, которые любовно называют «горшками с медом».
В салоне всего два иллюминатора и, разумеется, никаких улыбчивых стюардесс, предлагающих еду и напитки. Нашим стюардом был угрюмый сержант, официально именуемый каргомастером или «ответственным за груз». Его единственная забота состояла в том, чтобы ученые (которых он насмешливо называл «мензурками»), держали свои чертовы руки подальше от «прыжковой кнопки», которая подает пилотам сигнал, что парашютисты готовы к прыжку и нужно открыть рампу.
Рядом со мной сидел мой коллега Дэнис Баркатс, которому предстояло остаться в Антарктиде «на зимовку» и обеспечивать работу BICEP на протяжении следующих 11 месяцев. Дэнис написал блестящую диссертацию в Принстоне под руководством Сьюзан Стаггс. Эндрю Ланге взял его в свою лабораторию в 2004 году, после того как я получил преподавательскую должность в Калифорнийском университете в Сан-Диего. Я тоже предлагал Дэнису стать моим первым постдоком, но перспектива работать с одним из величайшим светил космологии была слишком привлекательна, чтобы он мог от нее отказаться. Я его понимал.
Нам предстояло девять часов полета — достаточно времени, чтобы поговорить обо всем. Я спросил, почему он, молодой парень, согласился уехать от цивилизации так далеко и надолго. Дэнис ответил, что рассматривал это как возможность проверить себя — морально и физически. И, что гораздо важнее, он хотел внести свой вклад в успешность эксперимента BICEP и, если посчастливится, помочь ответить на древнейший вопрос, который волнует человечество: как начиналась наша Вселенная?
Он рассказал мне об испытаниях, которые ему пришлось выдержать, чтобы попасть на Южный полюс. Я слушал его с открытым ртом. Его подвергли скрупулезному психологическому тестированию, чтобы убедиться, что он сможет выдержать многомесячное пребывание «во Льдах»: после того как в Антарктиде начинается осень, вы попадаете в ледовый плен на полгода, до наступления весны. В тестах требовалось ответить, справедливо или нет то или иное утверждение. Некоторые пункты были вполне разумные: «У меня обычно довольно теплые руки и ноги»{4}. Другие преследовали какие-то таинственные аналитические цели: «Меня удовлетворяет моя сексуальная жизнь» и «Когда я общаюсь с людьми и слышу странные вещи, это вызывает у меня беспокойство». Наконец, там были настоящие головоломки, решая которые можно усомниться в своем психологическом здоровье: «Я бы хотел стать певцом» или «У меня никогда не было трудностей с осуществлением и сдерживанием акта дефекации». Но оно того стоило, заверил меня Дэнис: в следующем году на Южном полюсе ему предстоит один рассвет и один закат, так что всего за одну ночь он заработает 75 000 долларов!
Мы с удовольствием болтали, сидя, вероятно, на худших местах в самолете. Каргомастер разместил нас в конце грузового отсека, недалеко от тех самых «горшков с медом». Их было два: вертикальный контейнер для мужчин и бадья с пенопластовым сиденьем для женщин, скромно отгороженная чем-то, напоминающим заляпанную кровью занавеску из душевой в фильме «Психо».
Как я уже говорил, C-130 не предназначен для перевозки людей на дальние расстояния; это скорее большой летающий грузовик грязновато-оливкового цвета, как и полагается военной машине. В нескольких шагах от нас стояли ящики с тонной бананов, которые испускали восхитительный аромат… первые полчаса полета. Так мы с Дэнисом и лавировали: сядешь слишком близко к бананам — тошнит от их благоухания, отодвинешься подальше — настигает аромат «горшков с медом».
Спустя девять часов после вылета из Крайстчерча и неделю после отправления из Сан-Диего я прибыл в Антарктику. Наконец я оказался на станции Мак-Мердо, расположенной на небольшом вулканическом острове ледяного континента. На самом деле это была не земля — самолет сел на взлетно-посадочную полосу — трехметровую толщу льда на острове Росса, где 100 лет назад Роберт Скотт разместил свой базовый лагерь. Было на удивление тепло; выйдя из нашего 100-килограммового грузового судна, я оказался по щиколотку в луже воды. Хорошо, что каргомастер заставил нас надеть теплые носки и непромокаемые ботинки.
Тост на краю света
Осмотревшись на станции, я отправился в один из двух баров. Почему два? Один был для некурящих, а другой — для курильщиков. В отличие от заведения для некурящих, во втором царил полумрак, делая его более притягательным и популярным. Мы, несколько членов команды BICEP, расположились за маленьким столиком в привычной для астрономов полутьме и подняли тост за телескоп, благодаря которому теперь оказались на краю света и надеялись добраться до начала Вселенной: «За BICEP, который позволит нам совершить путешествие к началу времени!»
После нескольких пинт новозеландского эля Speight я, слегка пошатываясь, вышел из бара и впервые увидел у кромки воды стайку пингвинов. За пингвинами можно наблюдать бесконечно: когда они вперевалку ходят по суше на своих коротеньких лапках, то похожи на забавных малышей; в воде же становятся стремительными и изящными, как олимпийский чемпион Майкл Фелпс. Вид этих полярных жителей, мужественно ныряющих в ледяную воду, вдохновил меня на опрометчивую прогулку к воронке вулкана, возвышающейся над островом на добрые 229 м и известной как Наблюдательный холм. Скотт использовал этот холм для наблюдения за погодными условиями. Именно на этом холме оставшиеся члены экспедиции ждали триумфального возвращения Скотта и его четырех товарищей с Южного полюса. Когда те не вернулись, его люди установили на вершине холма деревянный крест высотой 2,5 м с вырезанными на нем именами погибших и последней строкой из стихотворения «Улисс» Альфреда Теннисона: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Строкой, которая врезается в память и не дает спать по ночам.
На следующий день я сел на другое судно C-130 — у этого вместо привычных шасси были не убирающиеся лыжи. Самолет был заполнен лишь наполовину, оставляя кучу пространства для того, чтобы спать или разглядывать через иллюминатор бесконечную белизну шельфового ледника Росса, протянувшегося почти на 1000 км. От кромки ледяного шельфа предстояло лететь примерно 400 км вдоль полярного плато до станции Амундсен — Скотт. Когда я прибыл на полюс, для лета было холодновато: –32 °C. К тому же я задыхался, так как станция расположена на высоте более 2,7 км над уровнем моря. Покончив с короткими формальностями, я отправился в свой номер и без сил рухнул на кровать.
* * *
9 января 1912 года Скотт и его команда добрались до самой южной точки, которой они достигли в ходе предыдущей экспедиции в 1901 году. Перед ними лежала неизведанная земля, но Скотт был полон уверенности: они покорят Южный полюс.
Я также был полон энтузиазма. При всей монотонности работы трудиться над телескопом в столь необычном месте было просто потрясающе. Мне приходилось щипать себя, чтобы убедиться в том, что все это происходит в реальности. Лаборатория Темного сектора стала для BICEP уютным домом, хотя это было самое странное строение, которое я видел в своей жизни. Все здания на станции были построены на сваях, как обычно строят пляжные домики на побережье. Только здесь главным врагом был не песок, а снег. Если бы не паучьи ноги, поднимающие здания над снежной пустыней на несколько метров, все они вскоре были бы погребены под снегом, включая купол нашего драгоценного телескопа, — неизбежная участь всех полярных зданий с менее продуманной конструкцией. Единственным сооружением на всей станции, не стоящим на сваях, был (что неудивительно) уличный нужник. За разработку конструкции функционального и комфортного отхожего места на сваях вполне можно присуждать Нобелевскую премию!
Лаборатория Темного сектора стала моей крепостью. Это был анклав полутьмы и безмятежности, убежище от слепящего солнца и холода, надежно защищенное от внешнего мира массивными сейфовыми дверями 30-сантиметровой толщины. В Америке такие двери используются в холодильных камерах, где хранится замороженное мясо; на Южном полюсе у этих дверей противоположная задача — не дать замерзнуть «мясу» живых ученых. Внутри лаборатории мигали разноцветные лампочки, мягко шелестели вентиляторы, компьютеры послушно выполняли свои программы. Нашей команде нельзя было терять ни секунды: предстояло выполнить почти годовой объем работы всего за три летних месяца. Последний самолет улетал со станции в середине февраля, пока температуры не падали ниже точки замерзания авиационного топлива. Если мы не успеем закончить работу к этому сроку, нам придется остаться здесь на самую долгую ночь в своей жизни.
Мы так тщательно проверили BICEP в Пасадене, что здесь удивительно легко установили его на массивной станине (рис. 46). Теперь предстояло самое сложное — протестировать телескоп в новых условиях, откалибровать и убедиться в том, что он работает так, как нужно. Дни слились для нас в непрерывную череду; за стенами лаборатории Солнце, словно дразня нас, нарезало по небу бесконечные круги, никогда не опускаясь ниже линии горизонта.
Нам некогда было скучать. К тому же на станции было чем заняться помимо работы. В свободное время я пытался накачать мышцы в тренажерном зале, гонял мяч с аспирантами на баскетбольной площадке или играл в настольный теннис с сантехниками и профессорами. Мы часто обсуждали, чем каждый из нас планирует заняться в небольшом отпуске, который полагался нам по возвращению «со Льдов». Я рассказал, что собираюсь совершить туристический поход по Южному острову Новой Зеландии, славящемуся своей сказочной природой, и мне тут же надавали массу полезных советов. На станции царил дух подлинного товарищества; мне казалось, такой же дух братства должны ощущать моряки на корабле — недаром именно ВМС США построили первую постоянную станцию на Южном полюсе в далеком 1956 году.
По мере приближения Рождества 2005 года (а для троих из нас, семитов, Хануки) праздничное волнение нарастало. На краю света к праздникам относятся серьезно. Перед ужином состоялось спортивное мероприятие с внушающим трепет названием «Гонка вокруг света» — на самом деле это был четырехкилометровый забег вокруг Южного полюса, в ходе которого бегуны пробегают через все часовые пояса планеты. У меня не было шансов: в забеге участвовали серьезные спортсмены, в том числе один из финалистов Топ-200 Бостонского марафона. После этого все отправились на праздничный ужин с омарами. К счастью, у меня были с собой саморазогревающиеся кошерные консервы. За несколько дней до Рождества я проанализировал свежие данные BICEP. Система, казалось, работала хорошо, но в данных все равно проскальзывали незначительные эффекты, которые могли сымитировать искомые нами сигналы B-мод. Нам нужно было вычислить источник этих помех. Космические сигналы, которые мы искали, были настолько слабыми, что даже самая малая погрешность измерений могла свести на нет наши усилия. Если мы не сумеем досконально разобраться в ограничениях нашего инструмента, окружающей среды и даже собственных возможностей, наши поиски будут обречены на неудачу.
Боже Всемогущий, это жуткое место, и еще ужаснее оно оттого, что мучения наши не были вознаграждены первенством.
Роберт Фолкон Скотт, 17 января 1912 годаАнтарктика не прощает ошибок. Одной из главных ошибок Скотта была его приверженность научным целям экспедиции. Проиграв Амундсену полярную гонку, он, несомненно, был удручен, но утешал себя мыслью, что его миссия будет успешной в научном плане. По пути он собрал обширную коллекцию антарктических артефактов — камней, скелетов животных и других образцов, предназначавшихся для лондонского Музея естественной истории. Груженые сани существенно затрудняли путь и снижали скорость передвижения. Хотя Скотт и его товарищи достигли Южного полюса почти на месяц позже Амундсена, их находки, как он надеялся, попадут в музей. Но цена их научной экспедиции оказалась самой высокой: они погибли за науку.
Мой отъезд с Южного полюса был, к счастью, не столь драматичен. Тем не менее он был омрачен предчувствием беды и неизвестностью. Сразу после Рождества мне позвонил старший брат Кевин и сообщил страшную новость: наш отец болен раком. Через пару недель ему был назначен курс химиотерапии в Лос-Анджелесе. Все мои научные планы, не говоря уже о намерении попутешествовать по Новой Зеландии, рухнули в один миг. Нужно было выезжать как можно быстрее: от Южного полюса до Калифорнии меня отделяли пять перелетов.
Мое пребывание на станции было настолько коротким, что я даже не успел как следует пообщаться с Джейми Боком, соавтором проекта BICEP. Я хотел поговорить с ним по душам, узнать, что он думает по поводу этого проекта, нашей совместной работы и ее перспектив. Я хотел поделиться с ним своей гордостью, воспоминаниями о том непростом пути, который привел нас с теннисного корта в Калтехе в эту самую южную точку мира.
Джейми знал о болезни моего отца, но, провожая меня от станции к самолету, не сказал об этом ни слова. Вместо этого он спросил, верны ли слухи о том, что я присоединился к конкурирующей команде POLARBEAR: «Я слышал, ты работаешь с Адрианом. Это правда?»
Идея большого телескопа POLARBEAR принадлежала Адриану Ли из Калифорнийского университета в Беркли. Джейми и Адриан были ровесниками и в прошлом не раз работали над конкурирующими проектами. Адриан руководил экспериментом MAXIMA, который совсем немного уступал эксперименту BOOMERanG Ланге и Бока в точности измерений, показывающих плоскостность нашей Вселенной.
В высококонкурентном мире экспериментальной астрономии вас, как правило, оценивают по тому, насколько успешен ваш последний эксперимент. Здесь нельзя почивать на лаврах, особенно если вы метите на Нобелевскую премию. Начиная новый проект, вы уже должны думать о следующем. Вселенная полна тайн — а у космологов нет недостатка в идеях. Если эту тайну не раскроете вы, это сделает кто-то другой. Вы получаете ценный опыт в текущем проекте и, опираясь на него, уже думаете о том, как сделать следующий шаг. Джейми и Адриан были давними соперниками, и Джейми явно рассматривал мое сотрудничество с Адрианом как предательство.
Телескоп POLARBEAR также предназначался для поиска B-мод поляризации, но благодаря своим огромным размерам — почти в десять раз больше, чем BICEP, — он мог измерять сигналы на очень малых угловых масштабах, которые были недоступны нашему телескопу. Группа POLARBEAR отставала от команды Калтеха по меньшей мере на четыре года, но недавно получила пожертвования в размере 1 млн долларов на строительство трехметрового телескопа, и Джейми, очевидно, об этом знал.
То, что POLARBEAR должен был искать сигналы, которых не видел BICEP, казалось, не играло для Джейми никакой роли. Для него я перестал быть партнером; я стал конкурентом. Я отмахнулся от Джейми: сообщество исследователей реликтового излучения настолько мало, что почти каждый работает над несколькими проектами, поэтому конфликты неизбежны. Сам Джейми внес важный вклад в конкурирующий проект Planck, разработав для него поляризационно-чувствительные болометры, практически идентичные тем, которые использовались в BICEP.
Но он не отступал. Мы подошли к самолету, который уже включил свои четыре мощных двигателя. Как нельзя было остановить эти ревущие турбины, так и Джейми не мог остановиться.
«Ты должен решить, в какой ты команде!» — прокричал он сквозь рев двигателей.
Я испытывал смесь замешательства, обиды и гнева. Как он мог сомневаться в моей преданности моему же собственному экспериментальному детищу? И как он мог говорить об этом в такой момент, зная, что моему отцу диагностировали четвертую стадию рака? Мое сердце бешено колотилось, я не мог вымолвить ни слова. От нашей дружбы, зародившейся пять лет назад на теннисном корте в Калтехе, не осталось и следа. Из друга и единомышленника Джейми превратился в непримиримого конкурента, не знающего пощады к своим противникам. Последние несколько минут мы простояли в неловком молчании, пока я пытался осмыслить произошедшее. Наконец, каргомастер крикнул мне, что пора. Я махнул Джейми и поднялся на борт, задыхаясь от разреженного воздуха и гнева.
На борту самолета, предназначавшегося для перевозки 50 парашютистов, сейчас находилось всего двое из «мензурок». Пилоты разрешили нам разместиться в кабине, и я, не отрываясь, смотрел через иллюминатор на простиравшееся под нами бескрайнее полярное плато. Вся эта история вокруг BICEP, мой вынужденный отъезд, разговор с Джейми казались банальными по сравнению с той человеческой драмой, которая разыгралась здесь 100 лет назад. Каково было Скотту в последние минуты жизни, когда он замерзал посреди безжалостной ледяной пустыни там, внизу?
Глядя, как солнечный свет отражается от ледяного плато, я размышлял о том, что случилось за несколько последних недель. Меня переполняли противоречивые эмоции — от гордости и удовлетворения до гнева, обиды и страха. Больше всего я переживал за отца. Мне нужно было успеть вернуться в Лос-Анджелес, прежде чем ему начнут проводить химиотерапию. Прошло меньше недели, как я узнал о его болезни. Через полтора дня после отлета с Южного полюса я приземлился в зеленом, цветущем Крайстчерче.
Шел проливной дождь. У меня не было даже куртки.
Человеку свойственно ошибаться… а не калибровать
Начало работы BICEP обеспечило нам комфортное лидерство в этой области. У нас не было конкурентов, никто не пытался нас опередить. Обладая монополией на поиск В-мод, мы были полны оптимизма. С самого начала эксперимент, казалось, был обречен на успех. Ежедневно BICEP поставлял нам гигабайты данных, и четыре талантливых аспиранта, написавших диссертации на основе этого эксперимента, — Эван Бирман, Синтия Чан, Ки Вон Юн и Юки Такахаси — анализировали эти данные почти в режиме реального времени. Телескоп работал отлично. Мы были уверены, что в скором времени раскроем тайну инфляции — космической, разумеется.
Хотя мы помнили о ложноотрицательной ошибке, которая стоила Эду Ому Нобелевской премии, гораздо больше мы боялись совершить ложноположительную ошибку — увидеть сигнал, которого не было. К сожалению, в космосе не было недостатка в ложных сигналах, которые имитировали признаки инфляции, но исходили вовсе не от первичных гравитационных волн, а из куда более банальных источников.
Мой аспирант Эван Бирман занимался поисками источников космического загрязнения. Мы с ним часами обсуждали физику межзвездной пыли и магнитных полей в Млечном Пути. Вычислить их влияние казалось безнадежно сложным делом. Пыль, которая нас волновала, и близко не напоминала «железные волоски» Хойла с их предсказуемыми характеристиками. Существование такой пыли, которая, согласно теории Хойла, заполняла все пространство между галактиками и преобразовывала звездный свет в микроволновое фоновое излучение, было опровергнуто экспериментальными данными DASI, показавшими незначительный уровень поляризации реликта так называемого E-типа (этот вид поляризации отражает возмущения в плотности ранней Вселенной, а не воздействие первичных гравитационных волн, следы которых должны были остаться в форме B-мод). Нас интересовала та пыль, которая присутствовала непосредственно в нашей Галактике. Если ее частицы обладали даже самыми слабыми магнитными свойствами, сложные магнитные поля, пронизывающие галактику Млечный Путь, могли выстроить их неким упорядоченным образом{5}. Эти упорядоченные облака пыли могли сгенерировать B-моды поляризации, очень похожие на те, которые предположительно могли возникнуть под воздействием инфляционных гравитационных волн в первичной плазме.
После второго сезона наблюдений мы с Эваном отправились на Южный полюс, чтобы установить на BICEP дополнительные детекторы, работающие исключительно на частоте 220 ГГц. На этой частоте сигнал поляризованного теплового излучения пыли Млечного Пути был наиболее сильным, так что нам было проще его обнаружить и исключить из данных BICEP. Это были первые детекторы такого рода, которые позволяли уловить поляризованное излучение пыли и зарегистрировать в нем похожие B-моды, хотя эффективность этих детекторов была ограничена только пыльным диском Млечного Пути. В своей диссертации Эван показал, что нельзя с уверенностью экстраполировать поляризационные данные, полученные для галактического диска, на удаленные от него регионы, т. е. именно на те, где мы искали инфляционные B-моды{6}. Но экстраполяция была единственным, что мы могли сделать; никаких других данных о поляризованном излучении пыли у нас не было.
Задолго до того как мы опубликовали наши результаты, я осознал две вещи. Как и в игре в теннис, с которой начался BICEP, в научном эксперименте можно совершить два типа ошибок: вынужденные ошибки и невынужденные ошибки.
Невынужденных ошибок было множество. Проведенный Эваном анализ данных BICEP на частоте 220 ГГц показал, что галактическая пыль может генерировать большое количество ложных поляризованных В-мод, маскирующихся под следы инфляционных гравитационных волн. Даже если мы уловим сигнал B-мод, как точно определить его происхождение? Чтобы предотвратить невынужденную ложноположительную ошибку, нам нужно было научиться отделять B-моды микроволнового фона от В-мод Млечного Пути.
Опасность вынужденных ошибок была ничуть не меньше: в каждой точке измерения неизбежно присутствовал случайный шум. Этот шум, исходящий от излучающей тепло земной атмосферы, от самих детекторов телескопа и даже ото льда, означал, что BICEP мог обнаружить сигнал инфляционных B-мод, только если тот был достаточно сильным — намного сильнее, чем все возможные шумовые сигналы. Требовалось снизить шум и повысить чувствительность нашего инструмента — только так мы могли преодолеть ту планку знаний о реликтовом излучении, которая была установлена несколько лет назад зондом NASA Wilkinson Microwave Anisotropy Probe.
Чтобы избежать вынужденных ошибок, иными словами, добиться большей чувствительности, мы начали проектировать BICEP2 — поляриметр, с пятикратным количеством детекторов, причем более продвинутой конструкции, чем те болометры, что использовались в BICEP и Planck. План состоял в том, чтобы определить границу или, что более оптимистично, обнаружить сигнал с низким отношением сигнал/шум (конечно, это не то, о чем обычно мечтают ученые, но все же лучше, чем ничего) с помощью BICEP, а затем, опираясь на эти предварительные данные, вернуться и исследовать тот же участок неба с помощью более чувствительного BICEP2, чтобы попытаться достичь приемлемого уровня С/Ш.
Итак, в 2007 году, через шесть лет после того как я «продал» идею BICEP Эндрю и Джейми, я представил новый проект. К тому времени я сам стал профессором и преподавал физику и астрономию в Калифорнийском университете в Сан-Диего. Большую часть жизни я даже не знал, что можно быть профессиональным астрономом, а теперь был одним из них. (Мне всегда казалось, что астрономия — это какая-то мифологическая профессия, вроде звездочета. Кто будет платить деньги за столь приятное занятие?) И вот я уже был не постдоком, а работал на себя. И под моим руководством была группа.
Я предложил, чтобы моя группа в университете Сан-Диего и группа Эндрю в Калтехе объединили усилия и вместе построили новую версию BICEP, чьи детекторы станут работать только на высоких частотах. Эта высокочастотная версия BICEP будет чувствительной только к пылевому шуму Млечного Пути и позволит застраховаться от ошибки в том случае, если BICEP обнаружит ложные сигналы В-мод.
Но на этот раз Эндрю отклонил мое предложение, заявив, что оно «прямо противоречит тщательно продуманной логике нашего эксперимента, которая состоит в том, чтобы обнаружить В-моды с минимальными затратами и в короткие сроки» на одной полосе микроволновых частот в 150 ГГц.
Что-то изменилось между нами, после того как в 2004 году я покинул Калтех и стал преподавать в Калифорнийском университете в Сан-Диего. Было ли это результатом влияния Джейми, который считал, что своим участием в проекте POLARBEAR я предал команду BICEP, или просто Эндрю теперь больше заботила научная карьера его нынешних постдоков Джона Ковача и Чао-Линь Куо, я так и не узнал.
После этой встречи мне пришлось пережить тревожные дни, казалось, я зря сделал предложение: группа в Калтехе убедила Эндрю в том, что они не нуждаются во мне для реализации проекта BICEP2. К счастью, вскоре Эндрю изменил свое решение. «Твоя позиция мне ближе, чем моя, — сказал он. — Ты имеешь полное право на дальнейшее участие в проекте BICEP2. Но я хочу найти для тебя такой режим участия, который устраивал бы всех».
Меня это тоже вполне устраивало. Я не стремился возглавлять проект BICEP2, который, по сути, представлял собой модификацию оригинала. Основное изменение состояло в усовершенствованных сверхпроводящих детекторах, позволяющих нам втиснуть в такую же криостатную трубу небольшого диаметра в пять раз больше болометров, чем в BICEP (рис. 48). «Главное — это оригинальная идея», — успокаивал я себя, надеясь на то, что в случае успеха мне достанется заслуженная мной доля признания. Но пока что приходилось думать не столько об успехе, сколько о том, чтобы не потерпеть неудачу. Чтобы не стать Эдом Омом своего времени, на этот раз приписав космологическое происхождение банальному ложному сигналу, мне нужно было выбросить из головы все прошлые обиды и возможные проблемы в будущем и сосредоточиться на настоящем. Перед моей группой, и в частности перед моим новым аспирантом Джоном Кауфманом, стояли сложные задачи, и мы с головой погрузились в работу.
В отличие от BICEP, который имел три частотных канала, BICEP2 работал только на одной частоте в 150 ГГц, где сигнал реликтового излучения самый сильный. На этой частоте его чувствительность в десять раз выше, чем у старшего собрата, но во всем остальном они полностью идентичны.
Стратегия была ясна: обнаружить B-моды любого рода, а затем определить, имеют ли они космологическую или локальную природу, т. е. являются ли следами инфляционных гравитационных волн или сгенерированы пылью внутри Млечного Пути. Мы назвали эту стратегию «B-моды или провал». BICEP2, как и BICEP, по сути, представлял собой галилеевский рефрактор, размещенный внутри криостатной трубы. Он устанавливался на такой же станине, что и BICEP, поэтому мы могли и дальше пользоваться выделенной нам зоной в Лаборатории Темного сектора на Южном полюсе, что было самой ценной космологической недвижимостью на планете.
В то же время казалось, что наша монополия на поиск реликтовых B-мод закончилась. У BICEP2 появился мощный конкурент — космическая обсерватория Planck стоимостью в 1 млрд долларов, выведенная на космическую орбиту в том же 2009 году, в котором BICEP2 увидел свет. Летая в 1,5 млн км над Землей с ее зашумленной атмосферой, обсерватория Planck имела куда больше шансов, чем мы, в поисках отзвуков родовых мук Большого взрыва.
Благодаря тому что за предыдущие три года работы BICEP мы отладили все системы в обсерватории и проделали большую работу по анализу данных, мы могли сразу же сосредоточиться на функционировании нового компонента BICEP2 — его сверхпроводящих детекторов. То, что мы увидели, глубоко нас обескуражило — всех, кроме нашего лидера Эндрю Ланге. Он продолжал верить в нас, в то время как мы сами перестали верить в себя.
Искусство космологии
Вы, конечно же, слышали о классическом трактате «Искусство войны», посвященном стратегии, тактике и философии ведения войны. Хотя Сунь-цзы написал этот труд для китайских военных более чем за тысячу лет до рождения Галилея, его советы полезны и для сегодняшних руководителей экспериментальных космологических кампаний. Итак, Сунь-цзы говорит, что успешный военачальник [научный руководитель] должен организовать «армию [сотрудничество] в соответствующие подразделения [последипломные студенты], с учетом ранга офицеров [постдоки, младшие преподаватели], поддержание дорог [детекторы и телескопы], по которым запасы [жидкий гелий] могут попасть в армию, и контроль за военными расходами [финансирование Национального научного фонда]. Эти предписания должны быть знакомы каждому военачальнику, и побеждает тот, кто знает их; тот же, кто их не знает, проигрывает».
Сунь-цзы рекомендовал военачальникам не только освоить логистические аспекты ведения войны, но и развивать у себя нравственные качества лидера: «Моральный закон лежит в основе согласия людей со своим военачальником, так что они будут следовать за ним, невзирая на любые опасности и стоять не на жизнь, а на смерть. Командир символизирует добродетели мудрости, искренности, щедрости, отваги и строгости».
Эндрю был нашим лидером во всех отношениях. Он подавал нам пример человечности и доброты, помогая преодолеть тот дух ожесточенной конкуренции, который порой овладевал нами. С того момента, как мы с ним познакомились, и все последующие годы, работая постдоком в его лаборатории, я неизменно был окружен его вниманием и пользовался покровительством.
Летом 2009 года, перед тем как мы ввели в строй наш новый телескоп BICEP2 на Южном полюсе, я женился. Мы с Эндрю время от времени общались после того, как он отклонил мою идею построить «пылеуловитель» — версию BICEP, работающую только на частоте 220 ГГц. Я надеялся увидеть его у себя на свадьбе. Но он позвонил мне и сказал, что разводится с женой и не сможет прийти. Он казался глубоко подавленным и удрученным. Я был сражен тем, что моего наставника не будет в такой день, но еще больше меня беспокоила судьба его троих сыновей. Я знал, как тяжело детям пережить развод родителей. Я выразил Эндрю глубокое сочувствие и сказал, что всегда готов его выслушать, если ему понадобится с кем-то поговорить.
Несколько лет назад, когда я сам оказался в тяжелой ситуации и был вынужден прервать свою командировку на Южный полюс из-за болезни отца, Эндрю часто звонил мне, чтобы поддержать. Он не был обязан делать это: я больше не был его постдоком. Однажды Эндрю сказал мне: «Никогда не забывай, что главное — это твоя семья. Старайся проводить с ней как можно больше времени». Даже когда он стал деканом факультета физики, математики и астрономии в Калтехе, несмотря на свою колоссальную занятость Эндрю все же находил время, чтобы позвонить мне и поинтересоваться моими делами. Он был заботливым и человечным полководцем, чьи приказы исходили прямо из сердца.
Именно Эндрю не дал нам опустить руки, когда вскоре после установки BICEP2 эта сложная машина начала вести себя странным образом. Детекторы давали слишком много шума, и мы никак не могли понять почему. Все должно было работать отлично: мы использовали ту же обсерваторию, ту же конструкцию телескопа и ту же станину; условия эксперимента были полностью идентичны предыдущим. BICEP2 даже сканировал тот же участок неба, который до него исследовал BICEP.
Наш командир Эндрю не мог допустить, чтобы мы потерпели поражение на научном и психологическом фронте. Он собрал нашу команду на военный совет. В полном соответствии с предписаниями Сунь-цзы, Эндрю начал с того, что поделился с нами своей мудростью, перечислив все возможные слабовыраженные эффекты, которые могли вызвать это странное поведение сверхпроводящих детекторов. Он взял с нас клятву продолжать поиски, даже если ни одно из его предположений не окажется верным. Затем Эндрю поднял наш боевой дух, сказав, что мы не должны винить себя за то, что не понимаем всех причуд BICEP2, и призвал нас смело двигаться вперед. «Мы разберемся с этими датчиками!» — уверенно пообещал он. Казалось, к нему вернулся его прежний мальчишеский задор.
O капитан! Мой капитан![28]
В конце концов BICEP2 заработал так, как нужно. Я начал делить свое время между проектами BICEP и POLARBEAR.
Четыре недели спустя, 22 января 2010 года, я проводил встречу по POLARBEAR в Калифорнийском университете в Беркли, когда в конференц-зал вбежал Пол Ричардс, бывший научный руководитель Эндрю Ланге.
«Эндрю умер! — выдохнул Пол. — Он покончил с собой».
У меня перехватило дыхание. Как такое могло случиться?! В комнате воцарилась мертвая тишина. Я позвонил Джейми Боку. Он подтвердил: Эндрю больше нет. Я выскочил на улицу и больше часа простоял на холодном, влажном ветру, не в силах двинуться с места.
* * *
Через несколько дней после смерти Эндрю его коллега по Калтеху Шон Кэрролл создал в своем блоге мемориальную страницу — место, где можно было поделиться воспоминаниями об Эндрю, нашем лидере, наставнике и друге. Его друзья, родственники, коллеги и даже совершенно незнакомые люди оплакивали эту потерю. Они говорили о мальчишеском обаянии Эндрю, его человечности, блестящем уме. Многие превозносили его как наставника, руководителя и лидера. Из этих выражений горя и признания я узнал и кое-что новое для себя. Когда-то Эндрю был «Энди» — щедрым, добрый и обаятельным парнем. Но в то же время он принадлежал к редкому типу людей — искателей, стремящихся докопаться до фундаментальных истин Вселенной.
BICEP2 начал давать первые данные. Ставки были чрезвычайно высоки. Мы нуждались в Эндрю больше, чем когда-либо. Как мы сможем плыть дальше без нашего капитана?
* * *
Пару лет спустя я побывал там, где закончилась жизнь Эндрю: захудалый мотель, никоим образом недостойный чести, оказанной ему этим прекрасным человеком. Именно здесь я останавливался десять лет назад, когда приехал на собеседование в Калтех. Начало моей научной жизни странным образом оказалось связано с концом его жизни. Дешевый мотель находился неподалеку от кампуса Калифорнийского технологического института, где когда-то у Эндрю было все: член Национальной академии наук, ученый года штата Калифорния, будущий нобелевский лауреат. Именно он одобрил мои первые идеи, придал уверенности в том, что я смогу осуществить свой эксперимент мечты, когда мысль о нем едва еще брезжила в моем сознании.
У меня в голове вертелись вопросы, которые навсегда останутся без ответа. Почему он не обратился за помощью? Почему не помог сам себе, как помогал многим другим? Как он мог с нами так поступить? Я никогда не говорил Эндрю о том, какое огромное влияние он оказал на мою жизнь. Почти десять лет спустя я не мог подобрать слов, чтобы в полной мере описать мою благодарность этому человеку. Какая невосполнимая утрата… для меня, для нас, для его семьи и для Вселенной.
Глава 10. Разбитая линза Нобелевской премии № 2: проблема денег
Нет никакого «генерального плана» на пути к Нобелевской премии. Для этого требуется много лет упорного труда, страсть к своему делу… и оказаться в нужном месте в нужное время.
Ахмед Зевейл, лауреат Нобелевской премии по химии 1999 годаСол Перлмуттер находился в незавидном положении. Вот уже больше десяти лет он руководил проектом под названием «Космология сверхновых» и не мог похвастаться результатами. Это была не совсем его вина: он ждал, когда белый карлик в двойной звездной системе закончит обед. Проглотив своего компаньона, белый карлик должен был взорваться и превратиться в сверхновую типа Ia. Космос не желал подстраиваться под проектный график Перлмуттера. Ученому потребовались годы, чтобы собрать достаточно данных об этих звездных системах и прийти к поразительному выводу: в нашей Вселенной господствует некая таинственная сила — темная энергия, которая заставляет космос расширяться с возрастающей скоростью.
Наконец, собрав нужные данные, Перлмуттер и его коллеги (а также конкурирующая группа High-Z Supernova Search Team — Команда по поиску сверхновых с высоким Z) объявили об этом открытии в 1998 году. Тринадцать лет спустя, в 2011 году, Перлмуттер получил половину Нобелевской премии по физике. Его проект «Космология сверхновых» финансировался Министерством энергетики США, которое не только отвечает за все, что связано с традиционной, зеленой и ядерной энергетикой, включая разработку и хранение ядерного оружия, но и является ведущим финансирующим агентством в области физических исследований.
В течение 1990-х годов Перлмуттер работал в принадлежащей министерству Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли. Министерская комиссия регулярно проводила обзор проекта и чаще всего приходила к выводу, что тот «не соответствует миссии агентства». По словам Перлмуттера, ограниченный объем финансирования и жесткий контроль расходов порождали культуру страха. Выступая в 2016 году на Всемирном академическом саммите, организованном Times Higher Education, он сказал: «Можно контролировать расходы до последнего цента, но при этом не сделать никаких значимых открытий»{1}.
Перлмуттер признался, что ему повезло. Директор местного подразделения Национальной лаборатории был уполномочен принимать решения о финансировании на местном уровне, без одобрения «сверху», т. е. министерством в Вашингтоне. И он продолжал финансировать проект Перлмуттера из года в год на протяжении десяти лет. «Вы занимаетесь этим уже три года и пока не нашли ни одной подходящей сверхновой, — как-то сказал он Перлмуттеру. — Поэтому трудно судить о том, успешен ваш проект или нет. И спустя шесть лет стоит продолжать, и спустя девять, а потом, через десять лет, мы можем получить результат»{2}.
Космологические открытия — на самом деле большинство научных открытий — требуют времени, а финансирующим институтам нужен результат. Но нацеленность на быстрые результаты лишает ученых возможности делать действительно значимые открытия, которые требуют долгосрочных усилий и финансирования. На том же Академическом саммите Перлмуттер продолжил: «В конце концов мы получили поразительные результаты, и комиссия [Министерства энергетики] заявила: „Это и есть то, во что мы должны вкладывать деньги!“»
Конечно, в таком положении дел виноваты не только финансирующие институты. Широкий спектр обязанностей Министерства энергетики — от строительства атомных электростанций до изучения сверхновых звезд — заставляет его разрываться на части. Часть вины лежит и на самих ученых. Правительственным институтам нужна наша помощь: мы должны работать в экспертных группах, помогая руководителям программ определять наиболее перспективные направления и правильно распределять ресурсы; мы должны выходить из наших лабораторий и общаться с широкой общественностью, чтобы заручиться ее поддержкой. Моим коллегам стоит брать пример со Стивена Чу, лауреата Нобелевской премии по физике, который впоследствии стал министром энергетики США. Если он способен на такое служение, значит, можем и мы.
К сожалению, похоже, что финансирующие институты — «сторонники узкого толкования» воли Альфреда Нобеля: им нужны результаты, и притом быстро. Они самые ярые поборники оговорки Нобеля относительно «предыдущего года». По словам Перлмуттера, сегодня дошло до того, что при рассмотрении заявки финансирующие организации спрашивают: «В какой день вы планируете сделать свое открытие?»{3} Он убежден, что не сумел бы сделать свое нобелевское открытие в сегодняшнем финансовом климате: даже если бы он начал свой проект, то не смог бы довести его до конца. Его слова будоражат. Требование высокой и быстрой отдачи от инвестиций может стать препятствием для революционных открытий в будущем.
Возвращение домой
В понедельник 3 октября 2011 года я приехал в Провиденс, штат Род-Айленд, чтобы провести коллоквиум по физике в Университете Брауна, где больше десяти лет назад получил свою докторскую степень. К тому моменту BICEP2 уже два года работал на Южном полюсе и два года Эндрю не было с нами.
Визит был волнующим: впервые со студенческих времен мне довелось вернуться в альма-матер. Недавно я получил постоянное преподавательское место и несколько наград, в том числе высшую награду для молодых ученых Национального научного фонда, а также Президентскую премию для начинающих ученых и инженеров (Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers/PECASE). Президентскую премию, присужденную мне за изобретение BICEP{4}, мне вручил в Белом доме сам президент Джордж Буш. Именно о BICEP мне хотелось рассказать в Университете Брауна, моем интеллектуальном прибежище, где я стал ученым. Казалось, весь факультет физики гордился моими достижениями.
Было радостно видеть своих бывших преподавателей, в том числе нобелевского лауреата Леона Купера и Джерри Гуральника, которого я тоже ожидал вскоре увидеть нобелевским лауреатом. Джерри, как и десять лет назад, сыпал парадоксальными шутками вроде: «Чтобы получить Нобелевскую премию, вам нужны хорошие инструменты. Самый важный инструмент — связи с общественностью».
На следующее утро после коллоквиума и чудесного вечера, проведенного за ужином, вином и разговорами с моими бывшими преподавателями, ныне коллегами, я проснулся и узнал о том, что Нобелевская премия по физике 2011 года присуждена Солу Перлмуттеру (половина премии), Адаму Риссу (четверть) и Брайану Шмидту (четверть) «за открытие ускоренного расширения Вселенной посредством наблюдений удаленных сверхновых звезд». Впервые в истории Нобелевская премия была присуждена оптическим астрономам; все предыдущие награды доставались теоретикам, описавшим свойства астрономических объектов, или наблюдателям, которые сделали открытия с помощью невидимых радиоволн или рентгеновского излучения, а не света оптического спектра.
Меня переполняли эмоции. Всего несколько лет назад я участвовал в международном конкурсе молодых ученых в Калифорнийском университете в Беркли, посвященном юбилею Чарли Таунса, одного из «отцов лазера» и лауреата Нобелевской премии по физике 1964 года. Целью конкурса было поощрение молодых ученых, работающих над проектами, не уступающими с точки зрения пользы для человечества изобретению лазера. Я получил первый приз; Адам Рисс занял третье место. И хотя нынешние исследования — и Адама, и мои — не имели отношения к лазерам, я почувствовал приступ зависти. От моего вчерашнего триумфального настроения не осталось и следа. Мой брат Кевин нашел очень точные слова, как это умеет только старший брат: «Ты выиграл одну битву, а Рисс выиграл войну!»
Кевин был прав. Война — подходящая метафора для того, что происходит в научном мире. Ожесточенная конкуренция начинается с первого же дня, как вы поступаете на физический факультет. Сначала вы сражаетесь за первые места в рейтинге успеваемости со своими однокурсниками. Затем начинается следующая битва — за поступление в аспирантуру. Дальше шесть-восемь лет с боем защищаете диссертацию, после чего сражаетесь за место под солнцем с ордой молодых талантливых постдоков. В конце концов можно получить преподавательский контракт, который, если приложить достаточно усилий и улыбнется удача, может стать постоянным. На каждом из этих этапов число победителей уменьшается в десятки раз, начиная с нескольких сотен студентов до одного постоянного профессора. Постоянное преподавательское место в вашей области освобождается раз в несколько лет — и за него разворачивается настоящая битва, в которой друг другу противостоят опытные гладиаторы, поднаторевшие в боях. Помимо этого, на протяжении всей своей карьеры вам приходится конкурировать за самый дефицитный ресурс в научном мире — деньги. Если вы думаете, что гениальные мозги ученых — главный двигатель научного прогресса, то ошибаетесь. Финансирование — вот подлинный источник жизненной силы. Основным федеральным агентством, финансирующим космологические исследования, является Национальный научный фонд. В настоящее время Фонд одобряет менее 20 % исследовательских заявок во всех областях физики и математики; это самый низкий процент за последние десять лет{5}.
Cui bono?[29]
Альфред Нобель был идеалистом, который хотел вознаградить тех, кто принес «наибольшую пользу человечеству». Это благородное видение отражено на нобелевской медали по физике: на оборотной стороне над изображением богини Природы выгравирована строка из «Энеиды» Вергилия: «Тем, кто украсил жизнь, создав искусства для смертных»[30]. Тем не менее сама Природа с окровавленными зубами и когтями не могла бы придумать более действенного способа поощрить ожесточенную конкуренцию, чем Нобелевская премия. Конкуренция в мире бизнеса меркнет по сравнению с тем, что происходит в мире науки: есть множество корпораций-миллиардеров, но Нобелевская премия в науке — самая закрытая монополия.
Большинство далеких от науки людей уверены в том, что учеными движет только альтруизм и они рады взяться за работу, которую только они способны выполнить. Но конкуренция и наука идут рука об руку — так было фактически с момента изобретения самого научного метода. Согласно известному социологу науки Харриет Закерман, «несмотря на то, что иерархическое ранжирование в науке не очень заметно для внешних наблюдателей… оно в ней ярко выражено». В чем причина такой стратификации? Закерман утверждает, что отчасти это объясняется «дифференцированным признанием вклада ученых посредством ссылок на их работы и присуждения наград»{6}, и в частности Нобелевской премии — самой престижной награды в научном мире.
Ральф Уолдо Эмерсон однажды сказал: «Придумайте усовершенствованную мышеловку, и люди протопчут тропу к вашему дому, даже если вы живете в глухом лесу». Другими словами, если вы сделаете что-то действительно важное и полезное, люди это оценят; вам не нужно трубить об этом на каждом углу. Возможно, так было в XIX веке, когда жили Эмерсон и Нобель, но сегодня ситуация изменилась.
Чтобы завоевать нобелевский приз, недостаточно сделать блестящее открытие или изобретение. Вы должны сделать его первым. Но и этого недостаточно. Люди должны узнать о вашем открытии, для чего вам нужно рассказать о нем сначала узкому кругу специалистов в вашей области, а затем всему мировому научному сообществу. После того как коллеги по всему миру узнают о вашем открытии, они могут номинировать вас на Нобелевскую премию. В конце концов ваше открытие попадет на стол Нобелевского комитета Шведской королевской академии наук, где несколько человек решат его судьбу. Если на каком-то из этих этапов произойдет сбой, нобелевской медали на шее вам не видать.
Великое искусство также может приносить пользу человечеству. Но между художественными новшествами и научными открытиями есть важное различие. Как заметил историк науки Дерек де Солла Прайс: «Если бы не существовало Микеланджело или Бетховена, никто бы не сумел сделать то, что сделали они; их вклад в искусство неповторим. Если бы не существовало Коперника или Ферми, те же самые открытия были бы сделаны другими людьми. В искусстве — бесконечное множество миров; наука исследует только один мир, и слава достается первооткрывателям; остальных ждет забвение»{7}.
Научные открытия часто окутаны флером альтруизма. Возьмите золотую мемориальную табличку, прикрепленную к опоре посадочного лунного модуля Eagle («Орел»), на которой стояли подписи астронавтов и главного спонсора миссии «Аполлон-11», президента Ричарда Никсона (рис. 49). «Мы пришли с миром от имени всего человечества» — гласила надпись. Но посадка на Луну была, по сути, одним из этапов сражения за мировое господство, а табличка с красивыми словами — не более чем способом показать, что Соединенные Штаты одержали победу на этом удаленном поле битвы холодной войны. Когда в последний раз была битва ради блага человечества?
Американская лунная программа продлилась всего три года; с 1972 года мы больше не возвращались на Луну. Почти два десятилетия продолжалась холодная война. Если исследование Луны преследовало мирные цели, то оно не увенчалось успехом. И если освоение Луны действительно в интересах человечества, почему Соединенные Штаты не продолжили его? Это была победа ради победы — ситуация, во многом напоминающая гонку за Южный полюс: как только полюс был покорен, огромной ценой, он был забыт на 40 лет. Только в 1956 году ученые начали использовать его как постоянный плацдарм для научных исследований.
Как и с посадкой на Луне, и c покорением Южного полюса, не существует Нобелевской премии за второе место. Вы должны сделать открытие первым — в противном случае все ваши труды будут напрасны.
Нобелевская премия дает огромный капитал. Я не имею в виду призовой миллион долларов в придачу к золотой медали стоимостью еще в 24 000 долларов; скорее это интеллектуальный капитал, за которым следует власть устанавливать исследовательские приоритеты для целых научных дисциплин. Бывали случаи, когда нобелевские лауреаты определяли научные повестки дня даже для целых стран. Большинство людей считают, что наука должна строиться на сотрудничестве, а не на соперничестве, но ученые тоже люди, а люди обожают состязаться. И больше всего люди ценят чемпионов.
Естественно, главными бенефициарами Нобелевской премии являются сами ученые. В то время как большинство ученых не любят излишней публичности, Нобелевская премия приносит «правильный вид» славы. Лауреаты — верхний эшелон научной социальной страты — становятся влиятельными авторитетами, законодателями мод. Как заметил нобелевский лауреат Пол Самуэльсон: «Ученым присуща ничуть не меньшая алчность и состязательность, чем бизнесменам [Адама Смита]. Но они алчут не богатства или власти в их обычном понимании. Они стремятся к известности среди других ученых, которых они уважают»{8}.
Завоевав высочайшее одобрение, лауреаты оказываются в привилегированном положении благодаря феномену «богатый богатеет», который историк и социолог Роберт Мертон назвал эффектом Матфея, когда бо́льшая часть научных ресурсов сосредоточивается в руках меньшинства (в основном ученых мужского пола) {9}. Лауреаты получают ресурсы, недоступные их коллегам, и эти ресурсы не ограничиваются только финансированием научных проектов и современными лабораториями. Работы нобелевских лауреатов чаще цитируются. К ним стремятся попасть лучшие аспиранты и постдоки. Дело не в том, что другие выдающиеся ученые не могут получить финансирование, лаборатории и хороших аспирантов, — просто наше общество ставит на лауреатах своего рода золотую печать «высшего качества», что делает их еще более желанными для финансирующих организаций, университетов и будущих ученых. Кроме того, поскольку прошлые лауреаты Нобелевской премии автоматически становятся номинаторами, их протеже автоматически получают гораздо больше шансов стать будущими лауреатами, чем аспиранты и постдоки нелауреатов{10}.
Наконец, есть еще один малоизвестный бонус: согласно недавнему исследованию, нобелевские лауреаты в среднем живут на год дольше по сравнению со своими коллегами, которые были номинированы, но не получили премию{11}.
Следующими в списке выгодоприобретателей идут университеты и корпорации, которые используют нобелевских лауреатов для саморекламы, чтобы привлечь больше жертвователей и инвесторов соответственно{12}. То же самое можно сказать о финансирующих институтах{13}. Наконец, еще одним бенефициаром Нобелевской премии является сама Шведская королевская академия наук, чей Нобелевский комитет ежегодно проделывает героическую работу по отбору победителей. Хотя в истории Академии бывали довольно пристрастные премии, — например, в 1912 году Нобелевская премия по физике была присуждена шведскому изобретателю Нильсу Густаву Далену «за изобретение автоматических регуляторов, использующихся в сочетании с газовыми аккумуляторами для источников света на маяках и буях», — их было не так много. Как бы то ни было, Академия не может не извлекать выгоды из того престижа и влияния, которые дает ей ее положение. Ежегодная церемония награждения, которую смотрят миллионы людей по всему миру, — важный источник национальной гордости для шведов. Некогда скромное мероприятие, на которое не удосужился явиться первый лауреат премии по физике Вильгельм Рентген, сегодня превратилось в грандиозное шоу, которое с 2019 года будет проходить в новой роскошной резиденции Нобелевского фонда в центре Стокгольма{14}.
Потускневшее золото
Разумеется, Нобелевская премия не единственное в мире состязание, победа в котором награждается золотом. В 1896 году, в год смерти Альфреда Нобеля, в Афинах состоялись первые Олимпийские игры в современной истории. Их организаторы также были движимы благими намерениями, надеясь с помощью объединяющей силы спорта предотвратить маячившую на горизонте мировую войну. Современные игры возродили древнегреческую традицию олимпийского перемирия, которая позволяла воинам временно сложить оружие и беспрепятственно прибыть в Афины в надежде способствовать «мирному и дипломатическому урегулированию конфликтов во всем мире»{15}. К сожалению, Олимпийские игры, как и Нобелевская премия, не помогли сбыться этим устремлениям декадентской поры конца XIX столетия.
Путь к заветному олимпийскому золоту для спортсменов так же труден, как и путь к нобелевскому золоту для ученых: то и другое требует напряженного многолетнего труда в изоляции за небольшое вознаграждение. Согласно недавнему исследованию, каждая олимпийская золотая медаль обходится в астрономическую сумму порядка 7 млн долларов{16}. Получают ли национальные олимпийские комитеты достаточную отдачу от своих инвестиций? То же самое можно спросить у университетов, заманивающих нобелевских лауреатов гигантскими финансовыми пакетами, размер которых может превышать даже стоимость олимпийских медалей. Вероятно, университеты и их жертвователи считают, что да.
Есть еще одна высокая цена, которую спортсмены готовы заплатить за олимпийское золото, чего, к счастью, нельзя сказать об ученых. В середине 1990-х спортивный психолог Роберт Голдман провел среди ведущих спортсменов опрос, ставший известным как «Дилемма Голдмана». Он спросил, готовы ли они принимать допинг, который гарантирует им любые победы в их в виде спорте, но при этом приведет к смерти через пять лет. Больше половины опрошенных спортсменов ответили утвердительно{17}. Остается только надеяться, что молодые ученые не станут класть свою жизнь на алтарь Нобелевской премии. Но сегодня молодым ученым приходится работать в более жестких условиях, чем когда-либо в прошлом. Многие из них считают, что старшие коллеги закрывают двери перед носом молодых. Причина этого опять же в нехватке ресурсов.
Штраф за новизну?
В идеальном мире ученые занимались бы своим ремеслом без оглядки на политику. Но в реальном мире большая наука требует больших денег. Ни одному университету не по карману реализовать крупномасштабные экспериментальные проекты, которые требуются, например, для открытия новых сил и новых частиц. Такие ресурсы есть только у федеральных агентств — Министерства энергетики, Национальных институтов здравоохранения или Национального научного фонда. К сожалению, федеральное финансирование науки сокращалось все последние годы и сегодня находится на самом низком уровне со времен Эйзенхауэра{18}. Только представьте, что вы пытаетесь убедить американских сенаторов, средний возраст которых составляет 63 года, потратить миллиард долларов на исследование эха от столкновения черных дыр, произошедшего миллиард лет назад, в то время как программа Medicare сегодня постоянно сокращается.
Сегодня, как никогда раньше, финансирующим институтам требуется доказывать экономическую обоснованность своих субсидий, поэтому они стараются как можно громче трубить об успехах поддерживаемых ими научных проектов и, разумеется, о своей причастности к открытиям, увенчавшимся наградами{19}. Нобелевская премия — это высший знак качества, понятный даже сенатору. Очевидно, что в таких условиях молодым ученым приходится очень туго.
В недавней статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences президент Университета Джона Хопкинса Рональд Дэниелс пишет, что средний возраст первичных получателей федеральных научных грантов вырос с менее чем 38 лет в 1980 году до более чем 45 лет в 2013 году{20}. Хуже того, доля первичных получателей грантов в возрасте до 36 лет упала с 18 % в 1983 году до 3 % в 2010 году. В статье делался удручающий вывод: «В отсутствие отдельного канала финансирования молодые ученые лишаются возможности проводить собственные исследования, реализовывать свои научные проекты и строить академическую карьеру». Учитывая столь низкие шансы на успех, продолжает автор, «неудивительно, что многие перспективные молодые ученые предпочитают делать карьеру в промышленности, в других странах или вообще в не связанных с наукой областях».
Из-за низких шансов получить финансирование талантливые молодые ученые вынуждены браться за незначительные, инкрементальные проекты, которые скорее дадут результат, чем серьезные революционные проекты. Такой отказ от амбициозных целей в пользу промежуточных результатов далеко не оптимален, считает Сол Перлмуттер: «Простые пошаговые процессы в некоторых случаях могут быть полезны. Но это вовсе не то, чего мы ожидаем от университетов мирового уровня».
Пошаговые процессы по определению предполагают меньше новизны и возможностей для серендипных открытий. Мы должны вдохновлять дерзкие новые идеи, особенно среди молодежи. Но финансирующие институты не так заинтересованы в поощрении новых идей, как это было раньше. Исследование распределения медицинских грантов, проведенное Гарвардской школой бизнеса в 2013 году, подтверждает эту тревожную тенденцию: когда уровень новизны в проекте выходит за привычные рамки, вероятность его финансирования уменьшается пропорционально росту воспринимаемой новизны{21}. Другими словами, существует максимально допустимый предел новизны, на который готовы пойти финансирующие организации. Хотя эти исследования касались финансирования медицинских исследований, я подозреваю, что то же самое происходит и в области физики. Тем не менее в физике некоторые из наиболее важных и полезных открытий были и самыми неожиданными. Как мы можем вырваться из этого порочного круга?
Общество должно признать, что на пути к большим открытиям невозможно обойтись без больших неудач. Во многом сегодняшнее неприятие риска связано с теми отчасти ошибочными представлениями о науке у широкой общественности. А формируются эти представления главным образом с подачи СМИ. Понятно, что СМИ нужны яркие, привлекающие публику заголовки, значимые, сенсационные открытия. В отсутствие таковых им не остается ничего другого, кроме как раздувать масштаб промежуточных открытий, о которых им охотно сообщают университетские пресс-службы.
Молодые ученые, как правило, с большей готовностью идут на риски, чем старшие коллеги с устоявшейся репутацией. Они более устойчивы к стрессу и готовы напряженно работать на протяжении многих лет, прежде чем их идея принесет плоды и признание. Но нынешний двухгодичный бюджетный цикл в Конгрессе не дает молодым ученым возможности расправить крылья и вынуждает многих из них оставить науку, тем самым лишая человечество потенциала ярких молодых умов.
Современные Медичи
К счастью, на сцену выходит новая категория благотворителей, готовых поддерживать действительно новаторские проекты: частные фонды, свободные от близорукой привязки к краткосрочным избирательным циклам. Хотя их ресурсы не могут сравниться с ресурсами федеральных агентств, частные фонды начинают все шире финансировать исследования, способные принести пользу человечеству. И они делают это эффективно по ряду причин. Во-первых, частные фонды обладают большей автономией; они не обязаны отчитываться перед федеральными контролирующими органами за каждый цент. Во-вторых, фонды принимают решения самостоятельно и менее восприимчивы к зачастую предвзятым мнениям экспертных групп, состоящих из конкурирующих ученых. Наконец, частные фонды не зависят от высокополитизированного двухлетнего бюджетного цикла.
Сегодня такие частные фонды, как фонды Мура, Темплтона, Саймонса, Кавли, Кека, Аллена, Гейтса, Шмидта, и многие другие меняют ландшафт финансирования науки. Эти фонды могут финансировать и финансируют рискованные проекты, длительность которых намного превышает стандартные временны́е рамки финансирующих институтов. Они дают жизнь проектам, от которых отказываются федеральные агентства. Около трети грантов, выделенных фондом Саймонса, приходится на физические науки и математику, причем значительная их часть предназначается «для поддержки проектов, сопряженных с высоким риском, но имеющих исключительный потенциал и научное значение»{22}.
В течение следующих нескольких лет группа филантропов Science Philanthropy Alliance намеревается пожертвовать более 5 млрд долларов на фундаментальные научные исследования, т. е. на исследования, направленные на расширение фундаментальных знаний о мире, а не, скажем, на разработку новых технологий или методов лечения{23}. Хотя более 80 % этих средств планируется выделить на науки о жизни, это все равно оставляет довольно значительную сумму для исследований в области естественных наук, подпадающих под премирование из Нобелевского фонда, таких как химия, физика и астрономия, последняя из которых традиционно привлекала филантропов.
Некоторые задают справедливый вопрос: насколько хорошо для науки такое непомерное влияние небольшой группы богатых покровителей? По словам аналитика Стива Эдвардса, их беспокоит, что в конечном итоге «наука будет меньше определяться национальными приоритетами и самим научным сообществом и гораздо больше — индивидуальными предпочтениями людей с большими карманами»{24}. В ответ на это выдвигаются разные возражения. В частности, такое: хотя сумма порядка 500 млн долларов в год, выделяемая частными фондами во всех отраслях науки, кажется огромной, это крохи по сравнению, скажем, с 33 млрд долларов бюджета Национальных институтов здравоохранения{25}. Частные гранты не способны повлиять на исследовательские приоритеты этого федерального ведомства, но могут дополнить его усилия.
Во-вторых, наибольшую отдачу от своих денег имеет институт Нобелевской премии. Он влияет на научные приоритеты куда сильнее, чем частные фонды, даже несмотря на то что многие из них предлагают большие премии, чем Нобелевка. Как сказал физик Лоуренс Краусс в газете The New York Times, новые «большие деньги», т. е. научные премии частных фондов, при всей их щедрости блестят не так, как нобелевское золото: «Я подозреваю, что любой лауреат Премии за прорыв (Breakthrough Prize) [одной из крупнейших научных премий в мире] с радостью отдал бы эти деньги в обмен на нобелевскую медаль. И Премия за прорыв, и Премия Кавли, и все остальные крупные премии в размере больше миллиона долларов считаются не более чем утешительными призами»{26}. Но если даже такие премии, как Премия за прорыв, превышающая почти в три раза денежный номинал Нобелевки, бессильны повлиять на здоровый прогресс науки, то что тогда может?
Прекрасным применением «больших денег» было бы дополнительное финансирование экспериментов, позволяющих перевести теоретические открытия в пантеон «устоявшейся» науки. Оптимальное решение — создание государственно-частных партнерств, способных совмещать значительные ресурсы государственных агентств с гибкостью частных фондов и таким образом инициировать рискованные проекты, имеющие потенциал революционных открытий.
В прошлом частные корпорации, такие как Bell Labs, занимались финансированием чисто исследовательских усилий, которые привели к таким инновациям, как транзистор, CCD-видеодатчик и сотовый телефон. Как и открытие Пензиасом и Уилсоном космического микроволнового фона, многие из этих изобретений были сделаны совершенно неожиданно. Тим Бернерс-Ли изобрел Всемирную паутину не из финансовых соображений, а как способ дать ученым по всему миру возможность обмениваться научной информацией{27}. Астрономия изобилует успешными примерами государственно-частных партнерств. Фонды Хейсинга — Саймонс, Темплтона, Кека и Саймонса вкладывают большие средства в эксперименты по исследованию реликтового излучения. Пол Аллен инвестировал 30 млн долларов в проект Allen Telescope Array, занимающийся поиском внеземных цивилизаций. Джордж Митчелл выделил 25 млн долларов на строительство телескопа Giant Magellan Telescope в Чили, а фонд Гордона и Бетти Мур пожертвовал более 200 млн долларов на создание одного из самых больших оптических телескопов на планете — Thirty Meter Telescope.
Сегодня роль этих современных Медичи трудно переоценить. Благодаря их финансовой поддержке мы сможем вновь вступить в золотой век науки, когда ученые всех возрастов будут иметь возможность в полной мере использовать потенциал своих гениальных умов и «приносить наибольшую пользу человечеству» удивительными прорывными открытиями.
Тест на серендипность
Медаль Шведской королевской академии наук, вручаемая лауреатам Нобелевской премии по физике и химии, — это настоящее произведение искусства. На ее лицевой стороне изображен Альфред Нобель. По иронии судьбы на обратной стороне медали, которая за всю историю премии всего дважды вручалась женщинам-физикам, изображены два пленительных женских образа: гений Науки приподнимает шаль, закрывающую глаза богини Природы, которая держит в руках рог изобилия. Эта сцена символизирует способность науки открывать человечеству глаза на скрытые ранее истины.
Но иногда ученые намеренно выбирают слепоту. Например, исследователи-медики, чтобы исключить отрицательное влияние склонности к подтверждению своей точки зрения, используют двойные слепые исследования: когда ни испытуемые, ни те, кто проводит эксперимент, не получают никакой информации, способной повлиять на результат.
В астрономии, однако, настоящие двойные слепые эксперименты невозможны, поскольку мы не можем проводить настоящие эксперименты. Некоторые обсерватории, такие как LIGO, используют «слепые вбросы» ложной информации, чтобы выработать частичный иммунитет против ложноположительных выводов{28}. Но это не позволяет полностью защитить исполнителей от «ненужной» информации: почти сразу же после того как LIGO уловила первые гравитационные сигналы от слияния двух черных дыр, слухи об этом проникли в интернет и мгновенно разлетелись по социальным сетям. Если в астрономии так сложно реализовать двойной слепой протокол, на что же рассчитывать космологам, в распоряжении которых всего одна Вселенная для исследований?
Мое предложение состоит в том, что Нобелевскую премию надо использовать для изменения этой ситуации, в первую очередь награждая серендипные открытия.
В своем выступлении на Всемирном академическом саммите нобелевский лауреат 2011 года Сол Перлмуттер подчеркнул необходимость серендипности. «Я считаю, что существует фундаментальное непонимание тех целей, которые мы преследуем, занимаясь глубокими исследованиями такого рода, — сказал он. — Люди забывают, что мы ищем что-то действительно новое и удивительное, то, что считается невозможным, то, что нельзя предсказать заранее с достаточной степенью определенности».
Понятно, что непреднамеренные открытия не делаются по заказу. Но если фактор серендипности станет обязательным условием для присуждения Нобелевской премии, это, по крайней мере, позволит создать среду, мотивирующую ученых совершать открытия, обладающие революционным потенциалом. Кроме того, условие серендипности может уменьшить количество ошибок, связанных с подсознательной склонностью исследователей искать данные, которые подтверждают их гипотезы, и отбрасывать те, что не согласуются с ними{29}. Такая предвзятость столь же вредна для науки, как и для всего общества. Поощрение открытий, свободных от искажающего влияния склонности к подтверждению своей точки зрения, позволит значительно повысить прозрачность всего нобелевского процесса.
Как будет работать этот тест на практике, если серендипность по определению непредсказуема? Например, неожиданное открытие Верой Рубин темной материи соответствует критерию серендипности и, как следствие, заслуживает Нобелевской премии. В отличие от нее, экспериментаторы, которые искали и нашли бозон Хиггса, не проходят этот тест. Этот критерий также лишает шанса претендовать на нобелевское золото всех исследователей, которые занимаются поисками темной материи, поскольку они ищут конкретный предсказанный феномен, — как и авторов экспериментов наподобие POLARBEAR или BICEP2, которые ищут конкретные следы инфляции.
Разумеется, такого рода эксперименты — как, например, поиск темной материи — абсолютно необходимы; они должны получать финансирование и в случае успеха приносить своим авторам престижные награды и признание. Но между теоретической и экспериментальной космологией должно существовать благородное соперничество. Они не должны вступать в «сговор» и пытаться доказать конкретную теоретическую модель только потому, что ее предложил признанный авторитет или она просто привлекательна в интеллектуальном плане. Здесь требуется система сдержек и противовесов.
Серендипность дала множество нобелевских лауреатов, от Рентгена и Кюри до Пензиаса и Уилсона и победителя 1974 года Энтони Хьюиша, соавтор которого, Джоселин Белл, не была удостоена этой чести. Применение критерия серендипности позволит восстановить баланс между количеством наград в теоретической и экспериментальной науке. Как показывает рис. 50, на сегодняшний день в области экспериментальной физики и наблюдательной астрономии присуждено в три раза больше Нобелевских премий, чем за открытия в области теоретической физики. Критерий серендипности означает, что Нобелевские премии должны присуждаться именно авторам-теоретикам, которые предсказали новые феномены, — но только после их экспериментальной проверки.
В первые годы Нобелевский комитет интерпретировал условие о «наибольшей пользе человечеству» в пользу технологий, которые позволяли немедленно или уже в ближайшем будущем улучшить жизнь людей. Первые премии присуждались за открытия, имевшие непосредственное применение, например рентгеновские лучи в медицине и радиоактивность или изобретение Густава Далена. Некоторые утверждают, что сегодня многие нобелевские теоретические открытия перестали отвечать этому условию. Я с ними согласен: если бозон Хиггса когда-нибудь станет актуальным в вашей повседневной жизни, это будет означать, что у вас проблемы посерьезнее, чем у претендента на Нобелевскую!
Хотя серендипные теоретические открытия редко приводят к очевидным, не говоря уже об ощутимо полезных результатах, обычно они не требуют значительных технических и финансовых ресурсов. Их вполне могут делать молодые ученые, и даже с большей вероятностью, чем представители старшего поколения. Критерий серендипности при присуждении Нобелевской премии помог бы удержать самые яркие умы на поприще теоретической физики и выровнять игровое поле для тех, кто пока лишен покровительства государственных и частных фондов.
Божественное провидение
Уезжая из Провиденса в октябре 2011 года, я знал, что получать Нобелевскую премию мне было рано. Тогда я еще не пережил своего озарения по поводу Альфреда — осознания того, что серендипность, а не подтверждение своих догадок, должна лежать в основе нобелевских медалей. Свои перспективы я оценивал: Нобелевская премия за открытие темной энергии не досталась теоретику, который впервые ее предсказал, Альберту Эйнштейну, поскольку тот давно умер. Она также не досталась теоретику, который объяснил фундаментальную причину, почему темная энергия имеет ту величину, которую имеет, — это предсказание до сих пор оставалось недоказанным. Вместо этого премия была присуждена трем астрономам (Перлмуттеру, Риссу и Шмидту), которые наблюдали ее эффект. На авторство инфляционной модели могли претендовать человек пять — вдвое больше, чем количество Нобелевских премий по физике, доступных в следующем году. Но совсем немногие из нас, экспериментальных космологов, могли доказать инфляцию.
Таким образом, после того, как я оказался в одном шаге от нобелевской славы, в городе, само название[31] которого — синоним божественной серендипности, я вернулся в Калифорнию. Тогда еще я не знал, какие испытания приготовила мне судьба.
Глава 11. Ликование!
Самая волнующая фраза, какую можно услышать в науке, — фраза, возвещающая о новых открытиях, — вовсе не «Эврика!», а «Это забавно…»
Айзек АзимовПобывав в шаге от Нобелевской премии в Брауне, я, как никогда, был полон энергии и решимости завоевать ее. В моих ушах не переставали звучать похвалы, которыми осыпали меня мои бывшие преподаватели и однокурсники. Но я хотел заслужить высшую научную награду.
К 2011 году BICEP2 сделал большие успехи. Мы много узнали благодаря его предшественнику BICEP и теперь вступили в завершающую фазу анализа данных. Я по-прежнему руководил экспериментом BICEP, но не BICEP2, который после смерти Эндрю полностью перешел под руководство Джейми Бока и Джона Ковача. В их глазах я был и соавтором, и конкурентом. Как бы то ни было, я старался принимать в эксперименте BICEP2 активное участие. Мой аспирант Джон Кауфман использовал его как основу для своей диссертации и ежегодно ездил на Южный полюс, помогая команде Калтеха с установкой, тестированием и анализом данных BICEP2. Но мы знали, что не сразу телескоп начнет давать высококачественные данные.
Получение финансирования, создание команды, поездки на Южный полюс — все было непросто. Но это, по крайней мере, находилось под нашим контролем. Однако Вселенная не желала подчиняться нашему расписанию. Вдобавок у нас были серьезные конкуренты — около полудюжины других наземных и аэростатных телескопов и, разумеется, космическая обсерватория Planck, которая уже задала максимально жесткие ограничения для гравитационно-волнового фона, используя температурные флуктуации микроволнового фона. Те же самые инфляционные гравитационные волны, которые могли производить B-моды, должны были также вызывать возмущения пространства-времени, достаточные для того, чтобы слегка исказить температурный рельеф реликтового фона, но существовал порог, ниже которого нельзя было заглянуть с помощью одной только температуры реликтового излучения. Ниже этого уровня, который был в семь раз ниже предела, установленного нами с помощью BICEP, находилась terra incognita — неизведанный поляризованный ландшафт, который мог содержать только инфляционные B-моды. Обсерватория Planck также могла исследовать эту территорию, и, возможно, даже лучше нас, как это следовало из отчета, выпущенного Европейским космическим агентством почти сразу после запуска обсерватории в мае 2009 года{1}. Чтобы заявить о себе, BICEP2 необходимо было улучшить результаты и BICEP, и Planck. И улучшения требовались серьезные.
В конце концов все произошло очень быстро, по крайней мере по космологическим меркам.
Зарегистрированный сигнал был настолько сильным, что это казалось неправдоподобным. В 2013 году, всего три года спустя после того как BICEP2 увидел первый свет и начал свою патрульную службу по сканированию «Южной дыры» (так мы назвали исследуемый нами участок небесного свода), и для BICEP2 наступил тот самый момент — «Это забавно…». Принятый телескопом сигнал В-мод был огромным. Его невозможно было пропустить. Как впоследствии выразился один из руководителей BICEP2 Клем Прайк, это было все равно что искать в стоге сена иголку, а найти лом. Вы думаете, наверное, что это принесло нам счастье. Как раз наоборот, мы занервничали.
Кто забыл снять крышку с объектива?
Слишком многое могло или даже должно было пойти не так. Мы пытались измерить температурный сигнал в миллиард раз холоднее, чем льды Южного полюса. Мы не знали, сумеем ли увидеть хоть что-то. Но мы увидели.
Нашим первым вопросом было: «Кто напортачил?» В 1970-х годах Джо Вебер объявил, что зарегистрировал гравитационные волны в своей лаборатории{2}. Он был выдающимся экспериментатором и одним из изобретателей лазера, и многие считали, что в 1964 году его несправедливо обошли с Нобелевской премией{3}. Но обнаруженные Вебером волны оказались слишком хороши, чтобы быть правдой, — его открытие не подтвердилось. Мы не хотели повторять его печальную участь, становясь вторыми «первооткрывателями» гравитационных волн по ошибке.
Такие ложные открытия случаются в науке на удивление часто. В 2011 году физики, проводившие эксперимент на ускорителе частиц SPS в CERN, сделали потрясающее заявление: они обнаружили нейтрино, способные перемещаться быстрее скорости света. Поскольку теория относительности Эйнштейна утверждает, что ничто в этом мире не может двигаться быстрее скорости света, это было поразительное открытие. На протяжении более чем 100 лет все теории и эксперименты неизменно подтверждали, что космический предел скорости в 300 000 км/сек не просто красивая идея — это закон. Однако нейтрино достигали детектора OPERA на 60 наносекунд раньше, чем ожидалось{4}. Хотя 60 наносекунд могут показаться вам не слишком существенными, но этого было более чем достаточно, чтобы привлечь внимание всего мира и вызвать разговоры о Нобелевке. Заявление исследователей означало, что сам Эйнштейн был не прав и основы физики зашатались.
В конце концов выяснилось, что причиной всему плохо вставленный разъем кабеля, из-за чего время старта нейтрино определялось с некоторой задержкой — как раз на те самые 60 наносекунд, на которые они опережали скорость света. Когда разъем зафиксировали правильно, аномалия исчезла. Но «сверхсветовая» скорость нейтрино стала предметом насмешек для всего мира. Главные исследователи проекта OPERA были вынуждены уволиться с руководящих постов{5}. Учитывая печальный опыт Вебера и команды OPERA, у нас было больше причин нервничать из-за полученного нами сигнала, чем ликовать.
К тому же за нами по пятам шел опасный конкурент — команда Planck, чей космический телескоп, вращавшийся в невесомости на орбите в 1,5 млн км над Землей с ее атмосферными помехами, имел огромное преимущество перед всеми наземными телескопами. Команда Planck могла обскакать нас точно так же, как Пензиас и Уилсон обскакали Роберта Дикке полвека назад. Хуже того, телескоп BICEP2 был демонтирован еще год назад. Мы не могли вернуться и проверить, не забыли ли мы снять крышку с объектива. У нас оставалось только одно мощное оружие: данные, очень много данных.
Мы начали с проверки непротиворечивости данных, разделив весь их массив на два набора и составив две карты — одну на основе первых 18 месяцев наблюдений BICEP2, вторую — на основе вторых 18 месяцев. Обе карты показывали одинаковый сигнал, хотя и с более низким отношением сигнал/шум (что было естественно, поскольку каждая карта использовала всего половину данных).
Как гласит народная мудрость, «семь раз отмерь, один раз отрежь». Мы измерили данные BICEP2 десятками разных способов, пытаясь найти несоответствия между наборами данных разных детекторов или различия при сканировании неба справа налево и слева направо. Мы подвергали наши данные самым немыслимым пыткам; каждый из нас пытался придумать наиболее невероятный сценарий, который мы могли упустить из виду. Была даже выдвинута версия, что зарегистрированный нами сигнал — дело рук инопланетян.
Когда мне доводится выступать на публике и меня представляют как космолога, я часто шучу, что не стоит путать меня с косметологом и доверять мне свои волосы и ногти. Однако многие не знают, что между космологией и косметологией существует глубокая связь. Оба слова восходят к греческому глаголу kosmeö, означающему «приводить в порядок, украшать». Прекрасный лик Вселенной как нельзя лучше это подтверждает. Когда я впервые увидел зарегистрированный BICEP2 сигнал (рис. 51), у меня перехватило дух от завораживающего узора из спиралей и завихрений. Это было именно то, что прогнозировала инфляционная модель, и это была любовь с первого взгляда. Космос был не просто прекрасен. Он щеголял перед нами своей красотой.
К нашему радостному возбуждению примешивались тревожные предчувствия. После года скрупулезного анализа мы убедились, что сигнал не мог исходить ни от Южного полюса, ни от атмосферы, ни от самого BICEP2. Что тогда могло быть его источником, как не инфляция?
Одним из возможных источников могла быть та самая коварная космическая субстанция, которая еще со времен Галилея сбивала с толку астрономов, — пыль.
Мы знали, что облака межзвездной пыли в Млечном Пути рассеивают микроволновое излучение и создают похожий «узор» поляризации В-типа. Но могла ли межзвездная пыль сгенерировать весь обнаруженный нами сигнал? Как определить, является ли зарегистрированный BICEP2 рисунок отпечатком первичных гравитационных волн на микроволновом фоне или обычной засветкой от галактической пыли?
Несмотря на то что мы выбрали для охоты за В-модами «Южную дыру» как участок неба с наименьшим уровнем запыленности, опираясь на предсказания лучших доступных моделей, эти оценки были полны неопределенности. Чтобы узнать реальный вклад пыли, нам требовались данные измерений на высоких частотах.
Как я уже говорил, интенсивность поляризованного излучения пыли резко возрастает с повышением частоты. BICEP2 работал только на одной частоте в 150 ГГц, соответствующей длине волн около 2 мм. Удвоение частоты усиливало пылевой сигнал более чем в три раза. Если обнаруженные нами В-моды продуцировала пыль, это было бы очевидно при частоте 300 ГГц… если бы мы располагали данными измерений на таких высоких частотах.
На самом деле такая карта высокочастотных измерений существовала, но имелась одна загвоздка: она была составлена конкурирующей командой Planck. А на начало 2014 года участники этого проекта еще не опубликовали своих результатов. Мы опасались, что они не только могли намеренно придерживать ключевые данные, доказывающие правильность наших измерений, но и наткнулись на тот же сигнал В-мод, который обнаружили мы. Если этот сигнал действительно настолько силен, телескоп Planck вполне мог его заметить.
Мы пытались наладить сотрудничество с командой Planck, при этом держа свою находку в строгом секрете. Это было опасное маневрирование. Как вы уже знаете, дочитав книгу до этого места, группы ученых иногда сотрудничают, но гораздо чаще конкурируют, особенно когда перед ними стоит конкретная — и очень желанная — цель. Этот аспект науки вызывает тревогу; многие из нас рассматривают данные как свою «собственность», тогда как на самом деле они принадлежат людям, оплачивающим наши счета, — налогоплательщикам.
BICEP2 дал очень много информации, требующей обработки, но у Planck она была гораздо обширнее — охватывала все небо, причем на нескольких частотах. После того как мы исключили все прочие факторы, ключ к судьбе нашего открытия крылся в высокочастотных данных.
Но команда Planck отказалась сотрудничать{6}. Либо у них не было данных, которые нам были необходимы, либо они не хотели их давать, чтобы помешать нам завоевать пальму первенства. Нам пришлось действовать на свой страх и риск. Недостаток качества в виде частотного охвата BICEP2 мы компенсировали количеством: разработали пять различных моделей для пылевого излучения на основе старых данных — тех самых, которые использовали при выборе региона сканирования для BICEP почти десять лет назад.
Каждая из этих пяти моделей предсказывала общее тепловое излучение пыли в определенном регионе галактики, но ни одна из них не позволяла предсказать интенсивность пылевой поляризации конкретно в Южной дыре. Мы экстраполировали эти данные на нужный нам участок неба и рассчитали, как выглядело бы пылевое излучение в случае небольшой поляризации. Мы строили догадки, стараясь проявлять сдержанность, и в конечном итоге пришли к выводу, что вклад пыли может объяснять около 5 % зарегистрированного нами сигнала.
Потом нас осенило: в начале года один из членов команды Planck и эксперт по поляризации Млечного Пути, д-р Жан-Филипп Бернар, выступил с публичным докладом, который был размещен онлайн. В нем Бернар использовал карту излучения галактической пыли, составленную на основе измерений Planck. Это была настоящая карта сокровищ, обозначавшая места, где было зарыто нобелевское золото{7}.
Как только мы наткнулись на этот доклад, один из членов нашей команды оцифровал слайд Бернарда и с помощью экстраполяции раскрыл данные Planck{8}. Конечно, так поступать не принято. На самом деле многим из нас это было не по душе. Мы взяли неопубликованные данные в виде картинки в интернете и преобразовали их в количественную информацию. Но благодаря этому нам удалось создать новую модель и получить сведения, столь необходимые для интерпретации данных BICEP.
Команда Planck не торопилась с публикацией этой карты, и, похоже, у них были свои систематические погрешности и причины для беспокойства. Но слайд находился в свободном доступе в интернете, что формально давало нам право на его использование. Однако, если опубликовать наши результаты, насколько убедительны будут эти контрабандные данные? Поначалу нами двигало просто любопытство, это был всего лишь безобидный маневр, способ удостовериться в правильности наших предположений. Но через несколько месяцев эта пиратская карта стала важным звеном в цепочке рассуждений, приведшей нас к убеждению, что вклад галактической пыли в полученные BICEP2 данные можно спокойно игнорировать и, следовательно, подтверждались наши самые безумные надежды: мы обнаружили следы инфляционных гравитационных волн в реликтовом излучении.
То, что мы использовали этот слайд, не давало мне покоя. Во время телеконференций и в электронных письмах я сетовал на это руководителям BICEP2. Я хотел знать: насколько мы уверены в точности наших данных о пылевом излучении? Меня тревожило то, что результаты BICEP2 уже могли быть опровергнуты исследованиями Planck. Поляризация галактической пыли была наиболее очевидным объяснением сигнала, который мы могли увидеть, а Planck — нет.
«Как мы можем полагаться на слайды, которые были показаны в ходе публичного доклада и не предназначались для количественных оценок? — спросил я у всей команды по электронной почте. — Меня тревожат эти 5 %. Как объяснить эту цифру рецензентам/редактору? Представьте, что кто-нибудь, например научный руководитель Planck, спросит: „Откуда взялась эта цифра?“ Что будет, если выяснится, что мы взяли ее из неопубликованных данных?»
В ответ на мое письмо руководство заявило, что в использовании слайда нет ничего плохого, если мы изложим предположения, на которые опирались. Соруководитель BICEP2 Джейми Бок также был одним из руководителей проекта Planck. После смерти Ланге все обязанности по участию в этом проекте перешли к нему, и его группа в Лаборатории реактивного движения НАСА разработала поляриметр, работающий на частотном канале в 353 ГГц, на основе которого была составлена карта Бернара. Скорее всего, Джейми видел не только слайды, но и реальные данные, рассуждал я. Следовательно, он должен был знать, действительно ли BICEP2 обнаружил следы рождения Вселенной… или это просто самый чувствительный детектор пылевого излучения, из когда-либо созданных астрономами. Хотя космологи не подписывают соглашений о неразглашении[32], использование данных одного эксперимента для уточнения данных другого, конкурирующего эксперимента, по крайней мере пока оба не завершены, столь же сомнительный поступок в этическом плане, как и инсайдерские сделки в бизнесе. Да ладно, успокаивал я себя. Джейми, наверное, просто взглянул на данные Planck о поляризации пыли и убедился, что ею можно пренебречь. Кто бы на его месте поступил иначе?
Кроме того, слайд Бернара только подтверждал результаты наших пяти моделей, каждая из которых убедительно показывала, что пыль не могла быть правдоподобным объяснением тех ярких B-мод, которые увидели мы. Информация со слайда была одним из доказательств, но не решающим. Главная заслуга принадлежала моему первому телескопу BICEP, который теперь был переименован в BICEP1.
В отличие от BICEP2, который сканировал небо всего на одной частоте в 150 ГГц, где самое яркое фоновое излучение, BICEP1 вел наблюдения на трех частотных каналах в 90, 150 и 220 ГГц. Благодаря измерениям на этих дополнительных каналах мы смогли до некоторой степени исключить влияние пыли. В интервью журналу Nature ведущий исследователь проекта BICEP2 Джон Ковач, отвечая на вопрос: «Когда вы впервые поняли, что обнаружили те самые „неопровержимые улики“ инфляции?» — сказал: «Прошлой осенью, когда мы впервые сравнили сигнал, зарегистрированный BICEP2, с данными BICEP1. Это был убедительный результат, поскольку BICEP1 использовал другие детекторы и гораздо более старые технологии. Таким образом, тот факт, что мы смогли увидеть тот же сигнал с помощью телескопа совершенно другого типа, позволил исключить значительную долю сомнений. Даже самые законченные скептики в нашей команде теперь поверили»{9}.
Одним из тех скептиков был я. Мы могли использовать слайд Planck, поскольку он не был главным доказательством. Наиболее убедительные свидетельства исходили из данных BICEP1, которые подтверждали, что не пыль была причиной нашего сигнала, и мы были уверены в этом на 95 %. Другими словами, вероятность того, что обнаруженный нами сигнал был сгенерирован пылью, составляла 1:20. Вы бы согласились сыграть в самую большую лотерею в истории космологии при шансе победить 95 %? Думаю, да.
Джон Ковач сделал последнюю попытку запросить данные у команды Planck, но снова получил отказ. Я был уверен, что они собираются нас обскакать. Медлить было нельзя. Данные BICEP1, подкрепленные слайдом Бернара, убедили всех нас — 49 человек, включая меня. Я был готов к компромиссу. Время пришло: либо публиковать, либо можно распрощаться с нобелевскими мечтами.
Что значит имя?
Публикация результатов — один из способов для ученых застолбить свое авторство. До появления научных журналов, таких как британский Nature (основанный в 1869 году), ученые использовали другие способы, например проводили эксперименты в присутствии всего Королевского научного общества. В наше время публикация результатов позволяет не только установить приоритет в научном открытии, но и запустить процесс тестирования, оценки и воспроизведения результата. Перед командой BICEP2 встал еще один сложный вопрос: как назвать нашу статью? Как вы помните, Пензиас и Уилсон придумали для своего эксперимента слишком скромный для заявки на Нобелевскую премию заголовок: «Измерение избыточной антенной температуры на частоте 4080 МГц»{10}. Мы же считали, что нам нужно преподнести «жаркое» из реликтовых В-мод под чуть более острым соусом.
До нас было множество нобелевских претендентов. Мы хотели отразить в заголовке масштаб открытия — как, например, в названии «Данные наблюдений за сверхновыми, подтверждающие ускоряющееся расширение Вселенной и космологическую константу», выбранном для своей статьи Адамом Риссом и Брайаном Шмидтом, руководителями команды по поиску сверхновых с высоким Z и нобелевскими лауреатами 2011 года. Мы остановились на достаточно сдержанном варианте «BICEP2: обнаружение В-моды поляризации на градусных угловых масштабах», но решили быть более напористыми в самом тексте. Это тоже было частью нашей стратегии. Мы опасались, что, если не заявить прямо о том, что обнаруженные нами В-моды поляризации являются отпечатками инфляционных гравитационных волн, команда Planck или любой другой из дюжины наших конкурентов сможет утверждать, что открытие инфляции принадлежит им. Мы не хотели выбить мяч за пределы поля, а потом забыть занять основную базу.
Название было последним препятствием, стоявшим на нашем пути к мировой славе. Мы с трудом сдерживали волнение. Меня буквально распирало, но приходилось сохранять строжайшую секретность. Я был и взбудоражен, и вымотан одновременно. Часто ли ученому доводится участвовать в научном событии, почти не подвластном человеческому пониманию?
Во время наших телеконференций, когда мы договаривались о дате публикации результатов BICEP2, я слышал, как четверо научных руководителей обсуждают предстоящую пресс-конференцию. В конце концов решили провести ее в Гарвардском университете, где работал Джон Ковач. В ожидании неизбежного натиска со стороны СМИ руководство BICEP2 позаботилось о создании веб-сайта, на котором подробно описывалось наше открытие.
Кто руководит экспериментом BICEP2? Эксперимент BICEP2 возглавляет Джон Ковач. Клем Прайк отвечает за анализ, который позволил получить сегодняшний результат. Джейми Бок разрабатывал оптическую концепцию эксперимента и технологию детекторной матрицы. Чао-Линь Куо спроектировал поляризационно-чувствительные детекторы, используемые в BICEP2{11}.
О том, что я создал BICEP, даже не упоминалось. Именно я предложил идею этого телескопа и сумел ее отстоять, несмотря на сомнения многочисленных скептиков. Именно я больше десяти лет назад написал первую статью о BICEP{12}. А теперь я за бортом. Почему со мной так обошлись? Потому, что я выступал против использования слайда Planck? Из-за того, что я был соруководителем эксперимента POLARBEAR? Или, что уж совсем цинично, потому что Нобелевская премия присуждается не более чем трем ученым за раз и, вычеркнув мое имя из истории открытия инфляционных В-мод, они избавились от лишнего претендента? Я задавался вопросом: кого из четырех соруководителей вычеркнут следующим.
Моя роль была низведена до уровня признания заслуг в «заключительных титрах»:
Другие основные организации, участвовавшие в проекте BICEP2, включают Калифорнийский университет в Сан-Диего, Университет Британской Колумбии, Национальный институт стандартов и технологий, Университет Торонто, Университет Кардиффа и Комиссариат по атомной энергии (CEA).
В последнюю минуту я потребовал у Ковача гарантий, что моя роль в BICEP2 будет упомянута на пресс-конференции. Просить об этом человека, который участвовал в эксперименте, разработанном мной больше десяти лет назад, и, более того, был взят в команду по моей рекомендации, было более чем унизительно. В конце концов он согласился, сказав, что главной причиной, почему меня исключили из топ-списка BICEP2, было мое участие в конкурирующем эксперименте POLARBEAR. Я напомнил ему, что Джейми Бок руководил командой Planck, нашим главным конкурентом. Но Ковач на это никак не отреагировал. К сожалению, меня ожидали дальнейшие разочарования. Читая посвященный эксперименту сайт, я наткнулся на, казалось бы, безобидный вопрос.
Что означает «BICEP2»? Официально «BICEP2» — это не акроним. Это просто название.
У меня внутри все оборвалось. Просто название? BICEP2 был прямым наследником BICEP, а акроним BICEP был придуман мной, и я этим гордился. Название Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization («Фоновое отображение космической внегалактической поляризации») относилось к самому первому эксперименту по поиску вихревых паттернов B-мод поляризации реликтового излучения.
Я был уязвлен. Все имена несут в себе какой-то смысл. Именно поэтому усыновленные дети так стремятся узнать, как родители назвали их при рождении. А что означает слово «астроном»? Его можно перевести как «дающий названия звездам»[33]. Я знал о важности имени больше, чем многие; моя фамилия изменилась, когда меня усыновил отчим. Это было подтверждением его отцовства, об этом же шла речь и сейчас.
Мне было больно терять Нобелевскую премию, но еще больнее было терять собратьев по оружию. Мы многое пережили вместе, от рождения наших детей до трагической потери нашего дорогого друга Эндрю Ланге. Мы вместе переживали поражения, печали и радости. Мы вместе путешествовали на край Земли и вместе мечтали написать самую раннюю историю нашей Вселенной. И вот теперь для меня не осталось чернил. Я не понимал почему.
Я чувствовал себя ужасно. Мне никак не могло это понравиться, но пришлось принять это и жить дальше. Вместо того чтобы предаваться отчаянию и страдать от несправедливости, я решил присоединиться ко всеобщему торжеству. В конце концов, я помог написать Книгу Космогенеза. И через 100 лет будет неважно, есть ли там мое имя.
Дрожь перед сотворением
За неделю до пресс-конференции средства массовой информации были предупреждены о мероприятии в понедельник 17 марта 2014 года, в День святого Патрика, в Гарвардском центре астрофизики. Никаких подробностей сообщено не было. Лишь немногим репортерам из Time, Nature и The New York Times, одобренным пресс-службой Гарварда, рассказали о результатах{13}.
В ночь перед пресс-конференцией я не мог сомкнуть глаз. Наконец 17 марта 2014 года наш секрет бы официально раскрыт. Пресс-релиз Гарвардского университета гласил:
Первое прямое свидетельство космической инфляции: почти 14 млрд лет назад произошло экстраординарное событие, которое инициировало Большой взрыв и появление той Вселенной, в которой мы живем. За ничтожно малую долю секунды Вселенная расширилась далеко за пределы видимости наших лучших телескопов. Все это, конечно, было всего лишь теорией. Однако исследователи из коллектива BICEP2 сегодня объявили о первом прямом свидетельстве космической инфляции. Кроме того, в их работе представлены первые изображения гравитационных волн или ряби пространства-времени. Эти волны описаны как «первая дрожь Большого взрыва». Обнаруженные свидетельства подтверждают глубокую связь между квантовой механикой и общей теорией относительности.
Пресс-конференция продолжалась около часа. В зале собрались королевские особы мира физики: прямо перед сценой с будущими нобелевскими лауреатами сидел нобелевский лауреат и один из открывателей реликтового излучения Роберт Уилсон; за ним можно было увидеть таких светил, как Алан Гут и Андрей Линде. В молодости Линде и Гут, разделенные географическими границами и политической идеологией, независимо друг от друга — один в Советском Союзе, другой в Соединенных Штатах — сделали свои открытия об инфляции, пошатнувшие представления о космосе. Теперь оба были триумфаторами. Интересно, какие чувства испытывали Линде и Гут в этот момент, когда их, казалось, чисто умозрительная модель получила единственно возможное экспериментальное подтверждение?
В своих комментариях Джон Ковач вскользь упомянул о моей группе в Калифорнийском университете в Сан-Диего, но его вряд ли его кто-то услышал — слова утонули в аплодисментах. Космолог Марк Каменковски, один из теоретиков, вдохновивших меня на создание BICEP, не поскупился на похвалы. «Это величайшее открытие века, — сказал он. — Если оно будет подтверждено, я считаю его достойным Нобелевской премии»{14}. Космолог Макс Тегмарк из Массачусетского технологического института пошел еще дальше, назвав происходящее «одним из самых захватывающих моментов в истории науки!»{15}
Финансировавшие BICEP2 агентства также получили заслуженную долю признания: «Благодаря поддержке Национального научного фонда команда BICEP наконец-то, впервые в истории, сумела зарегистрировать долгожданный сигнал В-моды поляризации. Их работа будет представлена для изучения мировому сообществу астрофизиков»{16}.
Сразу после пресс-конференции мы разместили результаты BICEP2 в открытом доступе на сайте arXiv.org, чтобы все желающие могли принять участие в их обсуждении. Вместо того чтобы представлять их на суд одного рецензента, как это обычно бывает, когда вы отправляете свою работу в научный журнал, — человека, который вполне может оказаться вашим конкурентом и воспользоваться вашими данными в своих целях, — мы открыли их всему миру. Мы были не первыми, кто так сделал: другие группы, в том числе Planck, также публиковали свои результаты онлайн. В конце концов, на дворе стоял XXI век — самое время усовершенствовать процессы экспертной оценки.
Когда пресс-конференция закончилась, я узнал, что на YouTube появился вирусный видеоролик, снятый студией Стэнфордского университета в стиле сенсационной журналистики{17}. Видео начиналось в духе рекламы компании, торгующей хозтоварами, с обещаниями несметных сокровищ. Молодой стэнфордский профессор и соруководитель BICEP2 Чао-Линь Куо приглашал зрителя зайти к Андрею Линде, стоя перед дверью его дома в Пало-Альто.
Глядя в камеру, Куо сообщает о своей миссии объявить Линде, что «BICEP2 обнаружил неопровержимые доказательства инфляции». И добавляет: «Он понятия не имеет о моем визите!» Линде открывает дверь, и Куо выпаливает ему новость: «У меня для вас сюрприз: пять и две десятых сигма!» Смысл сказанного мгновенно доходит до Линде: BICEP2 обнаружил сигнал инфляционных гравитационно-волновых В-мод с потрясающим уровнем значимости — с отношением сигнал/шум (С/Ш), равным пяти, подразумевающим, что вероятность статистической случайности составляет менее чем 1 на 3 млн. Линде не верит своим ушам. Он просит Куо повторить новость. В конце концов они входят в дом и открывают бутылку шампанского, чтобы отпраздновать событие. Линде не может сдержать эмоций: «Мы видим облик Большого взрыва, это образ гравитационных волн чисто квантового происхождения в результате Большого взрыва. Так что это недостающая часть истории. Если она подтвердится, у нас будет понимание природы такой глубины, которую трудно осознать…. Большое спасибо вам за то, что вы сделали это для нас».
Не хватало только гигантского изображения свидетельства о научной новизне, стоимостью 8 млн шведских крон. Конечно, чувства Линде были вполне понятны. Значительная часть его идентичности как ученого была связана с инфляционной теорией, так что было почти невозможно определить, где заканчивается «Линде» и начинается «инфляция». После стольких лет упорной борьбы один на один с невидимым могущественным врагом возможность получить подтверждение своей теории еще при жизни казалась ему невероятной. Коллектив BICEP2 сделал это не столько для Линде, сколько для себя: финишировав первыми в этой гонке, мы вписали себя в Зал славы мировой науки и, как мы надеялись, в список нобелевских лауреатов. Природа оказалась милостива ко всем нам. У меня на глаза навернулись слезы. Вероятно, я был такой не один: в тот день видеоролик набрал 2 млн просмотров.
Микроволновый вестник
Телескоп BICEP2 был настолько простым, насколько это было возможно, вторя идее изобретения Галилея. Меня восхищала мысль о том, что небольшой рефрактор в очередной раз помог человечеству выйти на новый уровень знаний о космосе и о месте человека в нем. Как 400 лет назад «Звездный вестник» Галилея, публикация в интернете результатов эксперимента BICEP2 вызвала настоящую сенсацию. Участники проекта в одночасье стали знаменитостями, и, к моей гордости, BICEP2 был главным героем этой истории.
Космологический стартап под названием BICEP2 провел первичное публичное размещение акций, и те мгновенно взлетели в цене. Наш научный единорог принес своим венчурным инвесторам, включая, разумеется, финансирующие агентства, миллиард долларов PR-капитала.
Как и многих первопроходцев в Кремниевой долине (в моем случае это была идея создания BICEP), меня вытеснили из бизнеса. Я чувствовал себя астрономическим двойником Эдуардо Саверина, соучредителя Facebook, который подал в суд на Марка Цукерберга за то, что тот свел его долю в капитале почти до нуля. На какую-то наносекунду у меня даже возникла мысль подать в суд на руководителей BICEP2. Но какие у меня были основания помимо горечи и обиды? А что, если Ковач и Бок были правы: что, если, присоединившись к POLARBEAR, я действительно предал их?
Хотя я потерял, возможно, единственный в моей жизни шанс на Нобелевскую премию, я утешал себя тем, что эту историю начал писать я. «Идея — вот что имеет значение, — успокаивал я себя, — это и есть главный приз». Более того, полученные результаты превзошли мои самые смелые ожидания. По сути, моя идея позволила найти доказательства квантовой гравитации! Неплохо для того мальчика с телескопом!
К моему облегчению, журналисты раскопали значение акронима BICEP2. В статье «Космическая рябь таит следы Большого взрыва» газета The New York Times представила название BICEP во всей его красе: Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization («Фоновое изображение космической внегалактической поляризации»). Мне было приятно, что моя роль (частично) восстановлена. Но, когда мои родные прочитали статью, они пришли в недоумение: почему в ней ни разу не упоминалось мое имя? Единственное, что я мог сказать: «Это недоразумение». Такой ответ не удовлетворил мою дотошную мать. Она требовала, чтобы в The New York Times опубликовали опровержение на целую полосу.
«Если это подтвердится, — писала The Times, — открытие BICEP2 станет такой же значимой вехой в науке, как недавнее открытие темной энергии, заставляющей расширяться нашу Вселенную, или самого Большого взрыва. Оно откроет обширные области времени, пространства и энергии для науки и новых догадок»{18}.
Догадки не заставили себя ждать. В своей статье в The New Yorker физик Лоуренс Краусс размышлял об историческом значении результата BICEP2: «В редкие моменты научной истории ученые открывают новое окно во Вселенную, и это меняет все. Вполне возможно, что сегодня мы переживаем именно такой день… если это открытие подтвердится, оно расширит наше окно эмпирических знаний о Вселенной фактически настолько же, насколько оно расширилось за всю предшествующую историю человечества»{19}.
До Нобелевской премии оставался всего один шаг — получить подтверждение. Это было изматывающее ожидание. Похожим образом я чувствовал себя во время беременности моей жены: ждать приходится трудно и долго, но тот бесценный «приз», который ты получаешь в конце, оправдывает все. Мы были уверены, что команда Planck и остальные конкурирующие группы подтвердят нашу находку. Но их результаты уже не имели значения: мы были первыми. Как и в рождении Вселенной, важен был первый миг.
Глава 12. Инфляция и ее неприятие
Когда в 1968 году Банк Швеции учредил Премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, наблюдалось — и так остается по сей день — немало скептицизма среди ученых и широкой общественности по поводу того, насколько целесообразно рассматривать экономику наравне с физикой, химией и медициной. Последние считаются «точными науками», в которых возможно объективное, кумулятивное и точное знание… В общественных же науках ученые анализируют собственное поведение и поведение коллег, которые, в свою очередь, следят за тем, что говорят ученые, и реагируют на сказанное. Разве такие науки не требуют принципиально иных методов исследования, чем физические и биологические? Разве не следует оценивать их по другим критериям?
Милтон Фридман, лауреат Премии по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, 13 декабря 1976 г.{1}Несколько недель после пресс-конференции члены команды BICEP2 наслаждались ее послесвечением. Им пророчили вторую Нобелевскую премию за инфляцию. Вторую? Возможно, вас это удивит, но за несколько десятилетий до BICEP2 Нобелевская премия за исследование инфляции уже была вручена, хотя речь шла об инфляции иного рода. Экономист Милтон Фридман выдвинул гипотезу, что уровень безработицы зависит от темпов денежной инфляции.
Открытие BICEP2, подтверждавшее космическую инфляцию, подкрепило предположения Фридмана: оно обеспечило нашей публикации больше тысячи цитирований за короткое время, многочисленные интервью в СМИ, две лекции на TED и едва ли не карт-бланш на получение финансирования на строительство будущих поляриметров{2}. Джон Ковач даже вошел в список «100 наиболее влиятельных людей 2014 года» по версии журнала Time{3}. Фридман был прав: выявив инфляцию, BICEP2 обеспечил космологам полную занятость на десятилетия вперед.
Но как же насчет приведенного выше утверждения Фридмана, что «точные науки» ориентируется на «точные знания»? Действительно ли общественные науки, по сравнению с физическими, больше озабочены поведенческими аспектами своих специалистов?
Отголоски пресс-конференции, посвященной BICEP2, не затихали еще долго после того, как съемочная группа покинула Кембридж. Если и раньше инфляция доминировала на рынке идей, то после пресс-конференции она стала почти монополией. Инфляционная теория устранила всех конкурентов — ситуация, которая не стоит волнений нобелевского лауреата вроде Милтона Фридмана. И, по правде говоря, не все были рады такому росту популярности инфляции.
Крошечные пузырьки в Мультивселенной
Инфляция решала многие фундаментальные проблемы модели Большого взрыва. В частности, она позволяла ответить на два ключевых вопроса: почему Вселенная такая плоская и почему она такая однородная? Но у инфляционной модели имелся серьезный недостаток: у квантового поля, которое вызывало магическое расширение, — поля инфлатона — не было встроенного выключателя. Оно продолжало раздуваться, и ничто не могло затормозить этот процесс, чтобы Вселенная могла изящно перейти к той гораздо более медленной скорости расширения, которую мы наблюдаем сегодня. В оригинальной модели Алана Гута Вселенная должна была остаться очень скучным местом: бесконечно огромной, вечно расширяющейся, лишенной всякой материи, бесплодной, безликой и унылой. И даже нас там бы не было, чтобы пожаловаться на скуку.
Вскоре после столь «удивительного прозрения» Гута Пол Стейнхардт и его аспирант Андреас Альбрехт исправили этот недостаток, найдя способ замедлить раздувание поля инфлатона и стабилизировать его, по крайней мере при определенных особых условиях. Множество отдельных областей устойчивости, образующих своего рода бесконечное космическое лоскутное одеяло, способно расширяться достаточно для того, чтобы объяснить проблемы плоскостности и однородности.
К такой же модели независимо от них пришел Андрей Линде. К началу 1980-х годов Стейнхардт, Линде и еще один российский космолог, Александр Виленкин, также пришли к выводу, что эта новая инфляционная модель должна была создать Вселенную, которая вечно «воспроизводит сама себя», порождая крошечные пузырьки-вселенные, отделенные друг от друга огромными расстояниями{4}. Это множество вселенных называют Мультивселенной.
Хотя я уже сетовал на дилемму астронома — мы не можем ставить эксперименты над звездами, — у нас есть несколько обходных путей, по крайней мере прием аналогии. Одну аналогию можно позаимствовать у экспериментальных биологов. Если в чашку Петри, наполненную агаровым гелем (это деликатес для бактерий), поместить несколько отдельных бактерий и позволить им размножаться, вы получите своего рода микрокосмическую Мультивселенную. Чашка с агаровым гелем, подобно инфлатонному полю, обеспечивает топливо для расширения бактериальных островков-вселенных. Каждая колония бактерий растет изолированно, увеличиваясь в размерах в соответствии со своим уникальным масштабом времени. В конце концов они заполняют все пустое пространство фантастическими фрактальными структурами, как показано на рис. 52.
Хотя у бактерий нет математических знаний для изучения собственных характеристик, их колонии демонстрируют поразительную корреляцию поведения на больших расстояниях, которую биофизики описывают с помощью математики фазовых переходов — той же математики, что стоит за космологической инфляцией{5}. «Каждая колония представляет собой суперорганизм, многоклеточный организм со своей идентичностью», — писал ныне покойный Эшель Бен-Иаков, профессор физики в Университете Тель-Авива{6}. Каждая культура ведет себя так, будто она единственная в чашке Петри, по крайней мере какое-то время. Если бы микробы были способны говорить, то заявили бы: «Мы в чашке Петри — центр мироздания».
Эти культуры развиваются изолированно, в блаженном неведении относительно своей заурядности. Так происходит поколение за поколением, пока в какой-то момент они не сталкиваются с соседней колонией в чашке Петри. В этот момент бактерии осознают, что они не единственные и не уникальные и ни в коей мере не находятся в центре пространства, уходящего за горизонт. Это принцип Коперника в микромасштабе.
Космос Линде содержал настолько изолированные друг от друга регионы, что каждая карманная вселенная могла иметь свои уникальные физические свойства, таксономию частиц и даже свои физические законы, полностью отличающиеся и не связанные со свойствами других пузырьков. Многоликая Вселенная Линде представляла собой бурлящее варево из крошечных пузырьков-вселенных. Все они подчинялись фрактальному узору — самовоспроизводящемуся, вечному и бесконечно сложному. Одни космологи сочли Мультивселенную опьяняюще красивой; другие — угрожающей.
Мультивселенная и инфляция быстро стали синонимами. По словам Алана Гута, «трудно построить инфляционную модель, которая не вела бы к модели Мультивселенной… и свидетельства в пользу инфляции требуют отнестись к [идее] Мультивселенной серьезно». Инфляция позволяла новым вселенным возникать с такой легкостью из ничего, что Гут сравнил ее с «бесплатным обедом»{7}. Линде согласился, добавив: «В большинстве моделей, где есть инфляция, есть и Мультивселенная. Конечно, можно придумать модели инфляции, не допускающие появления Мультивселенной, но это сложно. Каждый эксперимент, который повышает доверие к инфляционной теории, все больше приближает нас к мысли, что Мультивселенная реальна»{8}.
Еще до BICEP2 многие космологи пытались найти наблюдаемые признаки Мультивселенной{9}. Но ничто из них не было так убедительно, как обнаруженные В-моды поляризации. Доказательство инфляции — а именно это и сделал эксперимент BICEP2 — фактически было равносильно доказательству Мультивселенной. И как раз это беспокоило некоторых скептиков, таких как Роджер Пенроуз и даже Пол Стейнхардт. Не все были готовы поднять бокал с шампанским за триумф инфляции.
Подарок для Коперника
В Мультивселенной было так много времени, пространства и энергии для рождения новых вселенных, что неизбежно должен был возникнуть хотя бы один пузырек с достаточно благоприятными условиями для того, чтобы в нем существовали космологи и размышляли о подобных материях. Не в первый раз в космологии прозвучал этот так называемый антропный аргумент: наблюдаемые свойства Вселенной должны быть совместимы с существованием сознательной жизни, наблюдающей за ней. По иронии судьбы впервые концепция Мультивселенной и антропный принцип были официально представлены в 1973 году в Кракове, родном городе Николая Коперника, на конференции в честь 500-летия со дня его рождения.
Именно на этой Краковской космологической конференции физик Брэндон Картер впервые сформулировал термин «антропный принцип», отклонив попытку Хойла, Голда и Бонди использовать коперниканский принцип заурядности в защиту модели стационарного состояния Вселенной{10}. Напомним, что в четвертом раунде Великих дебатов эти три теоретика стационарной Вселенной подкрепили свою любимую модель так называемым совершенным космологическим принципом, распространяющим принцип заурядности в пространстве, выдвинутый Коперником в ходе первых Великих дебатов, на время. В 1973 году модель стационарной Вселенной по-прежнему была жива, и многие космологи, включая Картера, искали способ разделаться с ней окончательно. Для этого потребовался отказ от принципа Коперника, поскольку, как заявил Картер, «то, что мы можем ожидать увидеть, должно быть ограничено условиями, необходимыми для нашего присутствия в качестве наблюдателей. (Хотя наше положение не обязательно центральное, оно неизбежно привилегированное в какой-то степени.)». Другими словами, в то время как во Вселенной нет привилегированных мест и эпох, каким-то образом случилось так, что мы живем в благоприятный момент в благоприятном месте, благодаря чему имеем возможность размышлять о нашей центральности или отсутствии таковой. Такой вот «подарок» подготовил Картер ко дню рождения великого астронома, первым из ученых заявившего, что мы — не центр мироздания!
Чтобы позволить человечеству оказаться в правильном месте в правильное время, Картеру пришлось придумать Мультивселенную, хотя он и не использовал этот термин{11}. Сам Картер признавал, что антропный принцип и Мультивселенная — весьма спорные, возможно даже трудные для принятия концепции. Однако, продолжал он, даже если попытки вывести свойства наблюдаемой Вселенной не позволят найти твердую опору в более фундаментальной математической структуре, идею Мультивселенной «все равно следует воспринимать всерьез, даже если кому-то она не нравится».
Для некоторых картеровский подарок Копернику стал настоящим разочарованием. Не было никаких причин для существования таких областей; это было простой случайностью, точно так же можно сказать, что Земля находится в так называемой зоне обитаемости — на точно выверенном расстоянии от Солнца, где вода на ее поверхности может существовать в жидкой фазе, — специально для того, чтобы мы на ней обитали. Куда лучше было бы объяснить, почему Земля находится на расстоянии именно 150 млн км от Солнца. Антропный аргумент вызвал жаркие дебаты. Нобелевский лауреат Стивен Вайнберг впоследствии заметил, что, если концепция Мультивселенной верна, «нам придется отказаться от надежды найти рациональное объяснение точных значений [масс субатомных частиц], которые мы наблюдаем в нашей Вселенной, поскольку их значения случайны для того конкретного региона Мультивселенной, в котором мы живем»{12}.
В то время как картеровская версия Мультивселенной не была привязана к физической теории, модель вечной инфляции Линде практически требовала Мультивселенной. Тем не менее в ней также присутствовала значительная доля антропичности. Критики заявляли, что нерациональный и нефальсифицируемый характер этой гипотезы лишает ее статуса научной. И тем не менее инфляционная модель была лучшей из всего, чем мы располагали.
Отрицание отцовства
Сторонники модели стационарного состояния Вселенной внесли ценный вклад в научные дебаты. Но с кончиной их модели почил в бозе и совершенный космологический принцип. Это распахнуло двери для вечной инфляции, Мультивселенной и антропного принципа — предмета пятого и последнего раунда Великих дебатов, который мы с вами рассмотрим в этой книге.
С каждым новым раундом Великих дебатов — от противостояния Коперника и Галилея Церкви и геоцентристам до спора между сторонниками модели стационарного состояния Хойла и приверженцами модели Большого взрыва — ставки росли. В самом начале предметом спора было центральное положение Земли. Затем — уникальность нашей галактики Млечный Путь. Эти первые дебаты касались места человечества во Вселенной. Не было никаких сомнений в том, что мы живем в единственной Вселенной.
В пятом раунде Великих дебатов столкнулись те, кто утверждал, что наша Вселенная — одна из бесконечного числа Вселенных, с теми, кто считал, что теория Мультивселенной не только ошибочна, но и на самом деле вредна для науки. Основными представителями «коперниканского» лагеря в пятых Великих дебатах выступали Роджер Пенроуз и Пол Стейнхардт. Пенроуз первым из физиков отметил, что инфляционная модель, чтобы быть жизнеспособной, требует целого ряда точно заданных условий — так называемой тонкой настройки{13}. Стейнхардт был одним из трех отцов-основателей инфляционной модели, у которого также сперло дыхание на гарвардской пресс-конференции BICEP2 в День святого Патрика, хотя и по другой причине.
Несколько лет назад Стейнхардт вместе с Джеймсом Бардином и Майклом Тернером показали, что небольшие вариации реликтового фона могли быть сгенерированы квантовыми флуктуациями в ходе инфляции. Они предсказали, что эти флуктуации усилятся и приведут к крупномасштабным температурным возмущениям — и в конечном счете к формированию космических структур, таких как галактики, позднее зарегистрированным радиометром DMR на борту обсерватории COBE в 1992 году. В 1993 году в сотрудничестве с Робертом Криттенденом, Риком Дэвисом, Диком Бондом и Джорджем Эфстатиу Стейнхардт вычислил влияние гравитационных волн на температурный режим реликта, если инфляция действительно имела место{14}. Короче говоря, его вклад в разработку теории инфляции был огромен, и ее доказательство фактически гарантировало ему — если следовать традициям Нобелевской премии за открытие бозона Хиггса — билет в Стокгольм, где мы с ним, как я надеялся, встретимся за шведским столом.
Но в 2002 году, когда Стейнхардт получил престижную международную награду — медаль Дирака — как соавтор теории инфляции, произошло нечто невероятное: он обрушился с резкой критикой на собственное детище{15}. Неизбежность Мультивселенной с ее бесконечным множеством карманных вселенных позволяет предсказать, по сути, все что угодно. Для Стейнхардта это было не лучше и не хуже, чем не предсказать ничего. «Если ваша модель допускает любую возможность, какую только можно себе представить, ее не может опровергнуть ни один тест или комбинация тестов»{16}, — писал он. Зачем Стейнхардту потребовалось опровергать инфляцию? Разве не логичнее было бы предложить собственную теорию? Все дело в том, что над Стейнхардтом нависла тень философа Карла Поппера, сурового стража научного метода.
Поппер и лопнувшие пузыри[34]
Незадолго до того, как команда BICEP2 объявила о своем открытии, Стейнхардт написал: «Думаю, прежде всего теоретики сегодня должны определить, может ли теория инфляции… быть спасена от превращения в „теорию чего угодно“, и если нет, то необходимо искать новые идеи им на смену. Причина проста: нефальсифицируемая „теория чего угодно“ создает несправедливые условия конкуренции для подлинно научных теорий. Ведущие авторитеты в этой области могут сыграть важную роль, разъяснив, что „теория чего угодно“ неприемлема в науке, и тем самым вдохновить талантливых молодых ученых взяться за решение этой сложной задачи»{17}.
Стейнхардт словно давал понять: бесплатные обеды — это мило, но иногда вы получаете то, за что заплатили. Но что побудило одного из патриархов инфляции к такому самобичеванию? И как насчет утверждения Стейнхардта о том, что нефальсифицируемость — имманентное свойство теории инфляции? Что это означает для науки? Действительно ли в таком случае наука теряет способность рассказать нам что-то о происхождении пространства и времени? Правда ли нефальсифицируемые теории ненаучны? Согласно Попперу — да.
Сегодня нефальсифицируемость стала шибболетом для «плохой науки». Любопытно, что, хотя Попперу ставят в заслугу (или винят за) то, что он ввел понятие фальсифицируемости как критерий, позволяющий отличить научное от ненаучного, сам Поппер не предназначал его для применения в точных или естественных науках. Он использовал критерий фальсифицируемости для атаки на ненаучные по своей природе дисциплины, которые маскировались под настоящую науку. Поппера раздражали такие области, как астрология, марксистский диалектический материализм и фрейдовский психоанализ.
«Например, — писал он, — астрология не подвергается проверке. Астрологи до такой степени заблуждаются относительно того, что считать подтверждающим свидетельством, что не обращают никакого внимания на неблагоприятные для них примеры. Делая свои интерпретации и пророчества достаточно неопределенными, они способны объяснить все, что могло бы оказаться опровержением их теории, если бы она и вытекающие из нее пророчества были более точными. Чтобы избежать фальсификации, они разрушают проверяемость своих теорий»{18},[35].
Вероятно, Поппер был бы удручен, обнаружив, что фальсифицирован сам его критерий фальсифицируемости. Сегодня больше стран идет скорее по пути социализма, чем капитализма, как и предсказывал Маркс. Интерпретаторы сновидений успешно консультируют и лично, и онлайн. А хуже всего то, что ваша местная газета гораздо чаще печатает астрологические прогнозы, чем новости космологии.
Итак, что же на самом деле нам дает тест на фальсифицируемость? Возможно, мы чрезмерно фокусируемся на том, что может быть фальсифицировано сейчас, требуя немедленного обозначения границ новой теории. Поппер и сам соглашался с этой точкой зрения{19}. Фальсифицируемость зависит от времени. Если теория не подлежит фальсификации сегодня, это не значит, что так будет всегда.
По словам историка науки Хельге Краг, даже сам Поппер не считал фальсифицируемость неотъемлемым условием научности: «Поппер не приписывал абсолютной значимости критерию фальсифицируемости и не расценивал его как определение научности… Отнюдь не возвышая фальсифицируемость до ранга неприкосновенного принципа, он предполагал, что этот подход может оказаться ненадежным и есть смысл не отвергать предположительно ложную теорию по крайней мере в течение некоторого времени»{20}.
Стейнхардт отказывал в научности антропным рассуждениям, лежащим в основе Мультивселенной. Ничто из наблюдаемых свойств нашей Вселенной не должно рассматриваться как доказательство правильности инфляционной модели, если исходить из того, что в Мультивселенной существует бесконечное множество вселенных, которые не являются плоскими и однородными и не имеют гравитационно-волновых B-мод поляризации, обнаруженных BICEP2. Как писал Стейнхардт, «идея Мультивселенной причудлива, неестественна, нетестируема и в конечном итоге опасна для науки и общества»{21}.
Все вечное — новое снова: Евангелие от Пола
Как и Хойлу, Стейнхардту и его соавторам было мало просто нападать на теорию инфляции. Они разработали альтернативный сценарий происхождения Большого взрыва под названием «экпиротическая Вселенная» (в переводе с греческого — «вышедшая из огня»). В своей нынешней версии эта теория, впервые предложенная в 2001 году, сильно напоминает модели отскока или циклической Вселенной. В этих моделях использовались теоретические инструменты, аналогичные применяемым в инфляционной модели, со ссылкой на новые квантовые поля, эволюционирующие в пространстве и времени. Они согласуются с текущими наблюдениями и, как и теория инфляции, объясняют крупномасштабные свойства Вселенной, наблюдаемые нами сегодня: плоскостность и однородность, а также наличие небольших флуктуаций наподобие тех, что мы видим на температурных картах реликтового излучения{22}. Но поразительная добродетель моделей отскока и циклических моделей состоит в том, что, в отличие от инфляционной концепции, они обходятся без «взрыва». Первоначальная сингулярность заменена «отскоком», который совсем не страшен и позволяет избежать этой неприятной сингулярности пространства-времени.
В модели отскока Вселенная приобретает свою плоскостность и однородность в ходе длительного периода медленного сжатия, в противоположность быстрому насильственному раздуванию. Во время сжатия — перед отскоком — квантовые флуктуации, которые могли бы дать рождение островам-вселенным, затихают, а не усиливаются. Таким образом, ни модель отскока, ни циклическая модель не порождают Мультивселенные, и, следовательно, в нефальсифицируемом антропном принципе нет необходимости.
Самое главное, обе эти модели отвечали критерию фальсифицируемости — ключевое достоинство в глазах тех, кто считал это демаркационной линией между научной и ненаучной теориями. Поскольку ни модель отскока, ни циклическая модель не генерировали первичные гравитационные волны, космический микроволновый фон не должен был содержать В-мод поляризации. Таким образом, обнаружение В-мод означало бы полное банкротство этих моделей, которые были единственными достойными конкурентами инфляционной теории в борьбе за доминирование на научном рынке. И именно в тот момент, когда акции этих моделей начали расти, заявление об открытии BICEP2 отправило их в свободное падение.
Шампанское на бесплатном обеде
Космолог из Массачусетского технологического института Макс Тегмарк посвятил Мультивселенной целую книгу{23}. Выступая в прямом эфире на пресс-конференции в Гарварде, он сказал: «Сегодня великий день для большинства ученых, кроме тех, кто скептически относится к идее Мультивселенной — по крайней мере в этой конкретной Вселенной… Теперь скептикам будет гораздо сложнее отвергать эту идею, заявляя, что „инфляция — это всего лишь теория“. Сначала им придется найти другое убедительное объяснение гравитационных волн, обнаруженных BICEP2. Сегодняшний день принес разочарование и сторонникам экпиротических/циклических моделей, которые в последнее время стали популярной альтернативой инфляции: они опровергаются выявлением BICEP2 гравитационных волн»{24}.
Андрея Линде должно было порадовать, что шампанское в Стэнфордском видеоролике, посвященном открытию BICEP2, как нельзя лучше символизировало его модель пузырьковой Мультивселенной. Откупоренное шампанское в бутылку не вернешь. Пузырьки множатся, стремительно поднимаются к поверхности и взрываются, высвобождая восхитительный терпкий аромат времени и солнечного света. Настоящий праздник для всех органов чувств.
Инфляционные пузырьки Линде вырвались на волю 30 лет назад, когда он был молодым космологом, изучавшим удивительные следствия модели вечно расширяющейся и самовоспроизводящейся Вселенной. В видеоролике Линде размышлял о важности открытия BICEP2: «Будем надеяться, что это не обман. Я всегда живу с этим чувством: что, если я обманулся? Что, если я верю в это только потому, что это красиво?»{25} Теперь ему не требовалось больше «верить» в инфляцию: благодаря открытию BICEP2 вера сменилась знанием. Красота его теории стала дополнительной глазурью на торте.
На следующий день после гарвардской пресс-конференции, посвященной BICEP2, Линде, Ковач и Гут рассказали об инфляции и эксперименте BICEP2 в набитом до отказа конференц-зале Массачусетского технологического института. Тегмарк предложил научить Гута немного говорить по-шведски, чтобы подготовиться к предстоящей поездке в Стокгольм{26}. Затем Гут поднял тост с бокалом игристого сидра в руках. «За силу научной мысли!» — торжественно провозгласил он. Аудитория разразилась аплодисментами; и крошечные пузырьки снова взмыли к небесам{27}.
Хотя обнаружение BICEP2 В-мод поляризации было выдающимся достижением, казалось бы подтверждающим инфляцию, вне всяких разумных сомнений, критики наподобие Стейнхардта указывали на то, что это не позволяет прояснить ситуацию с огромным количеством инфляционных моделей, которые соответствовали нашим данным. Одной инфляционной модели не было; их было буквально бесчисленное множество. Даже точная величина B-мод, измеренная нами, не позволяла ученым определить, какой из многих типов инфляции (хаотическая, вечная, новая и т. д.) мог их произвести. «Некоторые инфляционные модели могут генерировать сигнал [В-мод] настолько малый, насколько вам нужно», — сказал космолог Скотт Додельсон из Чикагского университета{28}. Комментарий Додельсона напоминал саркастическое замечание Хойла по поводу открытого в 1965 году космического микроволнового фона: «Если бы измерения показали температуру 27 кельвинов вместо 2,7 кельвина, тогда их модель объяснила бы 27 кельвинов. Или 0,27 кельвина. Или любую другую величину»{29}. Как бы то ни было, открытие BICEP2 подтвердило модель Мультивселенной, которую Пол Стейнхардт насмешливо называл «теорией чего угодно». Абсолютно чего угодно…
Артур Эддингтон однажды съязвил: «Никогда не верьте результатам эксперимента, пока они не будут подтверждены теорией». Конечно, это изречение Эддингтона переворачивает научный метод с ног на голову. Теория не может доказывать эксперимент, как следствие не может предшествовать причине. Через несколько дней после пресс-конференции Стейнхардт сумел бросить тень на наше открытие: «Результат BICEP2 спровоцировал множество интересных дебатов… о природе науки, о том, насколько важна для науки разница между тестируемостью и нетестируемостью, фальсифицируемостью и нефальсифицируемостью… Мне довелось услышать весьма любопытные мнения, что… можно считать приемлемой в науке теорию, которая не поддается фальсификации… и я нахожу эту точку зрения очень странной и, более того, довольно опасной»{30}. Позже Стейнхардт неохотно признал, что поиск B-мод «тем не менее целесообразен… поскольку важен для определения правильной, научно значимой теории»{31}.
Эксперимент BICEP2 «освятил» инфляцию, введя ее в канон астрофизических знаний. Но, вместо того чтобы сузить поле, как это сделало открытие бозона Хиггса, исключив обширные области параметрического пространства, наше открытие гравитационно-волновых В-мод расширило теоретический ландшафт — почти до бесконечности.
Антропный принцип также вернулся за пиршественный стол. И благодаря Мультивселенной за этим столом было место для всего и вся. Линде отпраздновал триумф инфляции восхитительным шампанским. Гут провозгласил тост с игристым сидром в руках. Для моделей, конкурирующих с инфляционной, BICEP2 был ершом из горького пива и настойки из фальсификации.
Человеческое знание всегда эволюционировало от осмеянной Поппером псевдонауки к подлинной науке скачкообразно, иногда переживая длительные периоды нефальсифицируемости. Астрология — предшественница современной космологии — отнюдь не только предлагала человечеству озадачивающие истории о мстительных и капризных богах. На протяжении многих столетий астрологи накапливали бесценные наблюдательные данные. Еще одна важная их роль состояла в том, что они вдохновляли астрономов обратить взор на небо в поисках доказательств, а не на богов. Нефальсифицируемые теории также приносят пользу. Иногда наличие неприступного врага приводит к рождению превосходных научных теорий, гораздо более убедительных, чем они могли бы быть в отсутствие конкуренции.
Проект BICEP2 обеспечил инфляции непоколебимую монополию на рынке космологических идей, положив конец пятому раунду Великих дебатов на самом интересном месте.
Игра в монополию по-шведски
Эту главу я начал с Милтона Фридмана, получившего Нобелевскую премию за исследования экономической инфляции. Но мы и без нобелевских лауреатов знаем, что монополии вредны для общества, поскольку подрывают доверие потребителей, необходимое для процветания рынка.
После пресс-конференции BICEP2 акции Мультивселенной также взлетели в цене. Двум из трех отцов-основателей инфляционной модели уверенно пророчили нобелевское золото. Шансы третьего патриарха, Пола Стейнхардта, отправиться в Швецию казались ничтожными.
Но история в очередной раз повторилась. В парадоксальном повороте судьбы, который не смог бы предсказать даже сам Хойл, альтернативная модель Вселенной Стейнхардта получила толчок к развитию благодаря самой недооцененной космической валюте — пыли.
Глава 13. Разбитая линза Нобелевской премии № 3: проблема сотрудничества
Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить.
1-е послание к Коринфянам 9:24В 2016 году на Олимпиаде в Рио сборная США в составе таких легендарных пловцов, как Майкл Фелпс, Райан Лохте, Конор Дуайер и Таунли Хаас, с огромным отрывом опередила своих соперников в эстафете 4×200 м и выиграла олимпийское золото. Теперь представьте, что золотые медали за эту победу были бы вручены только троим — Хаасу, Лохте и Дуайеру, а Фелпсу не досталось бы ничего, даже серебра. «Несправедливо!» — скажете вы. И будете абсолютно правы.
Складывается впечатление, будто Нобелевский комитет не отдает себе отчета в том, насколько коллективной стала современная наука; его парадигма по-прежнему ориентирована на гениев-одиночек или в лучшем случае на дуэты или трио. Из года в год комитет осуществляет произвольный и несправедливый отбор, оставляя десятки и даже сотни других участников победной эстафеты без всякого вознаграждения. Между тем сегодня вряд ли можно найти нобелевское открытие, которое не было бы результатом совместной работы многих людей, — особенно в физике элементарных частиц и астрономии, — которые опираются на огромные массивы данных и их скрупулезный анализ. Ни один ученый не может попасть в Стокгольм в одиночку.
Нобелевская премия по физике 2013 года, присужденная Питеру Хиггсу и Франсуа Энглеру за теоретическое предсказание частицы, впоследствии названной бозоном Хиггса, наглядно иллюстрирует четыре ключевые проблемы такого избирательного подхода. Во-первых, премия была присуждена всего двум ученым (даже несмотря на то, что комитет допускает трех победителей), тогда как еще шесть физиков независимо друг от друга предложили эту идею и могли предъявлять свои права на «механизм Хиггса». Сам Хиггс называл это «механизмом A-Б-Э-Г-Х-Х-K-’т Х», что означало Филип Андерсон, Роберт Браут, Франсуа Энглер, Джеральд Гуральник, Карл Ричард Хаген, Питер Хиггс, Томас Киббл и Джерард ’т Хоофт{1}. Все, кроме Браута, в 2013 году были живы.
Во-вторых, не был отмечен ни один из более чем 6200 экспериментаторов, которые, собственно, и сделали это открытие на Большом адронном коллайдере. Если бы Нобелевский комитет увеличил число лауреатов хотя бы до четырех, то по крайней мере руководители двух экспериментальных групп ATLAS и CMS смогли бы получить заслуженную долю признания.
И наоборот, в 2017 году Нобелевская премия была присуждена только участникам эксперимента LIGO. (Конечно, Нобелевский комитет в свое оправдание может сказать, что теоретик, предсказавший существование обнаруженных LIGO гравитационных волн, Альберт Эйнштейн, умер 62 года назад. Даже я, ратующий за посмертное присуждение Нобелевских премий, согласен с тем, что это было бы слишком.)
В-третьих, присуждение премии Хиггсу и Энглеру навсегда лишило этого шанса других ученых, имеющих отношение к бозону Хиггса, будь то теоретики или экспериментаторы. Даже в тех случаях, когда, по всеобщему мнению, Нобелевский комитет награждал не тех людей, он никогда не присуждал больше одной премии за одно открытие или изобретение. Повторная премия была бы косвенным признанием того, что предыдущие комитеты допустили ошибку.
В-четвертых, комитет ясно дал понять, что придерживается негласного правила «не больше одной премии в одни руки». (Только один ученый, Джон Бардин, дважды стал лауреатом Нобелевской премии по физике.) Таким образом, поскольку ’т Хоофт уже получил Нобелевскую премию в 1999 году за «выявление квантовой структуры электрослабых взаимодействий», комитет исключил его из списка лауреатов 2013 года, несмотря на его огромную роль. Если бы Нобелевская премия была подлинно меритократической, ученый мог бы получать ее столько раз, сколько он того заслуживает. Например, Альберт Эйнштейн мог бы стать семикратным нобелевским лауреатом. И это полностью соответствовало бы его высочайшей репутации в научном мире{2}.
По правде говоря, получить «всего одну» Нобелевскую премию не так уж плохо. И даже когда она делится между несколькими лауреатами, ее престижность от этого не уменьшается. Неважно, какую часть премии получает ученый (сегодня минимальная доля — четверть от общей суммы), всем победителям вручается одинаковая 18-каратная золотая медаль. Официально Пензиас и Уилсон получили по четверти премии каждый; другая половина была присуждена за заслуги перед наукой советскому физику Петру Леонидовичу Капице с формулировкой «За изобретения и открытия в физике низких температур». На самом деле, если говорить об известности, — а я считаю, что известность имеет значение, — то многие просто образованные люди знают имена Пензиаса и Уилсона, но мало кто слышал о Капице[36], несмотря на то что в 1978 году он получил в два раза больше шведских крон. И никто никогда не говорит: «Подумаешь, этот Пензиас получил всего четверть Нобелевки!»
ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ
Альфред Нобель сам был изобретателем и не забывал патентовать свои изобретения, чтобы официально застолбить права. В конце XIX века, когда он написал завещание, науку продвигали ученые-одиночки, которым в лучшем случае помогали несколько лаборантов. (В те времена у них не было аспирантов и постдоков, которые для нас, современных профессоров, служат своего рода «множителями силы».) Если бы в 1610 году существовала Нобелевская премия, Галилей стал бы ее единоличным лауреатом, публично объявив о сделанных им серендипных астрономических открытиях. Никакое другое изобретение ни до, ни после — ни ускоритель частиц, ни рентгеновский аппарат, ни даже автоматические регуляторы, использующиеся в сочетании с газовыми аккумуляторами для источников света на маяках и буях, — не оказали такого преобразующего влияния на физику, философию и даже теологию, как телескоп Галилея. Хватило всего нескольких недель телескопических наблюдений, чтобы изгнать человечество с веками насиженного места в центре мироздания. В 1610 году, когда Галилей подтвердил теоретический принцип Коперника, последний был давно мертв, что исключало его из числа претендентов на Нобелевскую премию. Ханс Липперсгей, которому приписывали изобретение телескопа, никогда не использовал его для астрономических наблюдений. Кроме того, созданная им версия имела слабое увеличение, недостаточное для того, чтобы наблюдать фазы Венеры и спутников Юпитера, что в конечном итоге обеспечило решающее свидетельство в пользу гипотезы Коперника.
Шведская королевская академия наук быстро отошла от строгой интерпретации воли Альфреда Нобеля. Уже на второй год своего существования Нобелевская премия была присуждена Хендрику Антону Лоренцу и Питеру Зееману «в знак признания выдающегося вклада, который они внесли своими исследованиями влияния магнетизма на процессы излучения». Это была награда не за конкретное открытие или изобретение, тем более сделанное «в течение предыдущего года», как того требовало завещание Нобеля, а скорее награда за заслуги перед наукой в течение жизни. В следующем году Нобелевский комитет наградил Антуана Анри Беккереля и Пьера и Марию Кюри за исследования радиоактивности. В течение последующих 20 лет премию получили 19 одиночных лауреатов. Однако в последние годы ситуация резко изменилась: как видно на рис. 53, лауреаты-одиночки сегодня стали редкостью. Последний раз Нобелевская премия по физике была присуждена одному ученому — Жоржу Шарпаку — в 1992 году.
И сегодня большая редкость, чтобы несколько теоретиков одновременно сделали одинаковое открытие. Теоретические открытия по своей природе непреднамеренны, а серендипность не поддается воспроизводству: молния редко бьет в одно место трижды. И наоборот, делать в одиночку открытия в области экспериментальной физики или наблюдательной астрономии сейчас стало практически невозможно.
Так было не всегда. В прошлом наука не была коллективной. Из первых 30 Нобелевских премий по физике более 20 были присуждены изобретателям или экспериментаторам, а не теоретикам. За всем этим стояло постыдное явление: в начале XX века европейские интеллектуалы высмеивали теоретические исследования, считали их проклятием для физики, недостойным внимания Нобелевского комитета. Физики, номинировавшие лауреатов, часто сами удостоенные премий, называли чисто теоретические изыскания, вроде специальной теории относительности Альберта Эйнштейна, «еврейской физикой»{3}. Настоящие физики делали эксперименты.
Тенденция к сокращению числа лауреатов-одиночек и увеличению числа групповых премий сопровождалась почти инфляционным ростом наукометрии — системы оценки результатов в науке, технологиях и инновациях посредством измерений. Историк науки Дерек де Солла Прайс считает, что точка перегиба этой кривой роста, имеющей форму «хоккейной клюшки», пришлась на Вторую мировую войну, когда правительства буквально «запирали группы ученых, чтобы они совместно решали поставленные перед ними неотложные задачи в области ядерной физики, разработки радаров и т. п. Образ ученого-одиночки все больше становился пережитком прошлого»{4}. Это положило начало периоду, который де Солла Прайс называет «большой наукой», когда исследовательские проекты во всех областях науки переживали экспоненциальный рост, создавая цикл обратной связи. В результате если раньше целая отрасль знаний могла быть представлена сотней исследователей, то теперь на одну статью может приходиться в десять раз больше авторов. Всего за одно столетие мы прошли путь от Королевского научного общества до Большого адронного коллайдера.
Сегодня эта тенденция кажется необратимой. Хотя по-прежнему размеры групп могут быть разными, многие масштабные проекты, в которых ставятся крупные цели, нуждаются в больших телескопах и денежных вливаниях. Биолог и философ Хуб Цварт считает, что эволюция Большой науки сопровождается «не только значительным увеличением числа исследователей, работающих в определенной области, но и ростом зависимости текущих исследований от масштабных, дорогостоящих и сложных технологий», таких как обсерватория LIGO или Большой адронный коллайдер{5}.
Когда так много заинтересованных сторон, неудивительно, что в гонке за нобелевское золото разворачивается ожесточенная конкуренция. Конечно, не любое соперничество вредно для науки. Здоровое соревнование бывает даже полезным. Оно придает достоверности новым открытиям: сигнал, обнаруженный одной группой, мало что значит без подтверждения; чтобы перевести его в разряд научных знаний, аналогичные результаты должны быть получены более чем одной командой{6}. Чтобы исключить ошибки и подтвердить открытия, требуются усилия нескольких групп.
Но чрезмерная конкуренция ведет к разбазариванию ресурсов, подталкивает к преждевременной публикации результатов (от чего не всегда удается удержаться) и безжалостной битве в духе «победитель получает все», чтобы первыми прийти к цели и получить финансирование из сокращающихся федеральных источников. Масштабы новых научных проектов, особенно экспериментальных, таких как большие телескопы или ускорители частиц, только ожесточают конкуренцию. В этой ситуации отчасти виноваты и финансирующие агентства, считает нобелевский лауреат Сол Перлмуттер, который не скрывает своего критического отношения к сегодняшним подходам к финансированию науки. Команда Перлмуттера, работающая над проектом «Космология сверхновых», конкурировала с «Командой по поиску сверхновых с высоким Z» за то, кто первым измерит замедление скорости расширения Вселенной с течением времени. «Думаю, 90 % всех людей на Земле, которые занимаются изучением сверхновых, были вовлечены в эти два проекта, — сказал Перлмуттер. — Это была беспощадная гонка. Мы делали все, чтобы к нашему конкуренту не утекло ни капли информации. При этом использовали по очереди одни и те же телескопы: как только они заканчивали работу на каком-то телескопе, туда прилетали мы»{7}.
К своему изумлению, обе команды независимо обнаружили, что Вселенная вовсе не замедляет свое расширение — совсем наоборот: она расширяется с увеличивающейся скоростью. Они пришли к выводу, что эта современная версия инфляции может объясняться только существованием темной энергии, этой таинственной формы антигравитации. В конце концов, хотя они и были прямыми конкурентами, руководители обеих команд получили Нобелевскую премию.
Социолог Харриет Закерман исследовала динамику публикаций нобелевских лауреатов и обнаружила, что лауреаты сотрудничают с большим числом соавторов, чем сопоставимая выборка нелауреатов. Однако, отмечает она, поскольку правило «не больше трех» оставляет за бортом большинство соавторов, после присуждения Нобелевской премии коллаборации чаще всего распадаются{8}. Разумеется, это никак не отвечает интересам науки.
Я бы предпочел, чтобы в научном мире руководили люди наподобие Роберта Дикке, ученого-физика, фактически создавшего область наблюдательной космологии, которой я занимаюсь. Дикке отказался от предложения Пензиаса стать третьим автором статьи об открытии CMB — и это решение стоило ему его доли Нобелевской премии 1978 года. Более того, группа Дикке из Принстонского университета объединила усилия с группой Пензиаса и Уилсона из частной компании Bell Labs, сформировав государственно-частное партнерство, благодаря чему теория Большого взрыва получила широкое признание.
Голосуй досрочно, голосуй часто[37]
Итак, мои шансы получить нобелевское золото были весьма призрачны. Помимо меня над проектом BICEP2 работало 48 человек — в семь раз больше, чем число теоретиков, предсказавших бозон Хиггса. В 2016 году все они были живы, и каждый внес в эксперимент важный вклад в виде анализа данных, разработки компонентов телескопа и т. п. Вдобавок меня исключили из числа руководителей эксперимента, на которых обычно обращают внимание номинаторы. Наконец, как говорится, «у успеха много отцов»; в разработке модели инфляции участвовало по меньшей мере четыре теоретика — уже на одного больше, чем возможное число лауреатов. И все же я не переставал лелеять надежду, что мне удастся выйти из тени и погреться в лучах славы.
Спустя несколько дней после пресс-конференции меня продолжали раздирать противоречивые чувства: я то испытывал невероятный подъем, думая о значимости нашего открытия, то погружался на дно жалости к себе — меня даже не пригласили участвовать в гарвардском торжестве! Я воспрял духом, когда 20 марта наткнулся в интернете на призыв под лозунгом: «Голосуйте за лауреатов Нобелевской премии за открытие инфляции»{9}. Голосование было организовано популярным блогером-физиком Филипом Гиббсом, и его целью было оценить скорее популярность отдельных ученых, нежели их реальный научный вклад. Из 700 голосов 40 % были отданы Андрею Линде; за ним с большим отрывом следовал Алан Гут с 16 % голосов. На третьем и четвертом месте шли российский космолог Алексей Старобинский (10 %) и японский физик Кацухико Сато (7 %). Старобинский и Сато пришли к инфляционной идее почти одновременно с Гутом. На пятом месте находился ваш покорный слуга с 4 % голосов, опережая 14 других ученых, набравших больше 1 %.
Теоретики опередили экспериментаторов, что Гиббс объяснил их более широкой известностью. Итак, согласно этому голосованию, для того чтобы я получил свое место в этой гонке, двое из четырех теоретиков должны были выйти из игры. Продолжая лить бальзам мне на душу, Гиббс написал: «Что касается этих ученых, то проблема состоит в том, что на настоящий момент ни одна конкретная модель инфляции не получила подтверждения. Возможно, это будет сделано в будущем или правильной окажется какая-то новая модель». Позже Гиббс опубликовал в журнале аналитическую статью{10}. Он проделал большую работу, раскопав историю создания BICEP и мою роль в ней. Его статья воодушевила меня еще больше. «Экспериментаторы — новые звезды, — писал он, — поэтому в их фан-клубах пока меньше фанатов, чем у звездных теоретиков. Но Нобелевский комитет может смотреть на это иначе: если результаты BICEP2 будут подтверждены данными Planck, это открытие будет достойно Нобелевской премии, даже если стоящая за ним теория пока остается неопределенной».
Действительно ли такое было возможно? Да, случались прецеденты, когда в момент присуждения премии награждаемая теория оставалась недоказанной. На самом деле только в истории космологической Нобелевской премии такое случалось три раза. В двух из них наблюдатель получил премию за открытие явлений, предсказанных ранее теоретиком. Оба раза за бортом остался один и тот же человек — Ральф Альфер. Альфер был жив и в 1978 году, и в 2006 году, когда премия присуждалась за экспериментальные открытия, связанные с космическим микроволновым фоном, предсказанным им и Гамовым (умершим в 1968 году).
Третьим прецедентом стала Нобелевская премия по физике 2011 года, которую разделили между собой Перлмуттер, Рисс и Шмидт. По словам Гиббса, «присуждая премию за открытие ускоряющегося космического расширения, комитет ясно дал понять, что награда вручается за наблюдение независимо от того, как оно интерпретируется теоретиками. Вполне вероятно, что комитет может так же отнестись к открытию [BICEP2], пока не выяснится, что причина в инфляции, а не в чем-то другом»{11} (курсив мой. — Б. К.)
Возможно, мои перспективы не так уж плохи: Нобелевская премия за открытие энергии вакуума не досталась ни теоретику, который впервые ее предсказал, т. е. Альберту Эйнштейну, ни теоретику, который предложил фундаментальное объяснение, почему темная энергия имеет ту величину, которую имеет (это предсказание по-прежнему не подтверждено); вместо этого победили три астронома (Перлмуттер, Рисс и Шмидт), которые наблюдали ее эффект. Экспериментаторы взяли верх над теоретиками. Не меньше полудюжины теоретиков могли претендовать на звание отцов теории инфляции — в два раза больше, чем допустимое число нобелевских лауреатов. Но всего несколько экспериментаторов могли по праву заявить, что именно они обнаружили инфляцию.
В этом ненаучном голосовании в интернете среди экспериментаторов я получил наибольшее число голосов. Если бы Нобелевский комитет придерживался похожей точки зрения, у меня был бы шанс на победу даже с 19 другими соперниками на ринге. Дальше стало еще интереснее, когда в официальном нобелевском подкасте промелькнуло упоминание об открытии BICEP2: за нами внимательно наблюдали{12}. Газета The Guardian в конце недели напророчила Нобелевскому комитету головную боль при выборе победителей в этом году{13}. Я был бы счастлив стать для них аспирином.
Да здравствует Стокгольм?
Недавно самая влиятельная научная организация в мире внесла важное изменение в правила присуждения своих золотых наград. В 2009 году Американская академия кинематографических искусств и наук (да-да, наук) удвоила число номинантов в главной категории «За лучший фильм» с пяти до десяти, еще более щедро одаривая их своим признанием.
Как и Нобелевскую премию, награду Киноакадемии присуждают коллеги по цеху по принципу меритократии и равноправия, без оглядки на коммерческий успех. Обе церемонии проходят в гигантских залах, с небывалой помпезностью, в присутствии всех звезд. Обе транслируются в прямом эфире на весь мир. Победители получают золотые статуэтки или золотые медали из рук именитых особ Голливуда или Шведской академии наук. Хотя Киноакадемия не придерживается требования Альфреда Нобеля о том, чтобы награждались те, кто принес «наибольшую пользу человечеству», премия эта — гуманитарная по своему характеру и, несомненно, сама по себе несет идею, что кино может изменить общество к лучшему.
После того как в 2012 году были объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике, физик Джим Аль-Халили написал на The Guardian статью, где изложил свои предложения по модернизации премии. Мое внимание привлекли следующие слова: «Большинство нобелевских лауреатов ведут исследования на переднем крае науки на протяжении многих лет, зачастую давно отказавшись от надежды получить этот высший знак научного признания. Нобелевская премия — это не „Оскар“, где актеры по крайней мере знают, что вошли в шорт-лист… Остальные ученые по всему миру с затаенной надеждой ждут, что в этом году победителями станут коллеги из их конкретной области исследований, поскольку это позволит им погреться в отблесках их славы и значительно повысить шансы на финансирование своих исследований»{14}.
Слова Аль-Халили заставили меня задаться вопросом: что, если Нобелевский комитет будет публично объявлять имена всех номинантов? Согласно действующим сегодня правилам, имена номинантов (и номинаторов) должны держаться в секрете на протяжении 50 лет. Но какой смысл скрывать имена ученых, вошедших в шорт-лист Нобелевской премии, будто они упомянуты в докладе Комиссии Уоррена об убийстве президента Кеннеди?
Шведская королевская академия наук объясняет такую секретность нежеланием огорчать номинантов, которые не стали победителями. Но это сомнительный аргумент. Вспомните, что часто говорят несостоявшиеся оскароносцы: «Для меня огромная честь быть номинированным на эту престижную награду». Объявление номинантов будет лучшей рекламой для тех научных отраслей, в которых они работают. Ученые в этих областях смогут получать такие же бонусы в виде повышенного внимания и потенциального увеличения финансирования, как и в областях победителей, о чем говорил Аль-Халили. Номинаторам также будет приятно узнать, что предложенная ими кандидатура вошла в шорт-лист Нобелевского комитета. Кроме того, если выдвинутый ими кандидат не победил, возможно, они решат не тратить свою следующую возможность на выдвижение на премию того же человека. (Исходя из того, конечно, что вы не написали книгу с критикой нобелевских процедур и тем самым не свели на нет свои шансы для дальнейших приглашений.)
Конечно, здесь можно возразить, что раскрытие всех номинантов может: 1) отвлечь часть внимания от победителя и тем самым 2) переключить его на других. Но, если посмотреть на Оскара, этого вряд ли стоит опасаться. Лауреат Нобелевской премии всегда по праву будет признаваться обществом как обладатель высшего дана среди черных поясов научного мира{15}. На самом деле им стоило бы ценить возможность не все время находиться в центре внимания, если вспомнить печально знаменитую фразу Томаса Элиота: «Нобелевская премия — это билет на собственные похороны. После ее получения никто никогда не сделал ничего серьезного».
Как бы пренебрежительно мы, ученые, ни относились к славе, нам есть чему поучиться у наших коллег из мира киноиндустрии. Голливудская версия инфляции не касается космоса, речь идет о признании. В статье под названием «Кто был стилистом этой еды? Бесконечные титры», опубликованной в 2004 году в газете The New York Times, говорилось, что сегодня титры голливудского блокбастера, где перечисляются все причастные к созданию фильма, занимают около десяти минут{16} — в три раза больше времени, чем потребовалось Вселенной для создания всех ядер водорода.
Современный Голливуд, как и современная наука, больше, чем когда-либо, опирается на коллективные усилия. На рис. 54 показано количество участников творческих команд (от режиссера и исполнителей главных и второстепенных ролей до членов съемочной группы, вплоть до птицевода и флориста, и множества специалистов по компьютерной графике, создающих красочные спецэффекты), участвовавших в работе над лентами, удостоенными «Оскара» в номинации «Лучший фильм года» с момента учреждения этой награды в 1927 году. Сравните это с рис. 55, где отражено число соавторов в «нобелевских» научных публикациях с момента первого присуждения премии в 1901 году. На обоих графиках видна резкая кривая роста в форме «хоккейной клюшки»: первый оскароносный фильм «Крылья» был снят группой из 23 человек, лучший фильм 2014 года — «12 лет рабства» — командой из 353 человек. Первый лауреат Нобелевской премии по физике Вильгельм Рентген сделал открытие один, а в экспериментах ATLAS и CMS на Большом адронном коллайдере, приведших к открытию бозона Хиггса, участвовало 6225 физиков-экспериментаторов.
Голливуд опережает Стокгольм на много световых лет в том, что касается признания заслуг и распределения наград. Свою долю признания получает не только продюсер — голливудская версия главного исследователя, руководивший съемками «Лучшего фильма года». Мир узнает имя каждого, кто был причастен к производству этого фильма, вплоть до флориста. Искусственное ограничение «не больше трех», введенное Нобелевским комитетом, лишь провоцирует ненужную конкуренцию, которой и без того достаточно в мире науки.
Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их: ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его… И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него: и нитка, втрое скрученная, нескоро порвется.
Екклесиаст 4:12Почему бы не наградить всех восьмерых ученых, что сплели нить механизма A-Б-Э-Г-Х-Х-K-’т Х? Или всю тысячу ученых, что сплели гравитационную нить LIGO? Как указывает историк науки Элизабет Кроуфорд, первоначальный устав Нобелевского фонда не запрещал вручение групповых премий по физике: «В случаях, когда работа была выполнена в сотрудничестве двумя или более лицами и эта работа признана заслуживающей вознаграждения, премия присуждается им совместно»{17}.
Некоторые утверждают, что разделение премии по физике между всеми участниками девальвирует престижность награды и уменьшит заслуженную ими долю внимания. Но, как показывает пример Нобелевской премии мира, этого вряд ли стоит опасаться. Нобелевская премия мира может присуждаться отдельным людям, группам, а также отдельным людям и группам (как это было, например, в 2007 году, когда половина премии была вручена Межправительственной группе экспертов по изменению климата, а другая половина — бывшему вице-президенту США Элу Гору).
Особенно в экспериментальной науке, где сотрудничество играет огромную роль, расширение признания может побудить молодых ученых объединять усилия и осуществлять более амбициозные проекты. Лично для меня самая большая награда в работе — это сотрудничество с учеными всего мира, от Уганды до Украины, от Таиланда до Техаса, на всех континентах, включая Антарктиду. Пора бы и Нобелевской премии отражать подлинные реалии современной физики: лучшие достижения науки делаются сообща.
Глава 14. Дефляция
Чем выше цель, тем легче ее поразить.
Поговорка летчиков-истребителейГалилей возлагал на свой телескоп большие надежды. Помимо тяги к знаниям им двигали и менее возвышенные желания. Его первое крупное изобретение — военный компас вместе с руководством по применению — позволило ему неплохо подзаработать{1}. Открытия, сделанные с помощью телескопа, принесли ему славу, сопоставимую с их грандиозностью. Вполне естественно, что конструкция телескопа должна была обогатить его… если бы только он мог сохранить свою монополию{2}.
По словам историка науки из Калифорнийского университета в Дэвисе Марио Бьяджоли, блестящие, хотя и нарочито сенсационные интерпретации Галилея в «Звездном вестнике» шли вразрез с принятыми в то время более консервативными «стандартами» научных публикаций. Но Галилей издал сочинение на собственные деньги, поэтому мог не оглядываться на мнение коллег. И, в отличие от ранее изобретенного компаса, «Звездный вестник» не требовал производственной линии, достаточно было печатного станка. Каждый компас Галилей к тому же снабжал руководством по применению (в отличие от современных гаджетов, с технологиями того времени невозможно было разобраться без подобного пособия). «Звездный вестник» стал таким мануалом, но только без самого гаджета. Этот труд для Галилея был не просто способом заявить об изобретении, но и давал возможность широко распространить свои идеи. Он знал, что не сможет наладить производство телескопов достаточно быстро, чтобы удовлетворить спрос, но мог продать свое открытие и извлечь выгоду из той известности, которую это мгновенно ему принесет. Его идеи быстро стали догмой, а также валютой, хотя и весьма волатильной. Вскоре после публикации «Звездного вестника» он заручился поддержкой богатых покровителей, а слава о нем пошла по всему Европейскому континенту.
Однако в конечном счете именно широкая известность привела Галилея к краху, а этого его телескоп предвидеть не мог. Получив профессорскую должность в Падуанском университете, Галилей привлек к себе пристальное внимание Святой инквизиции, всевидящее око которой не желало признать то, что показывал телескоп.
В дальнейшем рефрактор приносил автору только несчастья. Прибор, который, как он надеялся, увеличит его доходы, умножил лишь бесчестье и позор. Сочинения Галилея на несколько веков были внесены Ватиканом в список запрещенных книг. А теперь, когда гарвардская пресс-конференция осталась позади, нам и нашему рефрактору предстояло разделить судьбу Галилея; внезапно прославившиеся ученые, работавшие над BICEP, должны были предстать перед судом суровой инквизиции. Подтвердится ли наш результат или нам придется молить мировое научное сообщество о помиловании?
Март 2014 года
Ровно за неделю до Дня святого Патрика, когда команда BICEP2 объявила о своем открытии, коллаборация POLARBEAR, одним из руководителей которой был я, также объявила об обнаружении B-мод поляризации, только не на большом одноградусном угловом масштабе, где их зарегистрировал BICEP2, а на угловых масштабах в шесть раз меньше. Источником зарегистрированных POLARBEAR завихрений оказались не гравитационные волны, а более близкий источник. Они были вызваны гравитационным линзированием — хорошо известным феноменом, впервые предсказанным общей теорией относительности Эйнштейна почти столетие назад: мелкомасштабными возмущениями кривизны пространства под воздействием темной материи (рис. 56).
Сделанное POLARBEAR открытие также было научным прорывом. Но, поскольку никто не сомневался в существовании поляризованного сигнала такого типа, все прошло без фанфар: никакой секретности, никаких торжественных пресс-конференций. Мы объявили о своих результатах без лишней шумихи, поместив статью в открытом доступе на сервере для научных препринтов arXiv.org.
В середине 1990-х B-моды поляризации были описаны молодым аргентинским физиком Матиасом Залдарриага и словенским физиком Урошем Сельяком, бывшим де-факто его научным руководителем. Сельяк и Залдарриага дали сигналу его название. Мы с Матиасом дружили 20 лет назад, когда были аспирантами, я — в Университете Брауна, он — в Массачусетском технологическом институте. Впоследствии Матиас сделал впечатляющую карьеру: Нью-Йоркский университет, Гарвард, наконец, постоянная профессорская должность в Институте перспективных исследований (IAS) в Принстоне — том самом, где одно из первых назначений получил Альберт Эйнштейн. Матиас был блестящим ученым, напрочь лишенным всякого высокомерия, несмотря на должность профессора в легендарном институте. 10 марта 2014 года я сообщил ему по электронной почте, что POLARBEAR впервые зарегистрировал сигнал, предсказанный им два десятилетия назад, и отправил ссылку на препринт нашей статьи. «Поздравляю, — написал я, — мы нашли твои B-моды!» Матиас ответил немедленно: «Да, я видел. Поздравляю! Отлично, что наконец появилась такая разрешающая способность». Затем добавил: «До меня дошли слухи, что вы также обнаружили первичные B-моды и собираетесь провести пресс-конференцию и т. п. Можешь рассказать подробнее?»
К сожалению, я не мог: прежде всего потому, что сам не знал всех деталей пресс-конференции. Вскоре еще несколько теоретиков, знавших о моей роли в BICEP, отправили мне преждевременные поздравления, которые, по правде говоря, казались не более чем плохо завуалированными попытками выудить у меня информацию о результатах BICEP2. Я был раздосадован. За неделю до официальной пресс-конференции наше открытие было секретом Полишинеля в научном мире. Я не стал отвечать Матиасу и другим коллегам. Но им не пришлось долго ждать.
Через неделю после пресс-конференции Матиас поздравил меня еще раз. «Ты прошел огромный путь с того времени, как мы были аспирантами! Результат впечатляет. Я помню, когда я приезжал в Калтех, ты показал мне на компьютере несколько схем первой конструкции BICEP1. До сих пор не могу в это поверить. Вселенная была великодушна к вам, парни, и вы сделали потрясающую работу. И я счастлив, что это сделали именно вы. Печально лишь то, что с нами нет Эндрю Ланге». Мне было невероятно приятно получить столь высокую похвалу от выдающегося ученого, который к тому же писал мне из здания, где когда-то работал сам Эйнштейн!
Апрель 2014 года
Но у нас не было времени почивать на лаврах. Нам нужно было вернуться к работе и прежде всего представить статью о результатах BICEP2 в журнал Physical Review на суд коллег. В течение трех недель после пресс-конференции вышло 250 научных статей о нашем открытии. Поразительный успех: обычно научная работа считается «известной», если набирает 250 цитирований за несколько десятилетий! В одной из статей выдвигалось предположение, что данные BICEP2 могли содержать некоторое загрязнение из-за Млечного Пути: группа во главе с физиком-теоретиком Субиром Саркаром из Оксфордского университета предположила, что источником обнаруженного BICEP2 сигнала могло быть синхротронное излучение — хорошо известный тип излучения Млечного Пути, который изначально собирались изучать Пензиас и Уилсон, пока назойливый сигнал реликтового фона не привлек их внимание{3}. Но команда BICEP2 легко опровергла предположение Саркара, поскольку оно не соответствовало ни данным BICEP2, ни более ранним данным BICEP1. Казалось, некоторые теоретики просто хотели погреться в лучах славы BICEP2, пусть даже отраженных. В любом случае, как заметил Уинстон Чёрчилль, «ничто в жизни так не воодушевляет, как то, что в тебя стреляли и промахнулись».
Затем, в начале апреля, я получил еще одно письмо от Матиаса. «Интересно, как долго он будет меня поздравлять?» — подумал я.
Если пыль стелется низко на широком пространстве, значит, идет пехота.
Сунь-цзы. Искусство войныАпрельское письмо Матиаса не было похвалой. Он был встревожен. Он хотел обсудить детали — и это свидетельствовало о том, что суровый суд инквизиции, которого я так опасался, начался. По его словам, в Принстоне ходили разговоры о том, как мы использовали приснопамятный слайд Planck. «Люди в Принстоне очень обеспокоены пылью, — его слова звучали как зловещее предзнаменование. — И, по правде говоря, им удалось меня убедить, что нет никаких веских причин верить в то, что это не просто пыль. Ты сам смотрел на передний план?» Разумеется, я смотрел на передний план — на потенциальные источники загрязнения, такие как поляризованное излучение пыли Млечного Пути. Это было главным предметом волнений всей нашей команды: что, если обнаруженные нами B-моды не отпечатки первичных гравитационных волн, а маскирующиеся под них поляризованные сигналы галактической пыли? Но данные на низких частотах, полученные BICEP1, и на высоких частотах, полученные Planck и взятые нами со слайда PowerPoint, убедили нас в том, что мы были правы.
Через несколько дней я узнал, что сразу после пресс-конференции BICEP2 астрофизик Дэвид Спергель провел в Принстонском университете коллоквиум{4}. Он заявил, что нашел в наших результатах грубую ошибку и что наши данные были сильно загрязнены галактической пылью. Вскоре я узнал, что и другие космологи в Принстоне сосредоточились на том, как мы смоделировали влияние пыли. Надо сказать, что негативная реакция со стороны принстонских коллег не стала для нас неожиданностью: в конце концов, они работали над несколькими конкурирующими экспериментами по исследованию В-мод. Мы подозревали, что они просто раздосадованы тем, что их снова обскакали в прорывном открытии касательно реликта. К тому же мы были убеждены, что вскоре сможем исключить значительную часть вероятного влияния пылевого излучения Млечного Пути, как уже опровергли гипотезу Саркара о синхротронном излучении. Но атаки продолжались.
Я поинтересовался у Матиаса, кто еще помимо Дэвида Спергеля обвиняет нас в космологической ереси. Он ответил: «Кажется, ни о чем другом здесь больше не говорят». Мое сердце остановилось. Космологическое сообщество Принстона было одним из самых авторитетных в мире — это был Святой престол космологии, собравший ведущих теоретиков и экспериментальных космологов, среди которых было немало членов различных Национальных академий наук. Это походило на инфляционную инквизицию, способную внести результаты BICEP2 в список запрещенных препринтов.
Представьте себе, что все Налоговое управление США — все его сотрудники, начиная с министра финансов и заканчивая армией дотошных аудиторов, — скрупулезно изучают вашу налоговую декларацию в поисках малейших несоответствий! Есть от чего запаниковать.
Матиас сообщил мне, что талантливый молодой астрофизик Рафаэль Флаугер пишет статью в соавторстве со Спергелем и его аспирантом Колином Хиллом. Флаугер убедил Матиаса, что влияние поляризованного излучения пыли Млечного Пути было намного сильнее, чем предполагала команда BICEP2. То, что мы использовали неопубликованный слайд Planck, делало такими же уязвимыми и нас: они могли оцифровать наши результаты, прежде чем мы их официально опубликовали. Что от слайда родилось, то от слайда и погибнет.
«Не пойми меня неправильно, — добавил Матиас. — Я бы очень хотел, чтобы ваши результаты подтвердились. Но все эти разговоры поколебали мою уверенность. Я очень надеюсь, вы подробно объясните скептикам, что именно вы сделали с этими планковскими слайдами».
Май 2014 года
К началу мая Флаугер и его сотрудники закончили свой анализ и пришли к неутешительным для BICEP2 выводам{5}. Согласно Флаугеру, мы неверно оценили уровень поляризации пыли на слайде Planck, его значение в четыре раза ниже, чем использованное нами. Если это действительно было так, это низводило BICEP2 до роли самого знаменитого пылеуловителя в истории, а нашу команду — до очередных жертв пылевого миража.
Но Флаугер не делал категорических выводов. «Я надеюсь, что сигнал все-таки есть, — беспристрастно продолжал он. — Я не пытаюсь затеять спор ради спора; просто так функционирует наука: кто-то представляет результат, другие его проверяют. Но обычно это не происходит на публике, как сейчас»{6}. Он и его коллеги, а также Урош Селяк и Майкл Мортонсон заявили, что наша интерпретация данных со слайда Planck вызывает сомнения, но это не означает, что мы ошиблись{7}. Только новые данные, которых пока не было ни у BICEP2, ни у других групп, проводящих повторный анализ, могли помочь установить истину. Время суда пока еще не пришло.
Анализ Флаугера был скрупулезным, и другим космологам потребовалось несколько недель, чтобы переварить его. В сообществе исследователей CMB воцарилась атмосфера напряженного ожидания, мы словно попали в остросюжетный космический сериал. Затем, 30 мая 2014 года, в Нью-Йорке состоялся бой за будущую Нобелевскую премию — в форме дебатов на тему инфляции в рамках Всемирного фестиваля науки. Помимо модератора, физика Брайана Грина, присутствовали три отца инфляции: Пол Стейнхардт, Алан Гут и Андрей Линде.
Слева от Пола Стейнхардта сидела профессор Эмбер Миллер, наблюдатель, исследующий CMB, и декан факультета в Колумбийском университете. Слева от нее сидел руководитель проекта BICEP2 Джон Ковач. Лицом к зрителю был обращен Грин, ставший арбитром схватки, когда Ковач обрушился с резкими нападками на патриарха-отступника Стейнхардта: противостояние молодого гарвардского профессора и представителя старой гвардии требовало опытного контролера.
Линде и Гут благоразумно не вмешивались в драку, со стороны наблюдая за тем, как их коллеги обменивались беспощадными ударами. Ковач бил точно в цель и ловко уклонялся, однако Стейнхардт нанес нокаутирующий удар, спросив Ковача, не хочет ли тот отказаться от своего утверждения, что «началась новая эпоха В-мод»: «Вы по-прежнему это утверждаете?» Эмбер Миллер сидела между ними, скрестив руки на груди и напряженно склонив голову вперед — на случай, если Ковач и Стейнхардт начнут драться по-настоящему. В ожидании спасительного финального гонга Ковач только и смог, что выдавить из себя: «Мы сказали „по всей видимости“!» К счастью, отведенное на дискуссию время вышло, но сейчас команда BICEP2 получила технический нокаут.
К началу лета команда BICEP2 работала в паническом режиме, анализируя и повторно анализируя данные, отвечая на критические рецензии и пытаясь потушить разгорающийся пожар в СМИ и на научных конференциях. Параллельно с научными баталиями нам пришлось вести баталии в СМИ по поводу СМИ. В частности, самой горячей темой стала гарвардская пресс-конференция. За то, как мы разрекламировали результаты эксперимента BICEP2, нас критиковали почти так же активно, как и за использование планковского слайда.
Внимание, внимание!
Ученые, эксперты и журналисты осуждали нас за решение объявить о результатах BICEP2 до завершения процесса рецензирования. Хотя трудно сказать, было это решение правильным или нет в нашем конкретном случае, в целом вопрос, стоит ли проводить пресс-конференцию и если да, то когда, актуален. Такое решение всегда дается непросто. Для физика подобная пресс-конференция — жизненно важное событие. Если вы сделали значимое открытие и оно подтвердится, пресс-конференция может стать шагом на пути к Нобелевской премии. Если же ваши результаты ошибочны, она может положить конец вашим исследованиям… и освещению их в прессе.
Для команды BICEP2 стандартная практика — многомесячный процесс рецензирования, завершающийся публикацией пресс-релиза, — таила в себе ряд серьезных неудобств, и каждое из них нас смущало. Во-первых, пока мы получали бы отзывы от коллег, перерабатывали текст, а потом проходили этот цикл повторно, нас бы опередили конкуренты. Во-вторых, мы опасались, что отправка статьи с результатами в журнал даст конкретной группе — рецензентам и их друзьям — несправедливое преимущество в виде доступа к уникальным данным, которыми они могли воспользоваться в своих целях. Конкуренция в нашей области настолько сильна, что единственными специалистами за пределами команды BICEP2, которые могли рецензировать нашу работу, были наши прямые конкуренты.
Нашим главным приоритетом было сообщить о результатах коллегам-космологам по всему миру. Опубликовав данные и выводы эксперимента BICEP2 онлайн, мы дали возможность всему сообществу космологов, а не только паре рецензентов немедленно начать процесс экспертизы. Некоторые ученые приветствовали решение сразу открыть доступ к нашим результатам, тогда как другие сравнили его с заявлением о чудодейственном новом лекарстве; и критика нашего подхода временами была жесточайшей. Обозреватель The New York Times Деннис Овербай назвал такой подход к производству научных знаний в высшей степени неприглядным: «Это редкий пример научного процесса — с острыми локтями, раздутыми эго и прочими некрасивыми вещами»{8}.
Между тем BICEP2 был не первым экспериментом по исследованию микроволнового фона с привлечением к рецензированию широкого круга профессионалов. Вскоре после того, как Пензиас и Уилсон зарегистрировали реликтовое излучение, информация об этом просочилась в The New York Times, которая опубликовала новость на первой полосе за несколько недель до публикации научной статьи. В ответ Bell Labs была вынуждена выпустить свой пресс-релиз{9}. Вот что впоследствии рассказал об этом Арно Пензиас: «Но тогда связь между теорией и данными начала вырисовываться все более отчетливо. Самое важное то, что начали поступать неожиданные подтверждения с неожиданных сторон… каждое из которых выводило температуру космического микроволнового фонового излучения на уровне 3 кельвинов»{10}.
Через три месяца после пресс-конференции, в июне 2014 года, в журнале Physical Review Letters была опубликована отрецензированная версия нашей статьи. Следуя рекомендации двух анонимных рецензентов, мы убрали из статьи все данные о пылевом загрязнении, взятые со слайда Planck. Их удаление мы объяснили тем, что анализ предполагает не поддающиеся количественной оценке неопределенности. Но мы настаивали, что сами данные BICEP2 безупречны. Обсуждать можно только интерпретацию. Группа Planck пообещала разрешить ситуацию в ближайшие несколько месяцев, когда новая порция данных будет готова для публикации.
Ранее измерения Planck показали, что пыль Млечного Пути испускает микроволны со спектром черного тела, как и реликт. Но температура излучения пыли составляла целых 20 кельвинов, а не 3 кельвина. Поскольку общая энергия излучения черного тела увеличивается пропорционально четвертой степени его температуры, излучение Млечного Пути было почти в 2000 раз ярче, чем реликтовый фон.
Один из частотных каналов, на котором вела измерения обсерватория Planck, 353 ГГц, был почти нечувствителен ко всему, кроме излучения пыли; этот канал стал своего рода жертвой, посвященной не космологическому золоту, которое искали мы, а загрязнениям, которые могли скрывать его. Мы все втайне надеялись, что канал Planck на частоте 353 ГГц станет нашим спасением, преобразовав качественные данные на слайде PowerPoint в количественные и позволив сделать безальтернативные выводы. Нас ожидало долгое и жаркое лето.
* * *
Следующие несколько месяцев вся команда BICEP2 словно сидела на иголках в ожидании того, когда и что опубликует наш конкурент. На смену радостному возбуждению приходил страх. К сентябрю я понял, что нужно срочно сменить обстановку. И тут мне невероятно повезло: меня пригласили выступить с лекцией в Итальянском Национальном институте астрофизики в Арчетри, где провел последние годы жизни Галилей. Если кто-то и мог понять все опасности и подводные камни использования преломляющей «зрительной трубы», так это первый человек, направивший ее в небо.
У Национального института есть ключи от дома Галилея, виллы Иль Джойелло, расположенной на одном из прекрасных холмов Тосканы. Волнение, которое я испытал, обедая в настоящей столовой комнате Галилея, смог превзойти разве что вид из окон, через которые маэстро изучал ночное небо несколько веков назад. (Ударившись пару раз лбом о низкие арки дверей, я осознал, что физический рост Галилея не соответствовал его высокому статусу в мире астрофизики.) Словно во сне, я гулял по оливковой роще и виноградникам, окружающим виллу, которые буквально восходили корнями к галилеевским временам. Если кому-то придется оказаться в заточении, вилла Иль Джойелло — неплохое место.
К концу моей поездки статья Planck с данными изменений на частоте 353 ГГц наконец появилась. Это стало началом конца нашей эйфории по поводу инфляции. Хотя команда Planck из осторожности не опубликовала данные по Южной дыре, где мы вели свои наблюдения, — возможно, из опасений, что мы оцифруем их, — она произвела оценку потенциального уровня загрязнения от поляризации пыли на этом участке неба и пришла к выводу, что он «такой же, как в сообщениях команды BICEP2». Это означало, что пыль с той же вероятностью могла быть источником зарегистрированных нами В-мод, что и гравитационные волны эпохи инфляции.
Позже группа Planck составила карту поляризации микроволнового излучения пыли в галактике Млечный Путь, которая включала и Южную дыру. Зрелище было завораживающее: небесные просторы, украшенные лентами лазури, красно-охряными завитками и янтарными гирляндами, — картина, достойная кисти Ван Гога (рис. 57; илл. 7 на вклейке, верхнее фото). «Наглядное свидетельство», вероятно, полагал Галилей, выдвигая гипотезу о Плеядах. Но на этот раз он был бы катастрофически прав.
Все было кончено. И погрузился Рай в печаль. И злато Нобеля не вечно[38]. BICEP2 оказался всего лишь очень чувствительным детектором пыли. Некоторые в космологическом сообществе не могли сдержать своего злорадства по поводу кончины BICEP2. Газеты пестрели громкими заголовками: «Космический крах: новые спутниковые данные стерли в пыль открытие BICEP2 большого взрыва»; «BICEP2 рассыпался в пыль»; «Доказательство теории космической инфляции — пыль в глаза»; «Из праха ты пришел, BICEP2»{11}. Из героев-первооткрывателей мы превратились в мишень для колкостей и каламбуров, вероятно, на многие годы вперед.
Я чувствовал себя обескураженным и виноватым. Хотя я выражал свои опасения по поводу пыли, все же я сдался. А должен был настоять на своем. Но, как и многие в нашей команде, я видел то, что хотел видеть, тем самым совершая смертный грех космологии: склонность к подтверждению своей точки зрения. Забыв про предостережение Фейнмана, я повел себя как глупец, который обманул сам себя. Я поклялся, что никогда больше не повторю этой ошибки.
Последствия BICEP2
После случившегося некоторые ученые утверждали, что проект BICEP2 имел катастрофические последствия для науки. И дело не в том, что циклическая модель и модель отскока — правильные, а инфляционная — неправильная; вряд ли имелось в виду это. О каждой из них судить рано.
Скорее, «посмертное вскрытие» BICEP2 после публикации данных Planck повлияло на восприятие науки широкой общественностью. Дартмутский астроном Марсело Глейзер написал, что привлечение внимания СМИ до завершения надлежащего процесса рецензирования и последующее опровержение результатов «вредит науке, поскольку нарушает ее неприкосновенность… Это дает людям повод сказать: смотрите, эти космологи сами не знают, о чем говорят, да и вообще вся эта наука — полная чушь!»{12}
Я не согласен с подобными утверждениями по двум причинам. Во-первых, Глейзер и многие другие игнорировали главное: все члены команды BICEP2 были движимы предельно честными мотивами. Например, Джейми Бок мог бы воспользоваться своим привилегированным положением в команде Planck, чтобы получить доступ к их неопубликованным данным. Но он этого не сделал. Возможно, именно поэтому он так негативно отнесся к моему участию одновременно в двух проектах — BICEP и POLARBEAR: риск конфликта интересов был слишком велик. И наконец, широкая общественность смогла увидеть, что такое наука. Наука сложна, потому что такова сама природа. Ученые тоже люди, им, как и всем людям, свойственно ошибаться. Мы не совершали грубых ошибок: не оставили крышку на объективе, не выдернули разъем оптоволоконного кабеля и не использовали грязные пробирки. В отличие от гравитационных волн, открытых Джо Вебером в своей лаборатории, или нейтрино, движущихся быстрее скорости света, результаты BICEP2 были воспроизводимы. На самом деле мы более, чем когда-либо, уверены в значимости обнаружения B-мод BICEP2 — это безусловно, удивительное достижение, хотя и не эпохальное. Ошибочной оказалась наша оценка их источника.
Эксперимент BICEP2 наглядно показал широкой общественности, как работает наука: вы публикуете результаты, выкладываете все свои карты на стол и отдаете их на суд других ученых. Они атакуют, вы защищаетесь, пока в конце концов у обеих сторон не иссякают аргументы — и силы. Только после этого можно выносить суждение.
В конце 2014 года, когда ситуация стала складываться явно не в пользу BICEP2, научные журналисты занялись разбором полетов, но не собственно научных итогов эксперимента, а той роли, которую сыграло их обнародование в интересе к теме и последующем разочаровании{13}. Многие журналисты выказали недовольство тем, что пресс-служба Гарварда сообщила об открытии одним журналистам раньше, чем остальным. Другие критиковали себя за то, что не проявили должной осмотрительности, освещая открытие. «Насколько мы принимаем во внимание и акцентируем предварительный характер таких результатов? — вопрошал Майкл Лемоник из Time, один из тех, кто был проинформирован первым. — Легко снизить требования к абсолютному качеству нашего продукта, особенно когда нам предлагают захватывающую новость, способную вызвать огромный резонанс»{14}. Такой самоанализ со стороны научных журналистов обнадеживал. Они даже провели несколько семинаров, чтобы проанализировать собственную роль в истории BICEP2 и свою долю вины, а также понять, как избежать подобных ситуаций в будущем. «Трудно представить, чтобы политические или спортивные журналисты посвятили столько времени и сил детальному обсуждению собственных ошибок после провала одной из своих историй», — говорилось в редакционной статье в журнале Nature{15}.
Научные журналисты делают замечательную работу, стараясь как можно быстрее информировать широкую общественность о невероятно сложных научных вопросах. Их критическое отношение к своей роли в истории BICEP2 вселяет надежду. Куда меньше оптимизма вызывают у меня интроспективные способности моих коллег по цеху, несущих ответственность за саму науку. В отличие от врачей и юристов, физиков не обучают профессиональной этике. Между тем, учитывая вероятность негативного влияния преждевременной публикации или некорректных выводов на карьеру молодых ученых, такая дисциплина должна быть обязательной, как и предлагаемый многим из нас сегодня курс по предотвращению сексуальных домогательств. Как сказал Фейнман в своей знаменитой напутственной речи «Наука самолетопоклонников» перед выпускниками Калтеха, ученый должен из кожи вон лезть, чтобы «показать свои возможные ошибки». Конечно, признаваться в собственных ошибках нелегко, будь то обычный человек или создатель инструментов для космологических исследований; этому необходимо учиться. Рассчитывать на то, что ученые интуитивно постигнут законы научной этики, так же глупо, как ожидать чего-то подобного в отношении законов квантовой механики. Хотя изучение этических практик может показаться ненужным отвлечением внимания, но, как и в большинстве непростых вопросов, грамм профилактики стоит килограмма лечения. Пришло время включить знакомство с достижениями в этой области в программы университетов начиная с аспирантуры, если не раньше.
* * *
Опровержению открытия BICEP2 не было посвящено ни пресс-конференции, ни вирусного видеоролика на YouTube. Группа Planck, висевшая у нас на хвосте как грозный вражеский истребитель, прояснила количество пылевых B-мод, продуцируемых нашей галактикой, ни словом не упомянув о космических В-модах, производимых инфляцией.
А наше видение было затуманено — отчасти страхом, отчасти жадностью и больше всего — космической пылью.
* * *
За свою непродолжительную карьеру мальчика-алтарника я многое узнал об Иисусе. Его Нагорная проповедь всегда находила в моей душе живой отклик как образец подлинного смирения. «Не судите, — говорил Иисус, — да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: „Дай, я выну сучок из глаза твоего“, а вот, в твоем глазе бревно?» Сучком была пыль, а бревном — Planck[39]. То и другое мешало ясности нашего видения и суждения.
В конце 2014 года мы объединили силы с командой Planck и написали совместную статью{16}. Вместе мы смогли заглянуть в космос гораздо дальше, чем по отдельности. На смену конкуренции пришло сотрудничество, мы перековали наши мечи на орала. В конце концов я даже сумел помочь Рафаэлю Флаугеру получить место профессора в Калифорнийском университете в Сан-Диего, где он стал моим ближайшим коллегой. Спор вокруг результата BICEP2 был окончательно разрешен научными методами: вместе с командой Planck мы рассчитали вклад поляризованного излучения пыли в Южной дыре и исключили его из зарегистрированного нами сигнала В-мод. То, что осталось, было точно измеренным сигналом, в котором, однако, не было свидетельств первичных гравитационных волн; оставалось лишь надеяться на продолжение увлекательных поисков.
В 2006 году Эндрю Ланге, наставник всей команды BICEP2 и руководитель американской группы в команде Planck, был награжден престижной Премией Бальцана в области наблюдательной астрономии и астрофизики, присуждаемой Национальной академией деи Линчеи — старейшей академией наук в мире. В своей благодарственной речи Эндрю сказал: «Почти четыреста лет назад Галилей стал членом вашей Академии. Будь он сегодня с нами, думаю, он был бы изумлен и обрадован результатами научной программы, которую запустил в тот момент, когда впервые направил телескоп в небо. Говорят, Галилей однажды сказал: „Измеряй неизмеримое, а неизмеримое делай измеримым“. Этот девиз как нельзя лучше описывает стремление современной науки увидеть — и измерить — то, что ранее было невидимым и неизмеримым, и распространить наши измерения до самых дальних границ Вселенной и до самого начала времен»{17}. Я уверен, что, если бы сегодня Эндрю был с нами, он, как и Галилей, радовался бы, что команды BICEP2 и Planck работали вместе и делали космос измеримым во всем его неприкрашенном, пыльном великолепии.
В заключении нашей оригинальной статьи с результатами эксперимента BICEP2 мы подстраховали себя. На тот случай, если обнаруженный нами сигнал был сгенерирован пылью, а не первичными гравитационными волнами, мы написали: «Если эти B-моды представляют собой запыленный передний план, это говорит о масштабе тех вызовов, которые лежат перед нами»{18}. После того как пыль вокруг эксперимента BICEP2 осела, мы вместе с командой Planck сумели оценить масштаб этих вызовов: они были огромны.
Давление обстоятельств только закалило меня. В конце концов, именно под давлением пыль превращается в алмазы.
Глава 15. Лирика для физиков
Новый взгляд дает нам возможность увидеть много нового: радиотелескоп открыл квазары и пульсары; сканирующий электронный микроскоп — усики пылевого клеща. Но давайте зададим обратный вопрос: может ли это новое, увиденное нами, наделить нас новым взглядом?
Уильям Лист Хит-Мун. Голубые дороги: путешествие по АмерикеНаверняка вы слышали легенду о мифологическом судне, известном как корабль Тесея, который веками перестраивали, по мере того как дерево гнило и разрушалось. Постепенно заменили и доски, и гвозди, и паруса. И вот в какой-то момент афиняне задались вопросом: когда этот корабль перестал быть тем, чем был изначально, и стал чем-то иным? Подобно этому мифическому кораблю, ваше тело со временем обновляет все свои клетки, одни — каждые несколько дней, другие — каждые десять лет, но вы по-прежнему ощущаете себя «собой». Так и наша Галактика постоянно рождает звезды, которые достигают зрелости и в конце концов умирают; некоторые из них заканчивают жизнь в красочных взрывах сверхновых, создающих газ, из которого затем рождается новое поколение звезд, и эти процессы продолжаются миллиарды лет. Разве это не та же самая галактика?
Еще более поэтичный образ: в нашей крови есть атомы железа, созданные в недрах сверхновых миллионы лет назад. Мы — реинкарнация звездной пыли. Атомы железа, текущие в наших венах, когда-то курсировали по космосу.
Реки жизни
Инки, жившие на севере Южной Америки, называли Млечный Путь «Майю» (река) и считали его живительной рекой, наполненной двумя типами созвездий — светящимися и темными (рис. 58). Первые состояли из сияющих и переливающихся звезд, однако инки считали их неодушевленными, мертвыми и стерильными. И наоборот, «темные созвездия» были для них самой сутью жизни, немым фильмом, иллюстрирующим удивительный миф о сотворении мира. В то время как сегодня астрономы объясняют существование этих темных, лишенных звезд участков Млечного Пути поглощающими свет пылевыми облаками, древние инки видели в них тени испытывающих жажду животных: Жабы, Ламы и Змеи. Эти мифические звери пили воду из небесной реки и заслоняли ее призрачное сияние{1}. Астрономы в империи инков явно были поэтами.
Столетия спустя, в 1990 году, в День святого Валентина, космический зонд Voyager-1 повернул свои камеры в сторону внутренней Солнечной системы и сделал фотографию Земли, купающейся в лучах Солнца (илл. 7 на вклейке, наверху). В книге «Голубая точка» Карл Саган удивительно передал ощущение того, какая крохотная наша планета, назвав ее «пылинкой, повисшей в луче света»{2}.
То, что мы узнали о других планетах со времен Сагана, лишь усилило это ощущение нашей ничтожности. Благодаря космическому телескопу Kepler астрономы увидели, что в нашей Галактике существует по крайней мере столько же планет, сколько и звезд, — сотни миллиардов. Вокруг таких звезд, как TRAPPIST-1, вращаются десятки планет, находясь в так называемой зоне обитаемости, или зоне Златовласки, — не слишком горячей и не слишком холодной для того, чтобы вода на поверхности планет могла существовать в жидкой фазе{3}.
Но что, если концепция зоны Златовласки всего лишь очередная глава в астрономической антикоперниканской сказке? Кто знает, какие формы жизни мы встретим, когда начнем исследовать просторы Млечного Пути? Что, если жизнь вовсе не требует точно такого же сырья, из какого сделаны мы? Что, если жизнь на основе углерода не единственная возможная форма жизни? Это могло бы стать хорошей темой для шестого раунда Великих дебатов с очередными еще более волнующими научными спорами.
Ищущий истину должен быть смиреннее праха. Мир попирает прах, но ищущий истину должен настолько смириться, чтобы даже прах мог попрать его. И только тогда, а не прежде он увидит проблески истины.
Махатма Ганди. Моя жизнь[40]Прежде чем озариться нобелевской славой, Адам Рисс отличался скромностью. Он с головой погрузился в космическую пыль — самую неприметную субстанцию во Вселенной, которая мало ассоциируется у нас с блеском славы. В опубликованной в 1996 году статье под названием «Пыль, затеняющая сверхновые в далеких галактиках, — та же самая пыль, что и в Млечном Пути?» Рисс, его научный руководитель Роберт Киршнер и их соавтор Уильям Пресс написали: «Понимание абсорбирующих свойств пыли в далеких галактиках имеет большое значение для измерения космологических параметров… Для решения такой задачи, как измерение глобального замедления на основе наблюдения за сверхновыми, понимание свойств пыли в молодой Вселенной представляет собой важнейшую проблему»{4} (курсив мой. — Б.К.).
Эти слова будущего нобелевского лауреата ясно показывают: еще в конце 1990-х годов астрономы считали, что расширение Вселенной должно замедляться, но никак не ускоряться. Именно это они и надеялись подтвердить своими наблюдательными исследованиями. К этому заблуждению их привела не только склонность к подтверждению своих представлений, но и еще одна форма когнитивного искажения — эффект авторитета. В данном случае авторитетом был не кто иной, как Альберт Эйнштейн. Эйнштейн отказался от своей идеи космологической постоянной — антигравитации, предложенной в 1917 году, увидев данные Хаббла о скорости разбегания галактик. Согласно некоторым апокрифическим источникам, Эйнштейн называл космологическую постоянную своей «самой большой ошибкой»{5}. Следующие 80 лет об этом не вспоминали. И тут был резон: зачем тратить время на выискивание ошибки?
В конце 1990-х годов, когда первая наблюдаемая сверхновая типа Ia оказалась более тусклой, чем ожидалось, Рисс и другие астрономы решили, что это результат пылевого рассеяния, исключив более экзотическое объяснение, оказавшееся впоследствии правильным. Это была темная энергия, которая не только предотвращает коллапс Вселенной, как и думал Эйнштейн, а заставляет ее расширяться с растущей скоростью. Уже первые оценки (измерение влияния пыли и вычитание из общего результата) подвели астрономов к самому невообразимому выводу: Вселенная наполнена антигравитационной, отталкивающей энергией, о которой Эйнштейн вроде бы сначала заявил, а потом отказался. Если Эйнштейн действительно считал космологическую константу своей «самой большой ошибкой», то в отречении от своей идеи и состояла его ошибка, а не в упоминании этой отталкивающей таинственной силы.
По какой прихоти судьбы одна и та же космическая субстанция — пыль — одним астрономам помогает выиграть гонку за Нобелем, а другим мешает? Причина отчасти заключается в наших предубеждениях. В то время как исследователи сверхновых начали с поиска пыли и нашли темную энергию, мы, исследователи CMB, начали с поиска инфляции — самого экзотичного феномена из всех возможных, а вместо этого нашли пыль. Разумеется, астрономы BICEP не первые, кто был обманут пылью. Но мы можем стать последними.
Наследники творения
Потребовались века, чтобы космическая пыль заслужила наше признание. Пыль создает планеты и целые галактики. Пыль — основа жизни. Но у пыли есть и темная сторона. Она заслоняет от нас свет далеких звезд, создавая иллюзию, будто космос сосредоточен вокруг нас. Этот творец миров и разрушитель эго астрономов (вместе с их нобелевскими мечтами) по-прежнему остается для нас непостижимым. Размер, форма, состав и происхождение космических пылинок остаются загадкой. Мы не понимаем механизм намагничивания пыли и мало что знаем о магнитном поле Млечного Пути, которое задает ориентацию пылевым частицам и таким образом вызывает поляризацию реликта{6}.
Мы не можем жить без пыли — это ясно. Вопрос в том, смогут ли космологи ужиться с ней? Чтобы заглянуть в самые удаленные уголки Вселенной и в ее самое далекое прошлое, вплоть до Большого взрыва, космологам нужно пробиться сквозь всю эту космическую грязь.
В настоящее время специально для этой цели реализуется амбициозный проект под названием BFORE — The B-mode Foreground Experiment («Эксперимент по исследованию В-мод переднего плана»), возглавляемый бывшим аспирантом Эндрю Ланге Филом Маускопфом из Аризонского университета{7}. Новаторский аэростатный телескоп предназначен для охоты за пылью, что успешно проделывали исследователи сверхновых, прежде чем совершили свое достойное Нобелевской премии открытие. Космологи, работающие над BFORE, надеются, что им удастся обнаружить под толщей пыли инфляционные поляризационные сигналы. Такие инновационные проекты невероятно важны для космологии, поскольку позволяют приподнять завесу тайны над самой неуловимой субстанцией во Вселенной.
«…и сделаю потомство твое, как песок земной…»
Бытие 13:16Хотя то, что пришлось отказаться от заявлений с BICEP2, стало разочарованием, я могу честно сказать, что не испытывал депрессии после случившегося. Игра продолжалась. В опровержении нашего открытия имелся по крайней мере один положительный момент: человечество снова было готово выслушать всех участников пятого раунда Великих дебатов. Живем ли мы в единственном космосе, который переживает циклы рождения-смерти? Или мы живем в постоянно самовоспроизводящейся Мультивселенной, состоящей из бесчисленного множества карманных вселенных? Мир опять может слушать обе стороны Великих дебатов, которые возобновятся с новой волнующей силой.
Ставки в этих дебатах будут еще выше, чем прежде. Главный критик инфляции Пол Стейнхардт обратился к создателям инструментов для космологических исследований с призывом продолжать эти поиски, но с новой степенью ответственности. «Теперь космологи знают, что мир пристально следит за их усилиями, — написал он в Nature. — На этот раз они должны осуществить измерения в широком диапазоне частот, чтобы распознать эффекты переднего плана, а также провести все необходимые тесты, чтобы исключить другие источники путаницы. Любые результаты должны быть объявлены только после надлежащего процесса рецензирования. Если понадобится провести пресс-конференцию, надо надеяться, научное сообщество и СМИ потребуют, чтобы она сопровождалась полным комплектом документов, включая детали систематического анализа и пакет данных, достаточных для осуществления объективной проверки»{8}. Стейнхардт настоятельно советовал экспериментальным космологам, отправляясь в новую экспедицию по поиску самых древних следов в истории, придерживаться высочайших стандартов экспериментальной науки и профессиональной этики. К наставлениям Стейнхардта я добавляю еще одно: агностицизм в отношении Нобелевской премии.
Что есть поражение? Не что иное, как урок; не что иное, как первый шаг к чему-то лучшему.
Уэнделл ФиллипсНесмотря на то что первоначальные выводы эксперимента BICEP2 были дискредитированы, наша область экспериментальной космологии словно обрела второе дыхание. Около полудюжины экспериментальных групп по исследованию поляризации микроволнового фона с удвоенным рвением взялись за поиски первичных сигналов.
В декабре 2014 года, когда шумиха поутихла, Джим Саймонс позвонил мне второй раз за тот год. Теперь я был гораздо спокойнее, чем в марте. «Я разговаривал с людьми в Принстоне. Я знаю, что вы конкурируете с ними с проектом POLARBEAR, которым ты руководишь с Адрианом Ли», — начал Джим. (Речь шла о проекте Atacama Cosmology Telescope/ACT — «Космологический телескоп в Атакаме», который вели Лайман Пейдж, Сьюзан Стаггс и Дэвид Спергель из Принстонского университета и Марк Девлин из Пенсильванского университета.)
«Но я подумал, — продолжил Джим, — почему бы вам, парни, не объединить силы вместо того, чтобы конкурировать?»
Джим задал отличный вопрос: действительно, почему бы нам не работать вместе? Совместными силами можно добиться гораздо большего, чем по отдельности! Вообще-то Джим всегда задает правильные вопросы и вкладывает деньги в то, чтобы получить на них ответы. Как и фонд Альфреда Нобеля, фонд Саймонсов, созданный Джимом и Мэрилин Саймонс в 1994 году, награждает «фундаментальные или нацеленные на открытия научные исследования, предпринимаемые в поисках более глубокого понимания явлений нашего мира».
Прежде чем стать брокером на Уолл-стрит, Саймонс был профессором математики{9}. И вот в конце 2014 года этот финансовый магнат предложил нам слияние. Речь шла не о консолидации корпораций, а об объединении усилий в исследованиях космоса ученых, которые прежде соперничали друг с другом. Никогда раньше команды такого масштаба не объединялись. Напротив, в сообществе исследователей реликтового излучения царила состязательность, не уступающая извечной конкуренции между Восточным и Западным побережьем и хип-хоп-баттлам 1990-х годов.
Альянс, предложенный Джимом, означал сдвиг парадигмы. Разумеется, неминуемы были родовые муки. Но если какая-либо организация и могла помочь этому процессу, так это фонд Саймонсов, который уже успешно катализировал сотрудничество между самыми разными научными дисциплинами — от геномики до квантовых вычислений{10}.
Доводы Джима были убедительны: иметь две группы в Чили буквально в двух шагах друг от друга — расточительно. Многие виды работ дублировались; коллаборация позволила бы использовать ресурсы фонда гораздо эффективнее, чем способна каждая из двух групп по отдельности. Сотрудничество уже стало ключевым катализатором многих успешных проектов, поддерживаемых фондом Саймонсов. (Интуитивно Джим Саймонс обозначил одно из главных препятствий, мешающих Нобелевской премии способствовать прорывным открытиям, приносящим «наибольшую пользу человечеству»: исторический акцент на ученых-одиночках, ограничение числа лауреатов в год до трех.)
В конце 2014-го, после развязки истории с пылью в проекте BICEP2, Джим предлагал мне мыслить масштабно. Было очевидно, что я не могу все сделать один. Но у меня не было времени играть в теннис со всеми ведущими игроками! Вместо этого я пригласил Марка Девлина из Пенсильванского университета и Сьюзан Стаггс из Принстона. Внешне мое приглашение выглядело просто как встреча с выдающимися астрономами. Но как только они прибыли на факультет, я начал зондировать почву. Я расспросил их о том, как, по их мнению, должен выглядеть эксперимент следующего поколения по исследованию реликта. Сколько телескопов они бы использовали, какие частоты выбрали бы, какие детекторы предпочли?
После визита исследователей из команды ACT я взялся за своего основного партнера — Адриана Ли из Калифорнийского университета в Беркли. Адриан — всемирно известный создатель инструментов для космологических исследований и разработчик инновационных сверхпроводящих болометров, используемых в телескопах POLARBEAR и Simons Array. Мне нужно было заручиться поддержкой Адриана, чтобы двигаться дальше. И он меня поддержал.
13 820 000 000 + 50 лет
В июне 2015 года Принстонский университет организовал трехдневные торжества, посвященные 50-летнему юбилею открытия реликтового излучения Пензиасом и Уилсоном. В один из тех дней Джим Саймонс пригласил меня на ланч. Он хотел узнать, как обстоят дела с его предложением создать «супергруппу» по исследованию реликта. Пока Джим ел, я увлеченно рисовал на салфетках идеи, над которыми размышляли Ли, Делвин, Стаггс и я.
Чтобы осуществить эксперимент следующего поколения, нам требовалось построить обсерваторию с чувствительностью на порядок выше, чем у BICEP2. Хотя 512 поляризационных детекторов BICEP2 были чрезвычайно чувствительны, все они работали на одной частоте. Нам же нужно было вести измерения в широком диапазоне частот. Это требовало десятков тысяч детекторов. Низкие частоты были необходимы, чтобы исключить вклад синхротронного излучения Млечного Пути; высокие частоты — чтобы исключить вклад пыли. Эта новая суперобсерватория позволила бы нам взяться и за решение других увлекательных проблем космологии: измерить массу нейтрино; изучить, как образуются гигантские скопления из тысяч галактик; исследовать темную энергию.
Наконец я сообщил Джиму, что совместный проект должен стать прототипом для еще более амбициозного эксперимента по исследованию микроволнового фона, который пока находился в стадии разработки предложения. Предполагался эксперимент, который при удачном стечении обстоятельств сможет получить финансирование Министерства энергетики США и Национального научного фонда. Этот проект был своего рода мечтой. Он относился к так называемому Четвертому этапу экспериментов по исследованию реликтового фона, что, несомненно, должно было впечатлить государственные агентства{11}. В общей сложности в эксперименте предполагалось использовать полмиллиона детекторов, установленных на нескольких телескопах в двух местах: в Чили и на Южном полюсе.
Я сказал Джиму, что перепрыгнуть сразу через три ступени — от количества детекторов, используемых в проекте BICEP2, до уровня Четвертого этапа — практически невозможно. Эксперимент, схему которого я нарисовал на салфетке, позволил бы преодолеть разрыв между двумя поколениями экспериментов и вернуть науке ее фантастические возможности. Но это недешево.
Джим добавил, что помимо наших мозгов и его денег управление таким масштабным проектом также требует на порядок более высокого уровня дисциплины и организации, чем обычно. Я согласился, сказав, что нам нужен профессиональный менеджер — должность, которая обычно не предусмотрена в научных проектах. «Как насчет твоего старшего сына?» — пошутил Джим. «У него большая нагрузка в детском саду», — ответил я, расплывшись в глупой самодовольной улыбке.
Возвращаясь с ланча, мы не один час бродили по территории кампуса Принстонского университета вокруг здания увитой плющом библиотеки, рассуждая о науке и предаваясь воспоминаниям. От потенциальных конкурентов меня отделяло несколько шагов. Все это выглядело немного абсурдно. Здесь, совсем близко от того места, где Дикке и его команда работали над радиометрами для измерения микроволнового фона и узнали о том, что Пензиас и Уилсон «обскакали» их в нобелевском открытии, я излагал свои идеи, которые в один прекрасный день могли привести к настоящим научным прорывам, даже если они были тщательно подготовлены, а не произошли случайно.
В конце того дня Джим задал мне еще один вопрос: «Через сколько лет это будет написано в учебниках, если ты окажешься прав?» Я сказал, что, по моим прикидкам, лет через 10–20. «Давай попробуем уложиться в десять!» — предложил он.
* * *
Остаток года руководители команд из Simons Array и ACT тесно взаимодействовали друг с другом, прорабатывая детали того, что должно было стать новой главой в экспериментальной космологии. Как всегда, первым важным вопросом было название. Последовав примеру Галилея, который считал лесть патронам вполне достойным научным методом, мы назвали наш проект Simons Observatory — Обсерваторией Саймонса — и заверили своих покровителей в том, что революционные астрономические открытия не заставят себя ждать.
Далее последовала скрупулезная работа над техническими деталями, чтобы представить проект фонду Саймонсов: дизайн, бюджет, график. Предполагалось наличие множества телескопов: несколько больших, таких как телескоп ACT, диаметром 5 м, и несколько поменьше, наподобие BICEP, диаметром около 30 см. Мы хотели сохранить ту же локацию в пустыне Атакама — это одно из лучших мест для астрономических наблюдений на планете. Измерения требовали широкого спектра частотных каналов, чтобы вычислить влияние пыли и исключить его.
Мы разработали комплект учредительных документов, где была детально прописана законодательная структура проекта вкупе с эффективной внутренней и внешней системой сдержек и противовесов. Внешнему Консультативному комитету, состоящему из группы авторитетных ученых, надлежало давать нам беспристрастные советы. Их техническая поддержка была крайне важна. Более того, их независимый контроль, как мы надеялись, позволит нам избежать некоторых болезненных ошибок эксперимента BICEP2.
Учредительные документы Simons Observatory включали в себя устав, список руководителей и правила совместной работы. Я стал директором Simons Observatory, отвечающим за контроль над ресурсами фонда. Текущее руководство должен был осуществлять «представитель» проекта, и, согласно уставу, он менялся каждые два года. Первым таким представителем стал Марк Девлин из Пенсильванского университета. Его должен был сменить Адриан Ли из Беркли, а того — Сьюзан Стаггс из Принстона. Быть представителем крупного научного проекта ничуть не проще, чем генеральным директором крупной корпорации; но я не сомневался в талантах Девлина, Ли и Стаггса и был уверен, что при желании каждый из них мог бы управлять компанией из списка Fortune 500.
Слияние двух экспериментов означало соединение усилий около 200 человек — почти в четыре раза больше, чем количество людей, работавших над BICEP2. Мы представили наше предложение в фонд Саймонсов в конце 2015 года, и уже в начале 2016 года, после моего выступления в Обществе стипендиатов фонда Саймонсов на Манхэттене, Энди Миллис, заместитель директора Фонда по физическим наукам, сообщил нам отличную новость: «Мы приняли решение финансировать Обсерваторию Саймонсов!»{12} Это была первая важная победа. Следующим шагом нашего предприятия стал выпуск пресс-релиза.
Параллели между пресс-релизом Simons Observatory и освещением пресс-конференции BICEP2 щекотали мне нервы. По всему миру СМИ носились с новостью, как это было с BICEP2{13}. И не без причины: ставки были как никогда высоки. На этот раз я был в центре внимания. Но больше всего меня волновала перспектива работать с лучшими и самыми яркими представителями молодежи и старшего поколения, многие из которых прежде привыкли соперничать. Теперь мы сумели преодолеть довлевший над нами дух состязательности и объединить силы ради достижения общей цели: узнать, как все начиналось и, возможно, как все будет дальше.
Поэтическая справедливость
Все пять раундов Великих дебатов омрачала пыль. И она будет продолжать свои злодеяния, пока мы не изменим свое отношение к ней. Будет только естественно, если мы, пристроившись здесь, на этой планете, на этом гигантском пылевом скоплении, мы, самая развитая форма пыли, не побоимся преувеличить ее значение. Глупо заявлять, что мы свидетели финала Великих дебатов: подобная космическая спесь часто приводит к провалам. Пыль — самый надежный спутник астронома. Пришло время перестать рассматривать ее как своего рода космический вирус, «грязное лобовое стекло» нашей Галактики, закрывающее вид и мешающее двигаться вперед. Пора принять ее существование как факт. И тогда она может оказаться золотой рудой.
В 1960 году Джон Апдайк написал оду нейтрино под названием «Космическая дерзость»{14}. Стихотворение Апдайка было размещено на официальном нобелевском сайте в 1995 году в честь присуждения Нобелевской премии по физике Фредерику Райнесу за открытие нейтрино[41]. Апдайк сравнивает нейтрино с пылью. Но частицы пыли взаимодействуют друг с другом, тогда как нейтрино — снобы в высшем обществе физики высоких энергий, слишком спесивые для того, чтобы взаимодействовать с другими.
Напротив, пыль — это суровая основа мира. Она неприхотлива, как простой человек. Она фундаментальна, если не первична. Космологи, которые занимаются созданием экзотических моделей в попытке объяснить темную материю и темную энергию Вселенной — чрезвычайно необщительные сущности, не излучающие и не поглощающие ни фотона света, при этом неоправданно пренебрегают пылью — самой вездесущей, неприхотливой, космополитичной формой материи.
Это заставило меня задуматься: почему бы не написать оду пыли? Итак, чтобы восстановить репутацию пыли, превознести ее многочисленные достоинства и воздать ей должное, я сочинил стихотворение в честь этого невоспетого героя космоса.
Разумная звездная пыль
Пылинки таинства полны. Их вечно дети тащат в дом, Но вместе с мусором они Любовь и радость селят в нем. Из звездных яслей вознесясь, Встречает пыль свой смертный час, Мы ж по следам ее в пространстве Читаем книгу наших странствий. Сродни межзвездной пыль в подвале, Но там ее не ожидали. Мы — пыли плод немилосердный — С ней только боремся усердно. В пыли песочниц детский смех. И пыль в могилу нам кидают. И Библия напоминает: Мы — прах, и не минует пыль нас всех. У нас в крови ее творенья, И в кремнии, и в пироксене, Сверхновых звезд сгоревших свет, И Нобелевский комитет. Мы — пыль тех звезд. Cлова бессильны. Так будем же разумной пылью[42].Глава 16. Возвращение к видению Альфреда
Мое последнее желание состоит в том, чтобы после моей смерти мои вены были вскрыты и, после того как это будет сделано, компетентные врачи однозначно установили факт моей смерти; лишь после этого мое тело следует предать сожжению в так называемом крематории.
Последняя фраза в завещании Альфреда НобеляПредставьте, что после «тщательного обдумывания» вы составляете завещание, где скрупулезно перечисляете всех ваших родственников, близких друзей и даже слуг с точным указанием того, кто и сколько должен получить. В конце концов вы попадаете в рай и узнаете, что ваши очень конкретные, четко сформулированные распоряжения не просто игнорируются, а хуже того, искажаются вашими земными душеприказчиками. Как вы будете себя чувствовать? Очевидно, вы будете крайне возмущены. Но из рая нет пути назад. Что вы можете сделать?
Мы начали эту историю с призрака смерти. Именно смерть троих из семерых братьев и сестер Альфреда Нобеля в младенческом возрасте дала рождение странному ритуалу награждения, который вот уже более 100 лет проходит в день кончины самого Нобеля в столице Швеции. Мало кто знает, что завещание Нобеля завершалось весьма жуткой просьбой, которая являлась следствием его тафофобии — страха быть похороненным заживо. Эту иррациональную, неконтролируемую фобию он унаследовал от отца{1}. Вскрытие вен, о котором он просил, было необходимо не только для того, чтобы установить причину смерти, но и, что гораздо важнее, не дать погрести его живым. И Альфред не только избежал прижизненного погребения, но и стал бессмертным. Едва ли он мог себе такое представить.
Нобелевская премия, пожалуй, не просто самая престижная награда в науке. Она предназначена вознаграждать достижения в естественных науках, свободных от идеологических и иных веяний. Когда «все делается правильно», это действительно превосходная система меритократического вознаграждения, вдохновляющая всех — ученых и людей, далеких от мира науки, молодых и старых. Присвоение Нобелевской премии приносит мгновенную славу. О победителях говорят почти на каждом углу по крайней мере в течение недели. Лауреаты премии по физике навечно входят в Зал славы мировой науки. На самом деле некоторые нобелевские лауреаты приобретают статус полубогов.
Но, хотя Альфред Нобель был дальновидным человеком, вряд ли он мог предвидеть, что со временем премия его имени изменится буквально до неузнаваемости. Сегодня Нобелевская премия как механизм вознаграждения препятствует сотрудничеству, превозносит авторитеты и порождает ожесточенную конкуренцию, поощряя борьбу за первенство, жадность и другие низменные инстинкты. Я считаю, что причина этого кроется в трех «разбитых линзах» Нобелевской премии, которые искажают подлинное ви́дение Нобеля. В этой главе я хочу упомянуть об еще одном серьезном дефекте зрения нобелевского института — его близоруком фокусе на открытиях, сделанных мужчинами-физиками.
Женщины и Нобелевская премия по физике
Не имея своих детей, Нобель проявил щедрость по отношению к детям своих братьев, особенно к мальчикам, которые унаследовали в два раза больше, чем племянницы{2}. Несмотря на такую внутрисемейную дискриминацию, Нобель никогда не говорил о том, что его премия не должна присуждаться женщинам. Между тем создается впечатление, будто он завещал именно это.
Количество лауреатов Нобелевской премии по физике (207) сопоставимо с числом римских пап в Ватикане (266). Женщин-лауреатов среди них ровно на две больше, чем женщин-пап. Даже легендарную Марию Кюри наградили с огромной неохотой после негодующих протестов члена Нобелевского комитета, шведского математика Магнуса Миттаг-Леффлера, и знаменитого супруга Марии — Пьера Кюри. После этого на 60 лет наступила мужская монополия, пока Мария Гёпперт-Майер из Калифорнийского университета в Сан-Диего не стала второй и последней на сегодняшний день женщиной, награжденной Нобелевской премией по физике. Но даже эта награда была окрашена мужским шовинизмом: местная газета Сан-Диего сообщила о победе Гёпперт-Майер под заголовком: «Домохозяйка из Сан-Диего получает Нобелевскую премию»{3}.
В настоящее время доля женщин-ученых на физических факультетах в ведущих исследовательских институтах США не превышает 20 %. Однако даже эта доля в 20 раз превышает долю женщин — лауреатов Нобелевской премии по физике. Во всех остальных областях, включая относительно новую нобелевскую номинацию по экономике, где на одну женщину-лауреата приходится 75 мужчин, женщины имеют более высокое представительство. Возникает серьезный вопрос: как отсутствие гендерного равенства в физике влияет на выбор профессии молодыми женщинами? Даже мужчины-лауреаты, такие как Брайан Шмидт, высказываются против подобной дискриминации женщин{4}.
Нехватка женщин-физиков плохо влияет и на мужчин. В 2017 году опрос, в котором принял участие 121 британский и американский физик, показал, что, по общему мнению, женщины-ученые ведут себя более этично, чем их коллеги-мужчины: «Жесткая конкуренция в науке способствует этически сомнительному поведению, такому как искушение оказывать давление на студентов, сокращать сроки научных исследований или преждевременно публиковать результаты, — все это в попытке опередить конкурентов»{5}. То же исследование показало, что женщины менее подвержены негативному влиянию конкуренции, чем их коллеги-мужчины. Это и другие подобные исследования только подтверждают мое утверждение о том, что конкуренция вредит науке.
Хотя я горжусь тем, что был наставником нескольких выдающихся аспиранток (все они получили престижные стипендии и защитили диссертации по физике), едва ли я могу изменить общую ситуацию. Отсутствие гендерного равенства среди нобелевских лауреатов по физике посылает четкий негативный сигнал молодым женщинам, отвращая их от профессии. В результате создается порочный круг: девушки не стремятся утвердиться на поприще физических наук, получается эффект Матфея[43] наоборот. Женщины также имеют несоизмеримо меньше шансов воспользоваться еще одним феноменом: «средний возраст получения Нобелевской премии для ученых, которые в молодые годы сотрудничали с нобелевским лауреатом, составляет около 44 лет, что на 9 лет меньше, чем для тех, кому не так посчастливилось»{6}. Пожалуй, наиболее вопиющий пример — история Джоселин Белл, гениальной аспирантки Энтони Хьюиша. Она внесла ключевой вклад в «пионерские исследования в области радиофизики», за которые в 1974 году Хьюиш был награжден Нобелевской премией. Белл не только, по мнению многих, была несправедливо лишена заслуженной ею доли премии, но и не получила бонус в виде «лауреат-порождает-лауреата»{7}. (Опять же нет официальных правил, мешающих наградить Белл сегодня; существуют только произвольные прецеденты, когда это не делалось из опасения, что прошлые действия Нобелевского комитета вызовут негодование.)
Еще один способ решить проблему — перейти от персональных Нобелевских премий по физике к групповым. Это в какой-то мере избавит ученых от необходимости заявлять свои права в ущерб другим, а также облегчит путь к завоеванию научного авторитета для таких недостаточно представленных групп, как женщины и другие меньшинства, которые в настоящее время чувствуют себя аутсайдерами.
Октябрьский сюрприз
Все восемь месяцев после отправки своего списка номинантов на премию 2016 года я жил в волнующем ожидании. Для физиков объявление лауреатов Нобелевской премии подобно подсчету голосов на президентских выборах и воскресенье Суперкубка одновременно. У нас на факультете воздух буквально искрился от напряжения. Я втайне надеялся насладиться отблеском славы, если победят мои номинанты.
Победители были объявлены в 2:45 утра по Тихоокеанскому времени: Нобелевская премия по физике 2016 года была присуждена Майклу Костерлицу, Дэвиду Таулессу и Дункану Холдейну «за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи». Ни один из них не был моим номинантом. Безусловно, я был безмерно рад за них. Костерлиц был моим преподавателем в Университете Брауна, а Дункан Холдейн — профессором в Калифорнийском университете в Сан-Диего в тот период, когда занимался исследованиями, которые привели к Нобелевской премии.
СМИ сетовали по поводу сложности их открытий. Было забавно наблюдать, как они пытаются описать проблемы топологии на примере горячего кофе и пончиков. Это была хорошая награда за серендипное теоретическое открытие для его трех главных участников. Отличная новость.
Но я бы солгал, сказав, что не был немного разочарован. Теперь моим номинантам придется подождать как минимум лет пять, поскольку Нобелевский комитет старается чередовать награждения в разных областях физики. Такого почти не бывало, чтобы премия присуждалась в одной и той же области больше двух раз за любой десятилетний период. Хотя подобной оговорки в Уставе Нобелевского фонда нет, эта тенденция очевидна, если посмотреть на список лауреатов по физике за последние несколько десятилетий. И это еще одно произвольное отступление от воли Альфреда Нобеля, который завещал вознаграждать «тех, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству», неважно, в какой именно области.
Таким образом, мои номинанты в области астрофизики, чьи имена я не буду называть по ряду причин, скорее всего, не могли рассчитывать на Нобелевскую премию еще пять — десять лет. По моим прикидкам, неизбежными кандидатами на премию 2017 года становились исследователи из проекта LIGO, и так оно и вышло.
Но Аарон сказал: «Да не возгорается гнев господина моего; ты знаешь этот народ, что он буйный». Они сказали мне: «Сделай нам бога, который шел бы перед нами…» И я сказал им: «У кого есть золото, снимите с себя». И отдали мне; я бросил его в огонь, и вышел этот телец.
Исход 32:22История о «Золотом тельце» в Ветхом Завете всегда вызывала у меня больше всего вопросов. Как мог израильский народ сотворить себе ложного золотого бога всего через несколько недель после того, как на его глазах настоящий Бог обрушил на Египет десять ужасающих казней?
И даже после того, как перед ними расступились воды Красного моря, израильтяне не прислушались к призыву Главного Чудотворца: не сотвори себе кумира. А это, на минутку, вторая заповедь! Вся эта история была абсолютно нелогичной и заставила меня усомниться в мудрости Священной книги. Если Библия основана на фактах, почему описание в ней человеческой природы настолько далеко от реальности? Кто будет поклоняться золотому богу, которого сам же и сотворил? Что ж, думал я, наверное, все написанное в Библии безнадежно устарело и не имеет никакого отношения к современному миру, тем более миру науки.
И вот 11 мая 2017 года я стал свидетелем того, как одни из самых умных, светских и рационально мыслящих представителей человеческого общества поклоняются золотому тельцу. В тот четверг в Калифорнийский университет в Сан-Диего приехал Дункан Холдейн, чтобы выступить с лекцией, и привез свою золотую нобелевскую медаль. Вокруг него мгновенно собралась толпа физиков всех возрастов, от самых молодых до убеленных сединами. Расталкивая друг друга локтями, они старались подобраться к золотому идолу поближе. Конечно, никто не падал перед ним ниц, но некоторые его целовали. Некоторые даже пытались улизнуть с медалью. Хотя мне стыдно в этом признаваться, я тоже был в этой толпе идолопоклонников и стал одним из немногих счастливчиков, которым удалось сфотографироваться вместе с наградой. На протяжении целого года я писал книгу о том, как этот могущественный идол искажает истинную божественную сущность науки, и вот теперь я с трепетом держал в руках золотую медаль со знаменитым профилем на лицевой стороне.
Возможно, сегодня нам удается следовать заповедям в духе «не желай осла ближнего твоего», а вот поклонение идолам слишком глубоко укоренено в человеческой природе, но человеческая природа мало изменилась за последние несколько тысячелетий. Побывав в двух шагах от Нобелевской премии, я в полной мере осознал, как недалеко ушел современный человек от поклонников Ваала прошлых эпох. Перед кем же благоговеют современные физики? Нет, конечно, в наши дни это не статуя Ваала. Но есть Нобель.
Я начал обращать внимание на сходства между светской религией под названием «нобелизм» и другими монотеистическими религиями. Патриарх нобелизма, Альфред, был сыном своенравного, подчас тиранического отца. В юном возрасте он был отправлен отцом учиться в Европу и обосновался в Париже, где сумел добиться успеха. Но его изгнали из земли обетованной. Уже в конце жизни, несмотря на стремительно ухудшающееся здоровье, Альфред вернулся в любимый Париж, чтобы написать вошедшее в вечность завещание с катехизисом о «наибольшей пользе человечеству». Нобелизм имеет своих святых (лауреатов), свое высшее духовенство (Нобелевский комитет), два церковных праздника — День откровения (в начале октября) и День коронования с праздничной трапезой (10 декабря) — и, разумеется, гравированные позолоченные образы.
Есть и еще одна важная параллель между нобелизмом и религией: обращение в веру. Если вам доводилось сталкиваться со свидетелями Иеговы, вы знаете, насколько несгибаемой бывает вера. Религия привносит в жизнь человека смысл и порядок, поднимает его на более высокий нравственный уровень. Религия придает авторитет, статус, которые следует постоянно культивировать и поддерживать.
Когда я писал эту книгу, некоторые ученые умоляли меня прекратить вероотступничество. Мне говорили, что мои рекомендации подорвут, если не уничтожат, престиж Нобелевской премии и уж определенно лишат ее части блеска, которым я тоже был ослеплен: чего скрывать, я разработал эксперимент BICEP, движимый не в последнюю очередь мечтой о нобелевской славе. Но подобные опасения напрасны, поскольку цель моей иеремиады совсем в ином. Я не стремлюсь пригвоздить Нобелевскую премию к позорному столбу, я хочу вдохнуть в нее новую жизнь, пусть даже путем реформации. С этой целью я спросил себя: «Если бы Альфред воскрес, что бы он изменил в своем завещании?»
Оказалось, что изменений требуется немало. К счастью, все они имели прецедент.
Минимизация налогов на наследство
Если бы Альфред Нобель вернулся, он был бы шокирован тем, как далеко мы отошли от его мечты о более мирном и справедливом мире, созданию которого должна была способствовать его премия. За первые 100 лет своего существования Нобелевская премия мира не раз присуждалась разжигателям войны и откровенным террористам; премия по экономике, которую Альфред никогда не учреждал, превратилась в крайне политизированный институт{8}; премия по литературе была присуждена популярному музыканту; а премии по химии — чем Нобель, сам химик, вероятно, был бы возмущен более всего — давали биологам. Что бы сказал Альфред о таком исполнении своей последней воли душеприказчиками Нобелевского фонда?
Изучив самое знаменитое завещание в истории с точки зрения распоряжения наследством, можно, вероятно счесть, что во многих отношениях Нобелевский фонд преуспел. Конечно, он значительно приумножил завещанный капитал, обеспечивая стабильное увеличение суммы премий из года в год. Сегодня престиж премии находится на рекордно высоком уровне. Прямую онлайн-трансляцию церемонии награждения смотрят миллионы людей по всему миру.
Но для того ли Альфред предназначал свой посмертный дар? Мотивационная сила премий подтверждалась многократно, этот эффект практически очевиден. Специалист по истории Нобелевской премии Бертон Фельдман считает, что начало XX столетия было исключительно благоприятным временем для учреждения научной премии, когда «начало эпохи современной науки, становившейся все более недоступной пониманию широкой публики, совпало со стремительным ростом и расширением влияния средств массовой информации»{9}. Завещая распределять доходы от своего капитала между лучшими учеными, врачами, активистами и писателями, Альфред Нобель ставил целью привлечь внимание к науке, а не превратить ученых в миллионеров или знаменитостей.
Однако, если копнуть глубже, можно обнаружить, что премия редко, если вообще когда-либо, строго соответствовала фактическим условиям завещания. Более того, за последнее столетие в нее был внесен целый ряд изменений, три из которых я считаю наиболее важными с точки зрения предлагаемой мной реформации.
Первая модификация была предпринята спустя всего полтора десятилетия после учреждения премии, когда число лауреатов в год стали ограничивать тремя. Согласно завещанию, лишь один человек мог получать премию, и на первый взгляд Нобелевский фонд совершал благодеяние, решая наградить троих ученых. Однако, как указывает Элизабет Кроуфорд, первоначальный устав Нобелевского фонда, действовавший в 1901–1915 годах, допускал несколько победителей (как по сей день присуждается премия мира), не ограничивая число лауреатов одним, двумя или тремя{10}.
Второе и, как ни странно, вызвавшее больше всего споров изменение было внесено в 1968 году, когда была вручена первая нобелевская награда по экономическим наукам. Позже ее переименовали в Премию Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Почему? Потому что она превратилась в «PR-инструмент, который экономисты использовали для саморекламы», считает Питер Нобель, внучатый племянник Альфреда{11}. Тем не менее эту премию по-прежнему ошибочно называют Нобелевской премией по экономике, а ее лауреатов обожествляют точно так же, как и лауреатов пяти оригинальных Нобелевских премий.
Третье существенное изменение было внесено в 1974 году, когда Нобелевский комитет запретил посмертное присуждение премий.
Почему одни правила Нобелевской премии меняются, а другие остаются неизменными? Почему к наградам в разных областях применяются разные правила? Понятно, что всем этим занимаются люди, а мы субъективны по своей природе. Лауреатов выбирают не с помощью специальных сложных алгоритмов, позволяющих оценить вклад каждого ученого на основе некоего комплексного набора метрик. Такого стопроцентно объективного механизма не существует.
В своей книге «Политика превосходства» (The Politics of Excellence) Роберт Фридман изобразил Нобелевский комитет как своенравных заговорщиков, которые используют этот институт «ради продвижения самих себя и идей, в которые они верят». Мы с моими коллегами относимся к нему более уважительно: почти все физики, с кем я разговаривал, согласны с тем, что большинство лауреатов заслуживают своей награды. Все прекрасно, когда Комитет поступает правильно. Но невыносимо видеть, когда Комитет принимает предвзятые решения или придерживается произвольных ограничений, больше заботясь о том, чтобы соблюсти букву закона (своего, а не Альфреда Нобеля), но не дух знаменитого завещания. Никогда прежде столь малая группа людей не оказывала такого колоссального влияния на восприятие науки человечеством. Но такая власть означает и огромные этические обязательства.
Нобелевская реформация
Последний раз существенные изменения в Уставе Нобелевского фонда осуществлялись почти 50 лет назад. Даже в Конституцию США время от времени вносятся поправки, чтобы согласовать намерения отцов-основателей с реалиями современного мира. Будучи при жизни визионером, Альфред Нобель, несомненно, одобрил бы, что его завещание остается «живым» документом, который обновляется вместе с прогрессом самой науки, чтобы продолжать и дальше оказывать благотворное влияние на человечество.
То, что созданная в XIX веке премия по-прежнему бьет рекорды популярности в XXI веке, свидетельствует о ее притягательности для ученых и даже далеких от науки людей. В первые годы своего существования премия страдала и от национализма, и откровенного расизма и сексизма. С тех пор многое изменилось к лучшему. Но, чтобы оставаться такой же актуальной для современной науки, премия требует серьезной реформации.
Многих ученых приводит в уныние громоздкость процедур, связанных с Нобелевской премией. Учитывая, сколько усилий надо вложить за очень отдаленную и смутную перспективу, трудно винить молодых ученых за их пессимизм. Как мы уже знаем, даже некоторые состоявшиеся лауреаты считают, что их победа вряд ли была бы возможна в сегодняшнем климате. Молодые ученые, которые, на мой взгляд, больше всего должны стремиться к этой награде, разочарованы отсутствием разнообразия среди победителей, говоря, что премия перестала отражать широкую панораму современного научного мира. Некоторые даже призывают бойкотировать премию, которая игнорирует всеобъемлющий и коллективный характер современной науки{12}.
Вместо бойкота я предлагаю реформу. В духе основателя лютеранства Мартина Лютера я представляю вниманию Нобелевского комитета пять тезисов (на 90 меньше, чем у Лютера) в надежде запустить процесс Реформации Церкви Альфреда Нобеля.
1. Добавить премии в новых, динамично развивающихся научных дисциплинах. Это не уменьшит конкуренцию как таковую, но распространит поддержку на более обширные научные области, в том числе междисциплинарные. Когда в 1968 году была учреждена премия по экономике, это никоим образом не уменьшило влияния Нобелевской премии по физике или химии. Не случится этого и сейчас, если добавить такие новые дисциплины, как искусственный интеллект, количественная биология или даже просто биология! Как говорит физик Джим Аль-Халили, «почему бы не награждать лучшие исследования независимо от того, к какой области науки они относятся? В этой идее нет ничего нового, физики и биологи давно плодотворно сотрудничают. Разве сотрудничество Крика (физика) и Уотсона (биолога) не говорят об этом?»{13} Повышение внимания к науке — вкупе с увеличением ее финансирования — сегодня больше, чем когда-либо, принесет пользу человечеству.
2. Присуждать премии по физике группам любого размера. Не вознаграждать большинство сотрудников крупных коллабораций — неправильно, несправедливо и деморализующе. Возвращение групповых премий устранило бы искусственные ограничения, которыми Комитет сам себя связал, и подстегнуло бы масштабные совместные проекты, которые являются неотъемлемой частью современной науки.
3. Присуждать ретроспективные премии. Вместо того чтобы делать вид, что предыдущие комитеты были непогрешимы, следует исправлять их ошибки. В конце концов, члены Нобелевского комитета всего лишь люди, а люди, как известно, подвержены влиянию пагубных ненаучных сил, таких как эффект авторитета, когда прошлые заслуги предопределяют будущее признание. Это нововведение также позволит Нобелевскому комитету исправить прошлые случаи проявления «эффекта Матильды» — так назвала Маргарет Россистер феномен, когда мужчинам приписывают заслуги за открытия, сделанные женщинами. История Нобелевской премии изобилует подобными примерами — от Розалинды Франклин, участвовавшей в открытии ДНК, до Лизы Мейтнер, открывшей принципы ядерного деления. К сожалению, эти выдающиеся женщины-ученые давно умерли, что подводит нас к необходимости следующей важной реформы.
4. Присуждать премии посмертно. Альфред Нобель хотел ускорить распространение полезных открытий, а не сами исследования, когда научный подход приносится в жертву стремлению уложиться в сроки. Хотя указанной в завещании оговорки о «предыдущем годе» придерживаются редко, Нобелевский комитет по физике в 1974 году ввел запрет посмертного присуждения, и к нему он относится как к священному закону — столь же неприкосновенному, как законы физики. Столь жесткое ограничение приводит к тому, что многие достойные ученые не доживают до заслуженного признания, несмотря на вынужденную поспешность в работе. Но значимые открытия в науке зачастую требуют долгих лет исследований, а потом еще их подтверждения. В результате вклад многих достойных физиков не удостаивается наград из-за их возраста или оттого, что им не посчастливилось вовремя привлечь к себе внимание Нобелевского комитета. Присуждение первой посмертной премии Вере Рубин стало бы мощным вдохновляющим стимулом для молодых ученых-физиков, особенно для женщин. Возможно, Комитету стоит начать восстанавливать справедливость с награждения Джоселин Белл Бернелл, ставшей жертвой «эффекта Матильды» в 1974 году, когда Нобелевскую премию за сделанное ею открытие пульсаров присудили ее научному руководителю Энтони Хьюишу. К счастью, Белл Бернелл жива и здорова{14}.
5. Признать, что истинные открытия серендипны. Вознаграждение в первую очередь непреднамеренных открытий — в противоположность подтверждению теоретических предсказаний — позволит стимулировать новаторские и рискованные исследования, таящие в себе потенциал настоящих прорывов в области физики.
Где есть воля, там есть и путь
Несомненно, найдутся люди, которые спишут мою критику современного нобелевского института на «эффект кислого винограда». Могут даже найтись доброжелатели, которые скажут: «Вместо того чтобы писать о проблемах Нобелевской премии, лучше бы этот парень больше занимался наукой, чтобы завоевать ее». Возможно, они правы. Но само по себе осмысление этих вопросов уже избавительно, оно открывает будущие горизонты экспериментальной космологии за рамками нобелевского агностицизма, космологии, свободной от стокгольмского синдрома, сколь бы безобидным он ни казался. Наука — вот главная награда за все труды, и награда поистине Божественная.
Эпилог. Духовное завещание
Вчера скончался д-р Альфред Нобель, который разбогател благодаря открытию способа беспрецедентно быстро убивать людей.
Из некролога Людвигу Нобелю, ошибочно приписанного Альфреду НобелюПотрясение, которое испытал Альфред Нобель при чтении собственного фальшивого некролога, не только переломило к лучшему его собственную судьбу, но и стало настоящим подарком для будущих поколений. Это был такой же дар судьбы, какой получил 40 годами ранее Эбенезер Скрудж, герой повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь» (1843): столкновение со смертью привело его к перерождению. Альфред умер бездетным, оставив единственного наследника — именную премию. Приз обессмертил имя Нобеля, неразрывно связав его с наукой, литературой и стремлением к миру, сделав фактически синонимом тех титанических достижений, которые отмечает эта награда. Призыв перековать мечи на орала. Один человек. Одно ви́дение. Вечность.
Соприкоснувшись с Нобелевской премией, я осознал, что завещание Альфреда было тем, что на иврите называется цаваат — «духовное завещание». Духовные завещания оставляли известные личности, обычные люди и сам Иисус{1}.
Духовное завещание — это отчасти автобиография, отчасти послание потомкам. В отличие от обычного завещания, содержащего распоряжения об имуществе, духовное завещание передает наследникам, биологическим и идеологическим, бесценный капитал в виде накопленной мудрости. Часто бенефициаром духовного завещания является и сам автор — еще одно разительное отличие от обычного завещания. Работая над посланием потомкам, автор может осмыслить собственную жизнь. Это заставило меня задуматься: а каким может быть мое духовное завещание? Какой капитал мудрости я могу оставить своим потомкам? Какие нравственные ценности и ориентиры? Как ученый я начал с изучения первоисточника, а именно первого в истории духовного завещания, содержащегося в Талмуде в трактате под названием «Поучения отцов». Оказалось, что этот трактат был к тому же манифестом подготовки ученых.
Моше получил Закон на Синае и передал его Йеошуа, Йеошуа — Старейшинам, Старейшины — Пророкам, а Пророки передали его Мужам Великого собрания. Последние дали три указания: «Когда судите — проявляйте умеренность; увеличивайте число учеников; создавайте ограду вокруг Закона»{2}.
Примечательно, что это древнее «родословное дерево» имеет всего пять колен; моя же академическая генеалогия (рис. 62) насчитывает целых 17 колен и восходит к началу 1600-х годов, когда у моего самого раннего академического предшественника появился первый ученик — примерно в то же время, когда Галилео Галилей направил в ночное небо над Падуей свою зрительную трубу.
Совет мудрецов об умеренности суждений практичен: ведь и тебя тогда не будут судить поспешно. С тем, что учитель должен иметь много учеников, я тоже был согласен. Это напомнило мне первый урок Александра Полнарева об этимологии слова «ученый». В русском языке слово «ученый» означает «тот, кого учили» — серьезная ответственность. Но мы, интеллектуалы, должны не просто преподносить факты студентам — мы должны быть достойными их доверия, иными словами, его надо заработать.
Но что имели в виду мудрецы под фразой «создавать ограду вокруг Закона»? В конце концов меня осенило. Ограды строятся для защиты; одни ограды предназначены для того, чтобы не допустить что-то извне; но другие, гораздо более важные, — чтобы сохранить то ценное, что находится внутри. И обычное завещание, и духовное завещание — это ограды для защиты нашего богатства. Но кто из нас может сказать, что он действительно чем-то владеет в этом мире? Мы всего лишь «временные управляющие» нашим земным имуществом. Как только мы умираем, мы уже не можем повлиять на то, как обращаются с ним потомки — бережно хранят или пускают по ветру. Точно так же и наука не принадлежит нам, ученым, — она принадлежит человечеству. Мы, ученые, должны сохранять вверенное нашему попечению богатство знаний, приумножать его и передавать будущим поколениям, чтобы эта цепочка никогда не прерывалась.
Чаевые от Альберта Эйнштейна
Рассказывают, что, когда Альберт Эйнштейн узнал в 1922 году о присуждении ему Нобелевской премии по физике, он находился в Японии и оказался без наличной валюты. Пообедав в ресторане, Эйнштейн обнаружил, что ему нечем дать чаевые. Тогда он написал короткую записку и отдал ее официанту со словами, что она дороже всякой мелочи в его карманах и принесет тому удачу. Записка гласила: «Тихая и скромная жизнь приносит больше радости, чем стремление к успеху и постоянные волнения». В 2017 году она была продана на аукционе за 1 560 000 долларов, что превышает нынешний размер Нобелевской премии{3}.
В этой записке Эйнштейн, считающийся отцом современной физики, выразил квинтэссенцию духовной мудрости, которую я считаю идеальным наследием, чтобы оставить своим ученикам.
* * *
Вам, мои научные дети, после тщательного обдумывания я хочу завещать мудрость, дарующую свободу реализовывать свои научные мечты без жажды наград и почестей. В наградах и почестях нет ничего плохого, если стремление к ним не выливается в бесконечную погоню за успехом, которую осуждал Эйнштейн и которая, как я знаю на собственном горьком опыте, может стать всепоглощающей и деструктивной.
Будьте скромными. Мы, ученые, испытываем груз ответственности: мы хотим всё знать, иметь ответы на все вопросы. Но мы не должны превращаться в ходячие «Википедии». Мы многого не знаем, но быть ученым — подлинная награда. Успех не в том, чтобы знать ответы. Главное — иметь вопросы.
Скорбь, возмужание и меланхолия[44]
Зигмунд Фрейд писал, что «мужчина становится мужчиной только после смерти отца». Если следовать его определению, я стал мужчиной 10 июня 2006 года. Это была суббота, Шаббат. Я провел тот день в больнице, скорчившись в форме буквы W на двух стульях в палате моего отца. Весьма необычный способ соблюдения Шаббата.
Шаббат стал для меня единственным источником мира в душе, с тех пор как шесть месяцев назад, находясь на Южном полюсе, я узнал об ужасном диагнозе своего отца. Шаббат давал мне возможность отвлекаться и испытывать духовные и физические радости. Как говорил раввин Абрам Иешуа Хешель: «Значение Шаббата в том и состоит, чтобы отмечать время, а не пространство… [в этот день] мы стремимся приобщиться к святости времени… ощутить саму вечность, переключить внимание с результатов Творения на само таинство Творения, покинуть сотворенный мир и перейти в процесс его сотворения».
Если и существует какое-либо предписание Шаббата, идеально подходящее для космологов, так это оно. Очевидно, что запрет на использование технологий никому не придется по вкусу. Точно так же для многих психологически неприемлемо соблюдение четвертой заповеди, в том числе для большинства моих боговдохновенных светских коллег.
Но для меня тот Шаббат начался предыдущей ночью. Мы с моим братом Кевином дежурили в больнице Седарс-Синай, где наш отец умирал от рака. Он только что перенес последнюю из череды неудачных операций, и, чтобы облегчить агонию, врачи ввели его в искусственную кому. Он был без сознания, но, как бы ненаучно это ни звучало, мне казалось, что он чувствовал мое присутствие.
Сидя у кровати отца, я размышлял над тем, что некоторые люди соблюдают Шаббат с его предписанием воздерживаться от работы формально — ленятся или прибегают к алкоголю, — а не духовно. Подчас люди вообще стараются идти по жизни легко, не привязываясь ни к традициям, ни к людям, ни к чему-либо еще, поскольку привязанность всегда вызывает неизбежную боль.
Но потом я улыбнулся. «Папа, — сказал я, — сегодня ты соблюдаешь четвертую заповедь добросовестно, как никогда». Впервые в жизни он не отреагировал на мою шутку. Этот самый веселый, самый умный, самый сложный человек, которого я когда-либо знал, молчал, побежденный невидимым врагом. Я говорил с ним несколько часов, словно он мог меня слышать. Я был уверен, что он меня слышит. К вечеру его дыхание стало слабее, эфемернее. Было очевидно, что он уходит.
Однажды он сказал мне, что не присутствовал при моем появлении на свет. В тот день, в июне 2006 года, мне было 34 года — столько же, сколько ему, когда родился я. Мы были невероятно похожи: оба были околдованы магией науки, оба испытывали отвращение к власти. Оба были брошены отцами и не общались с ними много лет — в полном противоречии с предписаниями «Поучения отцов». Но теперь я решил разорвать этот порочный цикл. Что нас разделяло сейчас, так это мое убеждение в том, что я обязан находиться рядом с ним просто потому, что так было предписано.
Я не должен был его любить (хотя любил). Я не должен был уважать все его жизненные решения (и я не уважал). Но я должен был почитать его. Это был мой путь. Какие бы несправедливые поступки он ни совершал в прошлом, — он пропустил все мои вручения дипломов, не учил меня водить машину, не подставлял плечо, чтобы я мог выплакаться, — ничто из этого не имело значения. Обиды отступили со скоростью света. Пусть я не мог забыть, но я мог простить. Это все, что я мог ему дать.
Мы с Кевином по очереди дежурили у его постели. Около полуночи я вышел из его палаты и разрыдался. Слишком много всего случилось за последние месяцы, от самого невероятного приключения в моей жизни на Южном полюсе до мучительных моментов, когда мне довелось увидеть последние минуты жизни моего отца; все четыре сезона жизни преследовали меня так же безжалостно, как само время.
Через несколько часов я решил поехать домой к моей матери в западной части Лос-Анджелеса, чтобы немного поспать. Было неизвестно, сколько еще отец сможет продержаться в таком состоянии. Только сейчас на меня навалилась вся тяжесть случившегося. Как не существует инструкций, как воспитывать детей или быть хорошим наставником, так нет и никакого учебника о том, как пережить смерть родителя.
Едва я добрался до дома матери, как позвонил Кевин. Дыхание отца становилось все более затрудненным. Я бросился обратно в больницу. Мчась по пустынному бульвару Санта-Моники на старомодном отцовском «порше» цвета металлик, я не мог сдержать улыбку. Я вспомнил, как несколько лет назад, покупая эту машину, отец заявил, что это «часть его кризиса конца жизни».
Я мчался на восток, словно притягиваемый мощной гравитацией. Мне нужно было успеть к нему, пока он не ушел. Но я опоздал. Он пропустил мой приход в этот мир, я пропустил его уход. Много лет я задавался вопросом, что за человек он был, почему сделал то, что сделал, но в конце концов все эти вопросы потеряли смысл. Ни один ответ не мог бы меня удовлетворить.
Мне было 34 года, и я снова остался без отца, как почти 30 лет назад, когда он ушел в первый раз. Но на этот раз он сделал это не по своей воле. И на этот раз я не был зол на него. Мне было больно. Мучительно больно.
Мой отец умер раньше срока, не успев написать свое духовное завещание. К счастью, я провел вместе с ним самые драгоценные, невозвратимые моменты. Почитая его, я получил величайший дар из всех возможных. Кто знает, добавил ли я дней к своей жизни на земле, как обещает пятая заповедь. Но я добавил жизни в свои дни, и это было самое большое вознаграждение.
Жизнь можно понять, только оглянувшись назад, но прожить ее нужно, глядя вперед.
Сёрен КьеркегорМы, астрономы, — главные «мусорщики» в мире науки, вынужденные довольствоваться теми скромными подаяниями, что дает нам Вселенная: несколько фотонов здесь, космический луч там. Изредка Вселенная расщедривается на уникальный метеорит или гравитационную волну, дразня нас и разжигая наш аппетит. Но в астрономии есть одно преимущество перед всеми остальными отраслями науки: у нас есть настоящие машины времени — наши телескопы. Когда я превратился из любителя в профессионального астронома, то с удивлением обнаружил, что мое любопытство растет пропорционально разрешающей способности моих телескопов. Ставки тоже росли.
Несмотря на то что BICEP2 показал нам скорее мираж, чем следы Мультивселенной, для меня он раскрыл гораздо больше тайн на Земле, чем я мог ожидать. Оглядываясь сегодня в прошлое, я поражен тем, как много увидел благодаря этому телескопу. Я побывал на краю света. Я нашел, а затем потерял двух отцов — своего настоящего отца и человека, которого считал своим научным отцом. Я был нанят, уволен и нанят снова. Я встретил любовь своей жизни и стал отцом трех чудесных созданий. Мне почти удалось завладеть золотым идолом, но он ускользнул из моих рук. BICEP2 изменил меня; я стал еще более страстным мусорщиком, чем прежде. В конце концов космический пролог остался закрытой книгой, которую нам еще предстоит прочитать, при условии, что мы сумеем заглянуть под ее пылевую суперобложку.
* * *
Как-то вечером, пару месяцев назад, я вывел своих детей во двор, прихватив небольшой телескоп, похожий на тот, что был у меня в детстве. Мы вместе смотрели на звезды, на Луну и Юпитер — это были те же самые завораживающие виды, которые много лет назад заставили меня навсегда влюбиться в космос. Увлекшись, мы забыли про время. Но вскоре пришла пора возвращаться на Землю и ложиться спать. В постели они продолжали увлеченно спорить, какая из увиденных ими звезд ярче, красивее и лучше остальных. В ответ я спел им старинную астрономическую колыбельную: «Мерцай, мерцай, маленькая звездочка, расскажи мне, кто ты такая…»
Когда они заснули, я вышел во двор и снова прильнул глазом к окуляру телескопа. Глядя на ночное небо, я снова стал ребенком — маленьким мальчиком под пологом молчаливых звезд. Телескоп снова стал моей машиной времени, позволившей заглянуть в прошлое. Меня охватили эмоции. Я нашел способ продлить свои дни на земле — наполнить их смыслом. Все мои детские тревоги исчезли. Вместо них родилась новая реальность: загадочный смысл жизни, преломленный и многократно увеличенный линзами благоговейного восхищения и неутолимого любопытства. Все это случилось за долю секунды.
Вокруг меня развернулся бесконечный космос.
Время текло своим чередом.
Но все это наконец-то обрело смысл.
Мне просто нужно было оглянуться назад.
Благодарности
Эту книгу меня вдохновили написать мои коллеги всех возрастов. Особая благодарность за поддержку тем молодым людям, которых, по статусу, должен был бы поддерживать я. Как сказал великий Рабби Ханина 2000 лет назад, «многому научился я у моих учителей, еще большему — у моих товарищей, но больше всего — у моих учеников». Итак, мои дорогие бывшие постдоки Эван Бирман, Натан Миллер, Стефани Мойерман, Дарси Бэррон, Джонатан Кауфман, Фредерик Мацуда, Дейв Беттгер, Чань Фен, Правин Сиританасак и особенно мои нынешние аспиранты Логан Хоуи, Линдси Лоури, Марти Навароли, Дэвид Леон и Такер Эллефлот, я в огромном долгу перед вами. Спасибо вам за то, что вы терпели своего порой отсутствующего наставника, занятого написанием книги о том, как быть хорошим наставником.
Эта книга обязана своим существованием моему сводному брату Стефону Александеру. Мы так же близки, как и 25 лет назад, когда были студентами Университета Брауна и до глубокой ночи засиживались за интеллектуальными разговорами, обсуждая научные идеи и наши нобелевские надежды. И тогда и сейчас мудрость и поддержка Стефона — луч света для меня. Спасибо за твою веру в то, что моя история достойна того, чтобы ее рассказать.
Трое моих лучших друзей, мои братья Кевин, Ник и Шая, мы многое пережили вместе, и наши братские узы никогда не разорвутся. Как говорится, братьев не выбирают; но, если бы мне дали выбор, я бы выбрал именно вас. Я люблю вас больше, чем вы можете себе представить.
Шон Кэрролл, Сара Липпинкотт, Макс и Джон Брокманы и Брюс Либерман помогали мне с самого начала и до конца этого непростого путешествия. Искреннее спасибо Ти-Джею Келлехеру за то, что он поощрил меня рассказать «другую» научную историю, не столько триумфальный нарратив, сколько автобиографический рассказ о том, что на самом деле происходит в науке.
Лиз Круэси была астрономическим ангелом, находила прорехи в моем повествовании и помогала их заштопать. Спасибо за блестящие идеи и слова ободрения в тот момент, когда я нуждался в них больше всего. Также спасибо Саре Скоулз за знакомство с Лиз, а также за ее собственную прозу, которая продолжает вдохновлять меня.
Я очень благодарен за мудрые советы, любовь и поддержку моим родным людям: Роберту и Эллисон Прайс, Джиму и Ребекке Брюэр и Дэвиду Прайсу.
Дэннис Прагер, Кам Арнольд, Эрик Эртель, Шон Леви, Йоэл Рефэли, Тодд Саловей, Роберт Делаурентис, Дебра Келлнер, Идо Бен Даян, Луциан Янковичи, Дэвид Пинн, Грег Андерсон, Энди Фридман, Рафаэль Флаугер и Рей Армантраут так щедро дарили мне свое время и дружбу, что я испытываю неловкость из-за невозможности в полной мере вознаградить их за это. Наоми и Джей Пасачофф вдохновили меня выбрать научную карьеру, когда мне было 13 лет, и продолжают вдохновлять меня сегодня, побуждая не останавливаться на достигнутом. Спасибо Гранту Тепли, Эндрю Джаффе и Роберту Калдуэллу за дотошный фактологический, логический и грамматический контроль.
Лайман Пейдж, Дэвид Спергель, Пол Стейнхардт, Хельга Краг, Мартин Рис и Роджер Пенроуз делились со мной глубокими мыслями и внесли важный вклад в эту книгу. Я благодарю вас за то, что вы потратили столько времени на меня и мои идеи. Дэвид Брин сделал все возможное, чтобы превратить меня из читателя в писателя, обращая мое внимание на всевозможные упущения в тексте, которых было множество. Не думаю, что мне удалось достичь тех высоких целей, которые он передо мной поставил. Но я старался.
Мэрилин и Джим Саймонс были ниспосланы мне свыше еще до моего рождения. Я так многим вам обязан! Вы — мои образцы для подражания, моя связь с моими корнями; для меня огромная честь быть вашим другом.
От одного только имени Аллегра Хьюстон мне становится радостно на душе. Она была моим спасителем, вовремя пришедшим мне на помощь. Она помогла сделать книгу лучше, чем я мог мечтать. Я вечно благодарен тебе за твою поддержку, проницательность и ум.
Обычно художники склонны изводить себя. Пользуясь этим, я истязал блестящего художника Шаффера Грабба, который без устали претворял в жизнь мои замыслы.
Три моих научных руководителя — Питер Тимби, Фил Любин и Алекс Полнарев — научили меня тому, что значит быть ученым и наставником. Я не считаю, что достиг тех же высот наставничества, что и они, но надеюсь, что по крайней мере показал себя достойным того времени, которые они тратили на меня десятилетиями.
Мои друзья и коллеги со времен Калтеха сыграли столь фундаментальную роль в моей жизни, что мне не хватает слов выразить всю свою благодарность, поэтому позвольте просто сказать: Марк Каменковски, Равиндер Батиа, Сунил Голвала, Йона Соломон и Кэти Денистон, я в огромном долгу перед вами. Спасибо, что вы были рядом в самые удивительные и интересные времена в моей жизни.
Никогда не думал, что у меня будет свой духовный наставник, и, вероятно, Рабби Джефф Вольгелернтер также не подозревал, что у него появится такой ученик, как я. Его мудрость, щедрость, человечность и глубокое понимание жизни вызывают у меня непреодолимое желание стать лучше.
Сьюзен Санфри, Эрин Ловетт, Стив Колка и Анна Олер — непревзойденные знатоки издательского дела, которые помогли этой книге появиться на свет.
Джед Петерсон всегда был на связи на самой важной стадии написания книги, в чем я остро нуждался. Я надеюсь, он возьмет ее почитать в местной библиотеке.
Джефф Шрив — олицетворение золотого века литературных редакторов, неутомимый профессионал, чья мудрость намного превосходит его годы. Его руководство, поддержка и редакторский вклад неоценимы. Искренняя благодарность вам от новичка, которому вы помогли не сесть на мель и остаться в здравом уме. Вы сделали эту книгу такой, какая она есть.
Говорят, одни женщины рождаются великими, другие достигают величия. Куин До — воплощение того и другого в одном лице. Я взывал к ее помощи в моменты отчаяния, когда полностью терял надежду когда-либо завершить эту книгу. Она возвращала мне веру в собственные силы и подсказывала путь — я глубоко благодарен ей за это.
Пегги Маккой, Шелдон Браун, Ханс Паар, Джона Сайдан, Эрик Виирре, Патрик Коулман, Даниэль Иден, Марк Тименс, Джордж Фуллер и Линда Клаассон из Калифорнийского университета в Сан-Диего обеспечивали меня поддержкой, помощью и советами именно в тот момент, когда они требовались мне больше всего. Вы делаете наш университет удивительным, бурлящим жизнью местом. Спасибо вам за это.
Рэй Китинг заслуживает моей отдельной благодарности за подаренную мне любовь к полетам, а также за крышу над головой и заботу на протяжении более десяти лет.
В условиях сокращающегося федерального финансирования деятельность таких агентств, как НАСА, Министерство энергетики и Национальный научный фонд, становится все более героической и жизненно важной. Их усилия имеют решающее значение для благосостояния нации и высоко ценятся научным сообществом. Мы также благодарны современным Медичи — фонду Саймонса и фонду Хейсинга — Саймонс — за возможность открыть следующую главу в истории космологических исследований.
Мои товарищи по команде BICEP2: Питер Эйд, Рэндол Айкин, Дэнис Баркатс, Стив Бентон, Эван Бирман, Колин Бишофф, Джейми Бок, Юстус Бревик, Иммануил Будер, Эрик Баллок, Синтия Чан, Даррен Доуэлл, Лайонел Дубанд, Джефф Филиппини, Стефан Флишер, Сунил Голвала, Марк Халперн, Мэтт Хасселфилд, Сергей Хильдебрандт, Джин Хилтон, Виктор Христов, Кент Ирвин, Кирит Каркаре, Сара Кернасовски, Джон Ковач, Чао-Линь Куо, Эрик Лейтч, Мартин Люкер, Пит Мейсон, Барт Неттерфилд, Хьен Нгуен, Роджер О’Брайент, Уолт Огберн, Анджиола Орландо, Клем Прайк, Карл Рейнцема, Штеффен Рихтер, Роберт Шварц, Крис Шихи, Зак Станишевски, Рашми Судивала, Юки Такахаси, Грант Тепли, Джейми Толан, Энтони Тернер, Эбби Виерегг, Чин Линь Вонг и Ки Вон Юн, вы удивительные ученые, которые замерзали на Южном полюсе, трудились в поте лица и жертвовали собой, чтобы дать жизнь BICEP2. Спасибо вам. То, что вы сделали, достойно уважения; вы можете этим гордиться. К сожалению, в этой блистательной команде не хватает выдающегося ученого, нашего наставника, коллеги и друга Эндрю Ланге, которому мы обязаны столь многим.
Мои коллеги в Simons Observatory стали замечательным новым племенем, которое вдохновляет меня. Мне остается лишь мечтать однажды подняться до того уровня страсти, блестящего интеллекта и приверженности своему делу, которые вы проявляете каждый день. Я хочу назвать вас всех по именам: Питер Эйд, Зеешан Ахмед, Симона Айола, Джеймс Агирре, Руперт Эллисон, Дэвид Алонсо, Марселло Альварес, Кам Арнольд, Джейсон Остерманн, Хумна Аван, Карло Бачигалупи, Тейлор Бейлдон, Дарси Бэррон, Ник Батталья, Ричард Батти, Эрик Бакстер, Джеймс Билл, Шон Бекман, Рэйчел Бин, Федри Бьянчини, Стивен Боада, Дик Бонд, Джулиан Боррил, Майк Браун, Сара Мари Бруно, Шон Брайан, Эрминия Калабрезе, Паоло Калиссе, Жюльен Каррон, Энтони Чаллинор, Юджи Чиноне, Сяо-Мей Шерри Чо, Стив Чой, Девин Крайтон, Джоан Кон, Карло Контальди, Уилл Коулсон, Николас Котард, Кевин Кроули, Ари Кукирман, Марк Девлин, Саймон Дикер, Джой Дидье, Мэтт Доббс, Брэдли Добер, Скотт Додельсон, Шеннон Дафф, Адри Дуйвенворд, Джо Данкли, Джон Дустако, Жоскен Эррар, Алекс ван Энгелен, Джулио Фаббиан, Рафаэль Флаугер, Стивен Фини, Симоне Ферраро, Педро Флукса, Кэти Фриз, Джозеф Фриш, Андрей Фролов, Джордж Фуллер, Бриттани Фузия, Николас Галицки, Патрисио Галлардо, Цзянсун Гао, Эрик Гавайзер, Мартина Гербино, Хосе Томас Гальвес Герси, Вера Глусевич, Нил Гекнер-Вальд, Джои Голец, Сэм Гордон, Меган Гралла, Дэн Грин, Арпи Григорян, Джон Гро, Крис Гроппи, Джон Гудмундссон, Тиймен де Хаан, Марк Халперн, Питер Харгрейв, Масая Хасегава, Макото Хаттори, Хасаси Хазуми, Шон Хендерсон, Карлос Эрвиас Каймапо, Чарли Хилл, Колин Хилл, Джин Хилтон, Мэтт Хилтон, Адам Хинкс, Гэри Хиншоу, Рене Хлозек, Ширли Хо, Шуай-Пу Хо, Донгвон Хон, Логан Хоуи, Зики Хван, Йоханнес Хубмайр, Кевин Хаффенберг, Джек Хьюз, Анна Иджас, Маргарет Якпе, Кент Ирвин, Бувнеш Джайн, Эндрю Джаффе, Дайсуке Канеко, Этан Карпел, Нобухико Катаяма, Сара Кернасовски, Рейо Кескитало. Теодор Киснер, Джефф Клейн, Кенда Ноулз, Брайан Купман, Артур Косовски, Николетта Крахмальникофф, Стивен Куэнстнер, Чао-Линь Куо, Акито Кусака, Джефф Ван Ланен, Адриан Ли, Дэвид Леон, Даниэль Леонар, Джейсон Люн, Энтони Льюис, Якионг Ли, Мишель Лимон, Эрик Линдер, Цзя Лю, Карлос Лопес Карабалло, Тибо Луи, Линдси Лоури, Мариус Лунгу, Мат Мадавачерил, Дейзи Мак, Хамди Мани, Бен Мейтс, Фред Мацуда, Лоик Морин, Фил Маускопф, Эндрю Мэй, Крис Маккенни, Джефф Макмагон, Даниэль Меербург, Джоэл Мейерс, Эмбер Миллер, Марк Мирмельстейн, Кави Мудли, Сигурд Несс, Мартин Навароли, Лора Ньюберг, Майк Нимак, Харуки Нишони, Джек Орловски, Лайман Пейдж, Брюс Партридж, Энцо Паскаль, Жюльен Пелотон, Франческа Перротта, Лусио Пиккриллио, Роландо Планелла, Давид Полетти, Хизер Принс, Роберт Пудду, Джузеппе Пуглис, Айша Кадир, Шринивасан Рагунатан, Крис Раум, Кристиан Рейхардт, Йоэл Рефэли, Доминик Рейчерс, Фелипе Рохас, Адития Ротти, Шарон Саде, Эммануэль Шаан, Нилима Сегал, Урош Сельяк, Блейк Шервин, Меир Шимон, Джон Сиверс, Прешес Сикосана, Макс Сильва Фивер, Сара Саймон, Адриан Синклер, Правин Сиританасак, Стив Смит, Дэвид Спергель, Сьюзан Стаггс, Джордж Стейн, Джейсон Стивенс, Кристобаль Сайфон, Радек Стомпор, Рашми Судивала, Аритоки Сузуки, Осаму Тадзима, Сатору Такакура, Грант Тепли, Дэн Томас, Боб Торнтон, Хи Трак, Джоэл Уллом, Санни Ваньёзи, Ева Вавагиакис, Майкл Виссерс, Кейси Вагонер, Джон Уорд, Бен Уэстбрук, Натан Уайтхорн, Дан ван Винкль, Чжилэй Сюй, Фернандо Заго и Нинфэн Чжи.
Не идут в сравнение те усилия, которых потребовало от меня написание этой книги, и почти бесконечная любовь, забота моей обожаемой жены Сары, которая ночами вычитывала рукопись. Даже после того, как в космосе погаснут последние звезды, моя любовь к тебе будет пылать. Эта книга никогда бы не состоялась без тебя, Сара. Ты мое благословение. Ты — моя Вселенная.
Примечания
Завещание Нобеля
1. См. полный текст завещания Альфреда Нобеля: /.
2. Речи Джона Кеннеди. Выступление на съезде Объединенного фонда негритянских колледжей, Индианаполис, Индиана, 12 апреля 1959 г. Президентская библиотека и музей Джона Кеннеди: -Aids/JFK-Speeches/Indianapolis-IN_19590412.aspx.
3. Список номинаторов в области физиологии и медицины открыто публикуется каждый год. См.: Magdalena Eriksson, «A Great Prize Ages with Grace», Science and Technology Perspective 80, no. 4 (2002): 62–64. Кроме того, в отличие от других номинаций, открыто публикуется список номинантов на Нобелевскую премию мира.
4. Процесс деления ядер был открыт Лизой Мейтнер совместно с Отто Ганом и Отто Фишером, однако Нобелевская премия за это открытие (премия по химии 1948 г.) досталась только Гану.
5. Daniel Charles, Between Genius and Genocide: The Tragedy of Fritz Haber, Father of Chemical Warfare (London: Pimlico, 2006).
6. Associated Press, «Desmond Tutu, 2 other Nobel Peace Prize laureates contest 2012 winner choice of EU», Fox News, November 30, 2012, -tutu-2-other-nobelpeace-prize-laureates-contest-2012-winner-choice-eu.html
7. Valerie Richardson, «Critics mock Nobel committee for handing literature prize to Bob Dylan», Washington Times, October 13, 2016, -dylans-nobel-prize-sets-off-literature-debate/
8. Вы тоже можете приобрести такие портреты: %20Posters/copyright%20posters/Mayer-poster-delivery.pdf.
9. Несколько примеров: Peter Doherty, The Beginner’s Guide to Winning the Nobel Prize: Advice for Young Scientists (New York: Columbia University Press, 2006); David Carter, How to Win the Nobel Prize in Literature (London: Hesperus Press, 2012); Tony Goldsmith, How to Win a Nobel Prize (independently published, 2017).
10. Rebecca Hersher, «How Much Is a Nobel Prize Medal Worth?» The Two-Way: Breaking News from NPR, October 16, 2016, -way/2016/10/16/498146211/how-much-is-a-nobelprize-medal-worth.
Глава 2. Я теряю веру
1. Галилео Галилей, из письма Кристине Лотарингской, великой герцогине Тосканской, 1615 г.; см.: Discoveries and Opinions of Galileo, translated and edited by Stillman Drake (New York: Doubleday Anchor, 1957).
2. J. Ax, «Group- Theoretic Treatment of the Axioms of Quantum Mechanics», Foundations of Physics 6, no. 4 (1976): 371–99; J. Ax, «The Elementary Foundations of Spacetime», Foundations of Physics 8, no. 7–8 (1978): 507, .
3. Andrew H. Jaffe, Mark Kamionkowski, and Limin Wang, «Polarization pursuers’ guide», Physical Review D 61, 083501 (2000), .
4. Brian Keating, «A search for the large angular scale polarization of the cosmic microwave background», PhD thesis, Brown University, 2000, …….176K.
5. См. в «Википедии»: . В названии эксперимента также крылась игра слов, поскольку воздушный шар должен был вернуться в то же место на побережье Антарктиды, откуда был запущен, благодаря природному явлению, известному как циркумполярный вихрь.
6. «In Memoriam: Andrew Lange», California Institute of Technology website, .
7. A. Miller et al., «A Measurement of the Angular Power Spectrum of the CMB from l = 100 to 400», Astrophysical Journal 524 (1999): L1– L4, .
Глава 3. Краткая история машин времени
1. Mario Biagioli, Galileo’s Instruments of Credit: Telescopes, Images, Secrecy (Chicago: University of Chicago Press, 2006).
2. Поразительно, что немецкий астроном Симон Марий открыл спутники Юпитера (и задокументировал свое открытие) через день после Галилея. См.: J. M. Pasachoff, «Simon Marius’s Mundus Iovialis: 400th Anniversary in Galileo’s Shadow», Journal for the History of Astronomy 46, no. 2 (2015): 218–34, .
3. Галилео Галилей. «Звездный вестник» (Galileo Galilei, Sidereus Nuncius, Venice: Thomas Baglioni, 1610). Следы влияния астрологии на астрономию мы видим по сей день: так, в романских языках дни недели названы в честь Солнца, Луны и богов, управляющих планетами, видимыми невооруженным глазом.
4. Историк, специализирующийся на истории астрономии, Оуэн Гингрич, предположил, что Коперник мог знать о ранних гелиоцентрических идеях Аристарха Самосского. См.: O. Gingerich, «Did Copernicus Owe a Debt to Aristarchus?» Journal for the History of Astronomy 16, no. 1 (1985): 37, ….16…37G.
5. Позже Галилей предложил использовать наблюдения за затмениями спутников Юпитера как часы, позволяющие решить важнейшую в те времена проблему определения долготы на суше и, что особенно важно, на море.
6. Центральное положение Солнца было доказано благодаря открытию звездной аберрации британским астрономом Джеймсом Брэдли в 1728 г.
7. Даже невооруженным глазом, не говоря уже о наблюдении через телескоп, видно, что в туманности Ориона практически нет звезд. Некоторые ученые считают, что Галилей умышленно избегал обсуждения этой одной из самых ярких туманностей на небе, не желая подрывать собственное утверждение о том, что туманности полностью состоят из звезд. См.: Galileo Galilei, Sidereus Nuncius, or The Sidereal Messenger, translated by Albert Van Helden (Chicago: University of Chicago Press, 1989). Галилей намеренно исключил туманность меча Ориона, что очевидно, поскольку она видна невооруженным глазом. См.: Thomas G. Harrison, «The Orion Nebula: Where in History Is It?» Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society 25 (1984): 65–79, …65H. См. также: Owen Gingerich, «The Mysterious Nebulae, 1610–1924», Journal of the Royal Astronomical Society of Canada 81, no. 4 (1987): 113–27, .
8. National Science Foundation, Science and Engineering Indicators 2014, chapter 7, «Science and Technology: Public Attitudes and Understanding», 7–23, -7/chapter-7.pdf.
9. Claire Brock, The Comet Sweeper: Caroline Herschel’s Astronomical Ambition (London: Icon, 2007).
10. F. G. W. Struve, Etudes d’Astronomie Stellaire (Paris: l’Académie Impériale des Sciences, 1847). [В. Я. Струве. «Этюды звездной астрономии».]
11. Henrietta Swan Leavitt and Edward C. Pickering, «Periods of 25 Variable Stars in the Small Magellanic Cloud», Harvard College Observatory Circular 173 (1912): 1–3, ….1L.
12. Harlow Shapley and Heber D. Curtis, «The Scale of the Universe», Bulletin of the National Research Council 2, pt. 3, no. 11 (1921): 217, …2..171S.
Глава 4. Большой взрыв — большие проблемы
1. V. M. Slipher, «Nebulae», Proceedings of the American Philosophical Society 56 (1917): 403–9, .
2. Barbara Wolff, «The Nobel Prize in Physics 1921: What Happened to the Prize Money?» Albert Einstein in the World Wide Web, March 2016, -website.de/z_information/nobelprizemoney.html.
3. E. Hubble, «A Relation Between Distance and Radial Velocity among Extra-Galactic Nebulae», Proceedings of the National Academy of Sciences 15, no. 3 (1929): 168–73, …15..168H.
4. Cormac O’Raifeartaigh et al., «Einstein’s steady-state theory: an abandoned model of the cosmos», .
5. Здесь сыграли роль и другие факторы, такие как искажения, свойственные фотографическим пластинам, которые использовал Хаббл. См.: David N. Spergel, Michael Bolte, and Wendy Freedman, «The age of the universe», Proceedings of the National Academy of Sciences 94, no. 13 (1997): 6579–84, .
6. Dominique Lambert, The Atom of the Universe: The Life and Work of Georges Lemaître (Kraków: Copernicus Center Press, 2015).
7. И, для любителей термоядерного синтеза, немного бериллия и лития.
8. В 1941 г. канадский астроном Эндрю Маккеллар сделал приблизительное измерение температуры содержащих циан газовых облаков в галактике Млечный Путь и пришел к выводу, что их температура никак не может превышать 3 кельвина. Разница между 3 кельвинами, полученными Маккелларом, и 5 кельвинами, предсказанными Альфером и Германом, может показаться незначительной, но только если не знать, что удельная энергия излучения черного тела увеличивается пропорционально четвертой степени его температуры. Таким образом, Альфер и Герман предсказали в десять раз больше энергии в космическом тепловом фоне, чем это было допустимо. Говоря космическим языком, они предсказали жаркое, как в Майами лето, в сезон снежных буранов на Аляске.
9. Оценки Гамова также варьировали довольно сильно, хотя они последовательно снижались и достигли 7 кельвинов в 1953 г. и 6 кельвинов в 1956 г.
10. Helge Kragh, Cosmology and Controversy: The Historical Development of Two Theories of the Universe (Princeton: Princeton University Press, 1999).
11. F. Hoyle, «On Nuclear Reactions Occurring in Very Hot STARS. I. the Synthesis of Elements from Carbon to Nickel», Astrophysical Journal Supplement 1 (1954): 121, ….1..121H.
12. C. W. Cook, W. A. Fowler, C. C. Lauritsen, and T. Lauritsen, «B12, C12, and the Red Giants», Physical Review 107, no. 2 (1957): 508.
13. Edwin E. Salpeter, «Fallacies in Astronomy and Medicine», Reports on Progress in Physics 68, no. 12 (2005): 2747, –4885/68/12/R02/meta.
14. F. Hoyle and R. J. Tayler, «The Mystery of the Cosmic Helium Abundance», Nature 203 (1964): 1108–10, .
15. Интересно, что в настоящее время Google (Alphabet) разрабатывает воздушные шары для обеспечения дешевого и высокоскоростного доступа в интернет в труднодоступных местах планеты. См.: /.
16. John Oakes, «Interview with Arno Penzias and Robert Wilson», Evidence for Christianity website, May 5, 2005, -with-arno-penzias-and-robert-wilson.
17. E. A. Ohm, «Project Echo: Receiving System», Bell System Technical Journal 40, no. 4 (1961): 1065, -4-1065.
18. Вы можете услышать этот радиошум, преобразованный в слышимые частоты, в интернете: .
19. Созданную Пензиасом и Уилсоном ловушку для голубей можно увидеть в Музее Смитсоновского института; -the-universe/online/images/2001–5347.jpg.
20. «Arno Penzias and Robert Wilson: Bell Labs, Holmdel, NJ», Historic Sites, APS Physics website, American Physical Society, .
21. R. H. Dicke, P. J. E. Peebles, P. G. Roll, and D. T. Wilkinson, «Cosmic Black- Body Radiation», Astrophysical Journal 142 (1965): 414–19, …142..414D.
22. «Newly Discovered Radio Radiation May Provide a Clue to the Origin of the Universe», Bell Telephone Laboratories press release, May 23, 1965, -bell-labs-com.s3.amazonaws.com/pages/20140518_1641/1965_BL_Press_Release_on_Radiation.pdf.
23. Dicke at al., «Cosmic Black-Body Radiation», …142..414D.
24. Дикке и соавторы указывали на то, что, даже если предположить, что Вселенная имела сингулярное происхождение (т. е. возникла в результате Большого взрыва), «на ранних этапах она также могла быть чрезвычайно горячей».
25. См.: .
Глава 5. Разбитая линза Нобелевской премии № 1: проблема признания заслуг
1. См.: .
2. G. S. Guralnik and C. R. Hagen, «Where Have All the Goldstone Bosons Gone?» .
3. «Gerald S. Guralnik, Chancellor’s Professor of Physics», obituary, Brown University website, .
4. Margaret Burbidge, «Watcher of the Skies», Annual Reviews of Astronomy and Astrophysics 32 (1994): 1, -bin/nph-iarticle_query?bibcode=1994ARA%26A..32….1B.
5. Sarah Scoles, «How Vera Rubin confirmed dark matter», Astronomy, October 4, 2016, -rubin.
6. Charles Seife, «Troubled by Glitches, Tevatron Scrambles to Retain Its Edge», Science 295, no. 5557 (2002): 36, -summaries.
7. Lisa Randall, «Why Vera Rubin deserved a Nobel», New York Times, January 4, 2017, / 01/04/opinion/whyvera-rubin-deserved-a-nobel.html?_r=0.
8. Dennis Overbye, «Vera Rubin, 88, Dies; Opened Doors in Astronomy, and for Women», New York Times, December 27, 2016, -rubin-astronomist-who-madethe-case-for-dark-matter-dies-at-88.html.
9. Adrian Cho, «Will Nobel Prize overlook master builder of gravitational wave detectors?» Science, September 27, 2016, -nobel-prize-overlook-master-builder-gravitational-wave-detectors.
10. «Если они подождут год и решат наградить этих трех парней, по крайней мере я буду знать, что они как следует все обдумали. Если же они примут решение [о награждении] уже в октябре [2016 г.], я буду чувствовать себя гораздо хуже, потому что они не сделают свою домашнюю работу» (Барри Бариш, там же).
11. Сразу же после объявления имен лауреатов премии по физике 2017 г. Нобелевский комитет постарался оправдать свое решение об исключении умершего Древера из тройки победителей, заявив, что «Древер в конечном итоге оказался за рамками основного направления проекта». См.: «Cosmic Chirps», «The Nobel Prize in Physics 2017: Popular Science Background», Nobel Prize website, -physicsprize2017.pdf.
12. См.: .
13. Zach Veilleux, «Nobel laureate Ralph Steinman dies at 68», Rockefeller University website, November 25, 2011, -nobel-laureate-ralph-steinman-dies-at-68/.
14. Пресс-релиз Нобелевского фонда «Ральф Стейнман остается нобелевским лауреатом», 3 октября 2011 г., .
15. Amy Davidson Sorkin, «Ralph Steinman: Death and the Nobel», The New Yorker, October 3, 2011, -steinman-death-and-the-nobel.
16. См.: /.
17. См.: .
Глава 6. Прах к праху
1. Mike Wall, «Cosmic Inflation Theory Confirmed? Q&A with Robert Wilson, Co-Discoverer of Big Bang Echo», Space.com, March 17, 2014, -big-bang-inflation-cmb-wilson-interview.html.
2. Steven Weinberg, Gravitation and Cosmology (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 1972). [Вайнберг С. Гравитация и космология. — М.: Мир, 1975.]
3. Kim McDonald, «Renowned UC San Diego Astrophysicist and Astronomer Dies at 84», UC San Diego News Center, January 28, 2010, -10Burbidge.asp.
4. После того как первые, самые древние звезды, известные как население III, прожили свою короткую жизнь, они обеспечили сырье, необходимое для образования следующих поколений звезд — населения II и населения I (самая молодая категория, в которую входит большинство звезд в нашей Галактике).
5. G. Burbidge and F. Hoyle, «The Origin of Helium and the Other Light Elements», Astrophysical Journal 509 (1998): L1– L3, .
6. Энергия и температура, хотя и взаимосвязанны, не идентичны. Комета массой в 1 млн кг, движущаяся в космическом пространстве со скоростью 10 км/с, обладает большой энергией, но ее температура может быть всего на несколько градусов выше абсолютного нуля.
7. Fred Hoyle, Home Is Where the Wind Blows: Chapters from a Cosmologist’s Life (Oxford: Oxford University Press, 1994), 413.
8. Солнечный свет демонстрирует тот же феномен. В отсутствие значительного рассеяния, например в полдень, солнечный свет видится нам зеленовато-желтым, тогда как на закате он становится оранжево-красным из-за рассеяния синего компонента находящейся в атмосфере пылью, более плотной вдоль горизонта.
9. R. J. Trumpler, «Absorption of Light in the Galactic System», Publications of the Astronomical Society of the Pacific 42, no. 248 (1930): 214, …42..214T; Jessie Rudnick, «On the Reddening in B- Type Stars», Astrophysical Journal 83 (1936): 394, -bin/bib_query?1936ApJ….83..394R.
10. J. S. Hall, «Observations of the Polarized Light from Stars», Science 109, no. 2825 (1949): 166–67, .
11. Aigen Li, «Cosmic Needles versus Cosmic Microwave Background Radiation», Astrophysical Journal 584, no. 2 (2003): 593, .
12. Leverett Davis, Jr., and Jesse L. Greenstein, «The Polarization of Starlight by Aligned Dust Grains», Astrophysical Journal 114 (1951): 206.
13. Hoyle and N. C. Wickramasinghe, «Dust in Supernova Explosions», Nature 226 (1970): 62–63, .
14. J. V. Narlikar et al., «Cosmic Iron Whiskers: Their Origin, Length Distribution and Astrophysical Consequences», International Journal of Modern Physics D 6 (1997): 125, .
15. Jennifer Hackett, «How to Find Tiny Meteorites at Home», Scientific American, April 1, 2016, -to-find-tiny-meteorites-at-home/.
16. Недавно анализатор космической пыли на борту автоматической межпланетной станции «Кассини» (Cassini) обнаружил межзвездную пыль с содержанием железа. См.: N. Altobelli et al., «Flux and Composition of Interstellar Dust at Saturn from Cassini’s Cosmic Dust Analyzer», Science 352, no. 6283 (2016): 312–18, .
17. S. S. Brenner, «Metal Whiskers», Scientific American 203, no. 1 (1960): 64–72.
18. Anthony N. Aguirre, «Dust Versus Cosmic Acceleration», Astrophysical Journal Letters 512, no. 1 (1999), .
19. Glenn Roberts, Jr., «New Study Maps Space Dust in 3- D», Berkeley Lab website, March 22, 2017, -maps-space-dust-in-3-d/.
20. G. Burbidge, «Quasi-Steady State Cosmology», Proceedings of Frontiers of the Universe Conference, June 17–23, 2001, -ph/0108051.
21. J. C. Mather et al., «A preliminary measurement of the cosmic microwave background spectrum by the Cosmic Background Explorer (COBE) satellite», Astrophysical Journal (Part 2 — Letters) 354 (1990): L37– L40, …354L..37M.
22. По иронии судьбы первым астрономом, получившим Нобелевскую премию за теоретическое открытие, стал физик Ханс Бете, которого Гамов, известный шутник, указал как третьего автора фундаментальной статьи 1948 г., где излагалась теория Большого взрыва. Эта статья была написана Гамовым в соавторстве с Альфером, и Бете не имел к работе никакого отношения. Но Гамову показалось забавным, что имена авторов Альфер-Бете-Гамов будут звучать как первые три буквы греческого алфавита — альфа-бета-гамма, что, на его взгляд, было прекрасным названием для теории о рождении Вселенной. Альфер был категорически против этого, и, словно услышав его мольбы, Нобелевский комитет присудил Бете премию за его работу об источниках энергии в звездах, а не за теорию Большого взрыва.
23. Пресс-релиз Шведской королевской академии наук «Премия Крафорда за 1997 год»; .
24. Burbidge, «Quasi-Steady State Cosmology», -ph/0108051.
25. J. Kovac et al., «Detection of Polarization in the Cosmic Microwave Background using DASI», Nature 420 (2002): 772–87, -ph/0209478
26. Anthony N. Aguirre, «The Cosmic Background Radiation in a Cold Big Bang», Astrophysical Journal 533, no. 1 (2000): È18, .
27. Jayant V. Narlikar and Geoffrey Burbidge, Facts and Speculations in Cosmology (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009).
Глава 7. Искра, воспламенившая Большой взрыв
1. A. A. Penzias and R. W. Wilson, «A Measurement of Excess Antenna Temperature at 4080 Mc/s», Astrophysical Journal 142 (1965): 419–21, …%20142..419P.
2. Цит. в: Jane Gregory and Steven Miller, Science In Public: Communication, Culture, and Credibility (New York: Basic Books, 2000).
3. Stephon Alexander, The Jazz of Physics: The Secret Link Between Music and the Structure of the Universe (New York: Basic Books, 2016).
4. «Ned Wright’s Cosmology Tutorial», UCLA website, /~wright/cosmoall.htm.
5. Megan Vandre, «Before the Big Bang», MIT Technology Review, February 1, 2003, -the-big-bang/.
6. R. H. Dicke and P. J. E. Peebles, «The Big Bang Cosmology: Enigmas and Nostrums», in S. W. Hawking and W. Israel, eds., General Relativity: An Einstein Centenary Survey (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1979).
7. Vandre, «Before the Big Bang», -the-big-bang/.
8. Alan H. Guth, «Inflationary Universe: A possible solution to the horizon and flatness problems», Physical Review D 23, no. 2 (1981): 347, .
9. Alan H. Guth, «Inflation», Proceedings of the National Academy of Sciences 90, no. 11 (1993): 4871–77, .
10. Arthur C. Clarke Center for Human Imagination, UC San Diego, Endless Universe podcast, episode 5: «Limits of Understanding», -5-limits-of-understanding/.
11. Стейнхардт и Тернер вместе с физиком Джеймсом Бардином пришли к тому же выводу, что и работавшие независимо друг от друга три другие группы: Стивена Хокинга, Алексея Старобинского и Алана Гута и Со-Янг Пи.
12. L. F. Abbott and M. B. Wise, «Constraints on Generalized Inflation Cosmologies», Nuclear Physics B 244, no. 2 (1984): 541, . Эта работа основана на более ранней новаторской работе Алексея Старобинского, который не только предложил модель инфляции одновременно с Гутом, но и описал поведение гравитационных волн в ранней Вселенной. См.: A. Starobinsky, «Spectrum of Relict Gravitational Radiation and the Early State of the Universe», Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters 30 (1979): 682, .
13. Martin Rees, «Polarization and Spectrum of the Primeval Radiation in an Anisotropic Universe», Astrophysical Journal 153 (1968): L1, …153L…1R.
14. В середине 1990-х гг. две группы космологов, в одну из которых входили Марк Каменковски, Артур Косовски и Альберт Стеббинс, а в другую — Урош Селяк и Матиас Залдарриага, обновили расчеты Полнарева и сделали их более «дружественными к пользователям», по крайней мере к таким, как я.
Глава 8. Мы строим машину времени
1. Lawrence M. Krauss and Frank Wilczek, «From B Modes to Quantum Gravity and Unification of Forces», .
2. B. Keating et al., «BICEP: a large angular scale CMB polarimeter», Polarimetry in Astronomy: Proceedings of the SPIE 4843 (2003): 284–95, .
3. J. N. Tinsley et al., «Direct Detection of a Single Photon by Humans», Nature Communications 7 (2016): 12172, .
4. Шум в знаменателе иногда обозначают «сигмой» — универсальным символом неопределенности. Таким образом, отношение С/Ш, равное трем, называют «тремя сигмами».
5. «In Memoriam: Andrew Lange.»
6. «Wide bandwidth polarization modulator for microwave and mm-wavelengths», US patent 7501909 B2, .
Глава 9. Герои льда и пламени
1. И Пьер, и Мария Кюри страдали лучевой болезнью, подвергаясь как случайно, так и умышленно воздействию радиации. См.: Richard Mould, «Pierre Curie, 1859–1906», Current Oncology 14, no.2 (2007): 74–82, -oncology.com/index.php/oncology/article/view/126. Их лабораторные журналы по-прежнему радиоактивны; чтобы получить к ним доступ, вы должны подписать документ, что берете ответственность на себя, и надеть защитный костюм. См.: Barbara Tasch, «Personal effects of ‘the mother of modern physics’ will be radioactive for another 1500 years», Business Insider, August 24, 2015, -curie-radioactive-papers-2015–8.
2. «Doomed Expedition to the South Pole, 1912», EyeWitness to History.com, .
3. Susan Solomon, The Coldest March (New Haven: Yale University Press, 2002).
4. Тесты 16PF и MMPI-2, используемые для определения психологического здоровья, можно пройти онлайн.
5. A. Lazarian, «Grain Alignment and CMB Polarization Studies», 2008, .
6. E. M. Bierman et al., «A Millimeter-Wave Galactic Plane Survey with the BICEP Polarimeter», Astrophysical Journal 741, no. 2 (2011): 81, -637X/741/2/81/meta.
Глава 10. Разбитая линза Нобелевской премии № 2: проблема денег
1. Ellie Bothwell, «Nobel laureate says scientific breakthrough ‘would not be possible today,’» World University Rankings website of The Times Higher Education, September 29, 2016, -laureate-says-scientific-breakthrough-would-not-be-possible-today.
2. Там же.
3. Там же.
4. «The Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers: Recipient Details — Brian Keating», National Science Foundation website, ;jsessionid=83E30069675B24B23A2117EB9E241D39? pecase_id=208.
5. См.: «Report to the National Science Board on the National Science Foundation’s Merit Review Process, Fiscal Year 2013», National Science Foundation, 2014, . В астрономии шансы еще ниже; см.: «Mathematical and Physical Sciences (MPS) Funding Rates», National Science Foundation website, -rates.jsp?org=MPS.
6. Harriet Zuckerman, «Stratification in American Science», Sociological Inquiry 40, no. 2 (1970): 235–57, -682X.1970.tb01010.x/abstract.
7. Derek J. de Solla Price, Little Science, Big Science (New York: Columbia University Press, 1963).
8. Paul A. Samuelson, «Paul A. Samuelson», in W. Breit and B. T. Hirsch, eds., Lives of the Laureates: Eighteen Nobel Economists (Cambridge, MA: MIT Press, 2004), 49–64.
9. R. K. Merton, «The Matthew Effect in Science», Science 159, no. 3810 (1968): 56–63, .
10. Harriet Zuckerman, «Nobel Laureates in Science: Patterns of Productivity, Collaboration, and Authorship», American Sociological Review 32, no. 3 (1967): 391–403, .
11. Rita Devlin Marier, «How much is a Nobel worth? A lot more than the prize money», Phys.org, October 2, 2011, –10-nobel-worth-lot-prize-money.html.
12. См.: «The Nobel Prize and RAND», RAND Corporation, ; «Global recognition for groundbreaking discovery», Nokia Bell Labs, -labs.com/our-people/recognition/; Jeremy Alder, «50 Universities with the Most Nobel Prize Winners», Best Masters Programs website, -universities-with-the-most-nobelprize-winners/.
13. U. S. Department of Energy, Office of Science, «Honors & Awards: DOE Nobel Laureates», -andawards/doe-nobel-laureates/; Saul Perlmutter, «Supernovae, Dark Energy and the Accelerating Universe: How DOE Helped to Win (yet another) Nobel Prize», lecture at Lawrence Berkeley National Laboratory, January 13, 2012, .
14. См.: -center/.
15. См.: -truce.
16. Chip Le Grand, «Rio 2016: price of success could be $9.2m per medal», Australian, August 2, 2016, -2016-price-of-success-could-be-92m-per-medal/news-story/d0aa090e2413de0229963de361e902c9.
17. Annie Duke, «Would You Risk Death for an Olympic Medal? Temporal Discounting and the Zika Virus», Huffpost blog, August 5, 2017, -duke/would-you-risk-death-for_b_11331742.html. Однако более поздние исследования привели к другим выводам: James Connor, Jules Woolf, and Jason Mazanov, «Would they dope? Revisiting the Goldman dilemma», British Journal of Sports Medicine 47, no. 11 (2013), .
18. Michael Linden, «Budget Cuts Set Funding Path to Historic Lows», Center for American Progress, January 29, 2013, -cuts-set-funding-path-to-historic-lows/.
19. «NSF- funded LIGO pioneers named 2017 Nobel Prize in Physics laureates», National Science Foundation press release, October 3, 2017, ; U. S. Department of Energy, Office of Science, «Honors and Awards: DOE Nobel Laureates»; «NIST and the Nobel: NIST Nobel Winners», National Institute of Standards and Technology, -and-nobel; and «Nobel Laureates», The NIH Almanac, National Institutes of Health, -nih/what-we-do/nih-almanac/nobel-laureates.
20. Ronald J. Daniels, «A generation at risk: Young investigators and the future of the biomedical workforce», Proceedings of the National Academy of Sciences 112, no. 2 (2014), .
21. Kevin Boudreau, Eva Catharina Guinan, Karim R. Lakhani, and Christoph Riedl, «The Novelty Paradox & Bias for Normal Science: Evidence from Randomized Medical Grant Proposal Evaluations», Harvard Business School Working Paper, No. 13–053, December 2012, .
22. David Callahan, «Inside the Simons Foundation: Big Philanthropy on the Frontiers of Science», Inside Philanthropy, May 17, 2016, -the-simons-foundation-big-philanthropy-on-the-frontie.html.
23. «Research Institutions Received Over $2.3 Billion in Private Funding for Basic Science in 2016», Science Philanthropy Alliance press release, February 13, 2017, -do/news/2–3-billion-in-private-funding-for-basic-science-in-2016/.
24. William J. Broad, «Billionaires with Big Ideas Are Privatizing American Science», New York Times, March 15, 2014, -with-big-ideas-are-privatizing-american-science.html?_r=0.
25. Там же.
26. Lawrence M. Krauss, «Do the New, Big- Money Science Prizes Work?» The New Yorker, February 3, 2016, -the-new-big-money-science-prizes-work.
27. «The birth of the web», CERN, -web.
28. Jonah Kanner and Alan Weinstein, «The Astrophysicists Who Faked It», Nautilus, November 3, 2016, -cosmologists-who-faked-it.
29. Shahram Heshmat, «What Is Confirmation Bias?» Psychology Today, April 23, 2015, -choice/201504/what-is-confirmation-bias.
Глава 11. Ликование!
1. G. Efstathiou and S. Gratton, «B- mode detection with an extended planck mission», Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2009 (June 2009), –7516/2009/06/011.
2. J. Weber, «Evidence for Discovery of Gravitational Radiation», Physical Review Letters 22 (1969): 1320, .
3. Janna Levin, Black Hole Blues and Other Songs from Outer Space (New York: Knopf, 2016).
4. «OPERA experiment reports anomaly in flight time of neutrinos from CERN to Gran Sasso», CERN press release, September 23, 2011, updated June 8, 2012, -releases/2011/09/operaexperiment-reports-anomaly-flight-time-neutrinos-cern-gran-sasso. См. также: OPERA collaboration, «Measurement of the neutrino velocity with the OPERA detector in the CNGS beam», Journal of High Energy Physics 2012:93, %2FJHEP10%282012%29093.
5. Eugenie Samuel Reich, «Embattled neutrino project leaders step down», Nature News, April 2, 2012, -neutrino-project-leaders-step-down-1.10371.
6. Govert Schilling, Ripples in Spacetime: Einstein, Gravitational Waves, and the Future of Astronomy (Cambridge, MA: Belknap Press, 2017). [Шиллинг Г. Складки на ткани пространства-времени: Эйнштейн, гравитационные волны и будущее астрономии. — М.: Альпина нон-фикшн, 2019.]
7. В оригинальной статье о результатах BICEP2 (P. A. R. Ade et al., «BICEP2 I: Detection of B-mode Polarization at Degree Angular Scales», March 17, 2014, ) содержалась ссылка на слайды в PowerPoint, использованные Ж.-Ф. Бернаром (: documents:387566:428323:47ESLAB_April_04_11_25_Bernard.pdf/) на 47-й конференции ESLAB: «Вселенная глазами Планка», 2013 г. (см. сайт Европейского космического агентства: -eslab).
8. Schilling, Ripples in Spacetime.
9. Ron Cowen, «How astronomers saw gravitational waves from the Big Bang», Nature News, March 17, 2014, /how-astronomers-saw-gravitational-waves-from-the-big-bang-1.14885.
10. Penzias and Wilson, «A Measurement of Excess Antenna Temperature at 4080 Mc/s», …142..419P.
11. См. раздел «FAQs» на официальном сайте, посвященном экспериментам по исследованию CMBCMB BICEP и Keck Array; .
12. Keating et al., «BICEP», .
13. Diana Steele, «On the Coverage of BICEP2», ScienceWriters, July 23, 2015, -coverage-bicep2.
14. Lisa Grossman, «First glimpse of big bang ripples from the universe’s birth», New Scientist, March 17, 2014, -first-glimpse-of-big-bang-ripples-from-universesbirth/.
15. Max Tegmark, «Good Morning, Inflation! Hello, Multiverse!», Huffpost, March 17, 2014, -tegmark/good-morning-inflation-he_b_4976707.html.
16. См. пресс-релиз Национального научного фонда: «NSF-funded researchers say Antarctic telescope may have provided the first direct evidence of cosmic inflation and the origins of the universe», March 17, 2014, .
17. См. видеоролик «Стэнфордский профессор Андрей Линде празднует прорывное открытие в физике» на YouTube, 17 марта 2014 г.; .
18. Dennis Overbye, «Space Ripples Reveal Big Bang’s Smoking Gun», New York Times, March 17, 2014, -of-waves-in-space-buttresses-landmarktheory-of-big-bang.html?hp&_r=0.
19. Lawrence M. Krauss, «A Scientific Breakthrough Lets Us See to the Beginning of Time», The New Yorker, March 17, 2014, /a-scientific-breakthrough-lets-us-see-tothe-beginning-of-time.
Глава 12. Инфляция и ее неприятие
1. Милтон Фридман, нобелевская мемориальная лекция «Инфляция и безработица», 13 декабря 1976 г., -sciences/laureates/1976/friedman-lecture.pdf.
2. Allan Adams, «The discovery that could rewrite physics», TED talk, March 2014, .
3. Brian Greene, «John Kovac», in «The 100 Most Influential People», Time, April 23, 2014, -post/70868/john-kovac-2014-time-100/.
4. Paul Steinhardt, «Natural Inflation», in G. W. Gibbons, S. W. Hawking, and S. T. C. Siklos, eds., The Very Early Universe: Proceedings of the Nuffield Workshop, held at Cambridge, England, 21 June — 9 July, 1982 (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1982); Alexander Vilenkin, «Birth of Inflationary Universes», Physical Review D 27, no. 12 (1983): 2848–55, ; A. D. Linde, «Eternally Existing Self-Reproducing Chaotic Inflationary Universe», Physics Letters B 175, no. 4 (1986): 395–400, /~alinde/Eternal86.pdf.
5. Gabriel Popkin, «Swirling Bacteria Linked to the Physics of Phase Transitions», Quanta, May4, 2017, -bacteria-linked-to-the-physics-of-phase-transitions-20170504.
6. Susan Brown, «Colonies of Bacteria Fight for Resources with Lethal Protein», UC San Diego News Center, March 23, 2010, -23LethalProtein.asp.
7. Guth, «Inflation», .
8. Miriam Kramer, «Our Universe May Exist in a Multiverse, Cosmic Inflation Discovery Suggests», Space.com, March 18, 2014, -multiverse-cosmic-inflation-gravitational-waves.html.
9. Например, согласно одной из гипотез (Stephen M. Feeney, Matthew C. Johnson, Daniel J. Mortlock, and Hiranya V. Peiris, «First Observational Tests of Eternal Inflation», Physical Review Letters 107, 071301 [2011], ), если бы в прошлом соседняя пузырьковая вселенная столкнулась с нашей, это оставило бы характерный отпечаток на космическом микроволновом фоне. До сих пор свидетельств такого «синяка» на CMB не найдено. Еще один возможный способ «увидеть» Мультивселенную — с помощью черных дыр. В 2015 г. Александр Виленкин и его соавторы предположили, что инфляция должна была привести к уникальному распределению черных дыр с различными массами и размерами. Тщательно измерив распределение черных дыр с помощью детекторов гравитационных волн, таких как LIGO, можно найти доказательства инфляции и, следовательно, Мультивселенной. См.: Marcus Woo, «Why the Multiverse Isn’t Just Madness», Science Friday, January 26, 2017, -themultiverse-isnt-just-madness/.
10. Brandon Carter, «Large Number Coincidences and the Anthropic Principle in Cosmology», in Confrontation of Cosmological Theories with Observational Data: Proceedings of the Symposium, Krakow, Poland, September 10–12, 1973 (Dordrecht: D. Reidel, 1974), 291–98.
11. Он называл ее «ансамблем миров».
12. Steven Weinberg, «Physics: What We Do and Don’t Know», New York Review of Books, November 7, 2013, -what-we-do-and-dont-know/.
13. Roger Penrose, «Faith, Fashion and Fantasy in the New Physics of the Universe», Louis Clark Vanuxem Lectures, Princeton University, October 17, 20, and 22, 2003, /.
14. Robert Crittenden et al., «Imprint of Gravitational Waves on the Cosmic Microwave Background», Physical Review Letters 71, no. 3 (1993): 324, .
15. «Получатели медали Дирака 2002 г.», Международный центр теоретической физики, -ictp/prizes-awards/the-dirac-medal/the-medallists/dirac-medallists-2002.aspx.
16. Maggie McKee, «Ingenious: Paul J. Steinhardt», Nautilus, September 25, 2014, -bangs/ingenious-paul-j-steinhardt.
17. Paul J. Steinhardt, «2014: What Scientific Idea Is Ready for Retirement?» Edge, -detail/25405.
18. Karl. R. Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge (New York and London: Basic Books, 1962).
19. «Это не означает, что Фрейд и Адлер вообще не сказали ничего правильного; лично я не сомневаюсь в том, что многое из того, что они говорили, имеет серьезное значение и вполне может со временем сыграть свою роль в психологической науке, которая будет проверяемой. Но это означает, что те „клинические наблюдения“, которые, как наивно полагают психоаналитики, подтверждают их теорию, делают это не в большей степени, чем ежедневные подтверждения, обнаруживаемые в своей практике астрологами» (К. Поппер. Предположения и опровержения).
20. Helge Kragh, «The Criteria of Science, Cosmology and the Lessons of History», in Michael Heller, Bartosz Brozek, and Łukasz Kurek, eds., Between Philosophy and Science (Kraków: Copernicus Center Press, 2013). Краг отмечает, что еще в 1982 г. Поппер превозносил модель стационарного состояния Вселенной, называя ее «очень красивой и многообещающей теорией» и утверждая: «То, что еще вчера было метафизической идеей, может стать проверяемой теорией завтра».
21. Natalie Wolchover and Peter Byrne, «In a Multiverse, What are the Odds?» Quanta, November 3, 2014, -in-a-multiverse-what-are-the-odds/.
22. Anna Ijjas and Paul J. Steinhardt, «Classically Stable Nonsingular Cosmological Bounces», Physical Review Letters 117, 121304 (2016), .
23. Max Tegmark, Our Mathematical Universe (New York: Knopf, 2014).
24. Tegmark, «Good Morning, Inflation!» -tegmark/good-morning-inflation-he_b_4976707.html.
25. Amanda Gefter, «From Discovery to Dust», Nova Next, October 29, 2014, /.
26. Dan Vergano, «Alan Guth: Waiting for the Big Bang», National Geographic, June 30, 2014, -alan-guth-profile-inflation-cosmology-science/.
27. Ron Cowen, «Cosmology: Polar star», Nature News, March 31, 2014, -polar-star-1.14954.
28. «Focus: Physicists Weigh in on BICEP2», Physics 7 (June 19, 2014): 65, .
29. Hoyle, Home Is Where the Wind Blows, 413.
30. Maggie McKee, «Ingenious: Paul J. Steinhardt», -bangs/ingenious-paul-j-steinhardt.
31. «Focus: Physicists Weigh in on BICEP2», .
Глава 13. Разбитая линза Нобелевской премии № 3: проблема сотрудничества
1. Frank Close, The Infinity Puzzle: Quantum Field Theory and the Hunt for an Orderly Universe (Oxford: Oxford University Press, 2011).
2. A. Douglas Stone, «Fantasy Physics: Should Einstein have Won Seven Nobel Prizes», Princeton University Press blog, guest post, March 12, 2014, -physics-shouldeinstein-have-won-seven-nobel-prizes/.
3. Philip Ball, «How 2 Pro-Nazi Nobelists Attacked Einstein’s „Jewish Science“», Scientific American, February 13, 2015, -2-pro-nazi-nobelists-attacked-einstein-sjewish-science-excerpt1/.
4. de Solla Price, Little Science, Big Science.
5. Hub Zwart, «The Nobel Prize as a Reward Mechanism in the Genomics Era: Anonymous Researchers, Visible Managers and the Ethics of Excellence», Journal of Bioethical Inquiry 7, no. 3 (2010): 299–312, -010-9248-0.
6. Bothwell, «Nobel laureate says scientific breakthrough ‘would not be possible today,’» -laureate-says-scientific-breakthrough-would-not-be-possible-today.
7. Там же.
8. Zuckerman, «Nobel Laureates in Science: Patterns of Productivity, Collaboration, and Authorship», .
9. «Vote for inflation Nobel Prize», Vixra (blog), -for-inflation-nobel-prize/.
10. P. E. Gibbs, «Who Might Get the Nobel Prize for Cosmic Inflation?» Prespacetime Journal 5, no. 3 (2014): 230–33, .
11. Там же.
12. /.
13. Stuart Clark, «Gravitational waves gives Nobel prize committee another headache», Guardian, March 21, 2014, -waves-nobel-prize-inflation.
14. Jim Al-Khalili, «Why the Nobel prizes need a shakeup», Guardian, October 8, 2012, -prizes-need-shakeup.
15. Harriet Zuckerman, Scientific Elites: Nobel Laureates in the United States (New Brunswick, NJ: Transaction, 1996).
16. Randy Kennedy, «Who Was That Food Stylist? Film Credits Roll On», New York Times, January 11, 2004, -was-that-food-stylist-film-credits-roll-on.html?_r=0.
17. Elisabeth T. Crawford, The Beginnings of the Nobel Institution: The Science Prizes, 1901–1915 (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1987).
Глава 14. Дефляция
1. Galileo Galilei, Le operazioni del compasso geometrico e militare (Venice: 1606). [Галилео Галилей. Работа геометрического и военного компаса Галилео Галилея, флорентийского патриция и преподавателя математики в Университете Падуи. Венеция, 1606].
2. Biagioli, Galileo’s Instruments of Credit.
3. Hao Liu, Philipp Mertsch, and Subir Sarkar, «Fingerprints of Galactic Loop I on the Cosmic Microwave Background», Astrophysics Journal 789 (2014): L29, /2041–8205/789/2/L29.
4. Лекция Дэвида Спергеля «WMAP, Planck, BICEP и инфляция» на коллоквиуме «Космология после Планка» 27 марта 2014 г., .
5. Raphael Flauger, J. Colin Hill, and David N. Spergel, «Toward an understanding of foreground emission in the BICEP2 region», Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2014:1405.7351, .
6. Ron Cowen, «Gravitational wave discovery faces scrutiny», Nature News, May 16, 2014, -wave-discovery-faces-scrutiny-1.15248; Dennis Overbye, «Astronomers Hedge on Big Bang Detection Claim», New York Times, June 19, 2014, -debate-gravity-wave-detection-claim.html?_r=0.
7. Michael J. Mortonson and Uroš Seljak, «A joint analysis of Planck and BICEP2 B-modes including dust polarization uncertainty», Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2014 (October 2014), –7516/2014/10/035/meta;jsessionid=8590E71CAB59298BA35CDF6D3A5A6DC9.c1.iopscience.cld.iop.or.
8. Overbye, «Astronomers Hedge on Big Bang Detection Claim», -debate-gravity-wave-detection-claim.html?r=0.
9. Пресс-релиз Bell Telephone Laboratories «Недавно открытое радиоизлучение может скрывать ключ к разгадке рождения Вселенной» 23 мая 1965 г.: -bell-labs-com.s3.amazonaws.com/pages/20140518_1641/1965_BL_Press_Release_on_Radiation.pdf.
10. P. James E. Peebles, Lyman A. Page, Jr., and R. Bruce Partridge, eds., Finding the Big Bang (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009).
11. Joel Achenbach, «Cosmic smash-up: BICEP2’s big bang discovery getting dusted by new satellite data», Achenblog (blog), Washington Post, September 22, 2014, -satellite-shows-bicep2-telescope-make-have-seen-dust-not-the-big-bang/?utm_term=.a2caa5fe5d75.
12. Shannon Hall, «BICEP2 Was Wrong, But Publicly Sharing the Results Was Right», The Crux (blog), Discover website, January 30, 2015, blogs -wrong-sharing-results/#.WNMILhiZMmo.
13. Council for the Advancement of Science Writing, конференция «Новые горизонты в науке», Колумбус, Огайо, 19–20 октября, -new-horizons/conference/new-horizons-science-2014.
14. Steele, «On the Coverage of BICEP2», -coverage-bicep2.
15. «Dust to Dust», editorial, Nature 514, no. 7522 (2014), -to-dust-1.16137.
16. P. A. R. Ade et al., «Joint Analysis of BICEP2/Keck Array and Planck Data», Physical Review Letters 114, 101301 (2015), -article-pdf/10.1103/PhysRevLett.114.101301.
17. «Эндрю Ланге, США: Премия Бальцана в области наблюдательной астрономии и астрофизики за 2006 год», Международный фонд Премии Бальцана, 24 ноября 2006 г., -de-bernardis-e-andrew-lange/a-lange-rome-24-11-2006.
18. P. A. R. Ade et al., «Detection of B- Mode Polarization at Degree Angular Scales by BICEP2», Physical Review Letters 112, 241101 (2014), .
Глава 15. Лирика для физиков
1. Marina Jones, «The Dark Constellations of the Incas», Futurism, August 10, 2014, -dark-constellations-of-theincas/.
2. «…Все святые и грешники в истории нашего вида жили здесь — на пылинке, зависшей в луче света…» (Саган К. Голубая точка. Космическое будущее человечества. — М.: Альпина нон-фикшн, 2018).
3. Julien de Wit et al., «A combined transmission spectrum of the Earth-sized exoplanets TRAPPIST- 1 b and c», Nature 537 (2016): 69–72, .
4. Adam G. Riess, William H. Press, and Robert P. Kirshner, «Is the Dust Obscuring Supernovae in Distant Galaxies the Same as Dust in the Milky Way?» Astrophysical Journal 473, no. 2 (1996): 588, …473..588R.
5. Детальный анализ «самой большой ошибки» См.: Mario Livio, Brilliant Blunders: From Darwin to Einstein — Colossal Mistakes by Great Scientists That Changed Our Understanding of Life and the Universe (New York: Simon and Schuster, 2013).
6. B. T. Draine, «Interstellar Dust Grains», Annual Review of Astronomy and Astrophysics 41 (2003): 241–89, .
7. Michael D. Niemack et al., «BFORE: The B-Mode Foreground Experiment», Journal of Low Temperature Physics 184, no. 3–4 (2016): 746–53, %2Fs10909-015-1395-6.
8. Paul Steinhardt, «Big Bang blunder bursts the multiverse bubble», Nature 510 (2014): 9, .
9. Ассоциация выпускников Калифорнийского университета в Беркли. «Самый умный в мире миллиардер: Джеймс Саймонс — лучший алумнус 2016 года», -magazine/spring-2016-war-stories/world-s-smartest-billionaire-james-simons-cal-alumnus.
10. «Коллаборации Саймонсов», сайт фонда Саймонсов, /.
11. См. сайт CMB-S4: эксперимент следующего поколения по исследованию CMB, https://cmb-s4.org.
12. «Общество стипендиатов фонда Саймонсов», сайт фонда Саймонсов: -society-of-fellows/.
13. Об Обсерватории Саймонса см.: .
14. John Updike, «Cosmic Gall», -call.html.
Глава 16. Возвращение к видению Альфреда
1. Kenne Fant, Alfred Nobel: A Biography (New York: Arcade, 1993).
2. «Моим племянникам Хьялмару и Людвигу Нобелям, сыновьям моего брата Роберта Нобеля, я завещаю сумму двести тысяч крон каждому; моему племяннику Эммануилу Нобелю — сумму триста тысяч и моей племяннице Майне Нобель — сто тысяч крон; дочерям моего брата Роберта Нобеля, Ингеборге и Тайре, — сумму сто тысяч крон каждой». См.: Завещание Альфреда Нобеля, -full.html.
3. Из личной беседы с Питером Конрадом Мейером, 2011 г.
4. Jack Grove, «‘Bias’ blamed for dearth of female prizewinners», Times Higher Education, September 28, 2017.
5. Elaine Howard Ecklund, «A Gendered Approach to Science Ethics for US and UK Physicists», Science and Engineering Ethics 23, no. 1 (2017): 183–201, -016-9751-8.
6. Zuckerman, «Nobel Laureates in Science: Patterns of Productivity, Collaboration, and Authorship», .
7. Ruth H. Howes and Caroline L. Herzenberg, After the War: US Women in Physics (Williston, VT: Morgan and Claypool, 2015).
8. Jeremy Venook, «The Political Slant of the Nobel Prize in Economics», Atlantic, October 9, 2016, -factor-offer-soderberg/503186/.
9. Burton Feldman, The Nobel Prize: A History of Genius, Controversy, and Prestige (New York: Arcade, 2012).
10. Crawford, The Beginnings of the Nobel Institution.
11. «Nobel Descendant Slams Economics Prize», The Local, September 28, 2005, .
12. Jesse Emspak, «Are the Nobel Prizes Mising Female Scientists?» Scientific American LiveScience, October 7, 2016, -the-nobel-prizes-missing-female-scientists/.
13. Al-Khalili, «Why the Nobel prizes need a shakeup», -prizes-needshakeup.
14. Недавно Джоселин Белл Бернелл была награждена Медалью президента Института физики. См. сайт Института физики: .
Эпилог. Духовное завещание
1. Barack Obama, A Letter to My Daughters (New York: Knopf, 2010); «Legacy Letters: The Ethical Will», Life Legacies, - legacies.com/index.html; Matthew 5:43–48.
2. Талмуд, трактат Пиркей Авот 1:1.
3. Rachel Siegel, «Einstein scribbled his theory of happiness in place of a tip. It just sold for more than $1 million», Washington Post, October 24, 2017, -scribbled-his-theory-of-happiness-in-place-of-a-tip-it-just-sold-for-more-than-1-million/?utm_term=.94c4a64e9ec6.
Об авторе
Брайан Китинг — профессор физики в Калифорнийском университете в Сан-Диего. Читал лекции на шести из семи континентов, включая Антарктиду. Специалист по реликтовому излучению, с помощью которого он хочет понять происхождение и эволюцию Вселенной. Китинг — инициатор поисков физических свидетельств эпохи инфляции — предсказанного теоретическими моделями периода стремительного расширения Вселенной сразу после Большого взрыва. Предполагается, что такими свидетельствами может быть особый тип поляризации космического микроволнового фона — так называемые B-моды. Китинг разработал первый эксперимент, предназначенный для их поиска (BICEP). В 2014 году, в тот самый момент, когда был обнаружен долгожданный сигнал, Китинг был занят преподаванием курса в Калифорнийском университете в Сан-Диего под названием «Лирика для физиков», который он вел вместе с лауреатом Пулитцеровской премии Рей Армантраут.
Иллюстрации
~
Над книгой работали
Переводчик Ирина Евстигнеева
Научный редактор Сергей Попов, д-р физ. — мат. наук
Редактор Роза Пискотина
Руководитель проекта А. Тарасова
Корректоры Е. Сметанникова, Е. Чупахина
Компьютерная верстка А. Фоминов
Арт-директор Ю. Буга
Иллюстрации на обложке © Christopher Michel и © SSPL/Getty Images
Примечания редакции
1
Это было письмо-приглашение номинировать кандидатов на Нобелевскую премию по физике 2016 года, но в нем отсутствовало требование о том, что сделанные номинантами открытия принесли «наибольшую пользу человечеству», как было указано в завещании Нобеля. На этом отступления от завещания Нобеля не заканчивались. В письме говорилось, что получить премию может много людей и разрешается номинировать открытия, сделанные давно, не обязательно в течение «предыдущего года», как указывал Альфред, если значимость открытия была признана лишь недавно.
(обратно)2
Серендипность (англ. serendipity) — инстинктивная (интуитивная) прозорливость — способность делать случайные открытия на основе отрывочных наблюдений. Восходит к притче «Три принца из Серендипа», где герои успешно описывают потерянного верблюда, которого никогда не видели. — Прим. ред.
(обратно)3
Или реликтовом излучении. — Прим. науч. ред.
(обратно)4
BICEP (сокр. от англ. Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization) — серия экспериментов по исследованию реликтового излучения, осуществляемых с помощью соответствующей аппаратуры. Аббревиатура используется для обозначения как программы, так и телескопов и участников экспериментов. — Прим. ред.
(обратно)5
В середине/в разгар событий (лат.). — Прим. пер.
(обратно)6
Эмерджентный феномен — возникающий параметр, обязанный своим происхождением другим, более фундаментальным параметрам. — Прим. науч. ред.
(обратно)7
Caltrain — система пригородного ж/д сообщения в Калифорнии. — Прим. пер.
(обратно)8
Игра слов: в английском языке фамилия Чёрч — Church — переводится как «церковь». — Прим. пер.
(обратно)9
Речь идет о создании приборов для космологических наблюдений. — Прим. науч. ред.
(обратно)10
Shark Tank — американское телешоу, в котором начинающие предприниматели пытаются продать свои идеи крупным инвесторам. На российском телевидении аналог идет под названием «Акулы бизнеса». — Прим. пер.
(обратно)11
В оригинале название заголовка «Mistakes, I have made a few», вероятно, отсылает к песне Фредди Меркьюри «We Are The Champions». — Прим. ред.
(обратно)12
Здесь и далее цитаты на русском приведены по изданию: Галилей Г. Избр. труды в 2 т. Т. 1: Пер. И. Н. Веселовского. — М.: Наука, 1964. — Прим. пер.
(обратно)13
В древнегреческой мифологии Плеядами называли семь нимф-сестер, вознесенных богами на небо. — Прим. пер.
(обратно)14
Вильгельм (Василий Яковлевич) Струве — российский и немецкий астроном. Родился в Германии, откуда в 1808 году бежал в Эстонию, бывшую тогда частью Российской империи. — Прим. ред.
(обратно)15
Здесь используется бытовое определение яркости. Строго говоря, речь идет о потоке излучения. — Прим. науч. ред.
(обратно)16
В 2018 году Международный астрономический союз рекомендовал добавить в название закона фамилию Леметра. — Прим. науч. ред.
(обратно)17
Не умаляя вклад Веры Рубин во внегалактическую астрономию, хочу уточнить, что речь идет не о собственно открытии темного вещества, а об обнаружении аномалий во вращении некоторых галактик. — Прим. науч. ред.
(обратно)18
Среди женщин Нобелевской премии по физике были удостоены Мария Склодовская-Кюри (1903), Мария Гёпперт-Майер (1963) и Донна Стрикленд (2018). — Прим. ред.
(обратно)19
Цит. по: Вайнберг С. Гравитация и космология. Принципы и приложения общей теории относительности. — М.: Мир, 1975.
(обратно)20
Схема Понци — эквивалент финансовой пирамиды, впервые созданной в США Чарльзом Понци. — Прим. ред.
(обратно)21
Первую работающую инфляционную модель создал Алексей Старобинский в 1979 году. — Прим. науч. ред.
(обратно)22
Одновременно важнейшие результаты по формированию крупномасштабной структуры из квантовых флуктуаций были получены В. Ф. Мухановым и Г. В. Чибисовым. — Прим. науч. ред.
(обратно)23
«Collaborate and Listen!» — слова из песни рэпера Ваниллы Айса «Ice Ice Baby». — Прим. ред.
(обратно)24
На Востоке США находятся наиболее престижные и привилегированные учебные заведения, в том числе старейшие университеты страны, входящие в знаменитую Лигу плюща. В данном случае Джейми Бок, окончивший Университет Дьюка на Восточном побережье, переезжает в Калифорнию, на Запад. — Прим. ред.
(обратно)25
Автор обыгрывает созвучие слов BICEP и biceps. — Прим. ред.
(обратно)26
The Ice — так в Новой Зеландии неформально называют Антарктику. — Прим. ред.
(обратно)27
Race to the bottom (англ.) — гонка по нисходящей, или гонка уступок. Термин, используемый в политике и экономике, в частности когда государства, конкурируя друг с другом, смягчают нормативно-правовой режим. — Прим. ред.
(обратно)28
Первая строка из стихотворения Уолта Уитмена, написанного в 1865 году на смерть президента Авраама Линкольна. — Прим. пер.
(обратно)29
Кому это выгодно? (лат.) — Прим. пер.
(обратно)30
Пер. С. Ошерова. — Прим. ред.
(обратно)31
Название города Провиденс, столицы штата Род-Айленд, переводится как «Провидение». — Прим. пер.
(обратно)32
На самом деле иногда подписывают. — Прим. науч. ред.
(обратно)33
Это авторская концепция. Принято считать, что слово «астроном» с древнегреческого переводится как «наблюдающий, группирующий звезды». — Прим. ред.
(обратно)34
Заголовок «Pop(per) Go the Bubbles» обыгрывает идиому «Pop the Bubbles», где лопнувшие пузыри — символ разрушения иллюзий. — Прим. ред.
(обратно)35
Цит. по: Поппер К. Р. Предположения и опровержения: рост научного знания. — М.: ACT, 2008. — Прим. пер.
(обратно)36
Причина проста: Капица не американец. — Прим. науч. ред.
(обратно)37
«Vote early, vote often» — поговорка, намекающая на коррумпированность процесса выборов. Происхождение фразы трактуют по-разному. — Прим. ред.
(обратно)38
Автор обыгрывает стихотворение Роберта Фроста «Nothing gold can stay». — Прим. пер.
(обратно)39
В английской версии Библии не сучок, а пылинка, а в качестве бревна выступает доска — plank — слово, почти идентичное Planck. — Прим. ред.
(обратно)40
Цит. по: Ганди М. К. Моя жизнь. — М.: Наука, 1969.
(обратно)41
Райнес сделал это открытие в 1956 году вместе с Клайдом Коэном, но Коэн умер в 1974 году. — Прим. пер.
(обратно)42
Пер. Р. Пискотиной.
(обратно)43
Эффект Матфея в науке, согласно Роберту Мёртону, состоит в признании заслуг статусных ученых и игнорировании вклада тех, кто неизвестен. — Прим. ред.
(обратно)44
Заголовок отсылает к названию книги Зигмунда Фрейда «Скорбь и меланхолия». — Прим. ред.
(обратно)




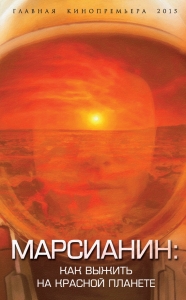
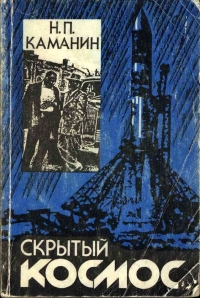

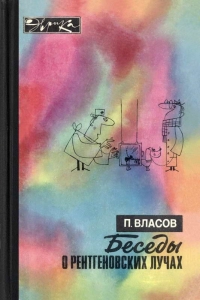
Комментарии к книге «Гонка за Нобелем. История о космологии, амбициях и высшей научной награде», Брайан Китинг
Всего 0 комментариев