В. И. Назаров ЭВОЛЮЦИЯ НЕ ПО ДАРВИНУ Смена эволюционной модели Издание второе, исправленное
This is an essentially new handbook in evolutionary theory, alternative to all the existing ones. Prompting to refuse the idea of natural selection as the main motive force of evolution it imposes a non-darwinian model based on systemic view of the animate nature. The new model is backed up with the full collection of well-founded data of contemporary biology of the last three decades not yet entered into text-books as well as with the richest world arsenal of the non-darwinian evolutionary ideas indebted to the remarkable biologists of the past and our days. Paradoxical as it is, it was established that biological species are generally stable but are capable of mutational changes in the periods of natural and technically induced crises. Drastic changes in our understanding of biological evolution in its meaning extend far out of the life sciences’ limits and directly effect the principles of modern scientific world outlook.
There is yet nothing of this kind in the world literature. Easy and generally comprehensible language not aggravated with highly specialized terms is a distinctive feature of the book.
For teachers, students and graduated students of biological departments, professional biologists, philosophers and biologically educated general public interested in the latest breakthroughs of evolutionary thought.
Предисловие
Эта книга для тех, кто хочет знать, что нового внесено в эволюционную теорию за последние три десятилетия и согласуется ли это новое с теми основами современного дарвинизма, которые преподают в школе и вузе.
Биологи часто сравнивают свою науку с физикой. Они желали бы для биологии такой же точности и таких же незыблемых, раз и навсегда установленных для наших земных условий законов. Но жизнь на несколько порядков сложнее физических явлений, и потому таких законов в ней найдено пока мало. Естественный путь к их установлению заключается в смене идей и новых открытиях. Если же идеи долго не меняются, то чаще всего по двум причинам: учение либо отражает суть объекта исследования, либо превратилось в догму, которую стремятся увековечить.
На деле различить эти два случая не всегда легко. Кто признается, что верит в какую-то теорию, потому что ему так удобнее и спокойнее жить? Скорее могут сказать, что не сомневаются в ней, поскольку она пользуется всеобщим признанием. Но достоин ли такой аргумент настоящей, вечно развивающейся науки, которую по большей части делали гениальные ученые-одиночки? Уже в силу своего одиночества они всегда были обречены идти против господствующего убеждения. И в конечном счете в науке одерживали верх не общепринятые, а верные идеи.
Подобная коллизия характерна и для эволюционной теории, представленной современным дарвинизмом. Дарвинизм оберегают, поддерживают, «развивают» и преподают в России, Европе, США — во всем цивилизованном мире — как единственно верное учение. Но как узнать, соответствует ли оно истине на самом деле?
Верное учение всегда открыто для критики. Его собственная рефлексия означает способность к самокритике. Вспомним, что Ч. Дарвин включил в «Происхождение видов» главы VI «Трудности теории» и VII «Разнообразные возражения против теории естественного отбора». Современные последователи Дарвина избегают упоминаний о трудностях (часто маскируя их произвольными экстраполяциями), не воспринимают критику и предпочитают высокомерно игнорировать все, что считают вызовом устоявшимся представлениям. При этом надо отметить, что сам факт длительного существования защищаемой ими эволюционной парадигмы создает обманчивое впечатление ее солидной обоснованности и безграничной плодотворности.
Верное, а точнее правильно построенное, учение опирается на положения, поддающиеся опытной проверке, и предполагает возможность опровержения (фальсификации). Дарвинизм и в особенности синтетическая теория эволюции как гипотетико-дедуктивные построения, отрицающие применимость эксперимента и наблюдения к познанию эволюционных механизмов, опровержению не подлежат. Поставив себя выше фактов, они как бы заранее побеспокоились о своем увековечении.
Думается, что и сравнение с прогрессом генетики, дисциплины особенно близкой к эволюционной теории и которую селекционисты считают ее фундаментом, дает весьма красноречивое свидетельство состояния синтетической теории. За 60 лет — время, на которое развитие этой теории практически остановилось, — молекулярная генетика, в особенности знания об организации и функционировании генома, осуществила фантастический взлет. Откуда такое различие в судьбах этих наук?
Вернемся к сопоставлению биологии с физикой. В мире нет ученых, которые, скажем, вместо законов Ньютона, Дальтона, Гюйгенса или Фарадея предлагали бы что-то иное. Да и сама мысль о возможности их замены показалась бы абсурдной. В эволюционной теории другая ситуация. Здесь альтернатива дарвинизму существовала на всем протяжении его истории, и она особенно актуальна в наши дни. Не было недостатка и в авторах, предлагавших новые теории. Это были выдающиеся мыслители и натуралисты, люди высокой научной интуиции, но их в свое время осмеяли или проигнорировали и расценили как «блудных сынов» науки. Теперь настал их звездный час, и мы расскажем в книге об их смелых гипотезах.
Поэтому естественным является вопрос ко всем, кто причастен к сохранению status quo в эволюционной теории: почему в учебниках по этой дисциплине и, соответственно, в лекциях профессоров и преподавателей нам все еще преподносят модель эволюции 1930-1940-х годов? Почему о новых моделях даже не упоминается? Понятно, что в учебники включаются только устоявшиеся, всесторонне проверенные представления, но тогда уместен вопрос: сколько лет должны «выдерживаться» и ждать своей очереди новые знания, прошедшие экспериментальную проверку? Разве не правильнее было бы для начала изложить в учебнике наряду с канонической теорией и другие взгляды?
Мы не сомневаемся, что рано или поздно новое знание пробьет себе дорогу. Желая всячески приблизить этот момент, мы решили написать книгу, в которой были бы собраны воедино все самые последние достижения эволюционной мысли недарвиновской ориентации, равно как и аналогичные идеи прошлого. Точнее говоря, мы постарались проследить судьбу каждой достойной внимания идеи от ее зарождения до сегодняшних дней.
Насколько нам известно, подобной попытки еще никто не предпринимал. Книга профессора Н. Н. Воронцова «Развитие эволюционных идей в биологии» (1999) — труд замечательный во многих отношениях — построена по другому принципу. Это прежде всего история современного дарвинизма, написанная одним из ярких представителей его творческого крыла. Альтернативные концепции отражены в ней весьма скупо. К тому же книга написана сугубо популярно, в расчете на массового читателя, не искушенного в научных вопросах специального характера. Ряд самых последних достижений молекулярной генетики и эволюционной теории в ней просто не рассматривается.
Но почему же для нашего труда мы все-таки избрали исторический метод? Основанием для этого послужили несколько обстоятельств.
Известно, что наука развивается по спирали, путем отрицания отрицания. Судьбы многих эволюционных идей могут служить наглядной демонстрацией этого правила. Назовем хотя бы ламаркизм или сальтационизм. Многократно раскритикованные и осмеянные, они переживают ныне настоящую реабилитацию и относятся к ряду самых новейших достижений эволюционизма. Многие другие завоевания эволюционной мысли заставляют не только вспомнить давно забытые идеи, но и побудить их снова работать. Так, часть возражений теории Дарвина более чем столетней давности, на которые в свое время не обратили должного внимания, опять обрела актуальность и вновь ставит селекционистов в тупик. Большинство последних даже искренне полагает, что выдвигает такие возражения впервые.
В эволюционном учении как науке о закономерностях истории органического мира каждое понятие и каждый термин имеют глубокие исторические корни, отражают прочные и длительные научные традиции и органическую связь с философией и методологией. Поэтому осмыслить его современные достижения в отрыве от прошлого практически невозможно. Исторический опыт и сложившаяся на его основе определенная культура познания приобретают для ориентации в новейших теориях тем большее значение, если учесть, что многие из них еще не получили однозначной методологической оценки. Рост числа эмпирических данных недавнего времени явно опередил их философское осмысление. К примеру, все еще приходится встречаться с непониманием того факта, что Линней и Кювье сделали для торжества эволюционной идеи гораздо больше, чем Ламарк, Жоффруа Сент-Илер, Рулье и все трансформисты-натурфилософы вместе взятые. А самое удивительное, что их вклад в биологию продолжает служить концептуальной опорой для ряда ультрасовременных недарвиновских гипотез. Мы убеждены, что подлинное значение новейших открытий и идей нельзя осмыслить, не зная, что им предшествовало. Сегодняшняя наука в отрыве от своей истории выглядит такой же обедненной, как человек, не помнящий своих предков.
Наконец, интерес к истории, в том числе к истории науки, — обязательный атрибут культурного и мыслящего человека. Эволюционная теория с самого момента своего появления более чем какая-либо иная биологическая дисциплина, стала важнейшим компонентом культуры. Со временем такое же значение приобрела и история эволюционных учений. Им не в последнюю очередь интеллигентный человек обязан своим духовным обогащением. Можно довериться гению А. С. Пушкина, признававшего, что «следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная». Это сказано о Петре Великом.
Ученые-эволюционисты, имена которых мы теперь с благодарностью вспоминаем, были, бесспорно, великими людьми, достойными нашего внимания. Современный же биолог, приобретший вкус к истории, уподобляется садовнику, испытывающему наслаждение, следя за тем, как распускается цветок, за которым он долго ухаживал и которого раньше никогда не видел.
Наша книга состоит из пяти частей. В части I мы рассматриваем собственно теорию Ч. Дарвина и ее преемницу — синтетическую теорию эволюции, уделяя особое внимание причинам их научной несостоятельности. В части II говорится о специфике проблем макроэволюции, которая явилась главным камнем преткновения для селекционизма. Часть III посвящена первым течениям эволюционной мысли, оппозиционным дарвинизму. Часть IV содержит самый новый материал и отчасти новое прочтение ранее уже существовавших представлений — того, что еще не было подвергнуто обобщению и оценке. В части V читатель найдет краткое изложение новой, «подвижной» генетики, соображения о том, как соотносятся строение и функционирование генома, с одной стороны, и морфологическая эволюция — с другой. Здесь же отражены новые системные представления о причинах эволюции и ее наиболее вероятный системный механизм.
Создание книги, которая охватила бы с одинаковой полнотой все стороны недарвиновских концепций эволюции, в особенности построенных на современном материале молекулярной биологии, — задача огромной сложности. Автор и не ставил перед собой такой задачи. Он стремился лишь адекватно, без искажений воспроизвести главные, стержневые идеи этих концепций и дать их оценку с позиций представлений о биологических объектах как активно развивающихся системах. Вполне естественно, что представляемый на суд читателей труд страдает многими недостатками, и в частности неравномерностью освещения отдельных фактов и гипотез. Мы сожалеем также, что не во всех главах частей III и IV удалось выдержать разграничение материала по хронологическому принципу. Несмотря на указанные недостатки, мы надеемся, что книга будет способствовать переосмыслению широкими кругами специалистов-биологов, преподавателей средней и высшей школы, а также философами и методологами науки ситуации в современном дарвинизме и ускорит восприятие ими новой эволюционной парадигмы, об отдельных элементах которой пока можно прочесть лишь в специальных изданиях.
Нам хотелось бы подчеркнуть, что, в то время как современные селекционисты, вероятно, хотели бы воздать дань памяти и уважения Ч. Дарвину путем консервации его учения, наша книга отражает как бы противоположное намерение. Для правильного суждения по этому вопросу нам представляется необходимым отделить теорию от личности ее создателя.
Автор этой книги долгое время всецело разделял дарвинизм, верил в незыблемость его главных положений, видя в классической генетике их лучшее подтверждение. Но пристальное изучение огромного разнообразия недарвиновских учений (сначала с целью их критики) и данных современных исследований побудило его к болезненному, как утрата чего-то самого дорогого и привычного, пересмотру взглядов на механизмы эволюции. Этот процесс не отразился, однако, на моем восхищении личностью Дарвина как ученого. Именно теперь я в полной мере осознал, что Дарвин велик не только тем, что создал знаменитую теорию, но и тем, что был всегда готов от нее отказаться, если бы появилась лучшая. В этом непреходящее величие его творческой личности, в этом же секрет того, почему ученые и нынешнего, и будущего поколений всегда будут сверять свои новые гипотезы с «Происхождением видов». Поэтому те, кто хочет превратить дарвинизм в своего рода символ веры на вечные времена, оказывают памяти Дарвина плохую услугу.
Автор выражает глубокую признательность Ю. П. Алтухову, Л. И. Корочкину, М. Б. Евгеньеву, М. Д. Голубовскому, Ю. В. Чайковскому, Е. А. Ароновой за щедрую консультативную помощь и предоставление оттисков публикаций, редких изданий и материалов, а также Д. Б. Соколову, О. Я. Пилипчуку (Киев) и П. Э. Тарасову за участие в техническом оформлении книги. Считаю также своим приятным долгом выразить искреннюю благодарность коллегам из Голландии — г-же Венди Фабер и г-ну Виму Хейтингу — за предоставление портрета Я. П. Лотси, никогда в России не публиковавшегося.
Эволюционная идея до Дарвина (вместо введения)
Не будем углубляться в слишком далекие времена и начнем наш краткий обзор с середины XVIII в, когда на фоне господства представлений о неизменности видов (фиксизм, креационизм) зародились первые догадки об изменяемости живой природы. Отдельные натуралисты и философы все чаше стали замечать изменения, происходящие у растений и животных под действием пищи, климата, одомашнивания, а также высказывать предположения о смене целых флор и фаун в истории Земли. Однако такие изменения и превращения органических форм считались возможными лишь в пределах общего плана строения групп, и никто еще не допускал мысли, что сами типы организации могли сменять друг друга в рамках единого процесса исторического развития от простого к сложному. Это сделал только Ламарк уже в начале следующего столетия. Такие представления, в отличие от эволюционизма, называют трансформизмом.
Оставим в стороне таких французских натурфилософов, как Мопертюи, де Майе, Робине и де Ламетри. В их взглядах реальное еще прочно соединено с фантастическим, вымышленным. Впрочем, стоит отметить, что первых двух мыслителей иногда воспринимают как неких полумифических крестных отцов сальтационизма.
Ж. Бюффон и Ж. Кювье. По общему признанию, родоначальником трансформизма является выдающийся французский естествоиспытатель Жорж Луи Леклерк Бюффон (1707–1788). В своей «Естественной истории» он обосновал оригинальные представления о развитии Земли, о возникновении живых организмов из неорганических веществ и об их постепенном историческом развитии от простых форм к более сложным. Бюффон видел доказательство единства происхождения в сходстве плана строения животных и объяснял его у близких видов их происхождением от общих предков. Перечисляя естествоиспытателей, высказавшихся в пользу изменяемости видов, Ч. Дарвин отмечал: «…первый из писателей новейших времен, обсуждавший этот предмет в истинно научном духе, был Бюффон» (Соч. Т. 3. 1939. С. 261).
Объемистая книга Бюффона «Об эпохах природы» была издана им уже на склоне лет — в 1778 г. и как бы подвела итог его трансформистским представлениям. В центре рассмотрения — история кашей планеты и сопутствующая ей смена органического мира. Описывая картины последовательных состояний земной поверхности, Бюффон останавливается прежде всего на вероятном возникновении самой Земли из части Солнца, выбитой ударом столкнувшейся с ним кометы. Произошло это событие, как считает Бюффон, 75 тыс. лет назад.
В общей сложности Бюффон выделяет в истории Земли шесть эпох и добавляет к ним еще одну — современную. В течение первых двух эпох поверхность земного шара была настолько горяча, что на ней не могло быть не только жизни, но и воды в жидком состоянии. Живые существа возникли в третью эпоху, когда свободные воды покрыли первичные материки. В горячей воде первозданного океана появились тогда аммониты с раковинами гигантских размеров, а на горах — деревья и травы. Четвертая эпоха была отмечена бурными геологическими событиями — извержениями вулканов, обвалами, сильными бурями, потопами и т. п., уничтожавшими первых сухопутных животных. С наступлением более спокойной пятой эпохи Земля заселилась начиная с полюсов (где жара спала раньше, чем на экваторе) крупными млекопитающими (носорогами, гиппопотамами, слонами (Бюффон ошибочно называл слонами мамонтов)). Шестая эпоха ознаменовалась разделением Старого и Нового Света. Это произошло совсем недавно, когда Север уже был заселен четвероногими и людьми. Отличительная черта современной (седьмой) эпохи связана, по Бюффону, с деятельностью человека, начавшего помогать силам природы.
Этой краткой характеристики эпох Земли, данной Бюффоном, вполне достаточно, чтобы убедиться в фантастичности представленной картины. Что касается причин постепенного появления все более совершенных и все более близких к современным животных, то Бюффон связывал их главным образом с актами соединения органических молекул и явлением самозарождения. Однако при всей научной несостоятельности концепции Бюффона в ней содержалась правильная догадка, имеющая непосредственное отношение к нашей теме: великий натуралист установил существование на Земле поэтапной смены организмов, отличавшихся друг от друга своей организацией.
Тот же факт смены фаун в истории Земли пятьдесят лет спустя подтвердил Жорж Кювье в знаменитом трактате «Рассуждение о переворотах на поверхности земного шара» (Cuvier, 1830; Кювье, 1937), но дал ему иную трактовку. Изучая ископаемые остатки животных в последовательных пластах земной коры, Кювье обратил внимание, что они принадлежат совершенно различным фаунам.
В момент геологической истории, соответствующий границе между соседними слоями, представители предыдущей фауны внезапно исчезают — как бы вымирают, уступая место иным формам.
Отмечая эту закономерность, Кювье устанавливает основной метод будущей биостратиграфии и закладывает начало исторической геологии. Одновременно он приходит к выводу, что причиной массового вымирания животных на огромных пространствах могли быть только геологические перевороты катастрофического масштаба. О том, что именно перевороты или катастрофы обусловливали смену последовательного животного населения Земли, неопровержимо свидетельствуют, по мнению Кювье, факты обнаружения горизонтальных слоев осадочных пород с остатками морских организмов на больших высотах над уровнем моря. Разве не доказывают они, что некогда на этом месте было дно моря, впоследствии изменившего свое местоположение или прекратившего существование?
Не менее доказательными представляются Кювье и события последней катастрофы, оставившей во льдах северных стран трупы крупных четвероногих, например мамонтов, сохранившиеся целиком вместе с кожей и шерстью. «Если бы они [эти четвероногие], — пишет Кювье, — не замерзли тотчас после того, как были убиты, гниение разложило бы их. С другой стороны, вечная мерзлота не распространялась раньше на те места, где они были захвачены ею, ибо они не могли бы жить при такой температуре. Стало быть, один и тот же процесс и погубил их, и оледенил страну, в которой они жили» (Кювье, 1937. С. 82). После краткой характеристики самих катастроф Кювье резюмирует: «Итак, жизнь не раз потрясалась на нашей Земле страшными событиями. Бесчисленные живые существа становились жертвой катастроф: одни, обитатели суши, были поглощаемы потопами, другие, населявшие недра вод, оказывались на суше вместе с внезапно приподнятым дном моря; сами их расы навеки исчезли, оставив на свете лишь немногие остатки…» (там же, с. 83).
К числу бесспорных катастроф Кювье относил всемирные потопы библейских времен, реальность которых ныне подтверждается не только дошедшими до нас древними преданиями, но и археологическими данными. Кювье пытался доказать, что «большая часть катастроф … была внезапной», и, отмечая незнание их причин, склонялся к мысли, что они вызывались факторами, ныне уже не действующими.
Создав теорию катастроф, уничтожавших все живое, Кювье впервые поставил перед наукой важную проблему вымирания организмов. Однако, будучи сторонником постоянства видов, он решительно отрицал существование преемственности, какой-либо генетической связи между погибшей и пришедшей ей на смену новой фауной. При этом он ссылался на отсутствие между ними переходных форм.
Кювье фактически ушел от вопроса, откуда же после гибели прежней фауны берется новая, представители которой отличаются совершено иной и, как правило, более высокой организацией. Этот вопрос вовсе не решает известная оговорка, будто во время катастрофы гибли не все животные планеты и будто безжизненное пространство заселялось потом эмигрантами «из других мест». Эту «недоработку», недосказанность теории Кювье ясно сознавали его ученики и последователи — д’Орбиньи и Агассис, впоследствии дополнившие доктрину своего учителя представлением о многократных творческих актах. Эта же недосказанность послужила в XX в. основанием для противоположных суждений о том, был ли Кювье креационистом.
Критики, стремившиеся освободить Кювье от этой нелестной характеристики, обычно приводят следующее место из его книги. «В конце концов, — писал Кювье, — когда я утверждаю, что каменные пласты содержат кости многих родов, а рыхлые слои — кости многих видов, которые теперь не существуют, я не говорю, что нужно было новое творение для воспроизведения ныне существующих видов…» (там же, с. 150). Однако логика самой концепции гораздо существеннее отдельных высказываний. Она такова, что при невозможности превращения одних фаун в другие в процессе эволюционного развития, на чем категорически настаивал Кювье, необходимо повторное создание видов сверхъестественным путем. И введя эти повторные творческие акты в теорию, последователи Кювье придали ей логическую завершенность. Поэтому совершенно справедлива оценка Ф. Энгельса, указавшего, что «на месте одного акта божественного творения она [теория Кювье] ставила целый ряд повторных актов творения…» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 352).
Впрочем, скрытый креационизм Кювье отнюдь не умаляет его заслуг перед наукой. Он твердо установил непреложный факт последовательной смены фаунистических комплексов и создал точный научный метод исследования, который несколько десятилетий спустя позволил дать этому факту истинное истолкование. В этом смысле можно сказать, что для грядущего торжества идеи эволюции Кювье сделал отнюдь не меньше, чем современные ему натурфилософы-эволюционисты.
Широкие трансформистские представления развивал Эразм Дарвин (1731–1802), дед Чарлза Дарвина. Он был врачом, натуралистом и поэтом. Его естественно-историческая поэма «Храм природы» напоминает по стилю древнюю поэму Лукреция Кара «О природе вещей». Как приверженец трансформизма, Эразм Дарвин принимал происхождение всех видов от простой «живой нити», которую великая первопричина одарила жизненностью, способностью приобретать новые свойства и усложняться в строении… Новые особенности организмов, по его мнению, появлялись вследствие упражнений и усилий того или иного органа в известном направлении. Передаваясь по наследству, индивидуальные особенности превращались в видовые. Эволюционные взгляды Эразма Дарвина, таким образом, в известной мере предвосхищали идеи Ламарка. На это обстоятельство обратил внимание и Чарлз Дарвин. Он писал: «Любопытно, в каких широких размерах мой дед, Эразм Дарвин … предвосхитил воззрения и ошибочные основания, которыми руководствовался Ламарк» (Соч., Т. 3. 1939. С. 261–262).
В конце XVЛI в, обостряется борьба между сторонниками креационизма и трансформизма. На позициях последнего стоял соотечественник и современник Кювье — Этьен Жоффруа Сент-Илер (1772–1844). Он считал, что природа создала все живые организмы по одному-единственному плану, но варьирующемуся на тысячи ладов во всех второстепенных частях. В историческом процессе преобразования форм он придавал ведущее значение изменяющему действию внешней среды и возникновению внезапных отклонений в зародышевом развитии. Ныне существующие формы животных, по Жоффруа Сент-Илеру, появились постепенно, развились исторически из ранее существовавших форм. Так, предками современных крокодилов он считал найденных им в Нормандии ископаемых ящеров.
Знаменитый спор Кювье и Жоффруа Сент-Илера стал кульминационной точкой борьбы креационизма и трансформизма. Он разразился на заседаниях в парижском Музее естественной истории в 1830 г. Формально диспут шел по узкоспециальным вопросам морфологии животных, но, по существу, это был спор об эволюции или постоянстве видов. Отстаивая единство плана строения всех животных и, стало быть, их родство, Жоффруа Сент-Илер утверждал, что головоногий моллюск сепиа может быть сведен к типу позвоночных, если вообразить, что «позвоночный столб» сепии дважды загнут назад, причем концы его сошлись на плечах и затем срослись вместе. Тогда внутренности сепии окажутся расположенными по отношению друг к другу так же, как у животных, принадлежащих к типу позвоночных.
Конечно, такой надуманный, произвольный прием доказательства не смог убедить участников и свидетелей спора, Кювье вышел из него победителем. В результате в сравнительной анатомии восторжествовала теория четырех типов строения животных, а трансформизм, потерпевший поражение, на некоторое время уступил место креационизму.
Ламарк и его учение. На рубеже XVIII–XIX вв. во Франции, только что пережившей Великую французскую революцию, в одном и том же учреждении — парижском Музее естественной истории — работали три великих натуралиста: Жорж Кювье, Этьен Жоффруа Сент-Илер и Жан Батист Ламарк. Все трое были профессорами музея, богато одаренными людьми, беззаветно преданными науке и ревностно служившими ей. Но как по-разному сложились их судьбы!
Кювье сделал блестящую карьеру и еще при жизни был вознесен на высоту, редкую для крупного ученого. Он постоянно был окружен всевозможными почестями, имел много учеников, одно время занимал должность министра, получил звание пэра Франции и кресло «бессмертного» в Академии наук.
Жоффруа Сент-Илер был самым младшим по возрасту в этой замечательной троице, но благодаря своим способностям уже в 21 год стал профессором-администратором музея, а несколько позже — директором Парижского зоопарка. Однако после поражения в споре с Кювье его карьера стала клониться к закату. Он умер, лишенный своих почетных должностей.
Судьба третьего ученого — Жана Батиста Пьера Антуана де Ламарка (1744–1829) — оказалась наименее счастливой. Известность пришла к Ламарку в 1777 г. с публикацией трехтомной монографии «Флора Франции» и изобретением дихотомических определительных таблиц. Несколько ранее он познакомился и подружился с Бюффоном, в то время директором Королевского ботанического сада в Париже. При его поддержке Ламарк в 1779 г. был избран членом Академии наук и стал «королевским ботаником». И то и другое было престижным, но не давало денег.
Как известно, на 50-м году жизни Ламарку пришлось переквалифицироваться и стать зоологом. В 1794 г. Ламарк возглавил кафедру насекомых и червей в Национальном музее естественной истории, быстро освоил новую специальность и сделал ряд ценных обобщений в зоологии. Он пересмотрел, например, и существенно дополнил систематику животных, впервые разделив их на позвоночных и беспозвоночных. Однако Ламарк с горечью отмечал, что, хотя такое деление уже принято многими натуралистами, «они приводят его в своих трудах, так же как и ряд других моих наблюдений, не ссылаясь, однако, на их источники» (Ламарк, 1955. С. 12).
К моменту, когда у Ламарка сложились эволюционные представления, он превратился в постоянный объект насмешек и невежественного зубоскальства. Лишь немногие коллеги сохранили к нему симпатию и искреннее уважение. После опубликования своего классического труда «Философия зоологии» (1809) Ламарк прослыл бесплодным мечтателем и тяжело переживал свое идейное одиночество.
Не повезло Ламарку и с теорией метеорологических прогнозов, основанной на учете положения Солнца и Луны. Чтобы доказать правильность своей теории, он в течение нескольких лет публиковал календари с прогнозами погоды. Прогнозы не оправдались, и это послужило дополнительным поводом для новых насмешек. Дошли до него и обидные замечания Наполеона. К концу жизни Ламарк ослеп, лишился средств к существованию и умер в безвестности. Его могила не сохранилась. На похоронах дочь Ламарка сказала пророческие слова: «Потомство отомстит за Вас, отец!» В 1909 г. они были высечены на впервые установленном памятнике этому великому человеку.
В наше время имя Ламарка как создателя первой целостной эволюционной теории заняло подобающее ему место в истории мировой науки. Ламарк впервые превратил проблему эволюции в предмет специального изучения, в особое направление биологических исследований. Эволюционное учение Ламарка в наиболее полном и законченном виде изложено в его труде «Философия зоологии» и в более краткой форме — во введении к семитомной «Естественной истории беспозвоночных» (1815). В основе этого учения лежит, бесспорно, идея градации, или внутреннего «стремления к совершенствованию», имманентного всему живому. Действие этого фактора определяет поступательное развитие живой природы, постепенное, но неуклонное повышение организации живых существ — от инфузорий до млекопитающих и человека. Отметим, что градационный процесс считали ведущим в доктрине Ламарка такие признанные советские исследователи его творчества, как А. А. Парамонов (1945) и И. И. Пузанов (1959).
К идее градации как главной движущей силы эволюции Ламарк пришел скорее от систематики, чем от данных об ископаемых формах, сведения о которых до Кювье были крайне скудны. Фактически отправной точкой для идеи послужило широко бытовавшее в XVIII в. представление о «лестнице существ». Но гениальность Ламарка в том и состояла, что он сумел придать тривиальной идее новое качество. Он сделал эту «лестницу» непрерывно движущейся, эволюционной, где одна «ступень» незаметно переходила в другую.
В вопросе о причине градации Ламарк недалеко ушел от взглядов, типичных для философов и натуралистов XVIII в. Будучи деистом, он полагал, что градация выражает собой естественный «порядок» природы, «насажденный верховным Творцом всего сущего», порядок, который после того, как однажды был установлен, уже более не требует вмешательства для своего поддержания.
Важно отметить, что Ламарк всегда связывал градацию с прогрессом, т. е. с повышением уровня организации. Отождествляя понятие градации и прогресса, он настаивал на существовании такого «порядка природы», при котором организация, идущая по пути усложнения, никогда не испытывает деградации. Напротив, природа «имела цель достичь такого плана организации, который допускал бы наивысшую степень совершенства…» (Ламарк, 1955. Т. 1. С. 296). Ламарк отмечает, что градация легко прослеживается при сравнении крупных систематических групп — типов и классов, и в гл. 8 первой части «Философии Зоологии» дает ее подробную иллюстрацию, располагая 1037 родов животных по 14 классам и шести ступеням организации.
Сделаем тут же оговорку, что в ряде случаев Ламарк пытался дополнить свою теологическую трактовку градации допущением участия в этом процессе механических сил. Так, нередко не только усложнение организации, но и зарождение нижних форм жизни, якобы продолжающееся и в наши дни, он связывает с «увеличением энергии движения» гипотетических флюидов.
В полном согласии с концепцией градации как неуклонного прогресса, а эволюции в целом как плавного гармонического процесса, лишенного каких бы то ни было перерывов, находится ошибочное утверждение Ламарка об отсутствии естественного вымирания видов. Ископаемые формы, по Ламарку, не вымерли, а только изменились и теперь существуют, приняв облик современных видов. В этом смысле Кювье, доказавший существование вымирания, сделал существенный шаг вперед. Пользуясь современной терминологией, можно сказать, что ламарковская градация преимущественно соответствовала филетической эволюции.
Опираясь на собственные ботанические и зоологические изыскания, Ламарк показал, что существует ряд естественных групп, в пределах которых соседние виды сложно отличить друг от друга. Он указывал, например, на трудности разграничения близких видов дневных и ночных бабочек, мух, жуков-долгоносиков и усачей, а среди растений — осок, молочаев, вересков, ястребинок и т. д. Все эти трудности, по Ламарку, проистекают из того, что между видами существуют постепенные переходы, «лишающие нас средств наметить между ними линии раздела». Наличие же этих переходов доказывает, что виды находятся в состоянии движения, т. е. постепенно изменяются, превращаясь в другие.
Установив изменяемость видов, Ламарк попытался уяснить порядок и некоторые закономерности эволюции. Согласно его теории, первые земные организмы произошли и продолжают возникать ныне путем самозарождения из тел неорганической природы. Природа начала и всегда вновь начинает с образования простейших живых тел. Она не могла и не может направлять развитие от сложного к простому. Ее ход противоположен — от простого к сложному. Поэтому и классификация растений и животных должна отображать этот порядок природы — процесс развития от низших к высшим. По словам Ламарка, создав путем затраты огромного времени всех животных и все растения, природа образовала в том и другом царстве настоящую лестницу, отвечающую все возрастающей сложности в организации живых тел.
Другим движущим фактором эволюции служит, по Ламарку, постоянное влияние внешней среды, или «обстоятельств», приводящее к нарушению правильной градации и обусловливающее выработку всевозможных приспособлений организмов к окружающим условиям. По поводу взаимодействия обоих постоянно действующих факторов Ламарк пишет следующее: «Если бы причина, непрерывно влекущая за собой усложнение организации, была единственной причиной, влияющей на форму и органы животных, то возрастающее усложнение организации шло бы повсюду с непрерывно правильной последовательностью. Но это далеко не так. Природа вынуждена подчинять свои действия влиянию обстоятельств, а эти обстоятельства многообразно изменяют ее создания» (Ламарк, 1955. Т. 1. С. 277). И далее Ламарк на абстрактном примере какой-то гипотетической группы водных животных разъясняет, что условием правильной (прямолинейной) и постепенной градации было бы обитание в воде с абсолютно одинаковой температурой (у Ламарка — климатом) и составом, на одной и той же глубине и т. д. В реальной же обстановке градация распадается на несколько рядов (разветвлений). Внешняя среда сказывается главным образом на видовых и родовых признаках, она является основной причиной видообразования.
Согласно взглядам Ламарка, эволюция носит приспособительный характер. Все живые организмы обладают врожденной способностью изменяться так, как этого требуют данные условия среды. Проистекает эта способность (столетие спустя ее стали называть изначальной целесообразностью) от какой-то таинственной силы, заложенной во всем живом.
В зависимости от организации организмов их приспособительные изменения принимают две разные формы. Растения и низшие животные, лишенные нервной системы, изменяются под непосредственным воздействием среды — таких ее составляющих, как температура, свет, влага, пища. Высшие животные, обладающие нервной системой, изменяются благодаря косвенному воздействию внешних условий, и здесь наблюдается следующая цепочка событий. Сколько-нибудь значительная перемена в окружающих условиях приводит к изменению потребностей животных, обитающих в данной местности; изменение потребностей влечет за собой изменение привычек, направленных на их удовлетворение; изменение привычек имеет следствием более частое употребление и усиление одних органов и неупотребление и, стало быть, ослабление и атрофию других. Изменения органов, происходящие под влиянием их упражнения, Ламарк назвал законом (первый закон Ламарка).
Здесь следует особо отметить одну важную сторону в представлениях Ламарка, которую в дальнейшем развили психоламаркисты. Ламарк включал в понятие привычек «усилия», «напряжение воли», неосознанное или полуосознанное стремление животных к удовлетворению потребностей, которые и влекли за собой усиленное или, наоборот, ослабленное употребление соответствующих органов. Эти волевые акты животных Ламарк иллюстрировал многими гипотетическими примерами, в том числе самым известным, касающимся удлинения шеи жирафы.
Все, что организмы приобрели или утратили в результате прямого приспособления или упражнения/неупражнения органов, сохраняется в потомстве (второй закон Ламарка, или закон наследования приобретенных признаков). Этот процесс наследственного закрепления приобретенных признаков зависит от длительности воздействия изменившихся условий: первоначально возникшие изменения являются обратимыми, а в случае устойчивого сохранения новых условий становятся необратимыми (унаследованными). Соответственно, старый вид мало-помалу превращается в новый.
Таким образом, в учении Ламарка органическая эволюция слагается из двух не связанных друг с другом процессов, определяющихся различными причинами. Градация — это образование таксонов высшего ранга, прямо совпадающее с понятием мегаэволюции, принимаемым некоторыми современными авторами, а приспособление под действием среды — это процесс видо- и ро-дообразования, включающий всю микро- и часть макроэволюции в нынешнем их понимании. Можно даже сказать, что приспособительный процесс, по смыслу доктрины Ламарка, всего лишь сопровождает эволюцию (градацию), но не является ее сущностью. Хотя в некоторых последующих работах Ламарка проявилось определенное стремление к сближению обоих факторов эволюции, в главном труде «Философия зоологии» их разграничение специально подчеркнуто.
Ламарк идет, однако, в этом вопросе еще дальше, указывая, какие именно органы и свойства организмов подчиняются градации и какие — обстоятельствам. Об этом совершенно четко сказано в статье «Способность» (1817). Приведем то место из нее, где говорится о необходимости различать два рода способностей:
«1. Способности постоянные, имеющие первостепенное значение, производимые либо органами, либо системами органов и являющиеся результатом силы жизни, иначе говоря, — те способности, которые изменяющаяся причина (обстоятельства) не в состоянии уничтожить.
2. Способности, подверженные изменению под влиянием обстоятельств, имеющие меньшее значение, производимые органами и возникающие в результате как влияния обстоятельств, так и в результате силы жизни; способности, которые в дальнейшем могут изменяться и даже исчезать под влиянием длительного воздействия новых обстоятельств» (Ламарк, 1959. Т. 11. С. 320). Способностям первого рода отвечают «существенные» органы, относящиеся прежде всего к нервной, кровеносной и дыхательной системам. Способностям второго рода отвечают органы и структуры, связывающие организм с внешней средой. Таковы, в частности, органы чувств, органы движения, покровные образования и т. п. Отсюда видно, что именно Ламарк был родоначальником идеи деления признаков на организационные и приспособительные, или общие и частные.
Эволюционное учение Ламарка завершило трансформистский период в развитии эволюционизма, явившись плодом и венцом науки XVIII в. С победой Кювье в диспуте 1830 г. с Жоффруа Сент-Илером эволюционные идеи были на долгие годы забыты. Биологи вернулись к креационистским представлениям и продлили их безраздельное господство вплоть до появления дарвинизма.
Часть I. ДАРВИНИЗМ И СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ
Глава I. Эволюционная теория Ч. Дарвина
Великие творения человеческого ума живут гораздо дольше своих создателей. Каждая эпоха вносит в них что-то новое, ибо наука не стоит на месте. Вместе с новым знанием в теорию входят новые представления и понятия, обновляется язык, которым она описывается, появляются даже дополнительные концепции, но исходные принципы в основе своей сохраняются, и благодаря этому несмотря на все нововведения в теории ясно просматривается и первоначальная модель. Теория продолжает жить, но в новом одеянии. Такова судьба и эволюционной теории Ч. Дарвина.
Однако и основные принципы теории подвержены действию времени. Каждое новое поколение оценивает их хоть чуть-чуть, но по-новому. Главной заслугой Дарвина всегда считалось не обоснование идеи эволюции, а открытие ее основного движущего механизма — естественного отбора. Этот фактор позволил одновременно уяснить возникновение новых видов и происхождение органической целесообразности. По авторитетному мнению крупного дарвиниста А. А. Парамонова, Дарвин дал причинное объяснение эволюционного процесса и этим отодвинул на второй план необходимость в его доказательстве.
Научное и мировоззренческое значение открытия естественного отбора огромно. Оно не только предопределило на многие десятилетия развитие комплекса биологических дисциплин, но и стало ключевым принципом естествознания в целом, обогатило арсенал существующих методов научного познания и тем самым вошло в качестве важного компонента в философию и культуру.
В наши дни существование естественного отбора в природе никто не ставит под сомнение. Он по-прежнему сохраняет за собой роль ведущего направляющего фактора в популяционных процессах. Но, в связи с тем что значение последних для эволюции подверглось переоценке, истинная роль естественного отбора в эволюции оказалась много скромнее, чем была в «зрелой» теории Дарвина, изложенной в «Происхождении видов». И не случайно мы обращаем теперь все большее внимание на самые ранние эволюционные представления Дарвина, на его «незрелую» теорию, когда он был сальтационистом, а идея естественного отбора еще только вынашивалась. Весьма вероятно, что повышенный интерес последнего времени к истории формирования дарвинизма не в последнюю очередь стимулируется определенной переориентацией части эволюционистов на новые эволюционные модели. Поэтому традиционный прием начинать изложение дарвинизма с истории его создания приобретает для нашей книги особое значение.
Зарождение теории
Дарвину было всего 22 года, когда осенью 1831 г. он в качестве натуралиста отправился в кругосветное плавание на английском военном корабле «Бигль». Поднимаясь на борт корабля, он еще не знал, что это событие определит весь его творческий путь.
Как прирожденного натуралиста, Дарвина не могла не захватить тропическая природа малоизведанных стран, представшая перед ним во всем своем первозданном великолепии. Став во многом ее первооткрывателем, Дарвин не мог уже свернуть с однажды избранного пути.
К моменту начала путешествия интересы Дарвина к геологическому прошлому Земли окончательно определились, и он уже владел опытом палевых исследований. Немаловажно, что по совету минералога Генсло он взял с собой только что вышедший 1-й том «Основ геолргии» Лайеля (1830), содержавший первую целостную теорию эволюции лика Земли. Теория была построена на основе актуалистического метода, признающего единство геологических сил настоящего времени и далекого прошлого. Эта книга оставалась для Дарвина настольной и после его возвращения из путешествия. Как видно из записных книжек Дарвина, он отправлялся в экспедицию правоверным креационистом, а вернулся из нее исполненным сомнений в постоянстве видов.
За пять лет плавания Дарвин посетил западное и восточное побережья Южной Америки, многие острова Тихого и Атлантического океанов, прибрежные воды Австралии и Новой Зеландии, южный берег Африки и вторично — побережье Бразилии. Наблюдения и материалы, собранные во время путешествия, послужили важнейшим источником для будущей теории эволюции. Само путешествие Дарвин описал в отдельной книге, вышедшей в свет в 1839 г. (Дарвин, 1935).
Во время трехлетнего пребывания в Южной Америке Дарвин уделил много времени изучению геологического строения этого континента, близлежащих вулканических островов, строению и распределению коралловых рифов и впоследствии опубликовал по этим темам три книги. Именно геологические наблюдения убедили молодого Дарвина в «изумительном превосходстве метода, примененного Лайелем … по сравнению с методами всех других авторов» (Дарвин, 1957. С. 91) и вызвали разочарование в теории катастроф.
Геологическим изысканиям сопутствовали палеонтологические находки. Сильное впечатление произвели на Дарвина обнаружение в Патагонии гигантских скелетов ленивцев и сходство их строения с ныне живущими сородичами. Такое же сходство обнаружилось и между ископаемыми неполнозубыми и современными муравьедами и броненосцами. Эти факты близости организации вымерших и ныне живущих видов, а также их обитания на одной и той же территории натолкнули молодого исследователя на мысли о существовании между ними преемственной связи. К аналогичному заключению влекло и то обстоятельство, что ископаемые формы некоторых других животных совмещали признаки нескольких современных отрядов.
Об изменяемости и преемственности видов свидетельствовали факты географического распределения млекопитающих между Южной и Северной Америкой. Сравнивая фауну этих континентов[1], Дарвин констатировал глубокие различия ее состава не столько на видовом уровне, сколько на уровне семейств и отрядов. Изучение палеонтологического материала показало, что общие для обоих материков формы давно вымерли, а в недавнее время (в неогене) южноамериканская фауна пополнилась переселенцами из Северной Америки (ламы, пампасский олень, очковый медведь, гривистый волк). В дальнейшем фауны обоих континентов оказались изолированными друг от друга благодаря возникновению труднопреодолимой географической преграды — обширного плоскогорья в южной части Мексики, и это в еще большой мере усилило различие их животного мира. Таким образом, объяснение этого различия естественными причинами стало возможным благодаря применению Дарвином исторического подхода.
Более детальная картина распределения видов в пространстве предстала перед Дарвином на Галапагосском архипелаге. Эти острова, расположенные на экваторе в 950 км к западу от берегов Эквадора, знамениты многими эндемичными видами[2]. Здесь, в частности, обитают гигантские черепахи, игуаны, морская ящерица амблиринха, галапагосский канюк, сова, несколько видов вьюрков и дроздов-пересмешников и др. Внимательно изучив все это видовое богатство, Дарвин обратил внимание, что при всех отличиях галапагосских видов от родственных форм соседнего южноамериканского континента фауна архипелага весьма сходна с материковой и несет печать общего с ней происхождения. Такое же родство обнаруживает животное население островов Зеленого Мыса и соседнего африканского континента.
Красноречивые данные собрал Дарвин в отношении распространения видов на самих островах. Особенно показательным оказался род вьюрков, которых в XX в. подробно изучил Д. Лэк (Lack, 1947) и назвал в честь Дарвина дарвинскими вьюрками. Дарвину удалось установить, что на каждом острове или группе островов обитает свой собственный вид вьюрка и что каждый вид отличается формой и величиной клюва, причем изменчивость этих признаков носит постепенный характер. Вместе с тем все эти виды образуют одну естественную группу, так что можно допустить, что она произошла от одного прародительского вида.
Вернувшись из дальнего плавания на родину и приступив к анализу собранных материалов, Дарвин с июля 1837 г. начал вести записные книжки о «трансмутации видов», куда заносил свои мысли о концепции вида, видоизменении видов, элементах понятия об эволюции и даже о принципе самого естественного отбора. Всего Дарвин написал четыре записные книжки (последняя окончена в июле 1839 г.). В 1980 г. была опубликована еще одна книжка под названием «Красная записная книжка» (подробнее о ней см.: Галл, 1987). Записные книжки Дарвина остаются ценным источником, позволяющим составить представление, как развивались его главные эволюционные идеи.
В 1842 г. Дарвин предпринял первую попытку изложить свою эволюционную теорию, подготовив «Очерк 1842 г.» в объеме 35 машинописных страниц. Через 2 года в «Очерке 1844 г.» он расширил свою рукопись до 230 страниц, но не торопился их публиковать. Оба очерка уже содержали представления о естественном отборе и такие доказательства эволюции, как наличие ископаемых форм, их сходство с современными, особенности географического распространения животных и растений, существование рудиментарных органов. Во втором очерке значительное место было уделено искусственному отбору как аналогу отбора в природе.
Благодаря скрупулезным исследованиям петербургского историка науки Я. М. Галла (1981, 1987, 1991, 1993) и его московского коллеги Ю. В. Чайковского (1981, 1982, 1983), а также многих иностранных специалистов (Ghiselin, 1969; Мауг, 1959; Herbert, 1980; Kohn, 1980; Oldroyd, 1984; Ospovat, 1981; и др.) мы можем теперь ясно представить не только тот логический путь, который привел Дарвина к концепции естественного отбора, но и его ранние эволюционные взгляды. Рассмотрим их поэтапно.
В течение двух лет, когда Дарвин вел записные книжки, ему вновь пришлось пережить сильные впечатления от всего увиденного во время путешествия. Как пишет Дарвин в «Автобиографии» (Дарвин, 1959, С. 226), он «работал подлинно бэконовским методом и без какой бы то ни было предварительной теории собирал в весьма обширном масштабе факты…», т. е. шел в своих обобщениях индуктивным путем. Это высказывание отражает, однако, неполную картину. На самом деле в его мыслительном процессе весьма активная роль принадлежала традиционным естественнотеологическим представлениям, основывавшимся на идеях баланса и гармонии природы. Он всецело усвоил представления Дайела, в которых понятие «экономии природы» и принцип совершенной адаптации организмов к тому месту, которые они занимают в этой экономии, стали главными аргументами против эволюционизма. Не вызывали сомнения у Дарвина и идеи Лайела о постепенном вымирании видов под влиянием внешних обстоятельств, о том, что вымирание освобождает места для творения новых видов и тем самым обеспечивает сохранение баланса природы.
Важнейший перелом в воззрениях Дарвина, его переход от креационизма на позиции трансформизма, приходится на весну 1837 г., когда была написана «Красная записная книжка». Это удалось установить только благодаря ее публикации в 1980 г. (Darwin, 1980).
Этот перелом ознаменовался прежде всего ревизией причин вымирания организмов. Дарвин смог убедиться в отсутствии геологических данных, которые свидетельствовали бы о сколько-нибудь существенных изменениях в среде обитания южноамериканских неполнозубых в тот момент, когда происходило вымирание их гигантских предков. Одновременно он стал склоняться к мысли, что жизнь видов аналогична развитию индивидов. Эти соображения привели Дарвина к выводу, что виды стареют и вымирают в силу внутренних причин, а не ввиду изменений условий жизни, как считал Лайел. Иными словами, виды «сотворены на определенный срок» (op. cit., р. 66), и их смерть также запрограммирована, как смерть индивида.
В «Красной записной книжке» Дарвин однозначно и прямо говорит, что один вид превращается в другой «посредством сальтации», «одним ударом». Я. М. Галл (1993) обосновывает внутреннюю убежденность Дарвина в сальтационном механизме видообразования на примере ею подхода к превращению ископаемых форм южноамериканского страуса (Rhea americana) и ламы (Macrauchenia или Lama) в современные. В этом подходе Дарвин совместил рассмотрение биогеографических и палеонтологических данных и впервые стал трактовать первые во временнóм измерении. Существенно, что, став на позиции сальтационизма, Дарвин целиком отказался от ламарковского градуализма, хотя и ненадолго.
Однако в других отношениях первая эволюционная концепция Дарвина оказалась вполне созвучной учению Ламарка. Согласно его наблюдениям, хотя бы часть изменчивости организмов может вызываться внешней средой и фиксироваться наследственностью, что и придает ей адаптивный характер. Внешние влияния прежде всего сказываются на наружных признаках, тогда как внутренние части организмов оказываются более устойчивыми. Слабые перемены в среде генерируют главным образом индивидуальные изменения в строении и инстинкте, которые не закрепляются в потомстве. Более сильные геологические изменения, особенно происходящие медленно, но неуклонно, способны затрагивать уже внутренние части организмов. И здесь Дарвин записывает в Третью записную книжку очень важное обобщение. Если геологические изменения охватывают только часть населения непрерывного ареала вида, то возникающие вариации нивелируются скрещиваниями с неизменившимися формами, но если под их воздействием оказывается весь ареал или группа изолированных особей, то возникшие изменения будут наследоваться и благодаря кумуляции усиливаться от поколения к поколению. Изложенные соображения показывают, что осенью 1838 г. Дарвин допускал существование феномена массовой определенной (направленной) изменчивости. Если у читателя этой книги хватит терпения дочитать ее до конца, то, дойдя до гл. 16 и 18, он вспомнит эти взгляды молодого Дарвина.
Впрочем, наряду с допущением определенной изменчивости Дарвин все чаще склонялся к мысли, что не все наследственные изменения должны обязательно быть адаптивными. Часть из них может быть вредной или нейтральной.
С момента написания Второй книжки и до конца своих дней Дарвин отводил в эволюции важную роль поведению. Как и Ламарк, он полагал, что повторение новых привычек, вызванных изменениями условий жизни, из поколения в поколение ведет к появлению новых инстинктов, за которыми следуют структурные изменения. Чтобы эта последовательность событий осуществлялась, «действие привычки» должно быть наследственным и повторяться у многих поколений. Пока структурные изменения не окрепли, новая привычка обеспечивает репродуктивную изоляцию их носителей от остальных особей вида.
Это был недолгий период, совпавший с созданием Второй и Третьей книжек, когда Дарвин ближе всего стоял к Ламарку. Но и в это время Дарвина не оставляли сомнения. Он постоянно испытывал колебания между сальтационизмом и градуализмом, в его сознании постоянно боролись разные идеи и концепции.
Осенью 1838 г. в эволюционных представлениях Дарвина произошел второй, решающий поворот. Как отечественные, так и западные исследователи его творческого пути пришли к единодушному выводу, что ключевую роль в этом сыграло прочтение Дарвином трактата Т. Мальтуса «Опыт о законе народонаселения» (1798), где была высказана мысль об избыточности размножения. Эта мысль и стала источником идеи Дарвина о естественном отборе. Известна и точная дата рождения идеи — 28 сентября 1838 г., когда в его Третьей записной книжке появилась запись, начинающаяся словами: «Население увеличивается в геометрической прогрессии за гораздо более короткое время, чем 25 лет…» (Darwin, 1967. Р. 162–163).
Действительно, к моменту рождения стержневой идеи будущей теории в концептуальном багаже Дарвина были уже почти все необходимые для этого элементы — представления об индивидуальной наследственной изменчивости, детерминирующей роли внешних факторов, об искусственном отборе и принципах селекции. Не хватало одного звена, которое связало бы эти отдельные элементы в логическую систему, способную «запустить» эволюционный процесс. Эти функции и выполнила идея Мальтуса о стремлении человеческого населения к неограниченному увеличению численности и ограниченности средств к жизни. Скорее всего это противоречие как источник борьбы за существование возникло в сознании Дарвина внезапно, как вспышка молнии. Можно всецело согласиться с мнением Ю. В. Чайковского (1982), что это было настоящее озарение, которое открыло путь к построению теории. Впрочем, споры о роли Мальтуса до сих пор не утихают.
Конечно, Дарвин и без Мальтуса открыл бы свой движущий фактор эволюции, но, говоря о значении идеи Мальтуса, мы только констатируем факт, показываем, как это открытие произошло. Мы знаем теперь, что перенаселение бывает в природе только кратковременным и локальным, что высшие животные обладают мощными внутренними механизмами ограничения рождаемости и что массовая гибель обычно неизбирательна и часто оказывается следствием несовершенства адаптации. Но Дарвин всегда считал перенаселение главной причиной борьбы за существование, иначе он не писал бы, что «борьба за жизнь наиболее упорна между особями… одного вида» и не сохранил бы в «Происхождении видов» свой гипотетический пример с ростом поголовья слонов за 740–750 лет вплоть до последнего прижизненного издания этой книги.
Как уже говорилось выше, первые наброски теории были осуществлены Дарвином в «Очерках» 1842 и 1844 гг. (Дарвин, 1939а, б). По этим очеркам уже ясно, что под естественным отбором понимаются выживание более приспособленных и гибель менее приспособленных особей. Дарвин сконструировал это понятие по аналогии с искусственным отбором, в котором отбирающим агентом выступает человек. Дарвин мнократно возвращается к этому понятию при обсуждении его взаимодействия с другими компонентами эволюции. Но это еще не тот естественный отбор, который мы знаем по «Происхождению видов». Дарвин еще остается в плену старых естественно-теологических догматов и мыслит отбор как функцию вездесущего и всевидящего Существа, способного заглянуть внутрь организмов и сохранить их жизненно важные изменения, на что не способен человек. Иными словами, это была «божественная селекция» (Ospovat, 1980; Чайковский, 1983).
Чтобы достичь уровня зрелой эволюционной концепции, представлениям Дарвина о естественном отборе нужно было самим проделать большую эволюцию. Как отмечает Я. М. Галл (1987), путь к созданию теории естественного отбора был длительным, извилистым и слишком сложным, чтобы его можно было объяснить каким-то одним фактором — принятием идеи Мальтуса, изучением животноводческой практики или закономерностей географического распространения животных на Галапагосском архипелаге. Дарвину предстояло собрать, оценить и сопоставить еще массу данных и теоретических обобщений, а главное — освободиться от бремени старых идей.
А пока и еще долгое время после написания очерков Дарвин оставался в большей мере сальтационистом, в меньшей — градуа-листом и отчасти — ламаркистом. Он также продолжал верить в идею совершенной адаптации.
О сальтационистском способе видообразования Дарвин говорил четко и определенно. Этот способ приложим как к животным, так и к растениям. Стимуляторами изменчивости выступают, как мы видели выше, периодические геологические изменения — поднятие и опускание материков и связанные с ними перемены климата, т. е. факторы абиотические. Эти события воздействуют на репродуктивную систему и порождают вспышку наследственной изменчивости сразу у большего числа видов. Изменчивость может быть разнонаправленной, и это открывает широкое поле для деятельности естественного отбора. В нестабильной обстановке может возникнуть видов больше, чем число наличных мест в экономии природы, и между этими видами начнется борьба. Выживут те, которые лучше соответствуют среде. В интервалах между геологическими событиями, когда среда долгое время сохраняет постоянство, виды остаются стабильными. Подобные же процессы могут происходить при миграции животных в новые места обитания.
Из этого видно, что в 1840-е гг. Дарвин мыслил эволюцию как процесс пунктуалистический, а отнюдь не градуалистический; так что современные пунктуалисты С. Гулд и Н. Элдридж могли бы считать своим идейным прародителем в первую очередь Ч. Дарвина, а не Майра или Гольдшмидта. К Дарвину восходит и концепция отбора видов С. Стэнли. Что касается изменчивости, возникающей под воздействием внешних перемен на воспроизводительную систему, и внезапно возникающих спортов, то это несомненное предвосхищение лавинообразного мутагенеза при стрессовых ситуациях и обычных генетических мутаций. Можно только сожалеть, что, будучи столь близким к тому, что считается сейчас самыми последними завоеваниями эволюционизма, Дарвин оставил эти реальные, эмпирическим путем установленные факты ради в значительной мере умозрительной теории.
Свои соображения о спортах и частично наследственных монстрах как прообразах будущих видов Дарвин не мог обосновать примерами из дикой природы и ссылался на опыт садоводов и животноводов. При этом он установил, что новая форма, возникшая сальтационным путем, имеет больше шансов сохранить себя в потомстве, если число особей, участвующих в скрещиваниях, будет невелико. Аналогично обстоит дело и в природе: если скачкообразные изменения возникают в малой и географически изолированной популяции, то при поддержке отбора видообразование в этих изолятах резко ускорится.
Важно отметить также, что Дарвин признал ведущую роль сальтаций в происхождении сложных инстинктов и таких органов, как глаз, мозг и сердце. При этом он допускал, что подобные новообразования могли возникнуть как «сразу», так и постепенно, когда сальтация дополняется отбором мелких вариаций той же направленности.
С течением времени, однако, взгляд Дарвина на отбор как механизм, кумулирующий тонкие, едва уловимые изменения, все более укреплялся, пока не занял доминирующего положения в «Происхождении видов». Градуализм одержал верх над салътационизмом, хотя и не был абсолютизирован. Пока же он едва был обозначен.
В очерках 1840-х гг. не было еще и других важных компонентов «зрелой» теории — представления об относительности адаптации, признания ведущей роли биотических факторов в борьбе за существование, принципа расхождения (дивергенции) признаков.
Дарвин хорошо сознавал слабые места своей теории, ее недостаточную фактическую обоснованность и потому не стремился к ее быстрой публикации. Его усилия сосредоточились теперь на сборе материалов по изменчивости, наследственности и эволюции диких видов в природе и особенно по селекции домашних животных и культурных растений. Он ведет обширную переписку со многими натуралистами и селекционерами и сам надолго погружается в изучение морфологии, систематики и эволюции усоногих раков. По итогам исследования публикует четырехтомную монографию (1851–1854). Этот труд и ранее вышедшие работы по зоологии, геологии и географии приносят Дарвину репутацию одного из крупнейших натуралистов и естествоиспытателей Британии. Его избирают членом Королевского и Линнеевского научных обществ.
В 1855 г. Дарвин в целях проверки своей теории приступил к разведению породистых голубей и проведению обширной программы скрещиваний. Сопоставив полученные результаты сданными других голубеводов-любителей, Дарвин убедился, что все существующие и столь разнообразные породы голубей были выведены с помощью искусственного отбора от одного общего предка — дикого скалистого голубя. В следующем году он по совету Лайела приступил к написанию главного труда о происхождении видов и к лету 1858 г. имел уже рукопись из 10 глав и порядка 2000 страниц текста.
Дальше произошло всем известное и нечастое в истории науки событие. 18 июня 1858 г. Дарвин неожиданно получает от молодого английского зоолога Альфреда Уоллеса письмо с просьбой ознакомиться с его небольшой статьей «О стремлении разновидностей к неограниченному отклонению от первоначального типа» и в случае одобрения представить ее к публикации в журнале. Дарвин был поражен, насколько близкими — идейно, содержательно и даже терминологически — оказались взгляды Уоллеса его собственным. Он был готов исполнить просьбу молодого ученого, но друзья Дарвина — Лайел и Гукер, зная, как давно он разрабатывает свою теорию и как много разделов задуманного капитального труда уже написано, удержали его от этого шага и предложили сделать «краткое извлечение» из написанного текста и представить его как свидетельство своего приоритета вместе со статьей Уоллеса в Линнеевское общество. В этом же 1858 г. обе эти работы, предваренные письмом Лайела и Гукера, были опубликованы в трудах этого общества (Дарвин, 1939. С. 233–252).
Теперь по настоянию тех же друзей Дарвин снова берется за перо и, не дожидаясь, когда будет завершен капитальный труд, пишет более пространное «извлечение», чтобы изложить свою теорию в одном томе. Книга, которую сам Дарвин назвал «главным трудом всей своей жизни», была завершена за 8 месяцев и 24 ноября 1859 г. вышла в свет в лондонском издательстве Джона Мюррея под названием «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь» (Darwin, 1964). Ее тираж из 1250 экземпляров разошелся за несколько дней.
Уоллес не пытался оспаривать приоритет Дарвина и впоследствии стал одним из самых активных пропагандистов его теории. Он написал о ней в 1875 г. большую книгу и назвал «Дарвинизмом» (Уоллес, 1911). Что касается незаконченного капитального труда Дарвина, то его рукопись под названием «Естественный отбор» была впервые издана в 1975 г. (Darwin, 1975).
Главные социально-экономические предпосылки дарвинизма
В отечественной литературе по истории дарвинизма вопрос о том, почему именно Англия стала родиной этой теории, освещен достаточно полно, и это избавляет нас от необходимости пространных объяснений. Зато нам представляется существенным восстановить правильное понимание некоторых ключевых для Дарвина аналогий, которые определили становление и самые важные черты его теории.
Дарвин жил и творил в знаменитую викторианскую эпоху, олицетворявшую зенит могущества Британской империи как передовой капиталистической страны и самой большой колониальной державы. Капиталистические отношения и крупное машинное производство победили в Великобритании раньше, чём в других странах. Промышленная революция имела оборотной стороной вытеснение ручного труда и возникновение обширного класса наемных работников. Его ряды пополнили и бывшие крестьяне, согнанные со своих общинных земельных угодий.
Движущей силой бурного подъема промышленности и сельского хозяйства в первой половине XIX в. выступила возросшая конкуренция товаропроизводителей. Борьба рабочего класса против своего бедственного материального положения, вылившаяся в чартистское движение 30-40-х годов XIX в., сильно обострила социально-экономические отношения в стране. В этих условиях, как нельзя кстати пришлись учения, созданные английскими экономистами и философами XVIII в. А. Смитом и Т. Мальтусом.
Смит (1776) впервые показал, что национальное богатство слагается из богатств отдельных индивидуумов, а стремление к индивидуальному богатству есть следствие естественного своекорыстия (эгоизма) человека. Тем самым Смит раскрыл главную пружину общественного прогресса и основной источник свободной конкуренции. Эти простые законы, работавшие даже в рамках искусственно созданной «социалистической» экономической системы бывшего Советского Союза, всегда преподносились советской пропагандой как выдумки буржуазных ученых, направленные на обоснование вечности капиталистических устоев.
Учение Смита о свободной конкуренции целиком отражало реальную социально-экономическую обстановку в Британии и пользовалось огромной популярностью. Оно в несколько смягченном варианте воспроизводило принцип «войны всех против всех» Т. Гоббса, также оценивавшийся как проявление естественного стремления к самосохранению.
Нам представляется очень важным, что в экономической теории Смита условием удовлетворения собственных корыстных интересов является удовлетворение аналогичных интересов других людей, в том числе и своих конкурентов. Без этого нет личного успеха. Уравновешивание взаимных услуг есть, согласно Смиту, источник общего блага, а в конечном счете — процветания государства.
Конструируя концепцию естественного отбора, Дарвин всецело воспринял первую часть учения Смита о конкуренции, но не обратил внимания на его вторую часть, связанную со взаимностью оказываемых услуг. В логической схеме его теории для позитивного взаимодействия особей и видов просто не нашлось места. Это хорошо видно и из итогового абзаца, венчающего последнее прижизненное издание «Происхождения видов»: «…все эти прекрасно построенные формы… были созданы благодаря законам… Эти законы в самом широком смысле — Рост и Воспроизведение, Наследственность, почти необходимо вытекающая из воспроизведения, Изменчивость, зависящая от прямого или косвенного действия жизненных условий и от упражнения и неупражнения, Прогрессия размножения, столь высокая, что она ведет к Борьбе за жизнь и ее последствию — Естественному Отбору, влекущему за собой Расхождение признаков и Вымирание менее совершенных форм. Таким образом, из войны природы, из голода и смерти непосредственно вытекает самый высокий результат… — образование высших животных» (Дарвин, 1939. С. 666; курсив мой. —В. Н.). Односторонняя трактовка Дарвином движущих сил эволюции стала дополнительным основанием для критики его теории.
Мальтус указал на еще одну причину, ведущую к обострению конкуренции и гибели «неприспособленного», — перенаселение, проистекающее от избыточности размножения. Во времена Мальтуса и Дарвина несоответствие между ростом численности населения и средств к существованию не были столь очевидны, как в наше время, когда десятки миллионов людей стран Африки и Южной Азии периодически испытывают голод от нехватки продуктов питания. Но это несоответствие касается только человеческого общества, обеспечившего себе высокую прогрессию размножения благодаря интеллекту, который вывел его популяцию из-под контроля естественных регулирующих механизмов.
В естественных сообществах животных и растений, как мы уже отмечали, перенаселение случается редко и уже в силу этого не может вести к конкуренции. При избыточном размножении, если оно и имеет место, развивается не конкуренция, а неизбирательная элиминация или катастрофический отбор, и они, естественно, ни к какой качественной дифференциации популяций не ведут. Локальные островки перенаселения — не поле для действия селективных сил, а следствие уже выявившегося преимущества расы или (чаще) просто сложной игры случайных причин.
Дарвин воспринял идею Мальтуса слишком непосредственно, не подвергнув критическому анализу, и механически перенес ее с человеческого общества (может быть, даже точнее будет сказать, с английского капиталистического общества) на природу[3]. Природа оказалась мудрее.
Таким образом, указанные нами социально-экономические феномены не только приняли участие в интуитивно-познавательных операциях, произведенных Дарвином в ходе конструирования эволюционной теории, но и стали ее важнейшими компонентами. В согласии с таким выводом находится и метафоричность ее самых ключевых понятий — борьбы за существование и естественного отбора. Эта точка зрения пользуется теперь все большей поддержкой (Чайковский, 1990, 1993; Gall, 1972; Schweber, 1985; Porter, 1987).
Еще одна и, безусловно, самая важная экономическая (и одновременно научная) предпосылка дарвинизма — современная ему сельскохозяйственная практика. Дарвин внимательнейшим образом изучил технические процедуры английских селекционеров, разработал их теоретические основы и использовал данные для обоснования эволюционной теории.
Доходность английского сельскохозяйственного производства конца XVIII — первой половины XIX в. всецело базировалась на выведении высокопродуктивных пород домашних животных и сортов культурных растений, а также форм, отвечавших эстетическим запросам и требованиям моды. Усилиями таких селекционеров, как Бэквелл, Коллинз, Лестер, Юатт, Райт, Себрайт, Лекутер, Галлет, было выведено много новых пород крупного рогатого скота, овец, лошадей, кроликов, собак, домашней птицы, а также сортов сельскохозяйственных и декоративных растений. Метод их работы состоял в систематическом подборе из поколения в поколение лучших животных-производителей для скрещивания и лучших семян для посадки. В середине XIX в. успехи селекции достигли такого уровня, что некоторые селекционеры-животноводы заявляли о своей готовности создать новую породу по заранее намеченному образцу всего за несколько лет.
Сельскохозяйственная практика, таким образом, давала Дарвину богатейший материал для изучения наследственной изменчивости и действия искусственного отбора и, естественно, побуждала его искать аналогичный механизм в эволюции диких видов.
Принято считать, что Дарвин сконструировал механизм естественного отбора по аналогии с отбором искусственным. Это положение требует, однако, уточнения и комментария. На раннем этапе разработки теории, когда Дарвин приписывал осуществление избирательного скрещивания «всевидящему Существу», такая аналогия была правомерной. Когда же Дарвин перестал полагаться на высшие силы и стал искать механизмы направленного отбора в естественных законах природы (и, конечно, не мог их найти), аналогия с искусственным отбором просто оказалась неверной.
Дело в том, что в природе не существует механизма, который запрещал бы мутантному организму, обладающему каким-то полезным ему признаком, скрещиваться с немутантным и, стало быть, ограждал бы намечающееся усовершенствование организации от «заболачивания». В лучшем случае срок становления ожидаемого усовершенствования отодвинулся бы на очень долгое время. Дарвин хорошо сознавал это затруднение и, следовательно, поверхностный характер аналогии между обеими формами отбора; желая, по-видимому, эту аналогию сохранить, он ввел в свою теорию понятие бессознательного отбора как паллиативного инструмента.
В полном соответствии с неполноценностью рассмотренной аналогии — и этого нельзя не видеть — находится тот факт, что ни Дарвину, ни кому-либо из его последователей не удалось подтвердить эволюционную роль естественного отбора сколько-нибудь убедительным фактическим материалом.
Основные положения теории
В сущности, вся теория Дарвина изложена в первых 4 из 14 глав, составляющих «Происхождение видов», и порядок изложения соответствует логике ее построения. Книга начинается с описания изменчивости при доместикации.
Дарвин отмечает, что культурные формы животных и растений отличаются гораздо большей степенью изменчивости, чем близкие им дикие виды. Различия между отдельными сортами и породами иногда столь значительны, что если бы мы встретили подобные формы в природе, то без колебания отнесли бы их к разным видам.
Изменчивость вызывается переменой условий среды, которые могут влиять на организмы прямо или косвенно. При прямом влиянии следует различать природу условий (т. е. характер пиши, погоды, плотность населения и т. п.) и природу организма. Второй фактор в определении качества изменчивости имеет гораздо большее значение. Это видно из того, что под действием разных условий нередко возникают сходные изменения, а разные изменения порой оказываются результатом воздействия одинаковых условий среды. Различия в действии этих факторов Дарвин образно сравнил с искрой и горючим материалом: первый вызывает только возгорание, а второй — характер пламени.
Косвенное влияние измененных условий затрагивает воспроизводительную систему, особенно чувствительную ко всяким внешним переменам. Оно может выражаться, например, в утрате способности к размножению, в появлении у растений отдельных почек, дающих необычные побеги, и пр.
Дарвин выделил две основные формы изменчивости, и это разграничение не утратило своего значения до сегодняшнего дня. Изменчивость считается определенной (групповой), «когда все или почти все потомство особей, подвергшихся в течение нескольких поколений известным условиям, изменяется одинаковым образом» (Дарвин, 1939. С. 275). Примерами такой изменчивости могут служить изменения, вызванные количеством пищи, ббльшая густота шерсти при суровых зимах и т. п. Определенная изменчивость ненаследственна, при восстановлении прежних условий среды она исчезает. С возникновением генетики эту форму изменчивости стали называть модификационной.
Неопределенная (индивидуальная) изменчивость — это неадаптивные наследственные изменения у отдельных особей, имеющие разную направленность и степень выраженности. Примером такой изменчивости могут служить вариации в цвете и интенсивности окраски венчиков отдельных цветков растения.
Вариации внешних признаков могут быть слабыми, едва различимыми, что типично для индивидуальной изменчивости. Как раз с такими вариациями чаще имеют дело животноводы, и только их опытный глаз позволяет отличить ничтожные изменения интересующих их признаков. В других случаях вариации могут оказаться столь резко выраженными, что их можно было бы назвать уродствами, К их числу Дарвин относит так называемые спорты, благодаря которым, например, возникла порода анконских овец. Эту форму изменчивости впоследствии назвали мутационной.
Согласно убеждению Дарвина, важнейшую роль в эволюции играет неопределенная изменчивость, поскольку она носит наследственный характер и встречается чаще определенной. То, что ее носители могут быть обладателями как полезных, так и вредных или нейтральных признаков, значения не имеет, ибо направление эволюции задает не характер изменчивости, а естественный отбор.
Этот постулат Дарвина является одним из краеугольных камней его эволюционной концепции. Избрав неопределенную индивидуальную изменчивость основным материалом эволюции, он избавился от необходимости включения в теорию наследования приобретенных признаков и отказался от идеи целесообразности реагирования.
Впрочем, в вопросе об участии факторов Ламарка в эволюционном процессе Дарвин испытывал колебания всю жизнь и так и не решился окончательно отвергнуть ни прямое приспособление, ни значение упражнения и неупражнения органов, ни наследование приобретенных признаков.
Дарвин видел, что существование наследственной изменчивости с особой наглядностью подтверждает факт огромного многообразия нынешних пород и сортов. Чтобы доказать, что каждая или каждый из них происходит от одного или немногих предков через посредство изменчивости, Дарвин сам разводил все 150 известных пород голубей. Исследуя их, он показал, что несмотря на резкие различия между породами их общим родоначальником является дикий скалистый голубь (Columba livia). Свидетельством тому являются сходство всех домашних пород с диким родичем в инстинктах и привычках; случайное появление в потомстве домашних окраски и рисунка оперения, характерных для дикого голубя; наличие признаков сходства с диким голубем у некоторых гибридов от скрещивания разных пород (реверсия).
Фактам изменчивости и ее роли в происхождении домашних животных и культурных растений в 1868 г. Дарвин посвятил отдельную книгу (Дарвин, 1951).
Дарвин признавал, что причины изменчивости, равно как и законы, управляющие наследственностью, нам по большей части неизвестны. Ясно только, что они «бесконечно сложны и разнообразны» и в конечном счете сводятся к воздействиям окружающей среды. Тем не менее кое-какие законы уже прояснились. Таков, в частности, закон коррелятивной, или соотносительной, изменчивости, определяющий совместное проявление каких-либо взаимосвязанных признаков. Изменчивость этого типа может быть наследственной и не наследственной. Так, белые коты с голубыми глазами обычно совершенно глухи, у бесшерстных собак недоразвиты зубы, голуби с оперенными ногами имеют перепонку между наружными пальцами. Эти изменения наследственные. Сопряженность ряда признаков часто оказывается результатом упражнения или неупражнения органов. Установлено также правило наследования в определенном возрасте, очень важное для эмбриологии.
Наконец, следствием скрещивания разных пород или сортов (так же как и видов) является комбинативная изменчивость. Этим типом изменчивости иногда объясняют возникновение некоторых культурных форм, но его значение, по мнению Дарвина, сильно преувеличено.
Какими же приемами были выведены существующие породы и сорта? Прежде всего человек использовал естественную изменчивость, которая в измененных условиях разведения обычно усиливается и может продолжаться в желательном направлении, В случае, если предками домашней формы было несколько исходных видов, то произведенные для этого скрещивания также увеличивают изменчивость. Но полезные для человека признаки, которыми отличаются домашние животные и культурные растения, по свидетельству Дарвина, лишь в редких случаях могут возникать путем внезапной изменчивости. «Я полагаю, — писал Дарвин, — что в этом надо видеть больше чем одну только изменчивость. Мы не можем допустить, чтобы все породы возникли внезапно столь же совершенными и полезными, какими мы их видим теперь… Ключ к объяснению заключается во власти человека накоплять изменения путем отбора» (Дарвин, 1939. С. 290).
Создавая желаемую породу, селекционер намеренно отбирает для разведения особи, обладающие в наиболее выраженной форме тем свойством, которое он хочет усилить. Повторяя эту процедуру из поколения в поколение и все более ужесточая требования к степени выраженности нужного свойства, он добивается поставленной цели. Эту форму целенаправленного отбора, производимого человеком в искусственных условиях разведения, Дарвин назвал искусственным отбором. Его важнейшая функция — слагать и накапливать полезные изменения.
Благодаря существованию коррелятивной изменчивости отбор по желательным признакам косвенно приводит к перестройке и других признаков. В результате с течением времени исходная форма испытывает коренную перестройку всего своего облика, т. е. превращается в новую породу или новый сорт. Отбору сопутствуют также браковка (элиминация) или устранение от размножения негодных особей.
Высокие темпы искусственного отбора характерны, как мы уже отмечали, для целенаправленной селекционной работы. В отличие от этой методической формы отбора всегда существовал и еще продолжает существовать бессознательный отбор. При нем человек интуитивно стремится оставить для получения потомства лучших и более сильных производителей. Эта форма отбора тоже совершенствует породу, но делает это намного медленнее.
Выяснив механизм, которым создаются культурные формы, Дарвин обращается к анализу причин образования видов в природе. Его интересует прежде всего, работают ли и тут факторы, аналогичные тем, с которыми человек имеет дело при доместикации.
Свой анализ Дарвин опять-таки начинает с изменчивости, причем индивидуальной наследственной. Если у культурных форм изменчивость совершенно очевидна, то в природе различить ее трудно. Поэтому для подтверждения ее существования Дарвин ссылается на косвенные свидетельства.
Одно из таких свидетельств дают так называемые сомнительные виды. Таковыми считают близкие формы, систематический ранг которых вызывает споры из-за того, что они часто связаны группами особей переходного характера и потому не имеют четких границ. Одни авторы считают их разновидностями или подвидами, другие — настоящими видами. Дарвин приводит много примеров такого расхождения в оценках. Достаточно сравнить флоры Великобритании, Франции или Соединенных Штатов, составленные разными ботаниками, чтобы убедиться, сколь различными будут цифровые соотношения составляющих их форм. О. Декандоль отмечает, что из 300 описанных видов дубов по крайней мере две трети составляют сомнительные виды, так как они еще не достигли этого ранга. Это еще разные стадии между разновидностью и зарождающимся видом.
Другое свидетельство изменчивости — подмеченная Дарвином закономерность, согласно которой широко распространенные и процветающие виды, представленные большим числом особей, а также виды крупных родов дают больше разновидностей, как и следовало ожидать, исходя из теоретических соображений. Эта закономерность говорит о том, что процесс видообразования идет на основе усиления изменчивости, что виды — это «только сильно выраженные и постоянные разновидности» и что процесс видообразования еще активно продолжается. Дарвин пишет, что «виды больших родов представляют близкую аналогию с разновидностями. И эти аналогии вполне понятны, если виды произошли таким образом, что сами были прежде разновидностями, но эти аналогии абсолютно необъяснимы, если виды представляют собой независимые друг от друга творения» (там же, с. 313).
Доказав существование изменчивости у диких видов, Дарвин отмечает, что природа по сравнению с человеком располагала неизмеримо бóльшим временем для совершенствования своих произведений, в большей мере изменяла их внутреннюю конституцию, чем внешние признаки, и потому результаты ее деятельности оказались более масштабными. Но с помощью одной изменчивости, сколь бы значительной она ни была, достичь таких результатов природа бы не смогла. Она должна обладать механизмом накопления изменчивости, аналогичным искусственному отбору человека. В ней тоже должен существовать отбор, и его субъектом должны выступать сами условия жизни. Они так же, как при искусственной селекции, отбирают для продолжения рода лучше приспособленные особи, но приспособленные не к нуждам человека, а к окружающим условиям.
Открытие естественного отбора как главной движущей силы эволюции и установление причин, из которых он вытекает, считаются главной заслугой Дарвина.
Естественный отбор — конечное звено в следующей причинно-следственной цепочке. Все живые организмы стремятся к увеличению своей численности в геометрической прогрессии; высокая прогрессия размножения приводит к перенаселению и развитию конкуренции за жизненные ресурсы; из конкуренции проистекает борьба за существование, в которой победу одерживают индивиды, лучше приспособленные к конкретным условиям обитания.
О геометрической прогрессии размножения и ее источнике уже говорилось. В подтверждение этого «правила» Дарвин приводит, кроме гипотетических, и вполне реальные примеры, касающиеся быстрого увеличения численности рогатого скота и лошадей, завезенных в Южную Америку и Австралию, и некоторых растений, интродуцированных в новые страны. Поскольку «нет ни одного исключения из правила», по которому все растения и животные способны быстро заполнить все стации и в конечном счете всю землю, это возрастание их численности должно быть сдержано истреблением в какой-то период жизни (смысл высокой плодовитости многих видов заключается в компенсации массового истребления).
Истребление есть результат борьбы за существование. Это выражение Дарвин употребляет в широком и метафорическом смысле и включает в него взаимоотношения организмов друг с другом, их успех в оставлении потомства и способность противостоять неблагоприятным абиотическим условиям среды. Борьба может быть прямой — физической и косвенной — за жизненные ресурсы. В этом втором случае главным механизмом борьбы за существование выступает конкуренция между организмами за одинаковую пищу, сходные условия обитания и размножения, т. е. факторы биотические.
Дарвин старался подтвердить существование конкуренции не только наблюдениями, но и собственными экспериментами. Так, он констатировал, что из 20 видов, росших на небольшом участке скошенного луга, 9 по прошествии небольшого времени погибли. На вскопанном участке размером 2×3 фута из 357 всходов сорных трав 295 были истреблены слизняками и насекомыми.
Конкуренция между организмами должна принимать более острый характер, когда организмы обладают сходными потребностями и близкой организацией. Таковы виды одного рода. Борьба за существование между ними сильнее, чем между видами разных родов. Так, более интенсивное размножение дрозда-дерябы в некоторых районах Шотландии привело к сокращению численности певчего дрозда. Более мелкий рыжий таракан (прусак) повсюду вытесняет черного таракана. Обыкновенная пчела, ввезенная в Австралию, вытесняет там местный вид, лишенный жала. Эту закономерность, подмеченную Дарвином, в начале 1930-х годов, экспериментально подтвердил Г. Ф. Гауэе, и она вошла в экологию под названием принципа или закона, носящего его имя (Cause, 1934).
Но у особей одного вида потребности вообще совпадают, и по логике конкуренция между ними должна быть наиболее острой и напряженной. Постулировав это положение, Дарвин провозгласил внутривидовую борьбу основным источником эволюции и видообразования. При этом он ссылался на наблюдения фактов вытеснения одних разновидностей другими у пшеницы, душистого горошка, горных овец и медицинской пиявки. Сейчас невозможно проверить условия этих наблюдений, но достаточно ли этих отдельных наблюдений, если даже они действительно дали положительные результаты, для того, чтобы возвести их в правило? Может быть, это и есть тот случай, когда факты подбираются к готовой теории?
Борьба за существование не исчерпывается одной конкуренцией с другими организмами, она включает и отношения организмов с абиотическими физическими условиями жизни. Воздействие последних может быть прямым и косвенным. В первом случае организмы пытаются противостоять засухе, лютым зимним морозам, глубоким снегам и т. п. «Когда… мы достигаем полярных стран, или снеговых вершин, или настоящей пустыни, мы видим, — пишет Дарвин, — что борьба за жизнь ведется исключительно со стихиями» (Darwin, 1939. С. 320). Но тот же «климат действует главным образом косвенно», уменьшая количество пищи или затрудняя к ней доступ.
В борьбе за жизнь шансы на выживание у разных индивидов далеко не равны. «Сохранение благоприятных индивидуальных различий и изменений и уничтожение вредных» Дарвин назвал естественным отбором, или «переживанием наиболее приспособленных (там же, с. 328). Этот термин тоже метафорический, ибо на самом деле никакого сознательного намерения, обозначаемого словом «отбор», в природе нет, и Дарвин сам это отмечает. Термин просто удобен краткостью отражения результата естественного процесса гибели всех менее приспособленных. Естественный отбор действует через посредство обычных факторов среды — температуру, влажность, свет, врагов, нехватку пиши и т. д. В XX в. синонимами естественного отбора стали считать понятия дифференциального размножения или дифференциальной плодовитости.
Дарвин не располагал прямыми доказательствами выживания наиболее приспособленных и конструировал воображаемые примеры. Один из них касается нектара растений и питающихся им насекомых. Представим себе, писал Дарвин, что нектар стал выделяться некоторыми растениями не на поверхности, а внутри цветков. Тогда к телу насекомых, залезающих в цветок ради этого сока, пристанет пыльца и будет затем перенесена на другие цветки и другие растения. Произойдет перекрестное опыление, которое обычно сообщает потомству большую силу и плодовитость и, следовательно, повышает его шанс на выживание в борьбе за существование. Если отбор в направлении все большего погружения нектарников в глубь цветка продолжится и в следующих поколениях, то возникнет новая форма растения, приспособленная к постоянному опылению насекомыми.
Другой гипотетический пример описывает воображаемые последствия едва заметного изменения длины или формы хоботка пчел, которые позволяют отдельным особям-носителям этого признака добывать нектар из цветков, не доступный другим пчелам. Если особи, обладающие такими полезными изменениями, будут из поколения в поколение сохраняться, то они образуют местную расу, приспособленную к этим цветкам и несколько отличную от пчел соседних местностей.
Из самого определения естественного отбора как механизма, приводящего к выживанию наиболее приспособленных, следует, что этот механизм ведет к совершенствованию адаптаций и сообщает всей эволюции строго адаптивный характер. Таким образом, естественный отбор дает одновременно материалистическое объяснение и формообразованию, и происхождению органической целесообразности. В этом видят вторую историческую заслугу Дарвина.
Главным материалом для действия естественного отбора служат преимущественно мелкие, неопределенные наследственные изменения. Благодаря отбору из общего их числа сохраняются только полезные. Они суммируются им, накапливаются, усиливаются и становятся характеристиками все более крупных систематических категорий. Дарвин рисует, таким образом, эволюцию как преимущественно градуалистический процесс.
Достаточность едва уловимой изменчивости и постепенность селективного процесса великолепно передана Дарвином в следующих словах: «Выражаясь метафорически, можно сказать, что естественный отбор ежедневно и ежечасно расследует по всему свету мельчайшие изменения, отбрасывая дурные, сохраняя и слагая хорошие, работая неслышно и невидимо, где бы и когда бы ни представился к тому случай, над усовершенствованием каждого органического существа в связи с условиями его жизни… Мы совершенно не замечаем этих медленно совершающихся изменений в их движении вперед, пока рука времени не отметит истекших веков…» (с. 330). Или еще одно прямое свидетельство предпочтения градуализма: «Не может быть сомнения, что многие виды образовались крайне постепенно» (с. 456).
Естественный отбор в глазах Дарвина — творческая сила гораздо более могущественная, чем человек. Это признание рождает в душе Дарвина особый пафос. Он называет все усилия человека (значит, включая и плоды селекции) «жалкими» «в сравнении с теми, которые накопила Природа на протяжении целых геологических периодов». Естественный отбор — это сила, «столь же неизмеримо превосходящая слабые усилия человека, как произведения Природы превосходят произведения Искусства» (с. 315).
Дарвин специально останавливается на феномене полового отбора — склонности самцов или самок многих видов осуществлять селективное спаривание посредством прямой физической борьбы с соперниками или демонстрации наиболее привлекательных брачного наряда и поведения. В обоих случаях спаривание с более сильным или красивым партнером способствует появлению такого же потомства. Половой отбор совпадает, таким образом, по своему направлению с действием естественного отбора и рассматривается Дарвином как частная форма внутривидового отбора.
В деятельности естественного отбора есть одна важная закономерность, направленная на ослабление конкуренции. Она связана со свойством любого местообитания вмешать тем большее число особей вида, чем разнообразнее их потребности. В силу этого естественный отбор, осуществляя свою элиминирующую функцию, в числе менее приспособленных уничтожает и формы, промежуточные по своим потребностям между крайними вариантами. Тем самым крайние, наиболее уклонившиеся формы будут в меньшей степени конкурировать между собой за пищу, убежища, места размножения и в результате смогут увеличить свою численность и расширить ареал. Благодаря полезности такого процесса для вида различия между его уклоняющимися особями с каждым новым поколением будут возрастать, пока в конце концов эти группы особей не превратятся в самостоятельные разновидности, а затем — в новые виды. Процесс расхождения признаков, ведущий к формообразованию, Дарвин назвал дивергенцией и наглядно изобразил его в виде известной диаграммы.
Рис. 1. Фрагмент диаграммы, иллюстрирующий расхождение признаков (Дарвин, 1939).
Воспроизводя самый важный фрагмент этой диаграммы (рис. 1), напомним, что на ней заглавными буквами А, В, С и далее обозначены родоначальные виды, строчными буквами с цифровыми индексами а1, а2, … , а10, а14 или m1, m2, … , m10, m14 и другими — степени изменчивости потомков родоначальных видов и последовательные ступени формирования рас, разновидностей, подвидов и видов. Каждая горизонтальная линия отделяет промежутки времени, соответствующие тысяче поколений. На диаграмме процесс дивергенции от вида А завершается образованием через 14 тыс, поколений формированием видов, обозначенных буквами от а14 до m14. В совокупности с видами другой части диаграммы они образуют новый род.
Но процесс расхождения признаков достижением этого этапа не завершится. Народившиеся виды еще слишком сходны между собой в основных потребностях и чертах морфологической организации. Чтобы меньше конкурировать между собой и с максимальной полнотой использовать все жизненные ресурсы местности, нужно продолжать однажды начавшуюся дивергенцию. Тогда образовавшиеся виды таким же дивергентным путем дадут новые дочерные виды, которые в совокупности составят новый род; совокупность родственных родов составит семейство; совокупность семейств — отряд и т. д. Так, все поднимаясь и разветвляясь, вырастает великое древо многообразия жизни. Одновременно формы, промежуточные между расходящимися потомками, будут вымирать.
Для отображения этого процесса образования высших таксонов пригодна та же диаграмма, если принять, что промежутки между горизонтальными линиями соответствуют не тысяче, а миллиону и более поколений или что они изображают последовательные слои земной коры.
Такова классическая дарвиновская схема видообразования и происхождения всех высших систематических категорий. Одновременно она отражает также монофилетический принцип эволюции и нарастания биоразнообразия, в основе которого лежит представление о происхождении каждой крупной систематической группы от одного общего корня (предка).
Внутривидовая конкуренция, дивергенция признаков и происхождение родственных групп организмов от общего корня составляют три неразрывных логических устоях теории Дарвина и придают ей ту цельность и внутреннюю стройность, которые всегда завораживали эволюционистов. Ее можно было либо принять целиком, либо целиком же отвергнуть. Посмотрим теперь, как эта столь искусно построенная теория соотносится с некоторыми самыми существенными фактами.
Нам представляется очень странным, как такой великий и объективный натуралист, каким был Дарвин, мог пройти мимо столь универсальных явлений, как взаимопомощь внутри вида[4] и симбиоз. Почему в «Происхождении видов» нет ни слова о стадах и стаях высших животных и о самом факте совместной жизни общественных насекомых? Лишь много позднее, в книге «Происхождение человека и половой отбор» (1871), Дарвин признал, что жизнь в тесном сообществе составляет самое условие выживания всех видов общественных насекомых. А ведь эти и многие другие постоянные скопления организмов одного вида самим фактом своего существования опровергают положение Дарвина об особой роли внутривидовой конкуренции.
Дарвин не мог не знать и о многочисленных примерах мутуалистического симбиоза, хотя сам термин «симбиоз» был введен в науку только в 1879 г. Хорошо известно, что члены симбиотических систем, нередко образованных несколькими видами, реально облегчают друг другу жизнь, ослабляя негативные влияния внешней среды. При эндо- и внутриклеточном симбиозе происходит даже объединение основных метаболических процессов.
Возможно, во времена Дарвина случаи симбиоза представлялись еще единичными и ими можно было пренебречь. Но в наши дни симбиоз предстал как поистине планетарный феномен. Установлено, что из общего числа видов животных и растений, оцениваемого разными авторами в 2 или 12,5 млн (Global biodiversity status… 1992), от ⅓ до ½ участвуют в симбиотических отношениях и таким образом в значительной мере избегают взаимной конкуренции и борьбы. Эта статистика говорит сама за себя.
Известно, что симбиоз, хотя он и является продуктом и своего рода «надстройкой» эволюции, восходит к очень давним временам. Возможно, симбиотические отношения зародились уже на ранних этапах становления жизни на Земле. Во всяком случае симбиоз выступал самостоятельным фактором эволюции на всем протяжении фанерозоя.
Главная ошибка Дарвина состояла в том, что он построил свою теорию, исходя из одной трагической стороны жизни. Думается, что игнорирование Дарвином положительных внутривидовых отношений у организмов, совпадающее с невниманием к положительным последствиям корыстолюбивых стремлений в учении Смита, не случайно. И это склоняет нас к мысли о справедливости суждения некоторых историков дарвинизма о том, что Дарвин сначала создал теорию, а потом подбирал под нее факты (Ghiselin, 1969). Закономерно, что односторонний взгляд Дарвина на движущие силу эволюции как борьбу и гибель слабых, воспринятый политиками, привел в XX в. к трагическим социальным последствиям.
Завершая анализ «зрелой» теории Дарвина, следует прямо сказать, что ни одно из ее принципиальных положений не сохранило исходного эволюционного значения и не получило фактического подтверждения. Перенаселение оказалось мнимым; внутривидовая конкуренция и борьба устраняются в природе многочисленными регулирующими механизмами, и часто вместо них наблюдаются взаимопомощь и сотрудничество; естественный отбор предстает как достаточно грубый механизм, не способный забраковать даже особи с явно уродливой организацией. Стало известно, что жизнеспособность аномальных форм определяется не на фенотипическом, а на генетическом уровне. И, конечно, при подобном качестве отбор никак не может выполнять кумулирующую, созидательную функцию — быть творческим фактором. Наконец, если естественный отбор не в состоянии подхватить слабую (индивидуальную) изменчивость, то дивергентный характер эволюции и преобладание в ней монофилии ставятся под вопрос. Все это позволяет отнести дарвинизм к разряду теорий, имеющих хотя и огромное, но теперь уже историческое значение.
Но за Дарвином в числе его многих других заслуг одна сохранится навсегда как непреходящая — метод конструирования теории. Как мы надеемся показать в последующих главах, им воспользовались в XX в. как сторонники, так и противники дарвинизма. К этой стороне теории Дарвина мы сейчас и перейдем.
Дарвинизм глазами философов и методологов
Вопросы философского метода занимают в трудах Дарвина достаточно скромное место. Это не означает, однако, что он не проявлял к ним интереса. Можно с уверенностью сказать, что Дарвин всегда был в курсе основных тенденций развития методов познания в современном ему естествознании. Он читал все новые значительные труды по философии, политэкономии, социологии, лично участвовал в дискуссиях с некоторыми из их авторов, вел с ними переписку.
Характерной тенденцией развития естественных наук времен Дарвина стало распространение в них двух философских доктрин эмпиризма, выступавшего в качестве альтернативы натурфилософии и дискредитировавшей себя казенной университетской философии, и родственного ему позитивизма, призывавшего науку отказаться от попыток решения «метафизических» проблем и погони за абсолютным знанием. Оба философских направления нашли для себя благоприятную почву в Британии и работами Дж. Гершеля, У. Уэвелла, С. Милля и О. Конта оказали глубокое влияние на Дарвина.
Эмпиризм опирался преимущественно на индуктивный метод познания, провозглашенный еще Ф. Бэконом. Согласно этому методу источниками познания служат чувственный опыт, сбор и описание фактов, а главным объектом изучения — причинно-следственные отношения между явлениями. Чтобы индуктивное умозаключение оказалось достоверным, оно должно основываться на возможно большем числе фактов, на охвате всего их разнообразия, на умении изучающего выделять наиболее репрезентативные факты в группе сходных явлений и т. д. Само же умозаключение должно носить характер обобщенного описания, но не брать на себя функцию теоретического объяснения. В этой установке эмпиризма ясно видно сохранившееся влияние Д. Юма.
В разработке логики научного познания дальше других, пожалуй, продвинулся С. Милль, но и он не дошел до того, чтобы включить в нее в качестве равноправного элемента дедуктивные заключения и отказаться от сведения в конечном итоге всех познавательных операций к одной индукции. Впрочем, по мнению Милля, и индуктивный метод не гарантирует достоверного знания, и оно сохраняет гипотетический характер.
Тот же индуктивный метод лежал и в основе позитивной философии французского философа-естественника Огюста Конта. В период создания «Происхождения видов» это философское учение все больше распространялось в Европе, и известно, что Дарвин, по крайней мере выборочно, читал шеститомный «Курс положительной философии» (Comte, 1830–1842; см. подробнее: Назаров, 1974).
Конт считал своей главной заслугой освобождение науки от попыток раскрытия сущности явлений, причин и способов их происхождения (в том числе происхождения органических существ) как навсегда непостижимых. Освободившись от каких бы то ни было «домыслов» на этот счет, позитивная наука должна ограничить свои задачи сбором эмпирических данных, их описанием, систематизацией и установлением внешних связей (законов) между ними. Когда «законы» будут найдены, она должна сосредоточиться на «низведении их числа до минимума». Тогда будет достигнута высшая цель позитивной философии как «системы наук». Саму категорию закона Конт трактовал чрезвычайно узко: она выражала совокупность сходных и сопряженных во времени внешних связей и противопоставлялась им понятию причинной связи. В итоге наука, по убеждению Конта, должна отвечать на вопрос «как», но не на вопрос «почему».
Конт не отказывал гипотезам в праве участвовать в научном познании, но считал, что вводимые гипотезы всегда должны допускать хотя бы отдаленную положительную проверку и должны касаться исключительно «законов» явлений, но не способов их возникновения. «Но… если бы пытались гипотезою постигнуть то, что само по себе совершенно недоступно наблюдению и рассуждению, то основное условие было бы забыто, и гипотеза, выйдя за пределы истинно научной области, неизбежно сделалась бы вредною» (Конт, 1901. С. 20).
Все это на деле, вопреки стремлению Конта выставить себя поборником науки и борцом за осуществление безграничных возможностей человеческого разума, принижало роль научного знания и умаляло его объективную ценность. «Позитивная» наука лишалась своей главной функции и назначения — давать идейно-теоретическое осмысление реальной действительности и осуществлять предсказания. Своими установками Конт ограничивал свободу творческой мысли, отрицал познавательную роль теоретического мышления и закрывал дорогу развитию научных методов познания.
Вот в тисках каких традиций находился Дарвин, когда приступил к созданию теории естественного отбора. Чтобы сделать свое открытие, ему предстояло преодолеть накладываемые ими ограничения и ощутить всю врожденную свободу своего интеллекта. Вступив на этот путь и нарушив все заповеди позитивизма, Дарвин и создал новый — гипотетико-дедуктивный — тип теории.
Мы уже видели, что логическая структура теории Дарвина включала три исходные посылки, или постулата: существование в природе индивидуальной изменчивости; несоответствие между количеством рождающихся особей и численностью организмов во взрослом состоянии; стремление организмов размножаться в геометрической прогрессии (этот последний постулат менее очевиден, чем два первых). Из второй и третьей посылок Дарвин вывел борьбу за существование (первая дедукция). Из первой посылки и первой дедукции был выведен естественный отбор, или «переживание наиболее приспособленных» (вторая дедукция).
Таким образом, логическая структура теории сложная: она складывается из трех посылок и двух дедукций. Первые две посылки были получены индуктивным путем, третья посылка представляет собой дедукцию, заимствованную у Мальтуса. Главная, итоговая дедукция имеет сложную природу, ибо является продуктом синтеза индукции и дедукции. Действительно, важнейшая догадка Дарвина о существовании естественного отбора не могла бы прийти ему в голову, если бы он не располагал данными из области геологии, палеонтологии, систематики, биогеографии, полученными чисто индуктивным путем, и не привлек бы аналогию с искусственным отбором — фактом также индуктивной природы.
Важнейшим импульсом к главной дедукции и стержню теории послужило Дарвину, как мы уже говорили, прочтение книги Мальтуса о народонаселении. Идея избыточного размножения внезапно обрела в его сознании значение того решающего, ключевого звена, которого не хватало для завершения логической схемы.
Теперь, когда решающее звено было найдено и теория обрела свою целостность, Дарвин, глубоко убежденный в ее справедливости, занялся поиском фактического обоснования. Будучи воспитан в традициях старого эмпиризма, он настойчиво искал ее подтверждение в рамках индуктивной методологии, которая требовала доказательств, полученных прямым наблюдением. Но, поскольку предмет его теории прямому наблюдению не подлежал, а сама теория была в основном умозрительной, все поиски доказательств ее достоверности были обречены на неудачу. В этой связи становится понятным, почему, уже построив свою теорию, Дарвин медлил с ее публикацией и почему от момента ее рождения до выхода в свет «Происхождения видов» прошло 20 лет.
Большинство ведущих биологов и методологов науки XX в. — Майр, Рьюз, Гизелин, Халл и многие другие — сходятся в оценке феномена дарвинизма как фундаментальной интеллектуальной революции, хотя и вкладывают в понимание революции разное содержание. Так, Эрнст Майр включает в него замену креационистской догмы, открытие естественного механизма эволюции, превращение понятия естественного отбора в универсальный принцип естествознания и переворот в мировоззрении философов, естествоиспытателей и всего культурного человечества (Mayr, 1976).
По мнению А. Л. Парамонова (1978), революционность теории Дарвина состояла в том, что она дала «причинное объяснение эволюционного процесса», представив его как «форму биологической необходимости», и определила дальнейшее развитие всего естествознания. Благодаря этому якобы отпала необходимость в ее доказательстве. Такой же точки зрения придерживается В. Л. Красилов (1987), говорящий о «последовательной каузальной теории».
Особую позицию занял историк и методолог науки А. А. Любищев. Считая книгу Дарвина «крупным научным достижением», основывающимся на совокупности разнообразных аргументов, он объяснял свое неприятие дарвинизма тем, что тот включал в себя мировоззренческие постулаты и в ряде случаев принимал на себя функции законченной мировоззренческой системы. Он проводил аналогию между дарвинизмом и телеологией, поскольку они дают только мнимое решение проблемы. Развивая эту мысль, Любищев заявлял, что селекционизм вообще имеет своих фанатичных сторонников именно потому, что включает в себя философские постулаты и слепая вера в них порождает некритическое отношение к этой теории. Все дело здесь «в его философии, вернее, онтологии, или учении о сущем. Все это — подтверждение взгляда, высказанного с большой силой, например, нашим известным биологом Н. Я. Данилевским, что дарвинизм не только и не столько биологическое, сколько философское учение, купол на здании механистического материализма» (Любищев, 1982. С. 195).
Любищев находит родство между дарвинизмом и экономическими учениями и буржуазной социологией. Оно просматривается в трактовке прогресса как постоянной борьбы индивидуумов и отрицании значения революций. Но если Любищев не отказывает теории Дарвина в научности, то некоторые из критиков, согласных с ним, склонны видеть в дарвинизме в большей мере социально-психологическую модель, перенесенную на живую природу, модель, в которой в узловых моментах вместо строго научных понятий стоят метафоры (Чайковский, 1983, 1984). Резюмируя свою оценку творения Дарвина, Любищев решительно отвергает правомерность сравнения Дарвина с Коперником и тем более с Ньютоном, которое делают его не в меру восторженные почитатели.
Канадский историк и методолог науки и ревностный дарвинист Майкл Рьюз, анализируя сложность феномена дарвинизма, показывает, что в основе его формирования и утверждения лежала тесная взаимосвязь трех контекстов — философского, религиозного и социально-политического. Философский и научный контексты были весьма сходны, так как оба имели своей отправной точкой стремление изгнать метафизику и дать естественное объяснение природных явлений в рамках законов и принципов, подобных ньютоновским (Ruse, 1979).
Рьюз (1977) отмечает также, что, хотя теория Дарвина не была строго дедуктивной, отдельные ее компоненты вполне удовлетворяли критериям формализованного знания. В XX в. процесс формализации дарвинизма продвинулся дальше, ибо естественный отбор стал приниматься многими как аксиома или как «факт», не требующий доказательств.
Согласно широко распространенной версии, выдвинутой Э. Майром (Мауг, 1979) и Рьюзом (Ruse, 1977), успех дарвинизма зависел от разрушения западной интеллектуальной традиции, шедшей от древнегреческих философов и средневекового реализма. Э. Майр и К. Поппер, исследовавшие эту традицию, назвали ее эссенциапизмому или типологизмом. Типологическое мышление возникло вместе с попытками классифицировать природу посредством категорий. Разрабатывая для этой формы мышления философские основания, Платон создал учение об эйдосах (сущностях), стремившееся представить познание вещей как раскрытие их сущности. Согласно этому учению новые качества могут возникать лишь вследствие кардинальной перестройки сущностей. Придерживаясь подобных взглядов, Платон, Аристотель и их последователи отвергали возможность постепенной эволюции и утверждали, что между типами не существует переходных форм. Такова сущность типологического мышления.
В Англии, в отличие от остальной Европы, преобладало эмпирицистское мышление (номинализм), по которому реален любой индивид, а всякая попытка определить его сущность есть абстракция. Сторонники эмпирицизма подчеркивали уникальность любых биологических объектов и возможность описания их свойств исключительно статистическим путем. «Типичный индивид» казался для них простой статистической абстракцией. Эмпирики были готовы к восприятию популяционистского мышления.
По мнению Майра и Рьюза, само создание теории Дарвина, ее победа и произведенный ею переворот в естествознании и общественном мировоззрении были связаны с заменой типологического стиля мышления популяционистским. При такой замене структура органического мира и его эволюция получили совершенно новое объяснение. Этот тезис они считают вопросом кардинальной важности с методологической точки зрения и уделяют ему большое внимание.
На наш взгляд, однако, даже по отношению к теории Дарвина данное утверждение носит односторонний характер. Дарвин действительно воспринял из демографии некоторые понятия и статистический подход к анализу динамики численности населения видов. Он пользовался как цифровыми характеристиками, так и относительными оценками предполагаемых тенденций, употребляя слова «шанс», «вероятность», «вытеснение», «поглощение» и т. п. При этом Дарвин, даже когда он рассматривал судьбу особей, испытавших воздействие естественного отбора, гораздо чаше пользуется словами «организм», «индивид», «животное», учитывая тем самым активность и значение в эволюции отдельной особи как носителя определенной организации. Это позволило ему установить двустороннюю связь между процессами индивидуального и исторического развития. Нельзя забывать также дарвиновский закон единства типа, которому ученый отводил большую роль в эволюции. Поэтому было бы ошибкой считать, что Дарвин избавился от организмоцентрического (типологического) подхода, или стиля мышления.
Теория Дарвина получила высокую оценку у одного из наиболее оригинальных философов XX в. — австрийца Карла Поппера. Этот весьма популярный среди биологов философ признался, что «был зачарован Дарвином, как и дарвинизмом», еще в юные годы и затем писал об этой теории как о «бесценной», «впечатляющей и сильной», «первой нетеистической» и «убедительной».
Карл Раймунд Поппер (1902–1994).
«Я не вижу, — отмечал Поппер, — как без этой теории могло бы расти наше знание… Хотя это и метафизическая теория, она основательно прояснила весьма конкретные и совершенно практические вопросы… она предоставила нам механизм приспособления и позволила даже исследовать в деталях работу этого механизма… Несомненно, что в этом заключается причина почти повсеместного принятия дарвинизма» (Поппер, 1995. С. 42), Впрочем, лучшее свидетельство высокой оценки — принятие Поппером дарвинизма в качестве модели для созданной им эволюционной эпистемологии — науки о развитии научного знания. В этом, собственно, одна из главных причин его постоянного обращения к этой естественно-исторической концепции.
Но восхищение дарвинизмом вступило у Поппера в противоречие с его собственной философией. Стержневая идея философии и эпистемологии Поппера — деление знания на научное и ненаучное с помощью теста на опровержение, или, как у нас принято говорить, на определение возможности фальсификации. Если теория поддается опровержению, она признается научной; если она неопровергаема, то — ненаучна. Научная теория должна быть построена так, чтобы допускать опровержение.
Поппер не сделал исключения из этой классификации для теории Дарвина, и она попала в разряд ненаучных. Поппер назвал ее «метафизической исследовательской программой» (Поппер, 1995. С. 40). Метафизической потому, что она не способна к проверке (фальсификации), а исследовательской программой — ввиду того, что промежуточные ступени, ведущие к существенному изменению вида, и ряд других вопросов подлежат изучению. Как указывает Поппер, он стал употреблять этот термин после 1958 г.
Снижение ценности дарвинизма и его неопровержимость связаны также с распространенным мнением о тавтологичности этой теории. Действительно, результат естественного отбора — это «выживание наиболее приспособленных» (формулировка Г. Спенсера). Но объективной оценки приспособленности, подлежащей опытной проверке, не существует. Показателем приспособленности считают выживание. Подставив этот критерий в формулу Дарвина — Спенсера, получаем «выживание наиболее выживаемых». На явную тавтологичность основного принципа дарвинизма указывали уже современники Дарвина, а в XX в. — сами создатели синтетической теории эволюции — К. Х. Уоддингтон, Р. Фишер, Дж. Б. С. Холдейн, Г. Г. Симпсон.
Поппер видит в дарвинизме далеко не универсальную теорию, хотя, по его мнению, может казаться, что она охватывает «много разных случаев». «Скорее эта теория будет успешной применительно к весьма специальной, возможно, даже уникальной ситуации… она “почти предсказывает” необычайное разнообразие форм жизни. В других областях ее предсказательная или объясняющая сила в большой мере исчезающе мала». Поэтому Поппер видит в дарвинизме «одну из идей ситуационной логики» (там же, с. 40).
Мы должны заметить, что любой, кто хотел бы составить однозначное представление о соответствии теории Дарвина самым ключевым для Поппера критериям — проверяемости теории, ее способности давать объяснение и предсказывать, — столкнется с противоречивостью его суждений, причем даже в рамках одного труда и одного предложения. Так, Поппер пишет: «Хотя… дарвиновская теория эволюции не обладает достаточной силой, для того чтобы объяснить земную эволюцию громадного разнообразия форм жизни, она, несомненно, предлагает такое объяснение и поэтому привлекает к себе внимание» (там же, с. 43). Создается впечатление, что Поппер постоянно — даже в момент написания самой главы или статьи — испытывает колебания между полярными оценками и, уступая своему давнему влечению и симпатии к дарвинизму, пытается вывести эту теорию из сферы действия собственных критериев. Поэтому он указывает, что в силу специфичности биологии «объяснение в принципе», которое дает дарвинизм, — это нечто совершенно отличное от того типа «объяснения в деталях», которого мы требуем от физики; или что действительно суровые испытания естественного отбора гораздо труднее осуществить, чем в сравниваемых теориях в физике или химии (Popper, 1987. Р. 143).
В 80-х годах XX в. Поппер все более склонялся к мысли о высокой специфичности и исключительности биологических теорий среди концепций других естественных наук. Теория эволюции в его глазах в наибольшей мере оправдывала такую характеристику. В этой связи Поппер счел возможным выразить надежду на то, что «теория естественного отбора может быть сформулирована так, что будет далека от тавтологии. В этом случае она становится не только проверяемой, но и нестрого универсально верной» (Popper, 1987. Р. 145). Однако буквально тут же Поппер указывает, что не все явления эволюции объясняются одним естественным отбором.
Интересно, что Поппер предпринял попытку «улучшить» дарвинизм. И уже совсем удивительно то, что, оперируя закономерностями современной генетики, Поппер стремится усовершенствовать именно теорию Дарвина, а вовсе не синтетическую теорию. Последняя для него как бы и не существует.
Поппер воскрешает гипотезу «органического отбора» Дж. Болдуина и Л. Моргана (1896), которую высокомерно отбросили синтетисты, провозглашает ведущим фактором эволюции животных поведенческую активность особи (благодаря которой она способна уклониться от неблагоприятного действия отбора и даже изменить его вектор) и, прослеживая наследственную фиксацию поведенческих актов вплоть до преобразования морфологии и анатомии по образцу химического ламаркизма, органически соединяет дарвинизм с ламаркизмом в едином синтезе (Поппер, 1995; Чайковский, 1995).
Еще один акт «улучшения» дарвинизма — его явное освобождение от постулата борьбы за существование. Поппер просто о ней нигде ничего не говорит.
Первые возражения дарвинизму
С выходом книги Дарвина сама идея эволюции победила почти во всех странах быстро и бесповоротно. Если после этой победы еще и оставались креационисты, которых было трудно переубедить, то их число неуклонно сокращалось. Что касается теории естественного отбора, то с ней ситуация была иной: с течением времени число ее противников, наоборот, увеличивалось.
Мы не будем описывать негативную, а тем более позитивную реакцию на дарвинизм в разных странах мира. Это значило бы повторять то, о чем уже было многократно сказано во многих руководствах и даже в учебниках по эволюционной теории. Зато мы сосредоточим свое внимание на конкретных научных возражениях теории естественного отбора со стороны наиболее авторитетных оппонентов Дарвина, о чем обычно нигде не пишут. Напомнить о них тем более важно еще и потому, что в свое время на фоне общего энтузиазма по отношению к дарвинизму они не произвели особого впечатления на публику, а сейчас, по сути, идентичные возражения возникают в дискуссиях как впервые высказываемые. Некоторые из них важны и тем, что могут быть адресованы и современной науке, а она не в состоянии дать на них материалистический ответ.
Мы только что видели, что Дарвин был сам себе оппонентом. Предвидя возможные возражения, и, вероятно, желая их упредить, Дарвин сам указал на трудности, которые стоят перед концепцией естественного отбора. Они приведены в ряде глав «Происхождения видов», и нам нет нужды на них останавливаться. Но наряду с такими ожидаемыми возражениями в этих же главах содержатся и возражения реальных оппонентов. Наиболее существенные из них принадлежат Дж. Майварту, У. Томсону и Ф. Дженкину.
Зоолог Джордж Майварт, будучи сальтационистом, считал, что с помощью естественного отбора невозможно объяснить начальные стадии развития органов, когда их рудиментарные зачатки не в состоянии приносить их обладателям никакой пользы. Варьируя это возражение, Майварт задавал вопрос, как малые вариации у насекомых могут сделать их сходными с несъедобными или отмершими частями растений, а также вести к развитию мимикрии.
Авторитетный физик Уильям Томсон (впоследствии лорд Кельвин) первоначально определял возраст Земли в 24 млн лет и из этого факта делал вывод о непригодности теории Дарвина, постулирующей медленное и постепенное накопление мелких случайных и разнонаправленных изменений. На такую эволюцию просто не хватило бы времени. Для Дарвина, относившегося к расчетам физиков с большим доверием, заключение Томсона было тяжелым испытанием. Позднее Томсон отодвинул время отвердения земной коры до 98—200 млн лет, но и этого было мало, чтобы Дарвин мог обрести спокойствие.
Возражение шотландского инженера Флеминга Дженкина было для Дарвина самым дискредитирующим, и оно вошло в историю науки как «кошмар Дженкина». В 1867 г. этот автор опубликовал большую статью, где показал, что если полезные изменения возникают, как считает Дарвин, у единичных особей и время от времени, то при их скрещивании с другими особями, не обладающими такими изменениями, по прошествии нескольких поколений полезный признак будет вовсе нивелирован. Он мог бы сохраниться, по Дженкину, лишь в случае его возникновения сразу у большого числа особей и в одном поколении. Но тогда случайность и неопределенность изменчивости исчезает, и мы имеем дело с односторонним и закономерным изменением (т. е. определенной изменчивостью). Аналогичные соображения высказал и математик А. Беннетт.
Во времена Дарвина, когда корпускулярной теории наследственности еще не существовало, аргумент Дженкина представлялся неопровержимым. Это вытекало из общепринятого ошибочного взгляда на наследственность как на стойкое слияние, или, точнее, «сплавление», признаков родителей в новое единое целое, наступающее после оплодотворения. О работе Менделя (1865) Дарвин ничего не знал.
Серьезность возражения Дженкина вынудила Дарвина пойти в шестом издании «Происхождения видов» на целый ряд принципиальных изменений проламаркистского характера, подрывавших целостность концепции естественного отбора. Он увеличивает роль определенной изменчивости, признав возможность ее проявления у большего числа особей, отказывается от универсальности естественного отбора как движущей силы эволюции, допускает большее значение упражнения органов и наследования приобретенных признаков. Дарвин умер, так и не зная ответа на возражения Дженкина и Томсона.
Забегая вперед, следует сказать, что и открытие законов Менделя не устранило полностью «кошмара Дженкина». Генетика показала, что новый полезный признак хотя и не пропадает бесследно в генофонде популяции, его распространение в ней может быть процессом очень длительным, причем успех вовсе не гарантирован.
Во Франции возражения дарвинизму были выдвинуты непременным секретарем Парижской академии наук Пьером Флурансом и зоологом и антропологом Арманом Катрфажем де Брео, опубликовавшими по этому вопросу отдельные труды (Flourens, 1864; Quatrefages, 1870). У Флуранса, креациониста и позитивиста, шокированного метафорическим языком Дарвина, это маленькая брошюра, написанная в высокомерном и категорическом тоне. В ней всего четыре научных аргумента, направленных против идеи эволюции вообще. Солидная книга Катрфажа, по словам Ю. А. Филипченко, «единственного серьезного французского критика Дарвина» и тоже креациониста, спокойна, объективна и исполнена уважения к гению «английского натуралиста». Мы приведем только четыре из восьми возражений Катрфажа, которые могут быть отнесены к роли естественного отбора; из них два повторяют ранее высказанные Флурансом и, таким образом, являются общими для обоих критиков (см. подробнее: Назаров, 1974).
1. Наука не располагает фактами превращения одного вида в другой, и Дарвин не привел ни одного подобного примера. Почему, часто повторял Флуранс, никто никогда не наблюдал, чтобы лошадь породила осла или наоборот? «Видели ли когда-нибудь, чтобы груша превратилась в яблоню, моллюск в насекомое, насекомое в птицу?», а белый в негра под влиянием одного и того же климата? — добавлял Катрфаж. Несмотря на все могущество среды, приводящей к изменчивости, за недооценку которой он даже упрекает Дарвина, последняя всегда ограничена рамками вида. Поэтому Дарвин путает изменчивость внутривидовую с превращением видов друг в друга. Флуранс заявляет прямо, что Дарвин вообще пренебрег определением вида. «Дарвин написал книгу о происхождении видов, а в этой книге отсутствует именно происхождение видов» (Flourens, 1864. Р. 47).
С этим аргументом связано также противоречие между ясной разграниченностью (наличием хиатусов) видов в природе и их постоянным превращением согласно теории медленной эволюции по Дарвину.
Обоих критиков, вероятно, не удовлетворило объяснение Дарвина: отсутствие промежуточных форм определяется процессом дивергенции и вымиранием исходных типов. Как мы увидим уже в следующей главе, Флуранс и Катрфаж оказались совершенно правы в том, что плавных переходов от вида к виду в природе не бывает, а признаки рас и подвидов никогда до видового ранга не «дорастают». Но они ошибались, отрицая превращение одного вида в другой. Согласно современным данным только так и совершается эволюция, но при этом вид превращается не в какой-либо другой из существующих, а в совершенно новый.
2. Одновременно существуют высшие и низшие организмы (в частности, одноклеточные), сохранившие в течение миллионов лет «исходную простоту строения» вопреки отбору и изменению условий среды.
Предвидя это возражение, сам Дарвин указывал, что положенный им в основу эволюции принцип дивергенции «не предполагает необходимого прогрессивного развития» и вымирания исходных форм, что последние могут сохраниться в относительно простых и во многих отношениях мало изменившихся условиях среды вне непосредственной конкуренции с высшими формами. Впрочем, ошибочно было бы считать, что Персистентные виды вовсе не изменились. Они, бесспорно, усовершенствовались.
В наши дни самой большой и до сих пор не решенной проблемой остается вопрос, не почему низшие организмы не превратились в высшие, а почему возникли высшие. Теория естественного отбора ответа на него дать не может.
3. Отсутствуют переходные формы в ископаемом состоянии.
Дарвин объяснял этот факт неполнотой геологической летописи, связанной с неудовлетворительными условиями сохранения ископаемых.
В настоящее время геологическая летопись считается достаточно полной, для того чтобы можно было с уверенностью заключить, что отсутствие переходных форм — реальный факт и один из наиболее веских аргументов против дарвинизма.
4. Абсолютен характер физиологических различий между расами и видами, проявляющийся при размножении. Если разные виды способны спариваться и давать потомство, то образующиеся гибриды либо бесплодны, либо дают возврат к родительским формам со второго поколения. По этой причине не существует ни одной расы гибридного происхождения. Флуранс и Катрфаж ссылались при этом на широко известные во Франции опыты Ш. Но-дэна (Naudin, 1853).
Непонятно, писал Катрфаж, как между дотоле плодовитыми расами, имеющими общего предка, может в какой-то момент возникнуть бесплодие, навсегда разделяющее их. По его словам, Дарвин отступил перед трудностью этой задачи, а может быть, и не осознавал ее, ибо недооценивал физиологические различия между видами и расами. В одной из последних работ Катрфаж подробно говорит, что этот физиологический аргумент вместе с ним всецело разделяют такие последователи Дарвина, как Дж. Ромене и Т. Гекели.
Вопрос о возможности гибридного видообразования во многих систематических группах давно решен положительно, и он будет специально рассмотрен в гл. 10. Но еще в XVIII в. К. Линней и И. Кельрейтер располагали фактами межвидовой гибридизации, причем первый допускал, что она может быть источником образования новых видов. Последующими исследованиями была доказана относительность физиологического критерия вида. Что касается бесплодия между расами, то оно, действительно, может возникать как результат их длительной взаимной изоляции. Однако оно связано не с усилением расовых признаков, а с трансформацией вида как системы. Очевидно, данный аргумент возражением дарвинизму не является.
Критика дарвинизма ознаменовалась в XIX в. двумя высшими достижениями — появлением трехтомных трудов немецкого ботаника Альберта Виганда и его русского единомышленника, зоолога и известного славянофила Н. Я. Данилевского. В то время образованная часть общества, ослепленная дарвинизмом, не обратила на них почти никакого внимания, и, по-видимому, не будет преувеличением сказать, что оба труда приобрели подлинную актуальность только в наши дни.
Альберт Виганд (1821–1886).
Уже в заглавие исследования Виганда (Wigand, 1874–1877) вынесена главная методологическая причина несостоятельности дарвинизма — уклонение его создателя от требований позитивной науки, которым следовали Ньютон и Кювье. В трех книгах последовательно рассмотрены предпосылки, основные положения теории Дарвина и ее следствия, которым противопоставлена вся совокупность существовавших в то время контраргументов. Проводится методологический анализ теории.
Н. Я. Данилевский (1885, 1889) в основном повторяет критику Виганда, в главных чертах следует порядку ее развертывания, но его разбор действия искусственного и естественного отбора отличается большей глубиной анализа, объективностью, остроумием и оригинальностью мысли, а труд в целом выглядит более капитальным. Это дает нам основание при перечислении самых трудноопровержимых возражений дарвинизму придерживаться исследования Данилевского, специально отмечая лишь наиболее важные заслуги Виганда.
Николай Яковлевич Данилевский (1822–1895).
Но прежде нам трудно воздержаться, чтобы не высказать собственных впечатлений о произведении Данилевского в целом. Всякий, кто решится его прочесть (а это без малого 1500 страниц), согласится, что оно достойно двух главных эволюционных трудов Дарвина, а, возможно, в ряде моментов их и превосходит. Тысячи цитат из Дарвина, прослеживание развития его мысли от издания к изданию, доскональный анализ критикуемых примеров и аргументов, насыщение произведения великим множеством фактов, скрупулезно собранных самим Данилевским и точно документированных, яркие сравнения с кругом других, более знакомых явлений, наблюдательность и чутье натуралиста, едва ли уступающие дарвиновским, наконец, 25-летний напряженный труд делают это произведение действительно «истинным подвигом русского ума и русского чувства», как выразился о нем сподвижник Данилевского Н. Н. Страхов (там же, т. II, с. 48). Главное же впечатление при его чтении — это сколь многое из написанного остается справедливым и сейчас, в пору великих научных открытий.
В качестве итоговых Данилевский приводит 15 главных ошибочных выводов Дарвина и 10 логических промахов, которые к ним привели. Кроме этого, во всех главах по специальным проблемам в общей сложности выявлены многие десятки, а возможно, и сотни положений, которые, по Данилевскому, не выдерживают критики и должны быть отвергнуты. Мы приведем не все главные возражения Данилевского, но дополним их интересными и менее известными более частного характера. Отметим особо, что нижеследующие пункты сплошь и рядом не соответствуют пунктам Данилевского, а сконструированы и сформулированы нами из всей совокупности его возражений ради краткости изложения.
1. Нет никаких оснований распространять на виды дикой природы выводы, касающиеся способов образования форм домашних животных и культурных растений, а аналогия между искусственным и естественным подбором[5] совершенно ложна. (Возражение ранее высказано Вигандом.)
Дарвин не указал ни одной породы, которая возникла бы путем постепенного накопления мелких индивидуальных изменений, и сильно преувеличил роль искусственного подбора в становлении культурных форм растений и животных. Это становление было с самого начала предопределено более высокой изменчивостью их прародителей, а впоследствии определялось появлением крупных внезапных изменений (как в случаях однолистной земляники, пирамидального кипариса и плакучей туи), уродств (анконские овцы, такса, легавая), наследственных болезней (турман), гибридизации между породами.
Дарвин игнорировал крупные скачкообразные изменения, ибо в этом случае отпадала надобность в его теории и рушилось естественное объяснение органической целесообразности.
2. Изменения у домашних форм не могут служить основанием для понимания происхождения диких видов и по той причине, что они ни в одном случае не достигают видового уровня. Все породы свободно скрещиваются друг с другом с образованием плодовитого потомства, а в случае одичания возвращаются к исходному дикому типу. Это равнозначно тому, что все здание теории Дарвина лишается своего фундамента и «всякой положительной основы» (Данилевский, 1885. Ч. I. С. 366–367). (Возражение ранее высказано Вигандом.)
3. Большая часть из семи заключений Дарвина, которыми он обосновывает тезис о разновидностях как «начинающихся видах», или неверны или опираются на факты, из которых таких заключений сделать нельзя. Статистические обсчеты многих региональных флор не подтвердили положений Дарвина о том, будто процветающие или господствующие виды чаще образуют хорошо обозначенные разновидности, будто в каждой стране ббльшие роды представлены большим числом господствующих видов или будто виды больших родов содержат больше разновидностей, чем малые.
Неправомерно вообще игнорировать качественные различия между разновидностями и видами, находя между ними лишь различия в степени, и в самых ответственных дедукциях подменять отношения между разновидностями отношениями между видами.
4. Неопределенному и мозаичному характеру изменчивости у Дарвина противоречат признаваемая им соответственная (соотносительная) изменчивость и в целом принцип коррелятивного изменения частей и систем органов организма. Если теория не может ответить, какая доля в достигнутом преобразовании принадлежит неопределенной, а какая — соответственной изменчивости, то она не может класть первую в фундамент возводимого здания. Подбор и соответственная изменчивость — «начала… друг друга исключающие» (там же, с. 169).
5. Жизнеспособность организма при смене окружающих условий зависит от одновременного изменения большого комплекса признаков (это равнозначно эффекту соответственной изменчивости), и всякое единичное изменение будет вредно, так как нарушит существующую корреляцию. Признать же одновременность изменений — значит признать определенную изменчивость, при которой теория Дарвина теряет всякий смысл и значение и возрождается принцип целестремительного развития Бэра. Ибо то, что дарвинизм призван объяснить, — внутренняя и внешняя целесообразность — «будет уже вложено в сам процесс изменения как нечто данное» (там же, ч. II, с. 22). Изменение же комплекса признаков, по теории Дарвина, невозможно.
6. Борьба за существование, хотя она и существует как спорадическое явление, совершенно лишена свойств крайней интенсивности, непрерывности и длительной однонаправленности, необходимых для того, чтобы ее следствием мог явиться естественный подбор.
С прекращением борьбы или изменением ее направленности (а это случается во много раз раньше, чем появление «заметной разновидности») достигнутое изменение лишается своего преимущества, перестает фиксироваться и исчезает. С этого момента процесс накопления изменчивости, достигнутого «трудами многих сотен или тысяч поколений», должен начинаться сызнова и, вероятнее всего, пойдет теперь в другом направлении.
Коль скоро борьба за существование селективными свойствами не обладает, в природе нет и естественного подбора. И это хорошо подтверждается отсутствием переходных форм как между ныне живущими видами, так и между ископаемыми формами.
7. Дарвин не принимает в расчет нивелирующую роль свободного скрещивания, препятствующего закреплению даже полезного признака. Если новый признак почему-либо и будет сохраняться у какого-то числа индивидов, то на его распространение по всему виду никогда не хватит времени; если он возникнет сразу у очень значительного числа особей, то такое явление уже не сможет называться индивидуальной изменчивостью; если, наконец, признак оказался бы столь полезным и масштабным, что смог бы превозмочь все стоящие на его пути препятствия, то его бы назвали не индивидуальной изменчивостью, а крупным самопроизвольным изменением.
Данилевский резюмирует, что «начинающееся индивидуальное изменение будет всегда, без малейшего возможного исключения побеждено своим коренным видом, сколько бы зачатков выгод, прогресса и усовершенствований, большей и лучшей приспособленности оно в себе ни несло… А из этого прямо следует, что такой хитрой и курьезной штуки, как измышленный Дарвином естественный подбор, не существует, не существовало и не может существовать…» (там же, ч. И, с. 100).
8. Никаких средств для устранения свободных скрещиваний внутри вида у природы нет, и потому она не «производит и не может производить подбора». Поглощающая роль свободных скрещиваний, признанная самим Дарвином, должна быть представлена одним из первых аргументов против его учения. Удивительно, что ни в одном из его сочинений нет даже попытки устранить это противорецие.
Дарвин решительно отклонил гипотезу географической изоляции «благоприятно изменившихся организмов», видимо, сознавая ее несовместимость со своей теорией.
9. Теории подбора противоречат многочисленные факты существования в природе видов с безразличными, бесполезными и даже вредными признаками. В число последних входят и такие, которые полезны для других видов.
10. Теория Дарвина не интересуется бесполезными признаками и считает их наиболее изменчивыми. Но к «бесполезным» признакам относятся самые важные (существенные) организационные признаки, на которых строится систематика от рода до типа, — и они наиболее константные. Сколь же сужается сфера подбора, если он не принимает участия в становлении самых важных признаков! Выходит, что теория Дарвина отстраняется от объяснения генеалогического характера филогенетической систематики.
Впервые на бессилие дарвинизма объяснить происхождение высших систематических единиц путем дифференциации низших обратил внимание Виганд. Он справедливо указал, что категории вида, рода, семейства и т. д. отличаются друг от друга не столько количественно, сколько качественно (абсолютно). Если вид и может распасться на несколько новых видов, то при этом не возникает автоматически нового рода, ибо это понятие определяется не числом относящихся к нему видов, а совокупностью своих специфических особенностей, которые реально существуют у всех его представителей.
11. Если бы органический мир образовался в соответствии с теорией Дарвина, это был бы совершенно иной мир, в корне отличный от того, который мы имеем перед глазами. То был бы мир «нелепый и бессмысленный». Семена одного и того же растения образовывались бы то с одной, то с двумя семядолями, животные рождались бы то с внутренним, то с внешним скелетом, то с брюшным, то со спинным расположением нервной системы. Никогда не появились бы тяжелые рога оленей, плавательный пузырь рыб, паразитический инстинкт кукушки. Систематики классифицировали бы организмы (если бы вообще в состоянии были это делать) не по морфологическим, а исключительно по текучим адаптивным признакам. Низшие формы были бы вытеснены высшими.
12. Данилевский повторил возражение Майварта о бесполезности, а, возможно, чаше — вредности, в момент зарождения будущих полезных признаков. Было бы нелепым ожидать от слепого подбора сохранения таких изменений в предвидении их будущей пользы, если ее нельзя извлечь в данный момент. Конструируя гипотетические примеры нарастания преимущества признака от поколения к поколению, Дарвин за неимением реальных переходов опирается на пользу новых признаков, беря их уже в готовой форме, как они представлены у сформировавшихся видов.
13. Вымиранию видов не сопутствует процесс нарождения новых, как это должно следовать из теории Дарвина, по которой вымирание есть следствие конкурентного вытеснения старых видов своими более приспособленными потомками. Это хорошо видно на примерах недавнего исчезновения крупных зверей, нелетающих птиц, слоновых черепах. Они исчезли вместе со своими разновидностями, не оставив более удачливых потомков. Во всех известных случаях процесс вымирания оказался независимым от процесса нарождения видов. Это равнозначно отсутствию естественного подбора, в котором указанные процессы взаимосвязаны.
14. Сколь ни длительна геологическая история Земли, а времени для образования органического мира с помощью естественного подбора при всех уступках этому учению не хватило бы. Разница между реально истекшим временем и потребностью в нем по теории Дарвина слишком велика, чтобы в геологическое время можно было «вместить дарвиновский процесс образования видов».
В заключение этого перечня возражений нельзя не сказать об отношении Данилевского к Дарвину, его теории и о его собственном биологическом кредо.
Критическое исследование Данилевского вызывает не меньшее восхищение, чем труды Дарвина. Оно содержит не только уничтожающую критику теории происхождения видов, «ложной в самой своей сущности», но и признание многих истинных заслуг ее автора. Главное же состоит в постоянном ощущении Данилевским близости к «великому произведению человеческого ума» (там же, ч. I, с. 24), которое передается и читателю. «Кто прочел и изучил сочинения Дарвина, — пишет Данилевский, — тот может усомниться в чем угодно, только не в его глубокой искренности и не в возвышенном благородстве его души» (там же, ч. I, с. 11).
И вместе с тем, по оценке Данилевского, Дарвин создал самое неэстетичное, «ужасное учение, ужасом своим превосходящее все вообразимое… Никакая форма грубейшего материализма не опускалась до такого низменного мировоззрения» (там же, ч. II, с. 522, 529). Изобретя механизм подбора, заменивший разум случайностью, Дарвин породил «жалкий и мизерный» виртуальный мир, в котором правят балом «бессмысленность и абсурд». Наше счастье, что мир, в котором мы живем, не имеет ничего общего с изобретенным Дарвином.
Позиция самого Данилевского достаточно близка современной позитивной модели эволюции, к которой мы пришли в результате нашего исследования.
Согласно его взглядам, «псевдотелеология» Дарвина (поиск полезного во всем) не может заменить истинной телеологии, связанной с именами Аристотеля, Кювье и Бэра. В равной мере нелепо думать, что случайность и вероятность могут занять место разума, интеллекта, духовного начала. Превращения видов мыслимы лишь в случае признания внутреннего закона развития, который несет в себе каждый живой организм. То, что постулирует дарвинизм, вообще не заслуживает названия развития. Данилевский текстуально предвосхищает главную идею номогенеза, утверждая, что развитие, выражающееся в морфологических изменениях, есть процесс чисто внутренний, совершающийся сообразно закону. С ним вполне совместимо развитие крупными скачками, при которых целесообразность оказывается выражением определенного внутреннего плана. Хотя Данилевский и считает такой характер развития гипотетическим, он утверждает, что только такую форму происхождения вида от вида позволяют принять данные положительной науки.
С той же «положительной» точки зрения Данилевский принимает, что виды постоянны и «неизменны в своей сущности». Постоянство, однако, не синоним вечности. По прошествии какого-то срока часть из них вымирает, часть мутирует в новые виды. Как мы увидим далее, фактически то же самое утверждают теория прерывистого равновесия и экосистемная теория эволюции. В конце концов, считать виды длительное время не претерпевающими изменений или постоянными, но способными мутировать — это дело вкуса.
Глава 2. Синтетическая теория эволюции
Одной из наиболее уязвимых сторон теории Дарвина было незнание природы наследственности и законов ее изменения. Мы видели, что из всех возражений, адресованных этой теории, самым непреодолимым явилось соображение Дженкина. Оно было столь фундаментальным, что казалось способным дискредитировать всю теорию. Дарвинизм остро нуждался в поддержке генетики, но в течение двух первых десятилетий XX в. ее главные творцы оказались в лагере антидарвинистов, полагая, что генетика сама без всякого отбора в состоянии объяснить эволюцию и видообразование. Не только дарвинизм, но и эволюционная идея в целом были ввергнуты в состояние глубокого кризиса. Однако рано или поздно дарвинизм и генетика в силу логики развития этих наук должны были объединиться. Исторически было предрешено, чтобы плодом их союза стала новая дисциплина — популяционная генетика.
Краткая история становления
Отправным пунктом популяционной генетики стало правило, или закон Харди — Вайнберга (1908), согласно которому в отсутствие возмущающих факторов (мутаций, миграций, инбридинга, естественного отбора, случайного генетического дрейфа) пропорции генотипов (и, следовательно, частоты генов) в бесконечно большой панмиксической популяции (со свободным скрещиванием) стабилизируются уже в первом поколении, и достигнутое равновесие сохраняется в течение неограниченного числа поколений. Если обозначить через р и q частоты двух аллелей одного гена, то их распределение в такой популяции соответствует коэффициентам разложения бинома Ньютона:
(р + q)2 = р2 + 2pq + q2 = 1.
Но такие идеальные популяции — всего лишь абстракция, поскольку в реальной среде постоянно действуют факторы, нарушающие равновесие генотипов. Равновесие популяции — это биологический аналог идеального газа в физике, удобная исходная позиция для определения величины сдвигов равновесия при воздействии различных факторов.
Основная заслуга в построении математических моделей действия этих факторов принадлежит англичанам Р. Фишеру и Дж. Б. С. Холдейну и американцу С. Райту. Их трудами в течение немногим более двух десятилетий была создана математическая теория классической популяционной генетики — основы синтетической теории (см. подробнее: Provine, 1971).
Уже первые статьи Роналда Фишера (1918, 1922) положили начало использованию в популяционной генетике стохастических методов. Им было открыто явление так называемого сверхдоминирования, при котором если гетерозигота обладает селективным преимуществом, то в популяции между обоими аллелями сохраняется устойчивое равновесие. Целостная концепция эволюционного процесса была разработана Фишером в книге «Генетическая теория естественного отбора» (Fisher, 1930). Она внесла большой вклад в синтез дарвинизма и менделизма и стала для биологов-эволюционистов своего рода Библией. Именно этот труд Фишера более всего способствовал упрочению ортодоксального взгляда, согласно которому характер эволюции определяется почти исключительно естественным отбором.
Начало систематическому математическому описанию динамики генных частот под действием естественного отбора положила серия статей Джона Холдейна под обшим названием «Математическая теория естественного и искусственного отбора» (1924–1931). Для определения генных отношений от поколения к поколению им была разработана строгая система нелинейных уравнений. Холдейн установил, что число поколений, необходимое для заданного изменения частоты гена, обратно пропорционально интенсивности отбора, и составил таблицу, отражающую эту количественную закономерность. В последних статьях этой серии было рассмотрено влияние на динамику частоты таких факторов, как неполный инбридинг, ассортативное (избирательное) скрещивание, неполное доминирование в аутосомных и сцепленных с полом генах, сцепление, полиплоидия, изоляция и др. Свои открытия Холдейн подытожил в известной книге «Факторы эволюции» (Haldane, 1932; Холдейн, 1936).
В 1931 г. в английском журнале «Genetics» вышла большая статья Сьюэлла Райта «Эволюция в менделевских популяциях» (Wright, 1931). В ней было показано, что в основе эволюции лежит процесс смешения популяционного равновесия, в который вовлечены все эволюционные факторы. Среди последних важны не только те, что являются внешними по отношению к популяции, но и связанные с ее собственной организационной структурой.
Райт обратил внимание на то, что природные популяции в подавляющем большинстве не являются едиными панмиктическими образованиями, а представляют собой полуизолированные колонии, или субпопуляции, лишь обменивающиеся генетическим материалом. В таких подразделенных и обширных популяциях в результате смещения равновесия процесс эволюции протекает гораздо быстрее. В локальных же субпопуляциях большое эволюционное значение приобретает случайный дрейф генов. Следствием этой закономерности стали выдвинутые много позднее эффект «бутылочного горлышка» и «принцип основателя» (Майр).
Работа Райта и указанные труды Фишера и Холдейна фактически завершили в начале 30-х годов XX в. построение классической популяционной генетики, каковой она, по существу, остается до сегодняшнего дня, осуществив тем самым полный синтез дарвинизма и генетики. Стержнем дарвинизма XX в. на Западе стала, таким образом, генетическая теория естественного отбора, представившая последний как статистически-вероятностный механизм. Она предельно упрощала и потому сильно искажала реальную картину динамики популяционных процессов, якобы составляющих начальные этапы эволюции. Так, популяционногенетическая модель оперировала генами как независимыми единицами, она не учитывала их взаимодействий, игнорировала интегральные эффекты генотипа как целого, возможность изменения генома в ходе индивидуального развития, чрезвычайную сложность связи генотипа с фенотипом и оказалась неспособной объяснить роль в эволюции онтогенетических перестроек. Зато она воодушевляла синтетистов тем, что придавала анализу генетической структуры популяций математическую точность и строгость. Такой путь развития дарвинизма был исторически неизбежным.
Синтез генетики и дарвинизма шел не только в рамках теоретико-математических исследований. Он осуществлялся и другими путями. Так, в Советском Союзе, где у истоков синтеза стоял С. С. Четвериков (1926), ведущее значение приобрело изучение природных популяций, данных экспериментальной генетики и действия естественного отбора, во Франции — экспериментальное моделирование с помощью популяционных ящиков, в США — всеми доступными методами.
В общей сложности в создании нового синтеза помимо Фишера, Холдейна и Райта приняли участие свыше 30 выдающихся биологов (см. об этом: Галл, Георгиевский, 1973; Галл, Конашев, 1979;. Галл, Георгиевский, Колчинский, 1983; Завадский, Колчинский, Ермоленко, 1983). Из их многочисленных трудов первостепенное значение приобрели книги Ф. Добжанского (Dobzhansky, 1937), познакомившего американских эволюционистов со статьей Четверикова, Дж. Г. Симпсона (Simpson, 1944; рус. пер. — 1948), Э. Майра (Мауг, 1942; рус. пер. — 1947) и Дж. Хаксли (Huxley, 1942). От названия последней книги — «Эволюция. Современный синтез» — произошло и название нового синтеза — синтетическая теория эволюции (СТЭ). Впрочем, в западной литературе в большем ходу термин «неодарвинизм».
Популяционная генетика и вместе с ней СТЭ сосредоточили свое внимание на исследовании якобы начальных, как считали их создатели, шагов эволюции, завершающихся образованием нового вида и охватываемых понятием микроэволюции. Что касается надвидовой, или макроэволюции, то, по единодушному мнению приверженцев СТЭ, этот уровень эволюции не обладает специфическими факторами и механизмами, отличными от действующих в микроэволюции, и его результаты могут быть выведены из этой последней. Благодаря такому взгляду вся огромная сфера надви-довой эволюции, ради понимания которой эволюционная теория, собственно, и создавалась, фактически выпала из поля зрения синтетистов. В результате основополагающие понятия СТЭ относятся в основном к микроэволюции.
В качестве элементарной эволюционной единицы стали рассматривать популяцию, в качестве элементарной единицы наследственной изменчивости — мутацию, а в качестве элементарного эволюционного явления — изменение генетического состава популяции. К числу элементарных эволюционных факторов в западной литературе были отнесены мутационный процесс, генетический дрейф, изоляция и естественный отбор. В советской науке, следуя за Четвериковым и Тимофеевым-Ресовским, к ним традиционно стали прибавлять «популяционные волны» (см., например: Яблоков, Юсуфов, 1976; Парамонов, 1978).
Основные постулаты теории
СТЭ восприняла основные положения теории Дарвина и дополнила их новыми. Благодаря ассимиляции данных гораздо большего числа дисциплин и направлений, многие из которых во времена Дарвина просто не существовали, новый синтез предстал в виде обширного собрания эмпирических обобщений, которые ради удобства восприятия желательно было свести к сравнительно небольшому числу тезисов или постулатов. Первым такую попытку предпринял А. А. Любищев (1973), однако ее результат оказался нечетким. Вскоре за эту задачу взялся Н. Н. Воронцов, который выделил в СТЭ 11 основных постулатов (Воронцов, 1978, 1980, 1984), Ниже мы и последуем за Воронцовым, воспроизводя эти постулаты (при этом в ряде случаев отступая от того порядка, в котором они приведены у Воронцова), но сопроводим их краткими комментариями, отвечающими новому видению механизма эволюции.
1. Наименьшей (элементарной) эволюционной единицей является популяция. Сторонники СТЗ ставят в особую заслугу этой теории замену типологического (организмоцентрического) мышления, в котором объектом эволюции выступает особь, на популяционное.
Как мы имели возможность убедиться, рассмотрение эволюционного процесса исключительно на уровне популяции искажает представления Дарвина и, как мы надеемся показать далее, делает недоказуемым превращение популяции в новый вид, направляя исследование по ложному пути. Популяционная структура вида — очень важная характеристика, обеспечивающая его стабильность и выживание, но прямой связи с эволюцией она не имеет.
2. Материалом для эволюции служат мелкие дискретные наследственные изменения — мутации; среди них преимущественное внимание уделяется генным, или точковым, мутациям. Эти мутации ненаправленны и случайны. Из этой характеристики материальной основы эволюции вытекает другое название СТЭ — тихогенез (от греч. týche — случайность), предложенное Л. С. Бергом.
Мелкие мутации часто не проявляются на фенотипическом уровне, а те, что проявляются, проходят через «сито» отбора. Кроме мутаций открыты другие типы наследственной изменчивости, с которыми по преимуществу и связана морфологическая эволюция.
3. Основным или даже единственным движущим фактором эволюции является естественный отбор, производящий сортировку мутаций.
Отбор внутри вида не существует, поскольку, как было сказано в предыдущей главе, внутривидовой борьбы за существование в природе не наблюдается. Без отбора внутри вида нет и начальных шагов эволюции (т. е. микроэволюции), постулируемых в СТЭ.
Отбор между разными видами, поскольку он имеет дело с более выраженными фенотипическими различиями, — реальное явление природы, но и эта форма отбора носит относительный характер.
4. Эволюция носит дивергентный характер, т. е. от одного таксона могут возникнуть несколько дочерних таксонов. Если говорить о виде, то он берет начало от единственной предковой популяции.
Поскольку отбор на внутривидовом уровне не работает, не может происходить и дивергенция; коль скоро эти механизмы не работают, исчезает и ограничение, в силу которого новый вид должен был бы возникать только за счет одной популяции. Давно установлено также, что эволюция систематических групп, хотя она и бывает дивергентной, чаще отвечает закону параллельного и конвергентного развития.
Многочисленные примеры симгенеза (см. гл. 10) демонстрируют прямо противоположный путь эволюции.
5. Любой реальный, а не сборный таксон имеет монофилетическое происхождение. Монофилетическое происхождение — обязательное условие самого права таксона на существование.
Этот постулат непосредственно вытекает из предыдущего, и его можно было с ним соединить. В дополнение к соответствующему комментарию следует добавить, что любой вид может совмещать в себе признаки нескольких предковых видов, не говоря уже о высших таксонах, которые, как правило, имеют полифилетическое происхождение.
6. Эволюция носит постепенный (градуалистический) характер, и ее результаты могут быть замечены лишь по прошествии длительных отрезков геологического времени. К образованию нового вида ведет поэтапная смена многих (обычно тысяч) поколений популяций.
Видообразование — одномоментный дискретный акт, совершающийся на протяжении одного или нескольких поколений без всякой подготовки. У видов, размножающихся половым путем, наступление репродуктивной изоляции аналогично беременности: она или происходит, или нет.
Представители целого ряда недарвиновских направлений эволюции едины в том, что биологические виды подавляющую часть времени находятся в состоянии стазиса и лишь в самом конце срока своей жизни мутируют, чтобы не прервать нить рода.
7. Обмен генами возможен лишь внутри вида, благодаря чему любой вид представляет собой генетически целостную и замкнутую систему, достаточно надежно отграниченную от систем других видов.
В настоящее время выяснено, что генетическая изоляция видов друг от друга не носит абсолютного характера. Более того, при развитии кризисных ситуаций в экосистемах изолирующие механизмы видов перестают выполнять свою функцию, и в геномы видов поступают чужеродные гены, переносимые различными мобильными генетическими элементами. Такие моменты свободного обмена генами, осуществляющегося неполовым путем, теперь связывают с наиболее революционными событиями в истории биоты.
8. Вид представляет собой сложную полиморфную систему, составленную множеством соподчиненных единиц — подвидов и популяций. Такое понимание организационной структуры вида именуют концепцией широкого политипического биологического вида. Но, как отмечает Воронцов, создатели СТЭ отдавали себе отчет, что существует немало видов, особенно из числа имеющих небольшие ареалы, которые не образуют подвидов. В предельном случае такие мономорфные виды могут быть представлены одной-единственной популяцией, что делает высоковероятной возможность их вымирания.
Данный постулат не вызывает возражений. Разве что справедливо было бы отметить, что он разделяется далеко не одной СТЭ.
9. Поскольку критерием биологического вида является его репродуктивная обособленность, то понятие вида неприменимо к формам, не имеющим полового процесса (агамным, амфимиктичным, партеногенетическим).
По определению этот постулат справедлив. Однако на практике и агамные формы рассматривают как видовые, различая их по морфологическим, физиологическим, генетическим, биохимическим и другим признакам.
10. За рамками концепции биологического вида СТЭ оказалось, таким образом, огромное множество видов прокариот, низших эукариот, а также специализированные формы высших эукариот — животных и растений, утративших способность к половому размножению.
Нам представляется нецелесообразным выделять эту констатацию фактов в отдельный постулат, так как это всего лишь иллюстрация предыдущего постулата. Зато положение о неприменимости понятия вида к ископаемым формам и особенно о том, что эволюция на уровне выше вида идет через микроэволюцию, стоило бы выделить в самостоятельные постулаты.
Тезис о сводимости макроэволюции к микроэволюции — один из кардинальных в СТЭ. Он вызвал напряженные и продолжительные дискуссии как в бывшем Советском Союзе, так и за рубежом. Фактически его отрицательное решение уже должно было привести СТЭ к полному банкротству. Этого пока не произошло только в силу сознательного намерения ее приверженцев сохранить данную доктрину любой ценой, не считаясь с фактами. Автор настоящей книги специально посвятил этому фундаментальному вопросу отдельный труд (Назаров, 1991), и мы воспроизведем его наиболее важные разделы в ч. II.
11. Исходя из всех упомянутых постулатов, можно сделать заключение, что эволюция непредсказуема, не направлена к некоей конечной цели, следовательно, не имеет финалистического характера.
Этот постулат СТЭ также не выдерживает критики, В свете новейших данных законы индивидуального и исторического развития едины, ибо в обоих случаях их объектом выступает биологическая организация, воплощенная в каждой отдельной особи. Онтогенез строго канализован, направлен к конечной цели, заложенной в программе развития, и финалистичен. Каждый таксон, начиная с вида, обладает запрограммированными потенциями к расцвету, процветанию и имеет ограниченный срок жизни (см. гл. 6).
Непосредственно наблюдаемые факты целесообразной и коллективной реакции организмов (определенной изменчивости, по Дарвину) на вызов среды дают основание предполагать, что и вся органическая эволюция в целом — целесообразный и направленный процесс. Задача любой теории — его правильно отобразить и, значит, в тех частях, где это логически оправдано, предсказать. Теория, которая не может ни объяснить, ни предсказать, — это плохая теория.
Возможно, читая последующие главы, проницательный читатель сможет убедиться, что в объяснении целого ряда закономерностей эволюции и самого феномена жизни лучшие умы человечества исчерпали возможности материалистического подхода и вплотную подошли к признанию верховной власти духовной сферы. После 73-летнего господства в СССР искусственно насаждаемого материализма естествознание робкими шагами постепенно вновь обретает понимание главного источника неслучайности происходящего. И, что самое существенное, можно с удовлетворением констатировать, что это больше не считается антинаучным.
Приведенный перечень постулатов, с нашей точки зрения, следовало бы дополнить еще одним очень важным для характеристики СТЭ положением об элементарном эволюционном явлении и поместить его под номером 4.
Формулировка этого положения кратка: элементарное эволюционное явление — изменение генетического состава популяции.
В соответствии с данным положением все содержание эволюционного процесса стали сводить к отбору и распределению в популяциях мутантных аллелей, часто игнорируя экологические процессы. Такой взгляд на эволюцию получил выражение уже в книге Ф. Добжанского «Генетика и происхождение видов», в которой говорилось, что «изменения генных частот являются наиболее вероятным источником образования… рас», а также видов (Dobzhansky, 1937. Р. 148). Вот и сейчас, через 70 лет, для объяснения возникновения подвидов и видов прибегают к анализу генного состава популяций. О том, решает ли эта процедура проблему, мы поговорим подробнее в последнем разделе главы.
Синтетическая теория глазами философов и методологов
Прежде чем говорить в этом плане о СТЭ, сделаем несколько замечаний общеметодологического характера.
Во второй половине XX в. в интерпретации биологических знаний четко обозначились два противоположных подхода. Согласно одному из них, разделяемому неопозитивизмом, или логическим эмпиризмом, прогресс биологического познания возможен исключительно на путях его дальнейшей аксиоматизации и приближения к способам построения теоретического знания, достигнутым в физике и рассматриваемым в качестве некоего идеала. Удаленность реальных биологических концепций от этого идеала квалифицируется как свидетельство недостаточной зрелости биологии как науки.
Этой физикалистской, или редукционистской, методологии противостоит ориентация на специфичность биологического знания, завоевывающая все большее признание. Действительно, в течение последних трех десятилетий в биологии неуклонно возрасло число проблем и исследований, в которых применение физико-химических и математических методов заводило познание в тупик. С особой наглядностью бесплодность редукционистской методологии проявилась в области эволюционной теории.
Если теперь мы можем с достаточным основанием говорить о методологической специфичности разных отраслей биологии, то по отношению к эволюционной теории это справедливо в еще большей степени. Дело в том, что, в отличие от физика-теоретика, биолог-эволюционист сталкивается с теоретическими построениями описательного характера и предлагает качественно иную интерпретацию как самого эмпирического знания, так и его связей с теорией. Это обусловлено тем, что сами законы, используемые в структурных компонентах эволюционной теории, являются скорее описательными обобщениями (правилами), чем строгими научными законами. При этом характерно, что объяснение того или иного эволюционного феномена ведется не столько с помощью данных законов, сколько через описание конкретных обстоятельств, при которых объясняемый феномен возник. Такой тип объяснения именуют историческим повествованием.
С другой стороны, очевидно, что эволюционно-биологические законы и выводы, поскольку они обладают специфическими онтологическим содержанием и гносеологическими функциями, имеют и ограниченную область применения. Они не могут быть распространены на объяснение более низких или, напротив, более высоких по сравнению с эволюционно-биологической форм движения материи.
Своеобразие эволюционной теории проявляется и в способах ее конструирования. Существующие эволюционные концепции, и прежде всего СТЭ, представляют собой соединение взаимосогласующихся и взаимодополняющих друг друга моделей, каждая из которых призвана отразить определенные стороны эволюционного процесса. В эволюционной теории широко используются различные вспомогательные гипотезы и посылки, выдвигаемые для тех или иных конкретных объяснений в одной модели. При этом они снова и снова повторяются в других связанных с ней моделях, приспосабливаясь к новой конструкции. Весьма распространенный прием — обоснование одной гипотезы с помощью другой, менее спорной.
Иными словами, как и во времена Дарвина, гипотетико-дедуктивный метод сохраняет в построении эволюционной теории всю полноту своего значения. Преимущественная опора на этот метод, естественно, снижает достоверность возводимых эволюционных построений, но реальных альтернатив ему пока нет.
Справедливая неудовлетворенность существующими методами построения моделей эволюции привела к возрастанию роли эмпирического познания и способствовала оживлению интереса к соотношению теоретических и эмпирических подходов в исследовании эволюционного процесса. В глазах значиГельной части ученых первостепенное значение приобрела экспериментальная верификация знаний об эволюции, полученных гипотети ко-дедуктивным путем. Однако эволюционная теория представляет собой ту уникальную отрасль биологии, в которой применимость двух главнейших методов познания — эксперимента и наблюдения — весьма ограничена. Случаи, в которых данные методы могут быть полезны, не меняют общей картины. В этом состоит еще одна, возможно главная, особенность рассматриваемой теории, позволяющая говорить о высоком уровне ее специфичности.
Сложившаяся ситуация привела к резкому отставанию философских и методологических оснований современного эволюционизма от его эмпирической базы. Фактически они предстают как реликт старой эволюционной парадигмы, разрушаемой новыми фактами, но еще удерживающейся на плаву в силу инерции мышления. Особенно острый дефицит критической рефлексии обнаруживается у столпов и апологетов СТЭ. Это видно хотя бы из того, что они обычно апеллируют к попперовскому приему опровержения не для того, чтобы подвергнуть анализу собственную позицию, как это еще до Поппера делал Дарвин, а лишь для дискредитации оппонентов.
Если апологеты СТЭ чужды самокритике и при этом продолжают удерживать позиции в научно-образовательной сфере по всему миру, то не приходится ожидать обилия работ, где бы СТЭ рассматривалась в интересующем нас аспекте. Из признанных методологов в бывшем Советском Союзе с разбором этой теории выступил один А. А. Любищев. В западных странах большинство работ этого плана касается только классического дарвинизма.
В СССР после освобождения биологии от монополии лысенковщины усиленно пропагандировалось утверждение, будто СТЭ не только стала последовательной преемницей дарвинизма, но и существенно повысила статус концепции отбора тем, что подвела под нее генетическую базу, обоснованную экспериментальными и математическими методами. Благодаря этому естественный отбор якобы представал как аксиома, не требующая доказательств.
Однако по сравнению с теорией Дарвина СТЭ оказалась более узким синтезом. В нем не нашлось места для сравнительной анатомии, эмбриологии, макросистематики, науки о поведении и для экологии. Он не проявил интереса к процессам осуществления наследственности в индивидуальном развитии. Зато в СТЭ сочли возможным включить явления преадаптации, генетического дрейфа, ненаследственной изменчивости, чуждые ее логической структуре. Некоторые положения Дарвина оказались искаженными или вообще не получили отражения в новом синтезе. Так, например, в него не вошли организмоцентрические (типологические) аспекты эволюции, случаи формообразования без отбора, представления о соотношении индивидуального и исторического развития и, разумеется, допускавшееся Дарвином наследование приобретенных признаков. Важнейший элемент дарвиновской теории — борьба за существование — оказался поглощенным дифференциальной плодовитостью. Все это преподносилось как освобождение дарвинизма от его ошибочных или слабых сторон.
Таким образом, характерные для теории Дарвина логическая последовательность и взаимосвязь постулатов в СТЭ были нарушены, и вся эта теория оказалась лишенной стройности и целостности классического дарвинизма. Они были принесены в жертву намеренному стремлению к формализации и аксиоматизации описания процесса эволюции на основе принятия односторонней генетико-популяционной модели.
Это и сообщило эволюционной теории аксиоматический дедуктивный характер и приблизило ее по типу построения к теоретической физике. Действительно, в ней появились обшие и необходимые утверждения — первый закон Менделя и в значительной мере выведенный из него закон Харди — Вайнберга, представление о неизменности генома в онтогенгезе и т. д., образовавшие дедуктивную систему. Добжанский (Dobzhansky, 1937), а вслед за ним и Рьюэ (1977) писали о законе Харди — Вайнберга, что он является «основой популяционной генетики и современной эволюционной теории» и что без него и подобных ему законов эволюционные объяснения свелись бы к нулю.
Таким образом, синтетическая теория носила сугубо редукционистский характер, а экстраполяция механизма микроэволюции на макроуровень в еще большей степени усилила это впечатление. Приходится только удивляться, как ее творцы не заметили, что, игнорируя специфичность разных уровней движения живой материи, они совершали элементарную методологическую ошибку.
А. А. Любищев, отмечая ряд методологических, логических и философских предрассудков СТЭ, излагал их в обобщенном виде по пунктам. Это: «1) экстраполирование выводов, справедливых на одном уровне; 2) переоценка выводов эксперимента и игнорирование косвенных данных; 3) злоупотребление методом доказательства от противного, законом исключенного третьего; 4) склонность искать один ведущий фактор эволюции; 5) отвергание «с порога» факторов психоидного характера» (Любищев, 1982. С. 197). Всем этим синтетисты, по Любищеву, «отходят от духа самого Дарвина».
В качестве недостойного науки приема Любишев (1973) и вслед за ним мы вынуждены отметить игнорирование приверженцами СТЭ огромной массы «неудобных факторов» и соображений, противоречащих этой теории или не находящих в ней объяснения. В сочетании со стремлением к догматизации своих постулатов это ясно показывает, что «система селектогенеза сильна не своей научной, а чисто философской стороной» и потому «такое теоретическое объяснение, как синтетическая теория эволюции, есть плохое объяснение для систематики и эволюции и должно быть отвергнуто, даже если бы не было никаких конкурирующих объяснений» (Любищев, 1982. С. 244). В другом месте Любишев допускает применимость СТЭ в «сравнительно ограниченной области микроэволюции» (Любищев, 1973. С. 50).
Особо необходимо отметить два тесно связанных друг с другом и методологически совершенно несостоятельных исходных положения СТЭ, ставших главной причиной ее ошибочности.
Выше уже говорилось, что заслуга СТЭ в изгнании типологического подхода и замене его популяционным, как это хотели бы представить Майр и логические эмпирики, оказалась ложной. Важнейшие завоевания эволюционной мысли — филогенетическая систематика, учение об архетипах и планах строения, закон гомологических рядов в наследственной изменчивости и др. — были бы невозможны вне типологических взглядов. Опираясь на типологический и организмоцентрический подходы, А. С. Северцов разработал концепцию морфологических закономерностей эволюции, а И. И. Шмальгаузен осуществил широкий эволюционный синтез, отправным моментом которого послужило учение об организме как целом в индивидуальном и историческом развитии.
Устранение типологического мышления означало исключение из описания эволюционного процесса целостного организма с присущей ему активностью, а вместе с ним и целого комплекса проблем и дисциплин. И это стало самым крупным пороком СТЭ.
Хотелось бы обратить внимание, что один из инициаторов популяционного стиля мышления — Четвериков (1926), говоря о перспективах построения «окончательного здания эволюции», включал в него в качестве обязательной предпосылки познание закономерностей эволюции организмов. Та же мысль о значении организма, особи как важнейшего средоточия тайн эволюции звучит у С. Гулда, одного из создателей теории прерывистого равновесия, палеонтолога и, естественно, типолога. «Новая эволюционная теория, — пишет он, — восстановит в биологии концепцию организма» — и добавляет, что «организмы — не бильярдные шары, ударяемые детерминационным способом кием естественного отбора и катящиеся в оптимальные места жизненного стола» (Gould, 1982. Р. 144). По справедливому замечанию В. А. Красилова (1986. С. 31), «редукция организма», допущенная синтетической теорией, «равносильна самоустранению биологии».
Весьма симптоматично, что начиная с 60-х годов XX в. Э. Майр стал придавать все большее значение в эволюции поведению особей. В одной из его итоговых работ (Мауг, 1982) есть даже раздел «Поведение и эволюция», в котором он прямо признает, что узловым фактором в приобретении животными большинства эволюционных новшеств выступает изменение поведения (ibid, р. 611). Не менее важно также его признание (в другой работе), что активность особи препятствует отбору малых вариаций.
Контраргументы против теории и ее дефекты
Неприятности для СТЭ пришли с той стороны, с которой их меньше всего ожидали. У некоторых генетиков появились сомнения: а возникают ли в действительности новые виды тем путем, который так досконально описан генетикой популяций? Ведь ввиду продолжительности, а точнее сказать редкости, акта видообразования никто никогда не наблюдал его до конца. Те же моменты, которые были зарегистрированы, составляют не более чем выборку отдельных кадров из полнометражной картины. На этот пробел обратил внимание еще советский эколог С. С. Шварц, который метко заметил, что СТЭ, «уделяя максимальное внимание исследованию начальных этапов эволюции, оставляет в тени важнейший этап эволюции — видообразование, молчаливо признавая образование новых видов в качестве простого продолжения внутривидовой дифференциации» (Шварц, 1960. С. 10).
Вследствие невозможности непосредственного наблюдения видообразования во времени специалисты изучают его в пространстве, выявляя картину географической изменчивости ныне живущих форм. Этим приемом, как мы видели, широко пользовался Дарвин. Понятно, что при такой процедуре они имеют дело не с процессом, а с результатом определенных этапов предполагаемой микроэволюции. Сопоставляя наблюдаемые стадии «дивергенции» популяций с данными палеонтологической летописи, они реконструируют временной ход событий, приводящих к современным видам.
Но этот методический прием по своему статусу аналогичен косвенным доказательствам и не обладает доказательной силой, ибо процессуальные параметры непосредственно непереводимы в пространственные. Неизвестной величиной ввиду ограниченности разрешающей способности палеонтологического метода остаются в этом случае градиенты популяционных изменений во времени, а также генетика и момент наступления репродуктивной изоляции. Поясним это популярным примером.
На побережьях Северной Европы живут бок о бок, не скрещиваясь, два самостоятельных вида чаек — серебристая (Larus argentatus) и клуша (Larus fuscus). Они входят в непрерывную цепь подвидов, обитающих в Северной Евразии, Северной Америке и Гренландии. Известны ископаемые остатки предполагаемой предковой формы этих чаек, обитавшей несколько сот тысяч лет назад в районе нынешнего Берингова пролива, откуда она распространялась на запад и на восток. Когда, расселяясь и попутно распадаясь на подвиды, западные и восточные чайки встретились в районе Северного и Балтийского морей, они уже накопили в ходе микроэволюции достаточно различий, чтобы оказаться репродуктивно изолированными. Этот пример считается в синтетической теории одним из наиболее доказательных.
Но проливает ли он свет на механизм произошедшего видообразования? Можно ли сказать с уверенностью, что чайки разделились на два вида именно в результате постепенного накопления малых мутаций или что разделение произошло лишь к моменту встречи, а не задолго до нее? Есть ли основание полностью отвергнуть возможность внезапного видообразования, например, на основе крупных хромосомных мутаций? Думается, что на эти вопросы придется ответить отрицательно. Что касается типа произошедшего генетического изменения, то он как раз и составляет предмет дискуссий. Чтобы решить вопрос применительно к чайкам, нужно было бы предпринять сравнительное обследование обоих видов на генетические различия, но подобного анализа еще никогда не проводилось ввиду его особой трудоемкости.
Таким образом, до сих пор остается неясным, возможно ли обособление двух форм, составляющих полиморфную популяцию, вне «принудительной» изоляции (географической или осуществляющейся в результате крупных мутаций) или они навсегда связаны друг с другом, как самцы и самки при половом диморфизме.
Обратимся теперь к суждениям о значении для видообразования генетики популяций, принадлежащим ее самым авторитетным представителям, но прежде заметим, что, хотя современная концепция видообразования называется биологической, по своей сути она остается генетической.
В противоположность краеугольному положению синтетической теории об адаптивном характере внутривидового полиморфизма и о его возникновении под действием естественного отбора один из зачинателей популяционной генетики С. С. Четвериков (1926) утверждал, что внутривидовая дифференцировка вовсе не обязательно связана с адаптивными изменениями. Существуют тысячи примеров, когда виды различаются не адаптивными, а безразличными в биологическом смысле признаками. Следовательно, приобретение адаптивного признака не является причиной расщепления близких форм, зато различия по адаптивным признакам выступают на передний план у высших систематических категорий. По мнению Четверикова, действие отбора ведет не к внутривидовой дифференциации, а к полной трансформации вида и его превращению в новый вид (мутация Ваагена).
Одним из первых неадекватность СТЭ осознал Майр. В книге «Зоологический вид и эволюция» (1963; рус. пер. — 1968), возражая Холдейну, он охарактеризовал рассмотрение популяции как мешка с разноцветными бобами «упрощенным теоретизированием», которое приводит к ложным представлениям. Позднее он высказался еще более категорично. «Сводить проблемы макроэволюции к изменениям частот генов бессмысленно, и в этом одна из причин, почему генетики (имеются в виду генетики-популяционисты. — В. Н.) внесли сравнительно небольшой вклад в решение проблем макроэволюции» (Мауг, 1982. Р. 610). И тут же Майр добавляет, что «неподходящая формула» генных частот ответственна за значительный срок, истекший с момента создания синтетической теории до адекватной трактовки этих проблем.
Через двадцать лет после своего возникновения селективная теория генетической структуры популяций и микроэволюции столкнулась с рядом трудностей и испытала значительные ограничения. Холдейн (Haldane, 1957) показал математически, что в популяции не может заменяться одновременно свыше 12 генов «более приспособленными» аллелями без того, чтобы ее репродуктивная численность не упала до нуля. Но у организмов тысячи аллелей! И, как показал анализ природных популяций, полиморфные популяции отличаются по очень большому их числу. Предположение, что «полезные» аллели находятся в сцепленном состоянии в одном или нескольких генных блоках, не разрушаемых кроссинговером и мейозом, естественно, не получило фактического подтверждения. При учете вывода Холдейна — а он остается в силе и поныне — для реализации таких различий между популяциями поэтапно потребовалось бы значительно больше времени, чем это в ряде случаев реально наблюдается в природе. Данное затруднение, вошедшее в историю под названием дилеммы Холдейна и многократно возникавшее в связи с различными популяционно-генетическими соображениями, было частично преодолено лишь с созданием М. Кимурой (Ktmura, 1968) «нейтралистской» гипотезы, но иеной отказа от идей исключительно селективной природы популяционных процессов.
В 50-е годы XX в. в основном исследованиями Добжанского была выявлена генетическая гетерогенность природных популяций и установлено, что в противоположность утверждению классический модели генетики популяций в них вместо гомозигот по наиболее приспособленным аллелям преобладают гетерозиготы, т. е. фиксируется несколько аллелей вместо одного. Для объяснения их одновременного поддержания в популяциях были выдвинуты балансовая и частотно-зависимая гипотезы действия естественного отбора.
Особенно серьезно поколебало математическую модель генетики популяций, поставив под вопрос само понятие «переживания наиболее приспособленных», обнаружение в природе достаточно высокого энзиматического полиморфизма и множественного (из нескольких десятков аллелей) аллелизма. Перед генетиками-популяционистами снова встала дилемма Холдейна. Они искали ответ на вопрос, каким образом отбор, имеющий дело с фенотипами и, следовательно, тесно взаимосвязанными генами, может одновременно поддерживать полиморфизм по огромному числу генов и еще впридачу их множественные аллели. В 1968 г. японский биохимик М. Кимура, подтвердив, что при превращении одного вида в другой селективно может быть вытеснено не более 12 аллелей, выступил с обоснованием идеи, что остальные тысячи аллелей вытесняются по воле случая, будучи селективно нейтральными. Разработанная им в дальнейшем теория нейтральности означала очень существенное ограничение применимости постулата об адаптивной природе полиморфизма. Оказалось, что адаптивный характер носит лишь незначительная часть эволюционных изменений первичной структуры ДНК, тогда как громадное большинство фенотипически «молчащих» замен нуклеотидов не имеет никакого селективного значения и фиксируется не отбором, а случайным дрейфом. Таковы главные «каверзы», которые преподнесла генетике популяций ее юная родственница — генетика молекулярная.
Они не могли не сказаться на притязаниях генетики популяций объяснить возникновение видов и их эволюцию. Вставшие перед «ей на этом пути затруднения в той или иной мере вынуждены были признать такие крупные генетики, как Карсон, Стеббинс, Айала, Левонтин. Дальше других в критике популяционно-генетической теории видообразования пошел ученик Добжанского — Ричард Левонтин. Его оценки кажутся некоторым (Микитенко, 1986) чересчур строгими, но они совершенно объективно отражают существующее положение.
В книге Левонтина «Генетические основы эволюции» (1978) прежде всего обращают на себя внимание следующие общие соображения принципиального значения. Существующие математические модели популяционно-генетических процессов представляют собой слишком упрощенное описание микроэволюции. Они имеют дело с изменениями отдельных локусов, тогда как все локусы одной хромосомы тесно связаны между собой, а сами хромосомы интегрированы в целостном генотипе. Поскольку объектом отбора является фенотип, особь, то отдельные локусы отбираться изолированно не могут. Отсюда ясно, что с позиции осознания данного факта объектом анализа популяционной генетики должен стать генотип как целостная единица отбора. Но это, во-первых, ставит перед генетикой популяций такие задачи, с которыми не способен справиться даже самый совершенный компьютер, а во-вторых, означает, что сами популяционно-генетические исследования в отрыве от данных, получаемых экологами, морфологами, физиологами, эмбриологами и представителями смежных специальностей, не могут раскрыть механизм микроэволюции и видообразования.
В связи с тем что генотипические и фенотипические различия популяций трудно или даже невозможно измерить с необходимой степенью точности, мы, по мнению Левонтина, тем более лишены возможности характеризовать генотипические различия на разных этапах фенотипической дифференциации — от первых этапов дивергенции двух популяций до образования рас, полувидов и видов. Пока остается неизвестным, какая часть генома затрагивается в начале процесса дифференциации и какая — при репродуктивной изоляции, не говоря уже о характере самих генотипических изменений. Следовательно, у нас нет подхода к оценке содержания и количественных границ и такого важного эволюционного события, как, например, «генетическая революция» Майра. До тех пор пока мы не научимся точно определять генотипические различия, мы не сможем приступить к созданию количественной генетической теории видообразования. Но и когда этого удастся достичь, это будет только началом, так как в конечном итоге нам необходимо выяснить, каким образом те или иные генетические различия связаны с определенными репродуктивными и экологическими признаками, разделяющими два вида.
К этим соображениям Левонтина уместно добавить, что между морфологическими отличиями и репродуктивной изоляцией как генетическим явлением нет прямой взаимосвязи. Условия, ведущие к морфологической адаптации и благоприятствующие видообразованию, как и время их осуществления, по справедливому замечанию Стеббинса и Айалы (1985), могут не совпадать. Это означает, что по изменению морфологии ископаемых форм нельзя судить о моменте наступления видообразовательного акта.
Мы подошли к вопросу о возможности или невозможности сопряжения изменений популяций с организационными изменениями особей — ключевому для теории эволюции. Он рассматривается чисто феноменологически — с позиций современной генетики популяций.
Из приведенного анализа Левонтин делает выводы, которые непосредственно отвечают на данный вопрос. Приведем их текстуально.
«Хотя элементарная популяционная генетика позволяет установить, сколько потребуется поколений для изменения частоты аллеля от q1 до q2, мы не знаем, как включить такую формулировку в теорию видообразования, и притом в значительной мере от того, что мы буквально ничего не знаем о тех генетических изменениях, которые происходят при формировании видов» (Левонтин, 1978. С. 167).
Остается неизвестным, от каких причин зависит репродуктивная изоляция и какова ее генетика, потому что «на множестве популяций, находящихся на ранних стадиях процесса видообразования, ни генетического анализа, ни экологических исследований, необходимых для ответа на эти вопросы, не проводилось, а в большинстве случаев их и невозможно провести» (курсив мой. — В. Н.) (там же, с, 169).
Мы еще раз убеждаемся, что между расами и подвидами, с одной стороны, и видами — с другой, существует непроходимый разрыв, хиатус. Количественные изменения, накопленные популяциями внутривидовых группировок и служащие столь привычной иллюстрацией закона диалектики, не переходят в качественные — акт образования нового вида. Не переходят же они, по-видимому, не потому, что их мало, а из-за их иного «призвания».
В силу приведенных соображений приходится согласиться с Левонтином, что вклад генетики популяций в наши представления о видообразовании «очень невелик» и что для такого важнейшего аспекта макроэволюции, как вымирание видов, она «вообще ничего не дала». А самое главное, что не только гносеологически, но и эмпирически «популяционная генетика не является… достаточной теорией» (там же, с. 273).
С того момента, как были написаны эти строки, судя по ряду сводок (Dover, 1982; Эволюция генома, 1986; Рэфф, Кофмен, 1986), мало что изменилось. Природа генетических изменений, их количество и минимальное время, необходимое для установления репродуктивной изоляции и видообразования, остаются «нетронутой целиной». Стало возможным лишь с большей определенностью говорить об огромном разнообразии первичных генетических механизмов, участвующих в становлении репродуктивной изоляции, сопоставимом с множественностью способов видообразования у разных организмов, и полифакториальности этого процесса. В подтверждение характеристики, данной генетике популяций Левонтином, можно сослаться на мнение авторитетного отечественного генетика Б. М. Медникова (1987). Подтвердив, что построение модели видообразования в рамках синтетической теории по-прежнему наталкивается на значительные трудности, он счел необходимым признать, что видообразование не сводится к процессу постепенного вытеснения одних аллелей другими в результате отбора или генетического дрейфа и что никаких иных моделей эта теория практически не предлагает.
Уже после книги Левонтина во французском периодическом издании «Синтез» была опубликована работа известного американского историка генетики М. Адамса под симптоматичным названием «Была ли популяционная генетика эволюционной?» (Adams, 1988). Анализ большого исторического материала привел его к заключению, что «генетика популяций не доказала пригодность дарвинизма как общей теории макроэволюции и в принципе не в состоянии это доказать» (ibid, р. 15). Из данного признания и всего содержания статьи следует, что на вопрос, поставленный в ее заголовке, Адамс склонен ответить отрицательно. Разделяя подобный взгляд, хотелось бы отметить, что популяционная генетика никак не может быть эволюционной, поскольку с ее помощью невозможно объяснить два важнейших момента — появление в популяции носителей новых видовых признаков и захват ими необходимого жизненного пространства.
Сказанным не исчерпывается низведение генетики популяций с пьедестала, на который ее возвела синтетическая теория. Пожалуй, самые крупные неприятности ждали ее впереди.
Анализ природных популяций, осуществлявшийся первоначально посредством регистрации хромосомных перестроек (работы Добжанского и его школы, Дубинина и Тинякова и др.), а затем с помощью электрофореза белков-аллозимов (по методу Хабби и Левонтина), привел к установлению высокого уровня их полиморфности. Утвердился на первый взгляд казавшийся логически безупречным тезис о прямой связи между аллельным разнообразием на субпопуляиионном уровне и возможностями системы субпопуляций более или менее адекватно реагировать на изменения среды преобразованием своей генетической структуры. Основное внимание исследователей оказалось сконцентрированным на соотносительной роли естественного отбора и дрейфа генов в реорганизации генофондов локальных популяций. Обнаруженная на этом уровне высокая изменчивость и способствовала формированию представлений о беспредельной эволюционной лабильности популяций.
Оказалось, однако, что эти традиционные представления — результат отдельных, случайных по отношению к структуре вида, выборок из природных популяций, отражающих простейший и действительно весьма изменчивый популяционный уровень. Выводы из популяционно-генетических исследований могут быть качественно иными, если система выборок привязана к реальной структуре вида как системы.
Многолетние исследования популяций человека на территории Северной Азии, опубликованные Ю. Г. Рычковым (1968, 1969, 1973), и работы по биохимической генетике рыб, опубликованные Ю. П. Алтуховым (1969, 1971, 1974), показали, что системная, иерархическая организация популяций определяет специфику генетических процессов на разных уровнях популяционной структуры вида. Таких качественно различных уровней по крайней мере два: 1) популяционные системы, соответствующие моделям подразделенных популяций; 2) элементарные (локальные) популяции[6], являющиеся структурными компонентами первых. Элементарные популяции отвечают модели менделевской популяции. Они могут отличаться высокой изменчивостью, тогда как первые генетически стабильны во времени и пространстве[7]. Эту стабильность и уникальность их генетической структуры не удается поколебать даже при таких резких изменениях среды, какие сопутствуют различным попыткам акклиматизации.
Заметим, что генетическая устойчивость на уровне популяционных систем была замечена давно. Так, в исследованиях природных популяций брюхоногого моллюска Cepaea nemoralis — классического объекта популяционной генетики — М. Ламотг (Lamotte, 1951) показал, что соотношение частот разных типов окраски раковины, которым характеризуется каждая местная популяция, весьма устойчиво во времени (Назаров, 1984). Этот вывод опирался не только на погодичную хронику самих наблюдений, но и на палеонтологический материал. Дело в том, что окраска и рисунок раковины моллюсков представляют собой нечастый тип генетических маркеров, сохраняемых палеонтологической летописью.
Из всей совокупности приведенных работ следовал вывод, что если не ограничивать изучение элементарным популяционным уровнем, а исследовать природные популяции в широких рамках их естественных, исторически сложившихся границ, то «можно обнаружить присущее им важное системное качество, с очевидностью не выводимое из свойств слагающих их структуру компонентов, — генетическую стабильность во времени и в пространстве» (Алтухов, 1983. С. 164). К этому Алтухов добавляет, что «трудно представить, как могут процессы, определяющие максимальную стабилизацию вида как целостной популяционной системы, лежать одновременно в основе происхождения новых видов» (там же, с. 172).
Таким образом, поскольку при видообразовании расщепляются не отдельные менделевские популяции, а их совокупности, образующие старый вид, мы снова сталкиваемся с проблемой эволюционного перехода от популяционного уровня к видовому и убеждаемся, что генетические характеристики элементарных (локальных) популяций непереводимы в характеристики системы популяций, каковой является биологический вид.
Основным источником, из которого на СТЭ посыпался град упреков, стала сфера изучения макроэволюции. Те, кто ее изучал, в большинстве своем пришли к принципиально иным эволюционным выводам, и потому они подвергли решительной атаке тезис о том, что макроэволюция осуществляется только через микроэволюцию.
В середине XX в. вопрос о соотношении микро- и макроэволюции приобрел важнейшее познавательное, философское и мировоззренческое значение. От его решения непосредственно зависели содержание и структура эволюционной теории, пути и методы ее построения, т. е. и предметный, и познавательный аспекты. Не будет преувеличением сказать, что проблема соотношений названных уровней стала в эволюционной теории центральной.
Поскольку макроэволюция в отличие от микроэволюции, призвана описывать преобразование организации, воплощенной в каждой отдельной особи вида, речь шла о соотношении гена и организации, популяции и индивида, популяционного и организмоцентрического (типологического) подходов. Ключевую роль в решении этой проблемы сыграл критический пересмотр основ популяционной генетики, их связи с фенотипическим уровнем организации и новые открытия в молекулярной генетике, т. е. непредвзятый теоретический анализ и эмпирические данные, вступившие в противоречие с традиционными взглядами. Ввиду особой значимости проблемы мы рассмотрим ее отдельно в следующей части книги.
Кроме Левонтина с критикой СТЭ выступили многие авторы. В ряде случаев они посвящали своим возражениям специальные труды, но чаще мы встречаемся с отдельными возражениями, высказанными попутно при обсуждении других проблем. Ниже мы ограничимся только перечислением наиболее существенных возражений.
Книга австралийского врача и молекулярного биолога Майкла Дентона (Denton, 1985, 1986), выдержавшая несколько изданий и переведенная на другие языки, специально направлена на опровержение эволюционизма как доктрины, основанной на слепой случайности. Однако большая часть возражений этого автора может быть адресована селекционизму в целом. Вот эти возражения.
Теория эволюции имеет дело с уникальными, неповторимыми событиями (возникновение жизни, выход организмов на сушу, появление сознания), которые не могут быть подвергнуты экспериментальному изучению.
Микроэволюция не может перейти в макроэволюцию, как это утверждают Дарвин и СТЭ, и экстраполяция закономерностей в этом направлении неприемлема. Дентон доказывает свое утверждение аналогией поведения сложных систем (грамматического предложения, часов, автомобиля), которые не могут быть преобразованы в качественно иные системы посредством постепенной замены отдельных мелких частей (букв, колес) без того, чтобы они не утратили своей работоспособности. Для такого преобразования необходимо произвести одновременно несколько крупных изменений. Иными словами, у живых организмов должна произойти макромутация.
Явно гомологичные структуры даже у близкородственных видов, как это показал один из столпов учения о гомологии Г. де Бир (De Beer, 1971), нередко определяются разными генами и эмбриональными закладками, что не только подрывает само определение гомологии как общности происхождения структур, но и опровергает представление о дивергентном характере эволюции и монофилетическом происхождении таксонов.
Свое основное возражение — невозможность постепенной (градуалистической) эволюции — Дентон обосновывает фактами полной изолированности высших таксонов (типов и классов) как ныне живущих, так и ископаемых животных друг от друга, причем показывает эту разобщенность не только на морфологическом, но и на биохимическом и генетическом уровнях. Факт существования разрывов между таксонами всецело соответствует типологической модели.
Если и есть промежуточные звенья, то их признаки не средние между таксонами, а смесь чистых признаков этих таксонов. Так, однопроходные совмещают черты чисто рептильные и чисто звериные, группа Peripatus представляет собой мозаику из чистых признаков аннелид и членистоногих. С точки зрения типологии это аномальные формы.
При рассмотрении данных молекулярной биологии (последовательности аминокислот, ДНК и РНК) амфибии оказываются столь же далеки от рыб, как и любые группы животных из рептилий и млекопитающих. За очень небольшими исключениями универсальное правило типологии об одинаковой удаленности членов типа от всех групп другого типа полностью выполняется.
Не менее фундаментальны возражения В. А. Красилова (1986), адресованные главным образом СТЭ.
Красилов сомневается, что естественный отбор может создать что-либо существенно новое путем постепенного сдвига адаптивной нормы. Ответа на этот вопрос нет, потому что никто его не выяснял. Если бы такое и было возможно, то потребовало бы слишком много времени, какового в критические моменты не оказывается.
«Популяционное мышление» причинило пониманию эволюции вред, поскольку редукции подверглись, в первую очередь, организм как целое и посвященные ему «описательные» дисциплины.
С редукционизмом связано укоренившееся представление о хаотичности (случайности) мутирования как материальной основе эволюции. СТЭ игнорирует системность, организованность наследственной изменчивости, не уделяет внимания поиску ее истинных причин.
В СТЭ гипертрофирована роль эксперимента. Зачастую к эксперименту ошибочно относят практику просто технически по-современному оформленного наблюдения. В изучении эволюции лабораторный эксперимент играет подсобную роль по сравнению с описанием (наблюдением) грандиозного эксперимента, поставленного самой природой.
Закон Харди-Вайнберга — это чистая математика, с биологией он не имеет ничего общего. Он отражает мышление на уровне «мешка с бобами». СТЭ активно пропагандирует такой путь построения биологической теории, ошибочно оценивая как прогресс ее полную аксиоматизацию и математизацию.
СТЭ не способна дать объяснение того, как происходит закрепление (наследственная фиксация) длительных модификаций.
За бортом СТЭ оказалась вся макроэволюция.
По меньшей мере два возражения СТЭ принадлежат крупнейшему французскому зоологу XX в. Пьеру-Полю Грассе (Grasse, 1973).
Самые существенные стороны эволюции, связанные с приобретением новшеств на надвидовом уровне, зависят от «привнесения информации и создания новых генов», т. е. таких событий, которые глубоко отличны от обычных мутаций, производящих исключительно одни аллели. В СТЭ такие механизмы отсутствуют.
Грассе, как и Вавилов, но без ссылки на него, обращает внимание на существование гомологической изменчивости, отмечая «одинаковые тенденции в реализации определенных форм». Он видит эту упорядоченность изменчивости как на уровне «создания новых генов», так и в направленности макроэволюции. СТЭ эту проблему не затрагивает, потому что не может дать ей объяснения.
А вот возражения японского биохимика и популяционного генетика (!), автора теории нейтральности Мотоо Кимуры (1985).
Претензии СТЭ на статус общей и универсальной теории абсолютно лишены оснований. Образование значительной доли подвидов и видов, в том числе впервые описанных в XX в., не удалось связать с наличием у них каких-либо селективно полезных признаков, и этот факт — одна из причин формирования теории нейтральной эволюции. Стало быть, возникновение многих видов не связано с селективными процессами в популяциях.
Согласно нейтралистской теории чем слабее функциональные ограничения, тем больше доля селективно нейтральных мутаций и тем выше скорость эволюции. Эта эмпирическая закономерность противоречит положению СТЭ, по которому быстрая эволюция на основе мутаций предполагает сильное давление благоприятствующего им отбора.
Молекулярная биология обнаружила постоянство скорости эволюции, выраженной числом аминокислотных замен в единицу времени (год) любого данного белка во всех филумах (систематических группах). На этом постоянстве основывается понятие молекулярных часов. Данное правило труднообъяснимо с позиций СТЭ, которая утверждает, что частота мутаций контролируется отбором. Принятие этого правила означало бы допущение одинакового давления отбора в разных филумах независимо от среды.
К приведенному перечню авторских возражений нам бы хотелось добавить по крайней мере два следующих.
Данные современной биологии свидетельствуют, что между индивидуальным и историческим развитием больше общих закономерностей, чем различий. СТЭ постулирует коренное различие этих типов развития, и это служит оправданием невнимания СТЭ к целостному организму (особи) и его онтогенезу. В связи с тем что все новшества в эволюции берут начало в изменениях онтогенеза, невнимание к нему равносильно игнорированию важнейшего источника эволюции.
Согласно СТЭ главной движущей силой эволюции является естественный отбор. Чем сильнее его давление, тем быстрее преобразования в генетическом составе популяций и тем быстрее совершается видообразование. Напротив, если отбор ослаблен, то, соответственно, замедлены эти процессы. Известно, что отбор более всего ослаблен в дождевых тропических лесах. Даже если верить в принцип внутривидовой конкуренции, то в тропиках ее практически нет — некому конкурировать. Там чаще встретишь любой другой вид, чем вторую особь того же вида. Верно говорят, что в тропическом лесу трудно найти два одинаковых дерева! Но именно в тропиках, как мы увидим в гл. 11, зародились все высшие систематические группы. Вывод очевиден: естественный отбор является не мотором, а тормозом эволюции.
Многие из приведенных и подобных им возражений, особенно на протяжении последних 30 лет, были предъявлены лидерам СТЭ не только в печати, но и на конференциях. Дискуссии велись по таким вопросам, как градуализм или сальтационизм, случайность или направленность изменчивости и эволюции, самостоятельность макроэволюции или ее зависимость от микроэволюции, монофилия или полифилия и пр. Было бы неверно думать, что реакция всех стоящих на позициях СТЭ ученых была единодушной и что СТЭ, будучи еще сильной, представляет собой некий монолит. Напротив, как мы увидим далее, ее прогрессивное крыло, например в лице создателей теории прерывистого равновесия, составило СТЭ настоящую альтернативу. Зато ортодоксы, защищая свое положение, наряду с тактикой противопоставления своим оппонентам контраргументов, нередко пользовались приемом кажущихся уступок и компромиссов, сохраняя на деле приверженность прежним взглядам и не видоизменяя своих исследований. Благодаря им СТЭ обрела характер легко преобразующейся и приспосабливающейся к обстоятельствам доктрины, когда нужно апеллирующей к авторитету Дарвина (у него, как в Библии, много прямо противоположных суждений), к неизученности проблемы или к якобы уже осуществленной ассимиляции нового положения. Приверженцы СТЭ зачастую намеренно переводят рассмотрение спорного вопроса в плоскость, где их трудно опровергнуть. Но кое-что чужеродное они действительно пристроили к своему зданию и от этого оно стало еще более эклектичным. Самый же распространенный прием самозащиты — молчание, основанное на сознании собственного превосходства и силы.
Не станем более задерживаться на продолжающейся идейной конфронтации, чтобы не отклоняться от рассматриваемой темы.
Часть II. МАКРОЭВОЛЮЦИЯ — КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ СЕЛЕКЦИОНИЗМА
Глава 3. Учение о макроэволюции
Одним из основных критериев биологического вида считается его репродуктивная изоляция от других видов. Закрепление этого критерия в науке связано с именами Хаксли, Майра и Кейна. Однако о том, что «хорошие» виды, как правило, не скрещиваются или не дают при скрещивании плодовитого потомства, было известно с давних времен. И уже давно натуралисты пользовались этим свойством для различения видов.
Нескрещиваемость биологических видов выполняет очень важную функцию: она служит преградой к обратимости эволюции, сохраняя и закрепляя сложившееся органическое разнообразие.
Другое дело — подвиды, расы и более мелкие внутривидовые группировки. Все их представители независимо от достигнутого группой систематического ранга, степени морфологических отличий и давности обособления свободно скрещиваются друг с другом и дают нормальное плодовитое потомство. Возможность неограниченной панмиксии — другая важнейшая характеристика вида.
Но преобразование организмов во времени происходит как в рамках вида, так и на более высоких ступенях организации. В первом случае возникают новые внутривидовые формы, во втором — новые виды, которые все резче отличаются друг от друга по строению и образу жизни, увеличиваются в числе и группируются систематиками в более высокие таксономические категории вплоть до царства. Вырисовываются, таким образом, два уровня эволюции разного масштаба, различие между которыми не могло остаться незамеченным. В первой половине XX в. оно было закреплено терминологически. Внутривидовой уровень эволюции был назван микроэволюцией (от греч. «микрос» — малый), надвидовой — макроэволюцией (от греч. «макрос» — большой, длинный). Как видно из сказанного, разграничение этих уровней было вызвано не формальными причинами, связанными, например, с типологией понятий или удобством изучения, а с реальной спецификой отношений между особями внутри вида и на уровне видов и выше, созданной самой природой. Эта специфика не могла не породить догадок и о различии движущих сил в двух уровнях эволюции в качественном отношении. В то же время нескрещиваемость видов можно было расценивать как результат предшествующей эволюции, которая, не останавливаясь на уровне вида, продолжается далее. Так, естественным путем с самого начала эволюционисты разделились на два лагеря: на тех, кто за качественные различия, и на тех, кто против них.
Однако почти все крупные ученые независимо от принадлежности к тому или другому лагерю едины в том, что если бы не было макроэволюции, то не было бы эволюции вообще. В этом случае от бактерий произошли бы лишь многочисленные формы бактерий, но никогда не возникли бы ни многоклеточные животные, ни позвоночные, ни сам человек. Здесь дело не только в том, что макроэволюция — это тот уровень исторического развития, на котором возникают необратимые преобразования. Не менее важны их масштаб и направленность. Если, занимаясь исследованием микроэволюции, мы регистрируем появление дополнительной щетинки на груди плодовой мушки или неожиданного оттенка на внешнем опахале кроющих крыла длиннохвостого колибри, то, изучая макроэволюцию, мы стремимся познать, как возникли сами плодовые мушки и длиннохвостый колибри, а вместе с ними насекомые и птицы вообще. При самом широком охвате панорамы биологической макроэволюции перед нами предстает проблема всего прогрессивного исторического развития живого от амебы до человека.
Мы подошли к осознанию факта, что большая часть эволюционных событий охватывается понятием макроэволюции. Если согласно традиционным взглядам микроэволюция составляет первую, начальную ступень исторического процесса преобразования живых сушеств, служащую фундаментом для подлинной эволюции, ведущей к организационному разнообразию, то макроэволюция — второе и центральное звено процесса, реализующее это разнообразие de facto.
Но и макроэволюция не исчерпывает собой всего содержания биологической эволюции. Возникшие в результате макроэволюции многочисленные виды, объединяемые в таксоны различного систематического ранга, занимают различные экологические ниши и, устанавливая между собой определенные функциональные отношения, формируют сообщества — биоценозы, или экосистемы. Последние тоже не остаются неизменными. Под влиянием изменения абиотических факторов они либо видоизменяют свою структуру, либо меняют ее целиком. При этом новое сообщество формируется из материала, который ему поставляет макроэволюция. Сама же макроэволюция находится под контролем сообщества, которое регулирует ее по принципу обратной связи. В системе интеграции биоценозов участвует целая совокупность взаимосвязанных циклов саморегуляции, включая межвидовые отношения. Стало быть, в движущие силы макроэволюции с необходимостью входят биоценотические факторы. Исторические преобразования сообществ и биосферы в целом составляют предмет специального изучения.
Надвидовая эволюция может приводить к морфофизиологическому прогрессу (арогенезу, или анагенезу), к идиоадаптации (алломорфозу и специализации) или морфофизиологическому регрессу (общей дегенерации, или катаморфозу). Поэтому изучение прогрессивной и регрессивной эволюции входит в общее учение о макроэволюции в качестве его специальных и наиболее крупных разделов.
Возникновение понятия макроэволюции
Термины «микро-» и «макроэволюция» впервые употребил советский генетик Ю. А. Филипченко в книге «Изменчивость и изменения», вышедшей в 1927 г. в Берлине на немецком языке (Philiptschenko, 1927). Сделал он это в самом конце книги и как бы мимоходом, поместив эти термины в скобки (ibid., s. 93–94). На самом деле их употребление связано у Филипченко с кардинальным вопросом о различной детерминации эволюции признаков, с одной стороны, внутривидовых подразделений и видов, а с другой — высших надвидовых таксонов. Здесь же Филипченко указывает, что носителями первых являются гены, а вторых — плазма. Аналогичные соображения изложены им в третьем издании книги «Изменчивость и методы ее изучения» (1927).
Десять лет спустя терминами «микро-» и «макроэволюция» воспользовался Добжанский в своей эпохальной книге «Генетика и происхождение видов» (Dobzhansky, 1937) и одновременно с ним Тимофеев-Ресовский (Timofeev-Ressovsky, 1937), которые ввели их соответственно в англоязычную и немецкую литературу в связи с развиваемым ими тезисом о возможности полной редукции макроэволюции к микроэволюции. Укоренению этих терминов способствовала полемика, возникшая после публикации «еретического» труда Гольдшмидта (Goldschmidt, 1940), в котором он резко противопоставил оба эволюционных процесса по их факторам и значению, а также выход монографии Симпсона (Simpson, 1944), занявшего позицию Добжанского и Тимофеева-Ресовского.
Обратим внимание на примечательный факт: термины «микроэволюция» и «макроэволюция» возникли в генетике.
В понимании границ макроэволюции мнения ученых разошлись, и до настоящего момента согласия между ними не достигнуто. Существует по меньшей мере пять точек зрения. Согласно наиболее распространенной, принятой в синтетической теории, под макроэволюцией понимается эволюция таксонов надвидового ранга (классическое толкование). По мнению Олсона (Olson, 1965. Р. 284), это «эволюция приблизительно на видовом уровне». Ренш (Rensch, 1954, 1960а) и представители современной теории прерывистого равновесия включают в понятие макроэволюции наряду с формированием высших таксонов также возникновение новых видов. Некоторые склонны относить к этому понятию эволюцию биоценозов и биосферы (Шварц, 1980; Старобогатов, 1984; Югай, 1985) или «общий биологический прогресс» (Красилов, 1984а, б). Наконец, с самым широким толкованием макроэволюции как эволюции жизни в целом мы встречаемся в ряде работ Камшилова (1974а, б).
Большая Советская Энциклопедия и Большой энциклопедический словарь «Биология» (1998) определяют макроэволюцию как совокупность эволюционных преобразований живых форм, протекающих на надвидовом уровне, т. е. после установления практически полной межвидовой изоляции, и ведущих к образованию родов, семейств, отрядов и таксонов более высокого ранга.
В связи с тем что в эволюционном процессе существует только один биологически значимый рубеж — репродуктивная изоляция, мы вслед за Реншем и творцами теории прерывистого равновесия принимаем в качестве нижней границы макроэволюции акт видообразования, включая его в этот уровень.
Объект изучения в макроэволюции
Обращаясь к рассмотрению макроэволюции, специалист сталкивается с иным по сравнению с микроэволюцией объектом изучения. Вместо изменения генетической структуры популяции он имеет дело с преобразованием организации особей и выходит, таким образом, на организменный уровень исследований.
На смену объекта исследования следует обратить особое внимание, так как она имеет немалые методологические и гносеологические последствия. Значение особи, или индивида, как главного объекта изучения в макроэволюции определяется не только тем, что лишь по особям реально сравнивать организацию от таксона к таксону, но и тем, что в макроэволюционных процессах, связанных с взаимодействием между видами, наиболее полно проявляется именно роль индивида, объединяющего в себе одновременно генотип и фенотип. Роль же эта состоит в том, что индивид осуществляет передачу генетической информации следующим поколениям по двум основным каналам — через генеративные клетки и через отбор фенотипов. Второй канал представляет собой экологический и одновременно макроэволюционный механизм передачи наследственной информации.
Поскольку макроэволюционные сдвиги отделены друг от друга временными промежутками геологического масштаба и не могут быть непосредственно наблюдаемы в сроки, соизмеримые с продолжительностью человеческой жизни, специалисту поневоле приходится изучать минувшую эволюцию, документированную ископаемыми формами. Иными словами, объектом его исследования оказывается палеонтологический материал, который он анализирует методами эволюционной морфологии.
Следовательно, макроэволюция, или эволюция налвидовых таксонов, описывается путем реконструкции филогенезов соответствующих систематических групп, начало чему было положено еще Геккелем. Поэтому макроэволюцию и филогенез можно считать синонимическими понятиями.
В идеале для полной реконструкции любого филогенеза нужно было бы иметь непрерывный исторический ряд онтогенезов, сменявших друг друга в череде поколений. Поскольку, однако, палеонтология ни одним подлинно генеалогическим рядом не располагает и вряд ли когда-нибудь будет располагать, о филогенезе приходится судить на основе реконструкций филогенетических изменений отдельных признаков и делать допущение, что они отражают филогенез таксона в целом (Северцов, 1981). В этом допущении и кроется источник возможных ошибок двоякого рода. Во-первых, не все филогенетические изменения фиксируются в морфологии твердых скелетных образований (а таковые преимущественно и сохраняются в палеонтологической летописи), а из зафиксированных не все допускают простую экстраполяцию с признака на таксон. Во-вторых, сплошь и рядом оказывается, что эволюционный ряд, построенный по отдельному признаку, объединяет признаки разных (например, параллельных) филлумов.
Итак, объектом изучения в макроэволюции являются на практике филогенетические изменения признаков особей как представителей определенного филлума. При этом признаки любой особи могут быть естественным образом разделены на категории, соответствующие иерархии таксонов, к которым данная особь принадлежит.
Мы снова вернулись к исходному тезису: специалиста, изучающего макроэволюцию, интересуют преимущественно индивиды, которые воплощают в себе организацию, «наработанную» эволюцией. Отсюда ясно, что анализ макроэволюционных событий опирается на организмоцентрическую концепцию и типологический подход. Как связать этот подход с популяционным, с помощью которого изучают микроэволюцию? Пока все попытки сделать это наталкивались на непреодолимые трудности. Нам же представляется, что это в принципе невозможно, так как микроэволюция — понятие мнимое.
О единстве факторов макро- и микроэволюции в СТЭ
Соотношение микро- и макроэволюции С. С. Шварц (1980) назвал «центральным вопросом эволюционного учения». Повышенный интерес к этому вопросу проявился как на Западе, так и на пространстве бывшего СССР. Действительно, в дискуссиях последних двадцати лет важнейшие спорные моменты эволюционной теории так или иначе вращались вокруг этого общего узлового вопроса, а многие из них просто оказались его составными частями.
Рассматривая СТЭ, мы уже говорили об этом в общей форме. Сейчас в самый раз остановиться на вопросе подробнее. Обычно соотношение макро- и микроэволюции описывается в СТЭ как сводимость первой ко второй, причем под сводимостью понимается единство факторов и механизмов обеих форм (уровней) эволюции, хотя у отдельных авторов нет необходимой четкости в понимании содержания данного понятия.
Вот как трактуют сводимость А. В. Яблоков и А. Г. Юсуфов (1976). По их мнению, между микро- и макроэволюцией нельзя провести принципиальную грань. Процесс микроэволюции, вызывающий первичную дивергенцию популяций, продолжается без какого-либо перерыва и на макроэволюционном уровне внутри вновь возникших форм, которые в этом случае оказываются агентами межвидовой конкуренции. Но эти новые конкурентные отношения могут повлиять на дальнейшие эволюционные события, лишь изменяя давление и направление действия элементарных эволюционных факторов, т. е. через микроэволюционный уровень. Поэтому анализ процессов макроэволюции в принципе может быть проведен исходя из понятий и закономерностей, известных из учения о микроэволюции, и отсутствие принципиальных процессуальных различий на этих уровнях дает возможность рассматривать их как «две стороны единого эволюционного процесса» (там же, с. 204, 300).
Такова общая позиция, которой придерживаются практически все представители ортодоксального крыла синтетической теории. Однако при рассмотрении отдельных взглядов в концепции сводимости обнаруживаются два полюса, которые можно назвать соответственно откровенным (крайним) и неявным редукционизмом..
Если продолжить цитату из только что приводившегося источника, то мы неожиданно встречаем следующую фразу: «Все самые сложные на первый взгляд макроэволюционные феномены, без потери их специфичности (курсив мой. — В. Н.), объяснимы понятиями микроэволюции: все, что возникает на микроэволюционном уровне, связано прежде всего с преобразованием популяций и вида и ведет к формированию приспособлений» (там же, с. 301). Тем самым авторы заявляют о себе как об откровенных редукционистах.
Крайними редукционистами были также Добжанский (по крайней мере, в первой половине творческого пути) и Тимофеев-Ресовский (1974, 1980; Timofeev-Ressovsky, 1937)[8]. В настоящее время таковыми оказываются также М. Рьюз (1977) и ряд западных эволюционистов-социобиологов (Э. Вилсон, Р. Траверс, Р. Доукинс). Для этой формы редукционизма характерны отрицание какого бы то ни было качественного своеобразия даже закономерностей макроэволюции и убеждение, что в конечном счете последняя полностью сводима к микроэволюции. Соответственно допускается неограниченная экстраполяция механизмов с низшего уровня эволюции на высший.
Большинство приверженцев СТЭ принадлежит к неявным редукционистам. Они усматривают между микро- и макроэволюцией не только количественные, но и качественные различия, проявляющиеся в закономерностях макроуровня. Как справедливо отмечает Я. М. Галл (1983. С. 259), суть их «позиции состоит в том, что механизмы микроэволюции принимаются в качестве основы макроэволюции, но отвергается их простая экстраполяция». Здесь можно назвать имена Симпсона, Рента, Хаксли, Майра, Ван Валена, Бока, Полянского, Завадского (вместе с представителями его школы). К этой же группе следует, бесспорно, отнести Северцова и Шмальгаузена. Их приверженность идее единства факторов, но различия закономерностей микро- и макроэволюции вытекает из самой логики построения их эволюционных концепций.
Отметим, что в «Кратком очерке теории эволюции» (Тимофеев-Ресовский, Воронцов, Яблоков, 1969) его авторы проявили большую осторожность. Так, ими справедливо было отмечено, что из наших данных о пусковых механизмах микроэволюционного процесса еще не следует с неизбежностью, что нам известны и аналогичные механизмы в макрофилогенезе, т. е. эволюции на надвидовом уровне. Кроме того, хотя они и отрицают принципиальные различия данных уровней, однако признают неправильность суждения, что в проблеме соотношения микро- и макрофилогенеза все уже известно и что в последнем нельзя встретить каких-то иных, специфических закономерностей (там же, с. 269, 272). В связи с этим отмечается настоятельная необходимость в развертывании дальнейшего «монографического изучения» крупных групп животных и растений с целью анализа тех типов изменчивости и механизмов, которые лежат в основе реально осуществленного в эволюции этих групп микро- и макрофилогенеза.
Рассмотренная позиция представляется нам стоящей ближе к истине. Действительно, если объяснять макроэволюцию исключительно в терминах селективной аккумуляции генов, а видообразование всецело сводить к смене генных частот, то как быть с морфофизиологической эволюцией, породившей человека с его разумом? Можно ли ее удовлетворительно объяснить успехом генов в популяциях? Конечно, накопление благоприятных генов — необходимое условие макроэволюции, но следует ли из этого, что оно является достаточным?
Ныне мы еще очень далеки от понимания в деталях, как взаимодействие между многими белками и ферментами, кодируемыми структурными генами, производит, скажем, глаз позвоночных, не говоря уже о живом организме в целом. К тому же нельзя забывать, что глаз способен начать видеть только в состоянии интеграции с целостным организмом, а части организма и его органы приобретают свои свойства только благодаря взаимодействию, т. е. качественно детерминируются целым. Поэтому, вероятно, правильнее будет признать, что морфологическая эволюция, которая может быть объяснена в своих собственных терминах, включает в себя явления, связанные с чем-то иным, чем просто отбор и накопление генов. Такую известную независимость макро- от микроэволюции некоторые «синтетисты» называют «относительной автономией макроэволюции» (Beurton, 1985). Мы поговорим об этом специально в гл. 16.
С середины 1980-х гг. некоторые приверженцы СТЭ (Борзенков, Северцов, 1983; Борзенков, 1987) начали говорить о специфичности макроэволюции и называть проблему ее сводимости фиктивной. По выражению В. Г. Борзенкова, «любое методологическое исследование», игнорирующее тезис о специфичности данного уровня, «не может претендовать на адекватность» (там же, с. 33). В чем же, с точки зрения сторонников СТЭ, состоит эта специфичность и как далеко они готовы идти в понимании ее содержания?
Основные и для всех очевидные различия между микро- и макроэволюцией усматриваются ими прежде всего в результатах: масштабы достигаемых морфофизиологических преобразований, а соответственно, и возникших при этом таксономических уровней резко различны. Несовпадение результатов непосредственно связано с временными характеристиками. Если процессы микроэволюции можно наблюдать на протяжении человеческой жизни, то процессы макроэволюции измеряются геологической шкалой времени. Микроэволюция может быть обратимой, макроэволюция необратима и уже в силу этого обладает определенной направленностью, а следовательно, и особыми закономерностями, проявляющимися в только ей свойственных феноменах (усложнение организации, смена этапов в развитии филогенетических групп, установление симбиотических отношений и т. д.). Некоторые исследователи указывают еще на одно различие, на которое обычно не обращается внимания и которое относится не только к области закономерностей, но и к самим механизмам эволюции: внутривидовая эволюция протекает в открытой генетической системе, надвидовая — в отдельных, изолированных друг от друга генофондах (Паавер, 1980). Следствием последнего обстоятельства оказывается возникновение иной формы отбора — межвидового, нуждающегося в особом анализе.
Большинство синтетистов справедливо признают, что в приложении теории естественного отбора к микроэволюции остается достаточное число спорных вопросов. К ним относится, например, трактовка отбора как дифференциальной смертности или дифференциальной размножаемости генотипов, способов оценки интенсивности отбора, соотношения ведущей и стабилизирующей форм отбора в эволюции и др. Недостаточно разработан вопрос о структуре самого естественного отбора. Если столь важные вопросы теории отбора как главного интегрирующего фактора эволюции остаются неясными на микроэволюционном уровне, то неудовлетворительное положение с оценкой его функциональной роли на уровне макроэволюции еще более усугубляется. Это можно подтвердить красноречивым признанием такого авторитетного теоретика синтетической теории, как К. М. Завадский. Сравнивая положение в учении о микроэволюции с положением в учении об арогенезе как важнейшем разделе теории макроэволюции, он отмечал, что «в теории естественного отбора существуют и неясности совсем другого рода. Все они связаны с применением этой теории к объяснению органообразования, возникновения новых типов организации и захвата новых зон жизни, т. е. к процессам арогенеза» (Завадский, 1972. С. 140). Правда, Завадский был убежден, что особенности движущих сил арогенеза состоят исключительно в специфичной интенсивности и длительности действия каждого из факторов микроэволюции, а также в их различном сочетании друг с другом.
Лет тридцать назад среди синтетистов выделилось крыло реформаторов (Уайт, Левонтин, Карсон, Буш, Гулд, Элдридж), которые предприняли попытку обосновать специфичность макроэволюции по такому важнейшему фактору, как наследственная изменчивость. В отличие от обычных генных и небольших хромосомных мутаций, служащих материалом для отбора в традиционной генетико-популяционной модели микроэволюции, они постулировали существование макромутаций как главного источника макроэволюционных новшеств, способных возникать сальтационно, вне связи с аккумуляцией мелких мутаций в случае микроэволюции. В СССР с подобной трактовкой специфичности макроэволюции выступил академик А. Л. Тахтаджян[9]. Фактически на новом уровне знаний был совершен возврат к идеям Гольдшмидта. Вероятно, эволюционную платформу упомянутых исследователей следует рассматривать как крайний вариант синтетической теории, еще не претендующий на полную самостоятельность и не порывающий с ней генетической связи.
Наконец, надо сказать, что именно в связи с изучением проблем макроэволюции было высказано чрезвычайно важное соображение о канализирующем влиянии на ход макроэволюционных процессов экосистемных связей и отношений (Камшилов, Шварц, Чернов, Красилов, Одум и др.). Сама возможность появления и выживания новых видов есть, по-видимому, результат изменения биоценотической обстановки, а в конечном счете — сдвигов в режиме функционирования биосферы в целом (действующих через обратные связи). Эти соображения хорошо согласуются с представлением Дарвина о ведущей роли в эволюции биотических факторов. Поэтому вполне резонно считать, что причинные цепочки эволюции направлены не столько «снизу вверх» (от мутаций к популяциям и видам), сколько «сверху вниз» (от биоценоза к видам и популяциям). В учении о микроэволюции с подобным пониманием мы встречаемся редко.
При обсуждении вопроса о единстве факторов и движущих сил микро- и макроэволюции сразу возникает вопрос о доказательствах. В связи с невозможностью непосредственного наблюдения макроэволюции, ее экспериментального воспроизведения и моделирования этот вопрос приобретает особую остроту. Какого же рода обоснование данного тезиса предлагается в работах синтетистов?
Можно указать по крайней мере на четыре категории доказательств: выводы, полученные гипотетико-дедуктивным методом; экспериментальные данные об эффективности естественного отбора в гетерогенной (полиморфной) популяции; факты совпадения наследственных признаков близких видов с модификациями внутривидовых группировок; данные об эрогенных популяциях. Характер доказательств первой категории ясен без особых комментариев. Это обычный метод построения научной теории, мало изменившийся со времен Дарвина. Экспериментальные данные об эффективности естественного отбора выполняют верификационную функцию. В ряде руководств по эволюционной теории (дарвинизму) приводятся одни и те же примеры. Таковы классические примеры «индустриального меланизма» у березовой пяденицы (Biston betularia) в странах Западной Европы, появление четырех рас ужей (Natrix sipedon) на островах озера Эри по рисунку поперечных полос, возникновение сезонных форм у погремка (Rhinantus major), превращение ярового рыжика (Camelina glabrata) в льняного (С. linicola) и др. В первых трех примерах (как и в большинстве других, здесь не приводимых) прослежены лишь начальные этапы микроэволюции, но отнюдь не видообразование, в случае которого можно было бы говорить о выходе на уровень макроэволюции. Относительно примера с рыжиком надо отметить, что постоянное возникновение модификационной формы (льняного рыжика) из ярового не означает, что наследственная форма (льняного) произошла тем же путем.
Таким образом, данные об эффективности естественного отбора, не достигшего уровня видообразования, вовсе не доказывают, что микроэволюция приводит к макроэволюции. Что касается примеров внезапного видообразования, то они связаны в основном с хромосомными перестройками, полиплоидией и другими механизмами и свидетельствуют об эволюционных путях, минующих микроэволюцию.
Наконец, идея об арогенных популяциях, разрабатывавшаяся особенно интенсивно К. М. Завадским (1958, 1968, 1971), в теоретическом плане представляется нам достаточно плодотворной. Поскольку макроэволюционные события любого масштаба осуществляются только через видообразование, биологическая неравноценность возникающих видов или внутривидовых подразделений в перспективном отношении — очевидный факт. Однако само распознавание в природе арогенных или неарогенных популяций практически малоосуществимо. Получается, таким образом, что постулат о единстве микро- и макроэволюции прямых доказательств не имеет и опирается исключительно на доводы косвенного характера.
В 70-е годы XX в. среди советских эволюционистов распространился тезис, будто единственно возможный путь к познанию эрогенной эволюции, а следовательно, и макроэволюции лежит через экспериментальное изучение механизмов микроэволюции и будто все другие подходы ненаучны. Тем самым заранее отвергалась целесообразность поиска возможной специфики в причинах и механизмах макроэволюции, игнорировались уже имевшиеся данные об иных путях надвидовой эволюции в некоторых группах растений и животных. Упрощая вопрос, можно было бы проиллюстрировать данный тезис аналогией: ключ к поиску особенностей земной атмосферы следует искать только на Земле.
В свете изложенного не вызывает сомнения, что микро- и макроэволюция представляют собой два не только гносеологически, но и феноменологически раздельных и качественно различных уровня эволюции, выделяемых из общей системно-иерархической структуры этого исторического процесса. Это означает, что к ним применима антиредукционистская концепция Ф. Энгельса о несводимости высших форм движения материи к низшим, о том, что низшие, входя в высшие, не могут определять их сущность. Запрет на поиск механизмов, лежащих вне микроэволюции, можно оценить не иначе, как неоправданную попытку ограничения свободы научного исследования, догматизации и увековечивания сложившихся теоретических стандартов. Нетрудно представить, на каком уровне остановилось бы развитие физики, а вместе с ней и производительных сил общества, если бы, скажем, Ньютон вменил в обязанность всем ученым и на все времена анализировать природные явления исключительно с позиций сформулированных им законов механики и никто из физиков последующих поколений не попытался бы нарушить этой «установки». Тогда, очевидно, у нас не было бы ни волновой теории, ни термодинамики, ни теории относительности, ни квантовой и ядерной физики.
В заключение этого раздела целесообразно привести схему, отображающую структуру эволюционной теории по представлениям СТЭ, заимствованную из уже упоминавшейся работы В. Г. Борзенкова (1987). На схеме (рис. 2) фундамент всей теории составляет генетика популяций как единый причинный механизм эволюции. Трансформация генетической структуры популяций завершается видообразованием — центральным событием микроэволюции, очерчивающим ее верхнюю границу. Для объяснения макроэволюции в терминах микроэволюции требуется определенное число дополнительных теоретических гипотез и моделей, изображенных прямоугольниками 1–3. На схему попала и молекулярная биология, данные которой по необходимости все шире привлекаются СТЭ к трактовке микро- и макроэволюции.
Рис. 2. Структура эволюции теории (из: Борзенков, 1987).
Эта схема нам еще пригодится в дальнейшем, когда, опираясь на нее, мы попытаемся отобразить множественность путей макроэволюции, А пока обратимся к тому, как генетики начала XX в. мыслили себе конкретно эту надвидовую эволюцию.
Генетики первой половины XX в. о механизмах надвидовой эволюции
Мутационная теория эволюции Гуго де Фриза (Н. de Vries), созданная в 1901–1903 гг., широко известна. Исследуя длительное время изменчивость в роде энотера и у других растений, де Фриз обнаружил явление спорадического возникновения среди линнеевских видов особей с необычным новым признаком, стойко передающимся потомству в неограниченном числе поколений. Для обозначения этого явления он предложил термин «мутация», ставший азбучным понятием в генетике. Излишне пояснять, что генетический термин «мутация» не имеет ничего общего с мутацией Ваагена — понятием, ранее введенным в палеонтологию.
Зарегистрировав появление константных мутантных форм, де Фриз получил основание рассматривать обычные линнеевские виды, или виды систематиков, как смеси монотипичных, генетически далее неразложимых элементарных видов (жорданонов), отличающихся друг от друга одним наследственным признаком. На превращениях именно таких элементарных видов де Фриз и построил свою мутационную теорию эволюции.
По этой теории эволюционные преобразования совершаются скачкообразно. Время от времени под действием пробудившейся «созидательной силы» природы тот или иной вид, дотоле длительное время пребывавший в неизменном состоянии, испытывает мутацию и практически внезапно превращается в новый вид, который теперь сразу и на столь же долгое время, как и его предшественник, становится постоянным. Периоды локоя, длящиеся тысячелетиями, чередуются с мутационными периодами, кажущимися по сравнению с первыми всего лишь мгновениями.
Де Фриз отмечает, что мутации, а следовательно, и образование новых видов «не зависят от жизненных условий» (Фриз де, 1904. С. 199). Видообразование совершается также независимо от естественного отбора. «Для этого, — по его словам, — не нужно ни ряда поколений, ни борьбы за существование, ни удаления негодных особей, ни подбора» (там же, с. 196).
Борьба за существование в природе имеет место, но она идет не между особями одного вида, как полагал Дарвин, а между разными видами. При этом борьба за существование, в отличие отточки зрения Дарвина, не увеличивает видовое разнообразие, а сокращает его за счет выбраковки нежизнеспособных форм. Таким образом, Г. де Фриз свел сложный процесс видообразования и эволюции к одному фактору — «видообразовательной изменчивости» (Завадский, 1973. С. 274) — и тем самым избавил своих оппонентов от необходимости пространной критики своей концепции.
Де Фриз наглядно отобразил свою концепцию взрывного видообразования в виде схематичного родословного древа (рис. 3), внешне очень напоминающего хорошо знакомую аквариумистам водоросль кабомбу. Это длинная, местами ветвящаяся нить, образующая массу мутовок, находящихся на одинаковых расстояниях друг от друга. Каждая ветвь мутовки представляет собой вид или подвид, имеющий начало и конец, а каждое звено нити между соседними мутовками — неизменное состояние родоначального вида. Каждая мутовка соответствует мутационному периоду, все же древо в целом отображает род.
Этим де Фриз не ограничивается. Он добавляет, что рисунок можно было бы подобным же образом продолжить вниз — «вплоть до самых древних живых существ», и далее пишет: «На рисунке… мы восходим от видов к сборным видам (Oenothera lamarckiana), от сборных видов — к подродам (Onagra и Euoenothera), а отсюда — к родам (Oenothera). Более древним взрывам соответствовали бы подсемейства, семейства и все высшие системы. Если бы вся система была известна нам без пробелов и генеалогическое древо имело бы форму обыкновенной дихотомической таблицы для определения, то каждая точка разветвления означала бы для нас место взрыва…» (Фриз де, 1904. С 192).
Рис. 3. Схема видообразования (по: де Фриз, 1904).
Сопоставив схему видообразования де Фриза с диаграммой дивергенции Дарвина, мы увидим, что они, равно как и трактовка обоими учеными способов осуществления надвидовой эволюции, принципиально сходны. В обоих случаях новые формы образуются путем ответвления от прежде единой родоначальницы. Правда, по диаграмме Дарвина, ветвление дихотомично, так как промежуточные формы вымирают; у де Фриза оно веерообразно (мутовчато), поскольку промежуточные формы, как и исходная, при отсутствии внутривидовой борьбы сохраняются. Но эти различия не столь принципиальны. Гораздо важнее иное различие. У Дарвина нарождение новых видов — плавный процесс, совершающийся медленно и постепенно, у де Фриза — резкий и скачкообразный.
Однако в понимании способов надвидовой эволюции де Фриз и Дарвин едины. Для обоих образование высших таксонов — результат постепенного накопления изменений и, стало быть, дело времени. По де Фризу, каждый крупный эволюционный шаг складывается из серии мутаций. Никакого качественного различия между процессами видообразования и крупномасштабной эволюцией де Фриз, как и Дарвин, не проводит.
Рис. 4. Фрагмент диаграммы по Дарвину (только А) (из: Сковрон, 1987).
Подходя к оценке прогрессивного развития, связанного с «усовершенствованием организации», крайне упрощенно, де Фриз считал, что для осуществления эволюции от начала жизни до ее современных высших форм требовалось возникновение всего нескольких тысяч наследственных единиц, или эволюционных шагов. «Обыкновенно в каждый мутационный период, — писал де Фриз, — организация подвигается на один шаг. Следовательно, сколько таких шагов сделала организация с самого начала, столько было и мутационных периодов» (там же, с. 201–202).
Приняв продолжительность жизни на Земле равной 24 млн лет, а число мутационных периодов равным 6000, де Фриз нашел, что средняя продолжительность фазы покоя между мутационными периодами должна составлять 4000 лет (по замечанию самого де Фриза, это «очень грубое приближение»). Приведенные цифры характеризуют наиболее быстрый прогресс, который осуществили высшие растения и животные. Что касается низших, то у них число мутационных периодов было невелико, а фазы покоя весьма продолжительны. Де Фриз добавляет при этом, что если вслед за Дарвином объяснять прогрессивную эволюцию отбором и накоплением мелких изменений, то «не хватит… и миллиардов веков» (Фриз де, 1932. С. 70).
В первой половине геологической истории развитие мира живых существ должно было идти в несколько раз быстрее, чем в более позднее время. Мало-помалу прогресс ослабевал. «С появлением человека цель, кажется, была достигнута, и теперь все идет так лениво, что прогресс как будто закончен: нам кажется, что мы совершаем лишь вместе с ним его последние шаги» (Фриз де, 1904. С. 209). Этим соображением чисто финалистического характера де Фриз предвосхитил популярную среди финалистов 30-40-х годов концепцию цикличности и затухания эволюции.
Сколь неочевиден общий прогресс живого, связанный с «постепенным умножением числа свойств и признаков», прогрессивные мутации возникают, по мнению де Фриза, очень редко. В природе гораздо чаще встречаются мутации регрессивные («ретрогрессивные»), связанные, например, с выпадением признака, и «…происхождение видов в природе идет по большей части рет-\рогрессивным путем» (Фризде, 1932. С. 124).
В теории де Фриза четко представлены два пути видообразования: 1) «групповой способ видообразования», при котором новые формы появляются сбоку главного ствола в виде веточек, образующих мутовку, и 2) «филогенетический», осуществляющийся на линиях, связывающих мутовки. По мнению де Фриза, первый способ видообразования обеспечивает богатство и разнообразие природы, а второй — «свойственное системе расчленение», но они не отделены друг от друга резкой гранью (Vries de, 1918; Фриз де, 1932. С. 118–119). В указанных способах видообразования легко угадывается близость к современным представлениям о кладистическом и филетическом видообразовании.
Завершая анализ теории де Фриза, необходимо сказать, что, несмотря на отдельные высказывания в поддержку эволюционной роли естественного отбора (Vries de, 1918), де Фриз явился автором в целом антидарвиновской, достаточно механистической и упрощенческой концепции, которую К. М. Завадский (1973) отнес к одной из основных разновидностей генетического антидарвинизма. В то же время нельзя не отметить, что, будучи беспристрастным и блестящим исследователем, наделенным большой научной интуицией, де Фриз высказал три кардинальных положения, составивших ядро современной теории прерывистого равновесия и находившихся еще недавно в фокусе острых дискуссий. К ним относятся идея периодичности мутирования и эксплозивности видообразования, отрицание внутривидовой борьбы и признание макроэволюционной роли межвидовой борьбы, положение об образовании большинства новых видов за счет боковых ответвлений.
Совершенно иного взгляда на соотношение внутривидовой и надвидовой эволюции придерживался другой генетик — современник де Фриза Л. Кено.
Л. Кено вошел в историю эволюционизма как автор теории преадаптации. Основная идея этой теории была высказана Кено уже в 1901 г. (СиёгкД, 1901), т. е. до опубликования де Фризом мутационной теории, а затем оформлена в виде законченной доктрины в ряде публикаций (Cuenot, 1925, 1929, 1936). Кено с самого начала считал, что между условиями среды, в которой рождается новый вид, и его адаптацией к ней никакой причинной связи не существует и что особенности видовой организации возникают отнюдь не под действием ламарковских факторов или естественного отбора. Он с готовностью принял мутационизм, полагая, что эта концепция и его собственная теория дополняют друг друга, ибо путем мутаций, по его мнению, способны формироваться новые структуры. Не без гордости Кено причислял себя к самой молодой школе эволюционистов, которую назвал «менделистской, или мутационистской, или еще преадаптационистской» (Cuenot, 1921. Р. 467).
Со временем, однако, Кено становилось все более ясным, что при всем значении мутационного процесса как материальной базы эволюции его возможности ограничены рамками видообразования, Постепенно он приходит к выводу, что мутационная теория, дополненная фактором изоляции, способна удовлетворительно объяснить возникновение жорданонов (элементарных видов), географических рас и разновидностей, со временем достигающих видового уровня, но она ничего не может дать для понимания истинной (т. е. макро-) эволюции, характеризующейся появлением новых органов и морфологических структур. Отвергнув созидательную роль отбора, Кено настойчиво искал для объяснения этой эволюции крупного масштаба иные причины. В их поиске он все более склонялся к финализму (подробнее см.: Назаров, 1984).
Решающее значение в переходе Кено на позиции финализма имело, по-видимому, экспериментальное исследование возникновения в эмбриогенезе мозолистых затвердений на запястье передних конечностей африканской свиньи-бородавочника (Phacochoerus africanus), выполненное совместно с Р. Антони (Anthony, Cuenot, 1939). Именно в результате этой работы Кено уверовал в чудодейственный системный эффект одной крупной мутации, которая одновременно с созданием нового органа должна была породить и соответствующий инстинкт добычи пищи.
С этого момента Кено овладевает финалистическая идея о том, что сложные органы, подобные глазу позвоночных животных, крылу птицы или электрическим органам рыб, образуются не путем постепенных мелких и случайных изменений, аккумулируемых отбором, а только сразу, в результате одного неделимого акта под действием имманентной живому «зародышевой изобретательности». При этом новые органы должны с самого момента своего возникновения обладать полным совершенством. Прибегать к дарвиновскому способу объяснения с помощью мелких усовершенствований, по мнению Кено, в данном случае бессмысленно, поскольку до полного сформирования новые органы не способны функционировать и совершенно бесполезны.
К концу 40-х годов Кено окончательно разочаровывается в мутационной теории, ограничив сферу ее приложения расо- и видообразованием (микроэволюция). Отказывается он также и от теории преадаптации. Перейдя бесповоротно на позиции финализма, Кено теперь твердо считает, что крупномасштабная эволюция, связанная со становлением типов организации, управляется неизвестным нематериальным агентом психической природы и не имеет ничего общего с эволюцией в пределах вида.
Аналогичную метаморфозу во взглядах испытал также генетик и энергичный критик неоламаркизма и дарвинизма Э. Гийено.
Из сказанного видно, что по вопросу о движущих силах внутривидовой и надвидовой эволюции единства не было уже среди самых зачинателей генетики. Его и трудно было бы ожидать, поскольку генетике как экспериментальной науке с ее длительное время остававшимся практически единственным методом гибридологического анализа оказалось недоступным изучение поведения признаков надвидовых таксонов, которые либо не скрещиваются, либо не менделируют. Исследователи периода развития классической генетики занимались преимущественно изучением распределения в потомстве менделистических признаков, характеризующих внутривидовые подразделения, в лучшем случае виды. Поэтому неудивительно, что их соображения о факторах надвидовой эволюции (если они вообще ею интересовались) были основаны в большей мере на умозрении, научной интуиции, чем на фактических данных. Однако и в этих условиях были высказаны догадки, намного опередившие уровень науки того времени.
Знакомство с работами Т. Моргана (Morgan, 1919) и Р. Гольдшмидта (Goldschmidt, 1927) обнаруживает, что по вопросу о детерминирующей роли генетических факторов в эволюции они стояли (Гольдшмидт — до 1933 г.) на точке зрения де Фриза. Оба они считали, что все свойства организмов формируются под совокупным действием генов и что биологические виды для генетика представляют собой лишь группы генов. На гены сводимы без остатка все наследственные особенности организмов.
Признавая, что, например, у мыши с помощью обычного генетического анализа никак нельзя установить наличие генов дробления, зародышевых листков, сегментации и прочих процессов развития, делающих мышь позвоночным, затем млекопитающим, грызуном и представителем рода Mus, Гольдшмидт тем не менее утверждал, что «каждый мыслимый тип процессов дифференцировки может быть обусловлен менделистическими генами» и потому «нельзя возражать против того, чтобы принять существование определенного количества генов для всех этих процессов дифференцировки, которые менделистически нельзя анализировать» (Goldschmidt, 1927. S. 7–8).
С другой стороны, такие генетики, как Иоганнсен (Johannsen, 1915) и Баур (Baur, 1919), считали невозможным сведение всего процесса эволюции к известным факторам изменчивости.
Взгляды Иоганнсена по интересующему нас вопросу претерпели изменения. Так, в первом издании «Элементов» (Johannsen, 1909) он писал, что гены определяют «различия между взрослыми особями разных видов и родов, например между собакой и кошкой, розой и лилией — или между кошкой и лилией, собакой и розой…» (ibid., S. 126), т. е. охватывают собой решительно все наследственные особенности организмов, в том числе даже организационные признаки разных царств природы (!). Однако в последнем прижизненном издании того же труда (Johannsen, 1926) он высказывался по данному вопросу гораздо осторожнее и, имея в виду понятие гена, отмечал, что «более крупные различия между сильно отдаленными видами и родами интересуют учение о наследственности очень мало; напротив, бесчисленные мелкие различия между особями одного вида — вот, собственно, что составляет главный предмет учения о наследственности» (ibid, S. 129). В другой работе Иоганнсен с уверенностью заявлял, что известные нам генетические явления, такие, как мутации и комбинации, «едва ли могут представлять непосредственный интерес для понимания более общего хода эволюции» (цит. по: Philiptschenko, 1927. S. 93). Мысль глубоко пророческая!
Особый интерес представляют взгляды на природу макроэволюции советского генетика Ю. А. Филипченко, впервые предложившего для разграниченных им уровней эволюционного процесса сами термины «микро-» и «макроэволюция» (Philiptschenko, 1927. S. 93).
Теперь мы вплотную подошли к рубежу, когда понятия микро- и макроэволюции обрели наконец права гражданства. Знаменательно, что возникли они опять-таки в генетике.
Многим, вероятно, известно, что ближе всего к этим понятиям (хотя и не назвав их) подошел С. С. Четвериков, которому приписывают — и совершенно справедливо — заслугу в закладке основ популяционной генетики и соединении ее с дарвинизмом, но далеко не все обращают внимание на противоречащее постулатам будущей синтетической теории полное разобщение Четвериковым процессов макро- и микроэволюции, В классической работе 1926 г. (Четвериков, 1926) он со всей категоричностью утверждал, что «…в эволюционном развитии органического мира два процесса протекают рядом, иногда скрещивая свои пути, но все же строго разграниченные как в своих причинах, так и вытекающих из них следствиях (курсив мой. — В. Н.), один процесс дифференциации, распадения, приводящий в конце концов к видообразованию, в основе его лежит изоляция; другой ведет к адаптации, к прогрессивной эволюции органической жизни, и причиной его являются борьба за существование и вытекающий из нее естественный отбор» (там же, с. 162–163).
Небезынтересно обратить внимание на кардинальное отличие взглядов Четверикова от позиции будущих синтетистов по вопросу о характере внутривидовых отличий. В противоположность краеугольному положению синтетической теории об адаптивном характере внутривидового полиморфизма и о его возникновении в результате дивергенции под действием естественного отбора Четвериков утверждал, что внутривидовая дифференцировка вовсе не обязательно связана с адаптивными изменениями. Существуют тысячи примеров, когда виды различаются не адаптивными, а безразличными в биологическом смысле признаками, и, следовательно, приобретение адаптивного признака не является причиной расщепления близких форм (укажем, что этот вывод находит подтверждение в современной концепции «нейтральной эволюции»). Зато различия по адаптивным признакам отчетливо выступают у высших систематических категорий.
По мнению Четверикова, действие отбора ведет не к внутривидовой дифференцировке, а к полной трансформации вида и его превращению в новый вид. «Истинным источником видообразования, истинной причиной происхождения видов, — справедливо отмечает Четвериков, — является не отбор, а изоляция» (там же, с. 162). При этом он добавляет, что если бы действие отбора вдруг прекратилось, то вид стал бы полиморфным, и что распадение вида на разновидности есть признак его старости. Как все это противоречит теории Дарвина!
О Ю. А. Филипченко уже говорилось в начале главы. Это был крупный генетик, известный зоолог круга А. А. Заварзина, В. А. Догеля, В. Н. Беклемишева, А. Л. Любишева, а также историк эволюционного учения. Но Филипченко стоял несколько в стороне от магистрального направления развития генетики, так как не принял редукционистской программы исследований школы Моргана. Основной предмет его интересов составляли количественные генетические признаки сельскохозяйственных животных и мягких пшениц, которыми в первую очередь определяются урожайность и громадное большинство хозяйственно важных признаков соответствующих пород и сортов. К тому же изучение количественных признаков импонировало Филипченко как последователю Бэра и близкому единомышленнику Берга тем, что в отличие от лабораторных мутаций эти признаки удерживали исследователя в рамках рассмотрения организма как целого. К этой краткой характеристике стоит добавить, что Филипченко был антидарвинистом и стоял на позициях автогенеза.
Еще до публикации работ об изменчивости (Philiptschenko, 1927; Филипченко, 1927) в книге «Эволюционная идея в биологии» (2-е изд., 1926) Филипченко критиковал Дарвина за то, что тот пытался распространить свою теорию на происхождение всех высших систематических единиц, и одновременно одобрительно отзывался о взглядах Виганда и Копа, которые настаивали на различном происхождении видовых и родовых (в широком смысле этого слова) признаков. Сам он считал, что известных в то время факторов эволюции для объяснения ее общего хода недостаточно. «Каким образом произошли характерные признаки родов, семейств, отрядов, классов и типов, — с уверенностью писал Филипченко, — этого мы совершенно Не знаем, и вообще вся эта и притом наиболее важная сторона эволюционного процесса является для нас совершенно открытым вопросом, разрешение которого есть дело будущего» (Филипченко, 1977. С. 193). Насколько большое значение придавал Филипченко этому вопросу, вытекает из следующего соображения: если происхождение высших систематических единиц иное и мы могли бы ответить на вопрос, как же произошли в отличие от «видов» наши «роды», «то перед нами была бы новая теория эволюции» (там же, с. 192). Что касается такого «известного фактора эволюции», как мутационная изменчивость, то она, по убеждению Филипченко, способна порождать только формы не выше видового ранга.
Юрий Александрович Фильченко (1882-1930).
В работе «Изменчивость и изменение», изданной на немецком языке в Берлине (Philiptschenko, 1927), и в третьем издании книги «Изменчивость и мётоды ее изучения» (1927) на русском языке, содержание заключительных разделов которых, посвященных проблеме макроэволюции, в значительной мере совпадает, Филипченко высказывается более определенно. Он резко разграничивает микро- и макроэволюцию, заявляя: «Мне кажется гораздо более правильным принять, что эволюция особенностей низших систематических единиц — одно, а эволюция родовых признаков — совсем другое. Первая может считаться в настоящее время более или менее разрешенной, и для ее объяснения процессы подбора, мутаций и комбинаций имеют очень большое значение. О второй мы пока ничего не знаем… скорее можно думать, что он [процесс эволюции] протекал совершенно своеобразно, а потому считать, что мутациями, комбинациями и подбором можно объяснить всю эволюцию животного и растительного царств, нет решительно никаких оснований» (Филипченко, 1927. С. 283). Филипченко поясняет, что все известное нам о причинах эволюционного процесса относится лишь к низшим систематическим единицам — линнеевским видам, жорданонам и биотипам. Что касается высших «родовых особенностей», то они не могли произойти путем простого суммирования видовых; иными словами, новый вид никак не смог бы стать в дальнейшем представителем нового рода, семейства и т. д. под влиянием тех же факторов, которые его породили.
Как это ни странно, Филипченко считал, что макроэволюция находится вообще вне компетенции генетики, и ему даже представлялось, будто между «генетикой и теорией эволюции, которая преимущественно рассматривает макроэволюцию», отсутствует «внутренняя взаимосвязь». При этом он со всей категоричностью заявлял, что «решение вопроса о факторах эволюции более высокого порядка, т. е. именуемых нами макроэволюцией, должно быть достигнуто независимо от достижений современной генетики. Было бы соблазнительно и в этом вопросе основываться на точных результатах генетики, но они, по нашему мнению, совершенно непригодны для достижения этой цели, поскольку вопрос о возникновении систематических единиц более высокого ранга находится целиком вне области, исследуемой генетикой» (Philiptschenko, 1927. S. 94).
Основной аргумент в пользу самостоятельности факторов микро- и макроэволюции Филипченко видел в различиях видовых и родовых признаков. Таковых по крайней мере три. Родовые признаки по сравнению с видовыми в гораздо меньшей степени подвержены изменчивости, и вообще, чем выше ранг систематической единицы, тем слабее ее изменчивость. Рассматриваемые категории признаков различаются временем появления в индивидуальном развитии: все родовые особенности закладываются значительно раньше видовых. Носителями признаков линнеонов, жорданонов и биотипов являются гены, локализованные в хромосомах половых клеток. Что это справедливо и для особенностей родового характера, пока никем не доказано. Скорее всего носителями родовых свойств являются «совсем особые зачатки». Все это побуждало Филипченко сделать заключение, что «роды» произошли иным путем, чем «виды».
, Отсюда видно, что представления Филипченко о совершенно особой природе родовых признаков сродни соответствующим идеям Копа. Их можно соотнести также с учением Вавилова (1920) о постоянных признаках — радикалах, не подверженных изменчивости по закону гомологических рядов. К числу таких радикалов Вавилов относил, например, число хромосом — признак, не способный изменяться постепенно.
Указанием на существование будто бы особых зачатков родовых признаков Филипченко не ограничился. Опираясь на некоторые данные механики развития, он пришел к выводу, что носители признаков систематических категорий выше видового уровня подобно факторам, определяющим первые стадии развития яйца, заключены не в ядре, а в плазме половых клеток. При этом, по свидетельству самого Филипченко, он следовал за аналогичными взглядами, высказанными в свое время Бовери (1904), Конклином (1915), Лебом (1916), а ныне разделяемыми Веттштейном (1928) и Корренсом (1928).
В 1908 г. К. Корренс впервые описал у растений под названием плазмона часть идиоплазмы, лежашую вне ядра. По его мнению, плазмон, так же как ядерный аппарат, участвует в хранении и передаче наследственности, но только по материнской линии. Именно он обусловливает основные процессы развития.
Развивая идею о зависимости родовых признаков от плазмы, Филипченко всецело воспринял трактовку плазмона, данную Корренсом. По мнению Филипченко (1934), плазмон представляет собой единое целое, не разложимое на отдельные элементы. Это некая совокупность белков, характеризующая половые клетки организмов разной систематической принадлежности. Плазменные различия сводятся к различиям в наборе белков.
Изложенные соображения не были у Филипченко исключительно плодом его фантазии. В своих суждениях он опирался на собственные исследования по генетике мягких пшениц (Филипченко, 1934). На примере развития представителей родов Triticum, Monococcum, Aegilops, Secale, Hordeum и ряда других он видел, что их родовые признаки, характеризующие форму колоса, выявляются с самого начала процесса развития и не менделируют, тогда как различия между видами одного рода обнаруживаются в самом конце развития колоса и менделируют.
Факт раннего появлении в онтогенезе признаков высших таксонов не мог не навести Филипченко на мысль, что источник крупных эволюционных преобразований нужно искать в изменениях ранних стадий эмбрионального развития. Он, в частности, отмечал, что, для того чтобы могли возникнуть особенности нового класса, эмбриональные изменения должны были охватывать гораздо более ранние стадии индивидуального развития, чем в случае появления особенностей нового семейства. В этой связи Филипченко указывал, что идее Э. Жоффруа Сент-Илера, Келликера и Седжвика об эволюции через изменение эмбриональных стадий принадлежит большое будущее. Она подходит для объяснения происхождения главым образом высших систематических единиц.
Особенно убедительным свидетельством в пользу такого взгляда Филипченко считал учение А. Н. Северцова о фи л эмбриогенезах. Ему представлялось, что в основе модусов филэмбриогенезов, которые затрагивают ранние стадии развития, могут лежать изменения плазмонов. В будущем он не исключал возможности и прямого доказательства данного предположения.
Мы уделили столь большое внимание взглядам Филипченко не столько потому, что ему принадлежит заслуга в понятийном разграничении эволюционного процесса на два уровня, сколько ради того, чтобы показать, насколько даже в 30-е годы XX в. многие генетики были склонны отгораживать глухой стеной науку, которую они представляли, как от макроэволюции, так и от дарвинизма.
Вряд ли можно винить Филипченко в том, что он столь резко разграничивал эволюционные последствия деятельности ядерных генов и плазмы. Ошибочность такого разграничения стала очевидной гораздо позднее, а во времена Филипченко и еще долгие годы спустя было распространено представление, будто ядро и плазма в своем влиянии на развитие совершенно независимы друг от друга[10]. Биохимия также еще не располагала надежными методами анализа состава белков и была не в состоянии опровергнуть гипотезу Филипченко о зависимости родовых признаков от различного набора белков в плазмонах разных организмов.
Несмотря на ошибочность суждений Филипченко о материальном субстрате родовых признаков, сама идея об особой природе и специфичности механизмов эволюции этих признаков оказалась пророческой. Вскоре с ее развернутым обоснованием выступил немецкий генетик Р. Гольдшмидт.
В 1940 г. вышел классический труд Гольдшмидта «Материальные основы эволюции» (Goldschmidt, 1940), более половины объема которого было отведено генетическим причинам макроэволюции. С содержанием этого труда мы подробно ознакомимся в гл. 7, а пока отметим, что принятие эволюционной платформы Гольдшмидта означало радикальный поворот в развитии всей эволюционной теории. С того момента, когда это произошло, эволюционная теория вступила на прямой путь, который привел ее к современному состоянию.
Вернемся, однако, к нашим общеэволюционным теоретическим проблемам и, прежде чем окончательно расстаться со СТЭ, посмотрим, куда повело эволюционную теорию новое поколение эволюционистов, отказавшихся принимать ортодоксальные взгляды. Но прежде попытаемся ответить на один вопрос.
Что нужно для превращения популяции в новый вид?
Этот главный вопрос, поставленный логикой познания, можно точнее сформулировать так: какое событие должно произойти, чтобы система популяций прежнего вида смогла выйти на новый тип организации, которым характеризуется каждая особь нового вида? Правильное решение этого вопроса без насилия над фактами и означало бы сопряжение процессов двух уровней эволюции, разгадку механизма макроэволюции.
Элементарная логика подсказывает, что такой переход может совершиться только скачком, сальтационным превращением одного качественного состояния в другое. И тут синтетическая теория должна сделать существенную уступку: в объяснении перехода от микро- к макроэволюции она должна отказаться от идеи постепенной аккумуляции точковых мутаций как якобы количественных изменений, способных перейти в новое качество, и признать сальтационное становление репродуктивной изоляции (и часто его первичность), а вместе с ним прерывистый характер видообразования. Можно полагать, что сами сальтации вызываются хромосомными перестройками, мутациями супергенов, изменениями последовательностей ДНК, производимыми подвижными генетическими элементами, или даже изменениями единичных генов регуляторной системы, дающими крупный фенотипический эффект, но качественные и количественные стороны этих генетических изменений остаются неизвестными.
Весьма показательно, что в направлении к фактическому признанию скачка важную уступку сделал сам Майр, который в последней фундаментальной книге писал, что, «хотя в большинстве случаев нет необходимости в крупной мутации для возникновения новой эволюционной структуры, в некоторых, однако, случаях “фенотипически резкая мутация” может быть первым шагом… за которым последуют малые мутации, завершающие окончательную “калибровку”» (Mayr, 1982а. Р. 611).
Прерывность — один из универсальных законов природы, а непрерывность, как известно, слагается из огромного числа скачков, на первый взгляд могущих оказаться незаметными. Достаточно упомянуть несколько примеров из разных областей знания. Скачком совершаются фазовые переходы вещества из одного состояния в другое. Существуют лишь дискретные энергетические уровни атома, смена которых связана с перескоком электронов с одной орбиты на другую. Ракета, запущенная в межзвездное пространство, должна последовательно развить три космические скорости, соответствукшше выходу на околоземную орбиту, преодолению притяжения Земли, а затем Солнца.
В биологической эволюции скачок, вызванный достаточно крупной мутацией, нарушает правильность конъюгации хромосом в мейозе и делает невозможным скрещивание мутанта с исходной формой. Новый вид, как теперь считается, возникает либо сразу, либо в течение очень короткого геологического времени. В зависимости от глубины преобразований возникшие формы в принципе могут достигать ранга рода или даже семейства. Но этот предмет — дополнительная тема дискуссий. Главное — смог возникнуть новый вид. Этого вполне достаточно для поступательного хода макроэволюции и образования под действием отбора эволюционных трендов. Случившись однажды, скачок может повториться еще и еще, каждый раз порождая новые виды и, следовательно, хоть немного иную организацию. В итоге суммирования организационных изменений последовательно возникающих видов формируются основные признаки более высоких таксонов — «машина» макроэволюции оказывается запущенной.
В том, что видообразование и макроэволюция совершаются не постепенно и плавно, а путем внезапных скачкообразных изменений, получает выражение одна из характеристик диалектического развития — скачкообразный переход от одного состояния к другому. Как показал И. Пригожин (Пригожин, Николис, 1973; Пригожин, Стенгерс, 1986), для описания систем, свойства которых изменяются постепенно (например, ряда физических), используются линейные математические модели. Однако для характеристики любых диссипативных систем (особенно биологических), отличающихся коренными качественными изменениями свойств, линейные модели непригодны, и приходится пользоваться нелинейными. Переход же от неустойчивости к устойчивости, от одной динамической структуры к другой происходит всегда скачком. Таким образом, в контексте фундаментального открытия термодинамики об обязательности скачка в процессах эволюционного усложнения и самоорганизации материальных систем требование скачка для возникновения нового вида получает достаточно убедительное обоснование.
Было бы неправильно думать, будто скачок от прежней системы популяций к новому виду, поскольку в нем, как правило, нет подготовительного этапа, на котором происходит накопление мелких мутационных изменений, нарушает диалектический закон перехода количественных изменений в качественные. Этот закон отнюдь не предполагает, чтобы количественные изменения непременно накапливались постепенно. Они могут возникнуть так же внезапно, как и вызываемый ими результат. В интересующей нас области количественное изменение — крупная мутация — возникает в качестве единого неделимого акта сразу и может повлечь за собой качественное событие — появление нового вида.
Сделаем главный вывод. Из всего сказанного следует, что граница между микро- и макроэволюцией проходит на уровне видообразования и самый акт рождения нового вида, как это принимается теорией прерывистого равновесия, а вслед за ней и нами, должен быть целиком отнесен к области макроэволюции. Видообразование — начальный этап и основная единица макроэволюции.
Возникновение альтернативных гипотез видообразования и макроэволюции
Обычно считают, что вызов дарвинизму и СТЭ был брошен теорией прерывистого равновесия, опубликованной американскими палеонтологами Н. Элдриджем и С. Гулдом (Eldridge, Gould, 1972). Существенные расхождения между этими теориями действительно имеются. Они состоят не столько в том, что пунктуалисты представляют эволюцию пульсирующим процессом, при котором состояния длительного стазиса видов меняются краткими периодами быстрого видообразования, и не в том, что вместо привычного градуализма (постепенности), характерного для филетической эволюции, вводятся пунктуализм и кладистическое (расщепительное) видообразование. Важнее, что в новой модели эволюции репродуктивная изоляция первична, ее природа не адаптационная, а стохастическая и что микро- и макроэволюция разобщены — изменчивость в популяциях не ведет к видообразованию.
И все же, несмотря на всю серьезность последнего утверждения (на которое, точнее, не обращают внимания), многие авторитетные специалисты (Паавер, 1983; Воронцов, 1984; Татаринов, 1987) считают, что в прерывистой модели нельзя видеть альтернативу дарвинизму. Действительно, если из нее исключить разобщенность микро- и макроэволюции, то умеренный сальтационизм, наличие стазиса, ослабленная и видоизмененная роль отбора не создают чего-то принципиально несовместимого с дарвиновской концепцией. Можно согласиться с Дж. Мейнардом Смитом, что перечисленные факты относятся не к категории несовместимых, а к разряду тех, которые в дарвиновской теории не могли быть предсказаны (Maynard Smith, 1982. P. 127).
Главным источником, из которого стали рождаться действительно альтернативные гипотезы, оказались молекулярная генетика и биохимия, снабдившие макроэволюцию иным типом изменчивости и, стало быть, качественно иным эволюционным фактором. Тезис пунктуализма о разобщенности микро- и макроэволюции вытекал вовсе не из данных палеонтологии. Он был заимствован из молекулярной генетики, которая занялась проблемами видообразования. Генетика видообразования — вот точное обозначение того очага, из которого, вопреки прогнозу Филипченко, стала исходить большая часть новых знаний о макроэволюции.
Первоначально было обращено внимание на видообразовательную роль хромосомной изменчивости и, в частности, на «сальтационную реорганизацию хромосом» (Lewis, 1966). Многие исследователи, включая пунктуалистов, пришли затем к выводу, что хромосомные перестройки выполняют функцию регуляторов макромутаций, как об этом свидетельствуют факты коррелятивной связи между темпами хромосомной и морфологической эволюции (White, 1973, 1978b; Wilson, Sarich, Maxson, 1974; Bush, Case, Wilson, Patton, 1977; Gould, 1977; Stanley, 1979). Было показано, что в популяциях некоторого типа крупные хромосомные изменения могут фиксироваться в течение нескольких поколений. В поддержку внезапного видообразования посредством хромосомных перестроек высказались Дубинин (1948, 1987), Воронцов (1960, 1980; Воронцов, Ляпунова, 1984), Красилов (1977, 1986), Гринбаум (Greenbaum, Baker, Ramsey, 1978) и др.
На рубеже 60-70-х годов XX в. стали возникать новые гипотезы, касающиеся организации генетического материала и роли его отдельных компонентов в макроэволюции. Бриттен и Дэвидсон (Britten, Davidson, 1969, 1971) высказали предположение, что в отличие от микроэволюции, связанной с мутациями структурных генов, макроэволюция основывается на мутациях регуляторных генов, способных радикально изменять весь ход онтогенеза (Valentine, Campbell, 1975; Stanley, 1979). Значение регуляторных генов проявилось особенно наглядно в примере огромных морфологических различий человека и шимпанзе и одновременно большом сходстве их белков, кодируемых структурными генами (King, Wilson, 1975). Вилсон предположил, что за мутации регуляторных генов у млекопитающих ответственны хромосомные перестройки.
В конце 1960-х годов особое внимание привлекла значительная избыточность генетического материала (наличие определенного количества сателлитной ДНК, не кодирующей белков) у эукариотных организмов, в целом возраставшая в ряду от низших форм к высшим. Подвергнув это явление сравнительному анализу, японский биохимик С. Оно (Ohno, 1970) пришел к выводу, что прогрессивная макроэволюция осуществлялась путем тандемной дупликации генов, чередовавшейся с полиплоидизацией.
В те же годы в генетической системе эукариот были выделены два компонента структуры — облигатный (ОК) и факультативный (ФК), представленные ансамблями взаимодействующих между собой макромолекул. Мутации структурных генов, описываемые классической генетикой, — это изменения в ОК. В отличие от последнего ФК является источником другой формы изменчивости, которую М. Д. Голубовский (1978) предложил называть вариационной (термин, использовавшийся Филипченко). По сравнению с мутациями вариации оказались гораздо более мощным генератором наследственных изменений, а главное — обнаружилось, что они очень чувствительны к воздействиям среды и в случае устойчивого повторения последних в течение более пяти-семи поколений переходят в наследственные изменения (мутации) ОК. Получается, что изменения ФК, или вариации, являющиеся выражением динамической формы организации генетической памяти, никак не сказываясь на генотипе, а зачастую и фенотипе, наследуются не по законам генетики, а по типу длительных модификаций. Выяснилось, что в реализации вариационной и эпигенетической (основанной на регуляторных генах) наследственности огромную роль играют эпигены, транспозоны и мобильные генетические элементы (МГЭ) (Чураев, 1975; Хесин, 1981, 1984). И что самое интересное — вариационные и эпигенетические изменения как вызываемые обычными факторами среды в отличие от мутаций оказываются определенно направленными и массовыми. Они возникают сразу во множестве географически удаленных популяций и, по-видимому, представляют собой наиболее распространенный тип наследственных изменений, встречающихся в природе (Голубовский, 1978; 2000; Хесин 1980, 1981, 1984).
Приведенные гипотезы обладают уже достаточно высоким научным статусом, обеспеченным солидным множеством совпадающих фактов, в том числе полученных экспериментально. Каждая из них — отдельный кирпич в фундаменте строящегося здания макроэволюции.
Однако наиболее радикальный вклад в альтернативную концепцию внесла, на наш взгляд, гипотеза Ю. П. Алтухова и Ю. Г. Рычкова (1972), отличающаяся классической простотой и стройностью. Этим авторам удалось обосновать существование качественного различия между видообразованием как собственно эволюцией и адаптивной внутривидовой дифференцировкой.
Сопоставив внутри- и межвидовую изменчивость белков различного типа, используемых в качестве генетических маркеров, Алтухов и Рычков установили двойственность в структурно-функциональной организации генома высших (эукариотных) организмов. Существуют две группы генных локусов, одна из которых кодирует полиморфные белки, ответственные за весь огромный внутривидовой полиморфизм, другая — мономорфные, инвариантные белки, обусловливающие отсутствие соответствующей изменчивости наследственных признаков во всех подразделениях вида и во всем его ареале. Мономорфной частью генома, поскольку она не дает изменчивости и, значит, недоступна для изучения, до недавнего времени никто не интересовался. А между тем на ее долю, по данным этих авторов, приходится от ½ до ⅔ объема генома. Оказалось, что именно ею определяется система генетически мономорфных признаков, которые отражают наличие кардинальных жизненных функций, свойственных только данному виду как уникальному образованию. Иными словами, мономорфные признаки — это видовые признаки, отличающиеся в силу своей особой жизненной важности высокой консервативностью. В свете данного открытия реабилитируется старый типологический взгляд, по которому вид — это совокупность особей, тождественных некоему типу, и любая особь, взятая из любой его популяции, характеризует собой вид в полном объеме его признаков. Только существенная реорганизация мономорфной части генома, происходящая в редких случаях, может быть причиной возникновения новых видов.
Новый вид, как в концепциях Гольдшмидта и де Фриза, рождается скачком в результате различного рода системных мутаций, дупликаций генов и полиллоидизации (как у Оно). Во всяком случае, подчеркивают Алтухов и Рычков, видообразование — продукт качественно иных реорганизаций генетического материала, нежели мутации, лежащие в основе полиморфизма.
Двойственность в организации генетического материала влечет за собой и неоднородность самого эволюционного процесса, в котором за актом видообразования следует период длительной стабильности видов. Это следствие совпадает с основным положением пунктуализма.
Гипотеза Алтухова и Рычкова получила солидное подтверждение. Независимо от этих авторов практически идентичные представления развил американский генетик X. Карсон (Carson, 1975), назвавший соответствующие генетические системы изменчивости «открытой» и «закрытой». Особенно показательно, что новую модель видообразования принял Райт (Wright, 1980), а Дж. Пауэллу (Powell, 1978)[11] даже удалось ее подтвердить экспериментально.
В 1980-х годах Л. И. Корочкин (1984) и Т. И. Герасимова с сотрудниками (1984а, 1984в) высказали предположение, что образование нового вида может быть результатом внезапного перемещения в хромосомах многих нестабильных генов (потенциально мобильных генетических элементов), вызывающих разовую перестройку наследственного аппарата. Благодаря «взрыву» нестабильных генов новый вид возникает одномоментным скачком.
Как нетрудно догадаться, во всех альтернативных гипотезах участие отбора в видообразовательном акте либо полностью отрицается, либо его роль значительно ограничивается.
В качестве общего знаменателя, показывающего альтернативный по отношению к синтетической теории характер данных гипотез, уместно привести следующее соображение Алтухова: генетический полиморфизм популяций — это не материал для действия эволюционных сил, «не свидетельство непрерывно текущей эволюции, а универсальная стратегия природы, обеспечивающая сохранение целостности вида… в нормально флуктуирующей среде» (Алтухов, 1983. С. 194). Подробнее новые гипотезы эволюции будут рассмотрены в последней части книги.
Множественность путей макроэволюции
Если признать, что видообразование — центральное событие макроэволюции, то придется согласиться, что пути формирования высших таксонов зависят от способов видообразования. Таких способов с чисто типологической точки зрения может быть три: I) старый вид превращается в новый, 2) старый вид распадается на два или несколько новых видов и, наконец, 3) новый вид образуется путем слияния двух старых.
При первом способе макроэволюция осуществляется филетически через цепь сменяющих друг друга видов (хроновидов) во времени. Именно так представляли себе макроэволюцию Вааген (1869), а вслед за ним Четвериков, Берг и многие другие эволюционисты, Берг мыслил возникновение нового вида как акт внезапного массового и направленного превращения особей на всем ареале родительского вида. Дальк (Dalcq, 1955) полагал, что видообразование — следствие одномоментного преобразования яйцеклеток у всех самок местной популяции. Такой механизм связан с допущением направленной (определенной) изменчивости и адресует нас к современной дискуссии, начатой неономогенетиками. При этом трудно уклониться от обсуждения возможной периодичности мутирования и ее причин, а эта вновь поднятая проблема (Dobzhansky, 1970; Голубовский и др., 1974; Красилов, 1977) заставляет обратиться к гипотезам этапности макроэволюции. Наконец, большинство сальтационистов (Гольдшмидт, Шиндевольф и их последователи) считают, что новые виды происходят от единичных резко уклоняющихся особей (макромутантов).
В настоящее время стало совершенно ясно, что сколько-нибудь продолжительная, а тем более — состоящая из нескольких хроновидов, филетическая макроэволюция в природе чрезвычайно редка и в чистом виде практически не встречается. Это надо признать вопреки тому факту, что большую часть рядов ископаемых форм палеонтологи относят именно к филетической эволюции. Важнейший аргумент против данного типа эволюционного развития — сохранение видового разнообразия вопреки постоянно идущему вымиранию.
Представители синтетической теории по рассматриваемому вопросу не занимают единой позиции и редко его обсуждают. Хаксли (Huxley, 1942, 1958) придерживался взгляда, что в основе макроэволюции лежит не ветвление, а филетический процесс. Райт пытался доказать, что наиболее быстрые и радикальные преобразования достигаются путем филетической эволюции. Чрезвычайно любопытно, что Симпсон истолковал «квантовую эволюцию» тоже филетически.
Зато Добжанский и Майр должны быть отнесены к числу типичных сторонников второго — «расщепительного» способа видообразования. Он получил название кладистического. Широко известна схема Добжанского, иллюстрирующая расщепление исходного вида на два дочерних путем разделения всей совокупности наличных популяций. Майр назвал эту модель географическим аллопатическим видообразованием и в течение длительного времени считал ее преобладающим способом эволюции.
Под давлением фактов, свидетельствовавших в пользу быстрого и внезапного видообразования, тот же Майр разработал модель, в которой главным действующим лицом выступили периферические изолированные популяции малого размера, совершающие «генетическую революцию». Эта модель была затем положена в основу теории прерывистого равновесия. Наглядно ее сущность можно отразить следующим образом.
Представим себе реку, еще богатую рыбой. Река перегорожена плотиной, в которой все отверстия для стока затянуты сеткой, кроме одного верхнего, снабженного желобом. Основная масса рыбы концентрируется в полноводной части русла, находящейся выше плотины. Теперь представим, что вода в реке внезапно испортилась (аналог перемены условий среды). Рыба ищет спасения, но через желоб вниз по течению (аналог новой адаптивной зоны) может или решается пройти всего какой-нибудь десяток особей (аналог макромутантов). Выживание остальной массы остается проблематичным.
Кто же эти счастливые избранники судьбы? Вероятность того, что каждый из них представляет разные субпопуляции вида, мала. Скорее всего прошедшие через желоб — представители одной, максимум двух популяций, т. е. случайная нерепрезентативная выборка вида. Они несут с собой лишь часть бывшего генофонда. Но в нижнем течении реки, олицетворяющем условия эволюции, они и на основе обедненного генофонда способны образовать два или несколько видов со своей собственной структурой. Таков механизм видообразования у пунктуалистов и у синтетистов в случае использования периферических изолятов. Принципиальных разногласий в его трактовке обоими направлениями нет. Различие состоит лишь в том, что если у Майра это был редкий модус видообразования, то в теории прерывистого равновесия он стал универсальным.
А каков механизм макроэволюции в «прерывистой» модели? В его основу положен межвидовой отбор (в работах пунктуалистов — отбор видов), который из множества нарождающихся видов дарует право на жизнь только одному. Благодаря межвидовому отбору формируются макроэволюционные направления (тренды), а в результате одного или нескольких видообразовательных актов образуются более высокие таксоны.
Альтернативные гипотезы видообразования типа разработанных Алтуховым и Рычковым или Карсоном, во многом сходные с «прерывистой» моделью, возвращают нас к первому способу видообразования, совершающемуся по модели Гольдшмидта. Согласно этим гипотезам новые виды берут начало от одной или немногих особей-основателей. Поскольку видообразование состоит в единовременной качественной реорганизации мономорфной части генома (маркирующей видовые признаки), то репродуктивная изоляция от родительского вида устанавливается, согласно Алтухову и Рычкову, не на протяжении сотен или тысяч лет, а в течение двух поколений[12]. Аддитивная цепочка видообразовательных актов создает макроэволюционный процесс. Авторы гипотезы видят в ней универсальный способ возникновения видов, свойственный как животным, так и растениям, как бисексуальным, так и бесполым организмам.
Вопрос о «расщепительном» (кладистатическом) видообразовании Алтуховым и Рычковым не обсуждается, но их гипотеза вполне совместима с допущением одновременного возникновения нескольких видов.
Наконец, существует третий способ видообразования, названный Н. Н. Воронцовым (1980) симгенезом и известный со времен Линнея. Он состоит в слиянии генотипов особей разных видов. О нем речь пойдет в гл. 10.
Итак, во всех рассмотренных гипотезах, включая модель Майра для периферических изолятов, но исключая его популяционно-генетические представления, подвид не признается зачинающимся видом и микроэволюция не служит основанием макроэволюции. Внутренняя структура вида есть лишь форма его существования, но не этап эволюции. И действительно, в результате нашего анализа мы убедились, что превращение в виды для внутривидовых подразделений отнюдь не является обязательным.
В то же время выяснилось, что, каким бы путем ни совершалось видообразование, новый вид формируется на основе скачкообразного преобразования какой-то части родительского вида. Понятно, что в случае допущения скачка грани между рассмотренными альтернативными теориями стираются и сам вопрос о том, служит ли микроэволюция предпосылкой макроэволюции, утрачивает смысл. В механизм видообразования вносится теперь новый элемент случайности, причем он находит себе место там, где раньше видели закономерный переход количественных изменений в новое качество. На такой случайности (кстати, очень редкой) как раз и строятся теории, эксплуатирующие идею малых периферических изолятов, — гипотеза прерывистого равновесия и соответствующий раздел синтетической теории. В альтернативных гипотезах новый вид возникает тоже в силу случайных мутаций, но сразу затрагивающих видовые признаки, а потому эволюция идет в этом случае как бы по «правилам игры». Соответственно, время перехода случайности в необходимость сокращается до предела: переход перестает быть статистическим процессом и практически становится молниеносным актом.
Можно предполагать, что в природе работают оба механизма. Говоря образным языком, эволюция проявляет себя то как капризная дама, готовая в угоду своим желаниям воспользоваться любыми благоприятными обстоятельствами, то как ревностная монахиня, согласующая свои Поступки со строгими установлениями монастырской жизни. Существует ли в действительности это раздвоение образа и какое начало преобладает — предмет спора и, видимо, еще на долгие годы.
В качестве итога всему сказанному хотелось бы особо подчеркнуть, что вслед за Депере, Хаксли, Тахтаджяном и Татариновым мы принимаем идею множественности путей и способов макроэволюции. Эта множественность зависит от строения генома у разных систематических групп, способности к дупликации генов, к скрещиванию с другими видами, от типа размножения и способа индивидуального развития. Что касается направлений филогенеза, то они определяются закономерностями преобразования онтогенеза, межвидовым отбором, дифференциальной плодовитостью, степенью приспособляемости, наличием свободных адаптивных зон и т. п.
Плюрализм путей развития, все более утверждающийся в науке, находит, таким образом, свое воплощение и в учении о макроэволюции.
Часть III. ИСХОДНЫЕ ТЕЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИОННОЙ МЫСЛИ, ОППОЗИЦИОННЫЕ ДАРВИНИЗМУ
Глава 4. Появление недарвиновских течений
Укоренившийся термин-клише «антидарвинизм», которым обозначают любую эволюционную концепцию, не согласующуюся с классическим и современным дарвинизмом, породил представление, будто они инициированы исключительно оппозицией к каким-то его положениям. Такое представление ошибочно. На самом деле каждое из течений, находящихся за пределами дарвинизма, как будет показано ниже, имеет свои самостоятельные гносеологические, научные, культурно-исторические и субъективно-психологические причины возникновения, питается из разных источников, и вместе они вовсе не образуют единой доктрины. Поэтому правильнее называть их не антидарвинистскими (хотя, как мы видели на примере генетического антидарвинизма начала XX в., есть и такие, которые подобное название вполне оправдывают), а недарвиновскими.
О самостоятельности течений недарвиновской ориентации свидетельствует факт их разновременного возникновения и расцвета, а также отсутствие их концептуальной и хронологической привязки к каким-либо вехам в развитии дарвинизма. Исключение составляет только неоламаркизм, образующий с дарвинизмом антиномическую систему. Но он возник задолго до теории Дарвина.
С одним из оснований для появления теорий, оппозиционных дарвинизму, мы уже познакомились в двух первых главах. Это различного рода возражения научного и методологического характера, выдвинутые разными авторами против отдельных положений теории Дарвина или СТЭ или против этих доктрин в целом. Они были в ряде случаев основаны на фактах других категорий или на иной интерпретации тех же, на основе которых строился дарвинизм.
Многие биологи-эволюционисты были не удовлетворены дарвинизмом, поскольку он не охватывал всей совокупности жизненных явлений. Они ясно видели, что из поля зрения дарвинистов и синтетистов практически выпал ряд фундаментально важных для эволюционной теории вопросов, для решения которых ее как раз и создавали. В их числе необходимо, прежде всего, отметить причины сохранения в историческом развитии системного единства организма, механизмы включения в эволюционный процесс онтогенетических перестроек, неравномерность темпов эволюции, причины макро- и прогрессивной эволюции, крупномасштабные события в эпохи биотических кризисов, проблему вымирания видов. Зато на разработке этих вопросов сосредоточили свое внимание противники дарвинизма, зачастую решавшие их с чисто идеалистических позиций. Например, в последнее время ключевое значение в определении облика эволюционной теории приобрела проблема макроэволюции. Сугубо редукционистская трактовка ее движущих сил представителями синтетической теории натолкнулась на законно растущую критику. Как показал анализ (Назаров, 1984), проблема макроэволюции находилась в фокусе постоянных интересов финализма, номогенеза и сальтационизма, причем вопрос о ее специфичности был впервые поставлен неоламаркистом Э. Колом (1887, 1896), разработан сальтационистами и доведен до состояния логически завершенной модели современными пунктуалистами.
Поэтому в факте появления недарвиновских направлений и концепций не следует усматривать какой-то злонамеренный умысел. Это всего лишь одно из обычных проявлений объективного диалектического процесса научного познания.
Нам представляется, что теперь, когда ряд недарвиновских идей дождались своей естественной реабилитации, когда литература с их критикой безнадежно устарела, настал момент обратиться к беспристрастному изучению недарвиновских концепций, дать их объективную оценку в свете последних достижений биологических наук и извлечь из них все рациональное для построения новой модели эволюции.
Решить эти задачи возможно лишь при анализе всего исторического пути, через который прошли эти концепции. В предисловии уже говорилось, что необходимость такого подхода связана в первую очередь с глубокой историчностью уже самих эволюционно-биологических понятий, с сохранением преемственности в их развитии, с тем, что многие из них пустили прочные корни в сфере мировоззрения и культуры, в отрыве от которых утрачивают свой смысл и значение.
Проанализировав труды многочисленных симпозиумов и конференций, посвященных столетию создания теории Дарвина, Эрнст Майр отметил, что он даже поражается «полному единодушию их участников в объяснении эволюции». Что касается «немногочисленных противников этой теории», то они, по словам Майра, «демонстрируют столь поразительное незнание основ генетики и всей современной литературы, что отвергать их было бы напрасной тратой времени» (Майр, 1968. С. 22).
Однако Майр ошибался в обоих утверждениях. Во-первых, на юбилейные встречи противники дарвинизма скорее всего не приезжали; во-вторых, такие встречи — не лучшее место для антидарвиновских выступлений. Так что отсутствие критики в данном случае объяснялось не тем, что оппоненты сошли со сцены — их, наоборот, становилось все больше — а тем, что они соблюдали элементарный такт. Тех из них, с кем нам еще предстоит познакомиться, никак нельзя упрекнуть в отсталости. Напротив, их преимущество перед защитниками СТЭ как раз состояло в усвоении всего новейшего арсенала биологических и естественно-научных знаний и междисциплинарном мышлении.
Самые революционные события в биологии начались в конце 60-х годов XX в. и продолжали развиваться нарастающими темпами в течение всех 70-х годов. Именно в этот короткий промежуток времени в биохимии, молекулярной биологии, биологии развития, геносистематике, вирусологии, иммунологии, палеоботанике, общей теории систем были сделаны фундаментальные открытия, породившие широкие сомнения в правильности синтетической теории и укрепившие позиции ее противников. Достаточно назвать такие достижения молекулярной генетики, как обнаружение мобильных генетических элементов и горизонтального переноса генов, обратной транскрипции, новых форм изменчивости и неменделевского наследования, открытие мономорфной части генома, создание «подвижной» генетики и пр., чтобы осознать всю глубину произошедших перемен.
С этого момента эволюционная теория вступила в состояние коренной ломки. Дискуссии между апологетами СТЭ и поборниками альтернативных концепций одно время достигли такого накала страстей, что вышли за пределы научной сферы и, проникнув в США в средства массовой информации, стали предметом пристального внимания многомиллионной аудитории. Периодически затихая и разгораясь вновь, они, подобно тлеющему и едва заметному снаружи огню, готовы были в любой момент вспыхнуть пламенем большого пожара. Показательны и растущие ряды самых известных биологов (Гулд, Райт, Воронцов, Красилов, Корочкин, Голубовский и многие другие), выступающих за создание нового эволюционного синтеза. В этих условиях становится как никогда актуальным выявление в научном наследии недарвиновской ориентации всего ценного и плодотворного, что было накоплено за долгие годы его существования.
В истории науки известно достаточно много течений недарвиновской направленности, и они весьма разнородны. Одни из них, например такие, как теория эмерджентной эволюции, холизм или «творческая эволюция» А. Бергсона, давно прекратили свое существование, оставив нам свои принципы. Другие, типа выросших на основе открытий нелинейной термодинамики, хотя и возникли сравнительно недавно, носят слишком общий характер, опираются на небиологические принципы и в силу этого не могут эффективно противостоять дарвинизму.
Ниже мы рассмотрим концептуально наиболее значимые и представительные течения недарвиновского характера, способные внести реальный вклад в формирующуюся модель эволюции.
Сначала обратимся к течениям, зародившимся еще в XIX в. Их по крайней мере три — неоламаркизм, финализм и сальтационизм. Они прошли большой исторический путь и ныне опираются на широкую базу данных. Затем предметом рассмотрения станут еще семь течений, возникших в основном в XX в., причем некоторые — сравнительно недавно. Таковы «космические» гипотезы, неокатастрофизм, симгенез (и симбиогенез), номогенез, теории, связанные с открытием горизонтального переноса информации, нейтральности и прерывистого равновесия.
Несмотря на наличие между отдельными течениями ряда общих моментов, все они вполне независимы друг от друга, имеют собственные истоки и отличительные черты. Самостоятельность этих течений проявляется и в том, что они отвергают в дарвинизме разные положения. Так, со случайным характером изменчивости не согласны представители неоламаркизма и номогенеза; с отрицанием в эволюции целенаправленности и программированности — финализм; с принципом дивергентного формообразования — основатели номогенеза и гипотез регрессивной эволюции; с селекцией преимущественно адаптивных признаков — нейтрализм; с континуально-градуалистической трактовкой эволюции, согласно которой виды и высшие таксоны образуются в результате аккумуляции мелких изменений, — сальтационизм и номогенез; с тем, что направленность эволюции создается отбором, — финализм и номогенез. Что касается принципа отбора, то имеется несколько течений и много концепций, не возражающих против его участия в формообразовании, но отвергающих его трактовку как единственного движущего фактора эволюции. Таковы нейтрализм, пунктуализм, номогенез, гипотезы Шиндеволъфа, Оно, Личкова.
При чтении последующих глав нетрудно будет заметить, что рассматриваемые в них течения выделяются по совокупности принимаемых ими факторов и закономерностей эволюции и одной-двух решающих характеристик и поэтому они далеки от того, чтобы отвечать принципам формальной классификации. По этой же причине самые широкие наложения течений друг на друга (даже в самой сути их содержания) — не исключение, а правило. Может быть, точнее было бы сказать, что один и тот же исследователь может быть одновременно отнесен к нескольким течениям. К примеру, эволюционная концепция Берга предстала как сплав номогенеза с ламаркизмом, сальтационизмом и финализмом, концепция Шиндевольфа вобрала в себя элементы сальтационизма, неокатастрофизма и финализма, а взгляды Спенсера сочетали принципы ламаркизма и дарвинизма. Взгляды Берга и Шиндевольфа в наибольшей мере заслуживают определения антидарвиновских.
Финализм многообразен и в гипотезах своих приверженцев часто предстает не столько как самостоятельное течение, сколько как специфическое вйдение эволюционных феноменов представителями других направлений. Сальтационизм имеет точки соприкосновения с финализмом, симбиогенезом и теорией прерывистого равновесия. Представления о горизонтальном переносе генетической информации — это вообще не направление, а открытие, которое принимается теперь представителями большинства течений недарвиновской направленности.
Некоторые течения являются полными антиподами: все или большинство ключевых характеристик у них различны. Так, абсолютно несовместимы друг с другом неоламаркизм, с одной стороны, и сальтационизм, неокатастрофизм и теория прерывистого равновесия — с другой.
Очень интересно проанализировать в недарвиновских течениях и отдельных концепциях конвергенцию идей. Рассмотрим понимание характера изменчивости. Исключим из сравнения сингенез и симбиогенез, поскольку они описывают формообразование на основе комбинативной изменчивости. Тогда из семи остающихся течений в четырех основным типом изменчивости признаются макромутации, в финализме и нейтрализме старого образца — любые мутации, в номогенезе и неоламаркизме — закономерная (определенная) изменчивость, причем в неоламаркизме — немутационная.
Обратимся к характеру видообразования. Опять-таки исключим симгенез. Из семи течений пять однозначно принимают сальтационный тип видообразования. Наконец, выясним, какого рода причины определяют направленность эволюции. Из восьми течений шесть согласны с первостепенной значимостью внутренних (конституционных) причин, исходный нейтрализм исключает канализирующую роль отбора, а теория прерывистого равновесия, напротив, приписывает эту роль отбору, но перенесенному на уровень видов. Отметим, что, высказываясь в пользу примата внутренних причин, шесть течений (включая неоламаркизм) не отвергают полностью значения отбора в эволюции, но отводят ему роль вторичного или вспомогательного фактора. Многие представители неоламаркизма и финализма относили к внутренним причинам факторы психической природы (сознание). Заметим также, что даже в случаях, когда импульсом к изменению видов служат чисто внешние причины (как в неокатастрофизме и частично в сальтационизме), признается, что направленность филогенеза создается включением конституционных механизмов организма.
Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о достаточно значимом уровне совпадения ключевых характеристик недарвиновских течений и концепций. Как нам представляется, этот факт, относящийся к сфере познания, вполне аналогичен факту совпадения эмпирических научных данных, соответствующих природным явлениям, и может наряду с попперовским принципом фальсификации выполнять верификационную функцию и служить критерием истинности теории. Хотелось бы в этой связи обратить особое внимание на то, что к сходным выводам в рассматриваемом нами вопросе приходят не просто разные авторы, а приверженцы разных идейно-теоретических направлений, следующих совершенно различными путями познания.
Ознакомившись с отдельными направлениями недарвиновского эволюционизма, мы увидим конкретные плоды этой удивительной конвергенции идей. А пока запомним, что она касается самых ключевых моментов — изменчивости, характера видообразования и причин направленности эволюции.
Глава 5. Неоламаркизм
Это течение эволюционной мысли и по времени своего возникновения, и по той роли, которую оно сыграло в истории борьбы эволюционных идей, должно быть поставлено на первое место. Само название «неоламаркизм» ввел в научный обиход американский палеонтолог А. Пакард (1888). Им охватывается совокупность весьма разнородных эволюционных концепций, но имеющих общий источник — эволюционное учение Ламарка.
Наивно было бы ожидать, чтобы по прошествии более полувека учение Ламарка могло возродиться в исконном виде. Прогресс биологии заставил навсегда отказаться от веры в самопроизвольное зарождение, от флюидов, от отрицания фактов вымирания видов, от формообразующего действия волевых усилий и многих других наивных суждений Ламарка. Все эволюционисты, кого стали называть неоламаркистами, в той или иной мере отклонились и от основных его постулатов, и многие — очень значительно. В ряде теорий были развиты или. модернизированы отдельные стороны доктрины Ламарка (или несколько его положений в том или ином сочетании с новыми идеями), и они дали начало автономным направлениям проламарковской ориентации. Однако в большинстве новых концепций можно обнаружить по крайней мере два постулата, соответствующих законам Ламарка: признание адекватной изменчивости, возникающей под непосредственным или косвенным влиянием среды и создающей приспособление, и унаследование приобретенных в индивидуальной жизни признаков. Общей отличительной чертой неоламаркизма является либо полное отрицание какой-либо эволюционной роли естественного отбора, либо рассмотрение его как вспомогательного инструмента. Неоламаркизм занял принципиально отличные от дарвинизма позиции по таким кардинальным вопросам, как объект, материал, движущие силы и направленность эволюции.
Потомство сполна «отомстило» современникам Ламарка за его непризнание. С того момента как Дарвин вызволил имя ученого из тени забвения, благодарные потомки вдруг оценили идеи Ламарка и вознесли их на вершину научного Олимпа. История повелела, чтобы имена этих двух гениев, по идее антиподов и соперников, отныне всегда были рядом.
Посмертная известность и слава Ламарка восторжествовали во всем мире. Во Франции, дольше всего сопротивлявшейся идее эволюции, ее победа в конце 70-х годов XIX в. закономерно была воспринята как торжество ламаркизма. Этому способствовали обостренное чувство национального самосознания, приоритет в создании первого эволюционного учения, удаленность большинства французских биологов от запросов сельскохозяйственного производства, большая терпимость к ламаркизму, нежели дарвинизму, позитивная методология Конта (ее приверженность к наблюдениям и умозаключениям, отвечающим требованиям «здравого смысла»).
Первыми, кто вспомнил Ламарка и его учение, были Анри Лaказ-Дютье (1866) и Эрнст Геккель (1863). В 1865 г. Лаказ-Дютье был избран профессором той же кафедры в Национальном музее естественной истории, которую в свое время возглавлял Ламарк. Занимаясь подготовкой публикации по истории этой кафедры, Лаказ-Дютье был вынужден ознакомиться с жизнью и трудами Ламарка, Следует отдать должное этому крупному ученому-зоологу. Будучи далеким от эволюционных представлений, он счел необходимым совершенно объективно изложить эволюционные взгляды Ламарка во вступительной лекции того же года, а в следующем году — опубликовать о Ламарке отдельную книгу (Lacaze — Duthiers, 1866). С его легкой руки о Ламарке скоро стали писать многие другие авторы — появились книги уже знакомого нам Катрфажа (1870), Мартэна (1873), Кадоде Кервиля (1883), Ланессана (1883), Дюваля (1889) и др. В короткое время Ламарк был поднят на пьедестал, а его учение стало предметом национальной гордости и восхищения.
Однако главными зачинателями неоламаркизма чаще всего считают английского философа и социолога Герберта Спенсера и американского палеонтолога Эдуарда Копа. Их оригинальные труды (Спенсер, 1870, 1894; Spencer, 1896; Соре, 1868, 1896) и пропаганда идей неоламаркистского содержания более всего способствовали упрочению нового течения в мировом масштабе.
В неоламаркизме традиционно выделяют три главных направления — механо-, орто- и психоламаркизм. Мы рассмотрим каждое из них отдельно.
Основателем механоламаркизма, самого представительного и широко распространенного направления, является опять-таки Спенсер. В Германии из числа наиболее известных эволюционистов его представлял Теодор Эймер, а во Франции к нему принадлежали почти все неоламаркисты во главе с Альфредом Жиаром.
Механоламаркисты игнорировали ведущую идею Ламарка о главенстве в эволюции внутреннего стремления организмов к совершенствованию, об их поведенческой активности во взаимоотношениях с окружающей средой, В отличие от Ламарка они всецело подчинили организм внешним условиям и сделали последние главными факторами эволюционного развития (эктогенез). Взаимоотношения с внешними условиями трактовались по Ламарку: соответствие этим условиям может достигаться либо путем прямого приспособления, либо в результате функциональной деятельности организма (т. е. через «упражнение и неупражнение органов») и унаследования приобретенных признаков.
Подтверждение такому механизму эволюции видели в многочисленных наблюдениях и экспериментах, в которых исследователи имели дело преимущественно с адаптивными модификациями. Последние воспринимались как первичное эволюционное явление. К такого рода экспериментам относились прежде всего работы морфологов растений, проведенные под руководством знаменитого французского ботаника Гастона Боннье. Выращивая растения в специально выбранных естественных условиях, Боннье и его сотрудники отмечали высокую степень изменчивости морфофизиологической организации растений, причем чаще всего она носила приспособительный характер.
Рис. 5. Общий вид одуванчика Taraxacum Dens-Leonis: Р — выращен на равнине; М — выращен в горах; М’ — тот же одуванчик в натуральную величину (из: Bonnier, 1894].
Конкретно Боннье исследовал влияние на растения высокогорного климата. Эксперименты проводились на 203 видах растений, начиная с обычного одуванчика и кончая плодовыми культурами.
Опытные участки были заложены в Парижском ботаническом саду и в Альпах и Пиренеях на высоте 2000 м над уровнем моря. 123 вида, не выдержав суровых высокогорных условий, погибли, а у 80 выживших общий габитус и целый ряд морфологических признаков изменились до неузнаваемости. Под прямым воздействием необычных условий у растений сильно сократились или вовсе исчезли междоузлия, они стали бесстебельными, карликовыми, напоминающими подорожник розеткой прижатых к земле листьев. У них развился мощный, тоже сильно укороченный корень, сократилось число цветков, но они стали крупнее и ярче окрашенными. Различия между индивидами одного и того же вида, выросшими в Париже и в горах, были настолько резкими, что, не зная условий опыта, их трудно было признать за растения одного вида. Во многие учебники вошел рисунок Боннье (рис. 5), демонстрирующий различия между долинной и горной формами обыкновенного одуванчика. Этот пример аналогичен тому, что наблюдал Ламарк у водного лютика (Bonnier, 1894; см. также: Костантэн, 1908).
К числу наиболее показательных свидетельств справедливости механоламаркизма принадлежали также, с точки зрения его лидеров, опыты и наблюдения Г. Кутаня (1894–1895) на моллюсках, В. И. Шманкевича (1875) — на рачках родов Artemia и Brachipus, М. Штандфуса и Э. Фишера (1901–1911) — на бабочках родов Araschnia (Vanessa) и Arctia, ставших излюбленными объектами неоламаркистов, и многих других.
После исторического выступления А. Вейсмана (1883) против возможности наследования приобретенных признаков и афористического возражения ему Г. Спенсера — «или существует наследственность приобретенных признаков, или не существует эволюции» — многие механоламаркисты принялись усиленно экспериментировать. В опытах того же Кутаня (Coutagne, 1903), но теперь уже на шелковичном черве, Ф. Уссе (1907) — на курах и особенно Ш. Броун-Секара (1869–1882) — на морских свинках, выполненных еще до выступления Вейсмана, на этот «вечный» вопрос были получены положительные ответы.
Борьба вокруг проблемы наследования приобретенных признаков, с тех пор как она приняла первоначальную остроту почти 120 лет назад и превратилась в одну из центральных в эволюционной теории, вкупе с неотделимым от нее тезисом об адекватной изменчивости, стала причиной множества трагических событий, тяжелых баталий и перипетий, а в бывшем Советском Союзе стоила жизни сотням биологов. Проблема такого наследования — это птица феникс, но не единожды сожженная и воскресшая. Новейшая генетика дает ей теперь законные права на положительное решение, и такое решение скорее всего уже необратимо. Специально речь об этом пойдет в гл. 14 и 16.
Вернемся, однако, в XIX в. и рассмотрим вкратце эволюционные представления типичных представителей механоламаркизма.
Альфред Жиар — основатель и патриарх французской школы неоламаркизма, первый глава созданной в Сорбонне в 1888 г. кафедры эволюции организованных существ. Именно с этим событием можно связать победу эволюционизма над креационизмом во Франции (см.: Назаров, 1974).
Причину эволюции и ее важнейшую движущую силу Жиар (Giard, 1889) видит во внешней среде, с которой организм находится в самом тесном «динамическом равновесии». К числу ее главных факторов, именуемых первичными, он относит космические (климат, состав почвы и воды, механическое состояние среды, ветер, движение вод и т. д.) и биотические (пиша, наличие паразитов, симбиоз и пр.) условия, а также этологические реакции на эти условия, выражающиеся в приспособлении, явлениях конвергенции, защитного сходства, мимикрии и др.
Альфред Жиар (1846–1908).
Названным факторам, изучение которых составляет предмет ламаркизма, Жиар придает первостепенное значение в эволюции не только как единственным причинам изменчивости, но и как силам, достаточным для того, чтобы обеспечить прогрессивное формообразование. Он пишет, что «постоянство или периодичность действия первичного фактора, например изменения среды, есть необходимые и достаточные условия для возникновения разновидности или вида без участия какого бы то ни было вторичного фактора» (Giard, 1904. Р. 121), При этом Жиар, отмечая, что Дарвин не отрицал эволюционного значения данных факторов, упрекает его в недостаточном к ним внимании, в недооценке природы условий в возникновении изменчивости и, наоборот, в переоценке природы организма.
Признавая адекватный характер изменчивости, вытекающий из предполагаемой «точной причинной связи» между первичными факторами и вызываемыми ими изменениями, Жиар считает, однако, что одна изменчивость не в состоянии создать новую форму без аккумулирующего действия наследственности. Последняя, хотя формально и включена автором в число вторичных факторов, занимает самостоятельное место. Она трактуется чисто механистически, в соответствии с эктогенетическим пониманием эволюционного процесса. «Что же такое наследственность, — пишет Жиар, — если не повторение в определенный момент физико-химических и механических условий, идентичных с теми, которые определили у родителей морфологическое и физиологическое состояние, подобное тому, которое проявляется в данный момент у потомства?» (op. cit., р. 147). И далее отмечает: «Наследственность, собственно, не есть… ни первичный, ни вторичный фактор. Это интеграл, сумма бесконечно малых изменений, произведенных первичными факторами на каждое предшествующее поколение» (op. cit., р. 153). Получается, что природа живого организма — это простое отражение совокупности условий внешней среды.
Принцип наследования приобретенных признаков принимается Жиаром во всей полноте и представляется ему необходимым условием эволюции. Подтверждение ему Жиар находит в результатах уже упомянутых опытов Броун-Секара, экспериментах А. Лундстрема по так называемому наследственному галлообразован ию (этот исследователь якобы доказал, что деформация листьев липы клещами воспроизводится и при изоляции деревьев от этих членистоногих), по вегетативной «гибридизации» растений, а также в явлении телегонии. Более поздними исследованиями других авторов было установлено, что все перечисленные факты прямого отношения к наследственности не имеют.
Наряду с первичными факторами Жиар признает эволюционное значение и вторичных факторов, к которым относит жизненную конкуренцию, естественный и половой отбор, различные формы изоляции, гибридизацию и т. п. Из них наиболее важным Жиар считает естественный отбор (рис. 6).
Роль естественного отбора, по Жиару, очень эффективна в ускорении эволюционного процесса. В этом случае он действует путем усиления первоначального импульса внешней среды и устранения неудачных индивидов. В создании новых форм и их тонком приспособлении к условиям местообитания отбор, однако, непосредственного участия не принимает. «Отбор ничего не создает: выбирать — не значит творить, но благодаря уничтожению менее приспособленных отбор оказывается замечательным механизмом, фиксирующим то, что полезно. Он сохраняет завоевания предков» (Giard, 1907. Р. 453).
Рис. 6. Факторы эволюции (Жиар. 1904).
Как все неоламаркисты, Жиар отказывается видеть в отборе нечто большее, чем простой сортирующий механизм. Вместе с остальными вторичными факторами он сравнивает его с призмой, разделяющей световой поток на лучи разного цвета, и с гранью кристалла, пропускающей только поляризованные лучи. Жиар неоднократно протестовал против преувеличения роли того или иного вторичного фактора, к чему были склонны неодарвинисты Вейсман, Уоллес, Ромене, М. Вагнер, и считал неоправданным слишком большое внимание к их изучению. Вместо этого он призывал к углубленному исследованию влияния первичных факторов, мечтая о создании специального института по проблемам эволюции и постановке длительных (более продолжительности человеческой жизни) и дорогостоящих опытов по изучению последствий усиленного и ослабленного упражнения органов.
Впрочем, намерение исключить вторичные факторы из числа творческих причин эволюции у Жиара в ряде конкретных случаев не выполняется, и это отличает его от других механоламаркистов и собственных последователей. Иногда он допускает участие отбора в определении направленности отдельных филогенетических линий и в выработке самого приспособления. Он готов даже признать значение естественного отбора в материалистическом объяснении органической целесообразности и «изгнании дуалистической мысли о конечных целях в отношениях живых организмов между собой и к окружающей среде». В другом месте Жиар говорит: «Это будет означать и хвалу Дарвину, показавшему, как… первичное действие среды усиливается естественным отбором, смысл которого, в сущности, неотделим от понятия адаптации, где действие отбора определяется ее пределами» (Giard, 1904. Р. 159). Отмечая трудности в изучении причин эволюции, Жиар пишет, что далеко не всегда можно установить, что в образовании нового вида или разновидности связано с действием первичных и что — с действием вторичных факторов. Он указывает, в частности, на бабочку Vanessa (Araschnia) levanaprorsa, имеющую две сезонные генерации, которые отличаются морфологически. Причина ее диморфизма — исключительно температурный фактор, что доказывается опытным превращением одной формы в другую. Если бы формы levana и prorsa в природе были пространственно разграничены, их возникновение можно было бы приписать вмешательству вторичного фактора. Жиар приводит также примеры совместного действия первичных и вторичных факторов на некоторые виды креветок и мух, различающиеся только по яйцам или личинкам и обладающие совершенно сходными морфологическими признаками во взрослом состоянии. Все это идет вразрез с основной идеей ученого о приспособительном характере непосредственных реакций организмов на внешнюю среду. Таким образом, эволюционная концепция Жиара, будучи по своему существу механоламаркистской, включала в себя и известную долю дарвинизма.
Герберт Спенсер пришел в биологию от философии. Его взгляды на биологическую эволюцию, сложившиеся в середине 60-х годов XIX в., вытекали из общего представления о развитии как движении к состоянию равновесия, которое, однако, никогда не может быть достигнуто.
Согласно взглядам Спенсера, организм представляет собой «агрегат частей, называемых органами», которые находятся в состоянии подвижного равновесия между собой и в отношениях с внешней средой. Сама жизнь — это «беспрерывное приспособление внутренних отношений к отношениям внешним» (Спенсер, 1870. С. 257–258). Функции органов устроены так, что уравновешивают действие на организм внешних сил. Но последние все время изменяются и если не разрушают равновесие, достигнутое между организмом и средой, обрекая организм на смерть, то порождают в нем «неуравновешенную силу», которая способна изменить функции и строение его органов и восстановить утраченное равновесие. Отсюда можно заключить, что Спенсер видит сущность эволюции в наследственных изменениях организмов, вызванных условиями среды и направленных на уравновешивание с новыми условиями. Равновесие всегда относительно, ибо изменения не поспевают за переменами среды.
Герберт Спенсер (1820-1903).
Уравновешивание носит адаптивный характер и осуществляется двумя способами — непосредственно и косвенно. При непосредственном уравновешивании организм изменяется под прямым воздействием факторов среды (космических, геологических, климатических условий, взаимодействия с другими организмами), и эти изменения сразу наследуются и передаются следующим поколениям. Наследование приобретенных свойств Спенсер вообще рассматривает в качестве непреложного закона эволюционного развития. У животных изменения происходят через преобразование функций органов.
Мы видим, таким образом, что в этой части своей концепции Спенсер целиком стоял на позициях механоламаркизма. Но он допускал и косвенное уравновешивание, под которым понимал приспособление посредством естественного отбора. Объектами приложения его сил он считал различные пассивные образования животных, выполняющие защитные и опорные функции или служащие средством нападения (панцири, рога, копыта, когти). С помощью естественного отбора Спенсер объяснял также эволюционные изменения плодовитости, численности видов, становление коадаптаций, связанных с размножением. Таким образом, в эволюционных представлениях Спенсера, как и в концепции Жиара, исходный ламаркизм сочетался с частью дарвинизма.
Однако Спенсер сознательно стремился всячески ограничить эволюционное значение отбора. Уже в «Основаниях биологии» (Spencer, 1864; рус. пер. — J 870) он заявил о себе как о стороннике постепенного изменения самих факторов эволюции в ходе исторического развития жизни. К. М. Завадский и Э. И. Колчинский (1977), подробно осветившие этот вопрос, установили, что Спенсер связывал преобразование этих факторов с изменениями абиотических условий, повышением уровня организации живого и его активности, возрастанием видового разнообразия, усложнением биотических отношений и усилением их влияния на эволюционный процесс. Сообразно этим изменениям менялась и значимость естественного отбора. На заре развития органического мира он служил основной движущей силой эволюции. В дальнейшем, однако, по мере снижения плодовитости и численности видов, увеличения продолжительности жизни особи, повышения ее активности, развития заботы о потомстве и т. п. эволюционная роль отбора неуклонно снижалась, и в результате он сохранил известное значение только в эволюции низших организмов. И как считает Спенсер, даже по отношению к ним он оказался крайне неэффективным, о чем свидетельствуют низкие темпы их эволюции.
Напротив, по мере прогрессивной эволюции творческая роль все более переходила к фактору прямого приспособления и наследованию приобретенных признаков, как мы наблюдаем это на примере высших животных.
В 1893 г., полемизируя с Вейсманом, Спенсер выступил со статьей «Недостаточность естественного отбора» (Спенсер, 1894), где с особой силой подчеркнул первостепенную эволюционную роль ламарковских факторов. Одновременно он отметил, что в ходе эволюции естественный отбор превратился в элиминирующий механизм, поддерживающий лишь общую жизнеспособность населения вида и устраняющий нежизнеспособных особей.
Спенсеру принадлежит заслуга в изучении механизмов поддержания равновесия на уровне биотических сообществ.
Перейдем теперь к следующему направлению — ортоламаркизму (от греч. orthos — прямой). Термин ортогенез был введен немецким биологом В. Гааке (Нааке, 1893). Основателем направления многие считают немецкого зоолога Т. Эймера.
Главная отличительная черта ортоламаркизма[13] — постулирование прямолинейного характера эволюции, связанное по преимуществу с внутренними (конституционными) причинами, заложенными в живых организмах (автогенез). Этот постулат непосредственно продолжает идею Ламарка о градации, выражающей неуклонное стремление к повышению уровня организации, к усовершенствованию и прогрессу, не зависящее от влияния окружающей среды. Сторонниками автогенети чес кого понимания направленности эволюции были в основном палеонтологи. Однако к ортоламаркизму следует отнести также немногих эволюционистов, которые более склонны видеть в эволюционных преобразованиях организмов результат непосредственного воздействия внешней Среды (эктогенез), канализуемого внутриорганизменными ограничениями. При этом как автогенетики, так и эктогенетики придерживались убеждения, что направленность эволюции проистекает из направленности сдмой изменчивости, последовательно усиливающейся благодаря механизму наследования новоприобретений без всякого участия естественного отбора. Самыми известными приверженцами ортоламаркизма были, кроме Эймера, К. Негели, Э. Коп, А. Гайетт и Г. Штейнман.
Остановимся сначала на взглядах немецкого зоолога Теодора Эймера, стоящего преимущественно на позициях эктогенеза. Этот ученый признает ведущим фактором эволюции воздействие на организм внешних раздражителей — температуры, влажности, света, пищи и т. п., вызывающих соответствующие целесообразные физические и химические изменения в протоплазме, которые передаются по наследству из поколения в поколение (Eimer, 1888, 1897), Формообразующее действие внешних раздражителей осуществляется через процесс «органического роста», в основе которого лежат те же физико-химические процессы, что и в явлении роста кристаллов.
К своей концепции ортогенеза Эймер пришел индуктивным путем. Он собрал большой материал по изменчивости рисунка крыльев бабочек-листовидок рода Kallima — тех Самых, которые служат классическим примером мимикрии, — и пытался построить по этому признаку эволюционный ряд. В итоге он возвел свою концепцию ортогенеза как «определенно направленного развития» в ранг всеобщего закона эволюции, которому подчиняется филогенез как животных, так и растений (Eimer, 1897. S. 14).
Надо заметить, что даже последовательный эктогенез ввиду допущения им принципа изначальной целесообразности живого не может обойтись без элементов автогенеза в качестве его необходимого дополнения. Поэтому уместен вопрос: достаточно ли для объяснения направленного развития, или, по терминологии Эймера, филогенетического роста, одних внешних факторов? Однозначного ответа на этот вопрос в трудах Эймера нет. Ссылки на аналогию с направленным ростом кристаллов малоубедительны, и, сознавая это, Эймер допускает влияние каких-то внутренних причин, но при этом оговаривает, что совершенно не согласен с той интерпретацией, которую дает этим причинам К. Негели. Эймер отмечает также, что филогенетический рост — это проявление того же единого органического роста, от которого зависит как историческое, так и индивидуальное развитие (Eimer, 1888. S. 24).
В поисках более убедительных причин ортогенеза Эймер приходит к важной идее об ограничивающей и канализующей роли конституционных особенностей организмов как результате предшествующей эволюции. Внутренняя структура организма как бы налагает запрет на разнонаправленное развитие и ограничивает его одним или немногими направлениями.
Допущение Эймером одновременного влияния внешних и внутренних факторов эволюции послужило причиной разноречивых оценок его концепции. Нам представляется, однако, что вопреки всем противоречиям и неясностям в ней явно доминирует роль внешних абиотических агентов. Внутренние имеют подчиненное значение. Такого же понимания его учения придерживались, в частности, Ю. А. Филипченко (1923, 1977) и К. М. Завадский (1973). Как мы увидим ниже, в данной части концепция Эймера полярно отличается от учения Негели.
Действие факторов эволюции, принимаемых Эймером, не ограничивается начальными стадиями эволюции. Это общие факторы как собственно видообразования, так и надвидовой эволюции, или, если можно так сказать в данном случае, факторы «сквозного» эволюционного развития. Об этом достаточно определенно говорит сам Эймер: «Подвиды и виды — это не что иное, как группы форм, стоящие на известных ступенях развития, иными, словами, — на определенных ступенях филетического роста… Это же объяснение применимо, бесспорно, и к родам как группам видов и вообще ко всем подразделениям естественной системы, которые можно обозначить вместе с Негели общим названием “родов в широком смысле” (Sippen). Поэтому в общем было бы даже лучше говорить о происхождении подобных родственных групп, а не о происхождении видов» (Eimer, 1897. S. 19).
О «сквозном» действии эволюционных факторов свидетельствует механизм возникновения видов, который Эймер специально выделяет. Обособление видов, по его мнению, происходит в силу остановки известного числа особей на какой-либо стадии общего филогенетического роста, в то время как остальные особи продолжают дальнейшее эволюционное движение. Такой способ становления видов Эймер назвал генэпистазом, что означает в переводе остановку развития рода (op. cit., S. 21). Генэпистаз не единственный, но главный путь видообразования. Обсуждая эту проблему, Эймер категорически отвергает участие в образовании s видов естественного отбора.
Итак, эволюционная доктрина Эймера, будучи в своей основе эктогенетической, фактически совмещала тезис о воздействии факторов внешней среды с канализующим влиянием организации 3 организмов и опиралась на представление, что обе эти категории причин действуют на всех этапах эволюции — от образования подвидов до возникновения высших таксонов. Хотелось бы особо отметить, что Эймер, по сути, впервые в истории эволюционной идеи обнаружил существование фактора конституционных ограничений и включил его в число механизмов, определяющих направленность филогенетических линий. Этот номогенетический аспект концепции Эймера получил в дальнейшем преимущественное развитие в трудах Вавилова, Берга и их последователей.
В противоположность представлениям Эймера, доктрина его современника немецкого ботаника Карла Негели демонстрирует приверженность автора автогенетической трактовке эволюции. Кроме того, из всех существовавших неоламаркистских концепций (исключая концепцию палеонтолога Штейнмана) она стоит ближе всего к учению Ламарка. Мы обнаруживаем в ней тот же дуализм факторов и форм эволюции, ту же трактовку конституции организмов как сущности, слагающейся из двух категорий признаков.
Отправной точкой концепции Негели служит представление о двух формах совершенства, которые он рекомендует четко разграничивать: «совершенство организации, характеризующееся сложностью строения и дифференцированностью функций», и «совершенство приспособления организмов на каждой ступени организации» (Nageli, 1884. S. 13). «Первое, — пишет Нэгели, — я назвал ввиду отсутствия другого выражения просто совершенством, второе — приспособлением» (ibid.). Совершенство первого типа можно иными словами определить как организационное, обязанное конституционным признакам. В основе его становления и развития лежит «принцип усовершенствования», предложенный Негели еще в 1865 г. Разъясняя его действие, Нэгели пишет: «Этот принцип имеет механическую природу и являет собой закон инерции в области органического развития. Поскольку развитие однажды началось, поскольку оно не может остановиться и вынуждено далее совершаться уже избранным направлением… лучше заменить слово “совершенство” более надежным словом “прогресс” (ibid., S. 12–13). Следовательно, принцип усовершенствования, no представлениям Негели, ведет организацию исключительно по пути прогрессивного развития — по пути ее усложнения. И если бы влияние этого принципа прекратилось и сохранились одни внешние воздействия, все oрганизмы остановились бы на достигнутой к этому моменту ступени организации.
Карл Вильгельм Негели (1817–1891).
Негели однозначно связывает изменение организационных признаков с внутренними причинами, заложенными в строении наследственной субстанции. Он аргументирует это положение, в частности, методом исключения влияния внешних факторов. Последние, — по мнению Негели, способны вызывать лишь обратимые (ненаследственные) приспособительные физиологические изменения, не имеющие отношения к филогенезу как необратимому и направленному процессу.
Совершенно ясно, таким образом, что Негели, как и Ламарк, разделил эволюцию организационных и приспособительных признаков, филогенез и адаптациогенез и связал их с глубоко различными причинами. Его принцип усовершенствования оказался вполне аналогичным градационному процессу Ламарка. Любопытно при этом, что Негели по сравнению с Ламарком даже усилил приоритет имманентного фактора. Он допустил возможность включения в его компетенцию формирования не только видов, но и разновидностей, выразив сомнение, что источником их образования могут служить внешние условия.
В концепции Негели есть, однако, существенное новшество. Это разработанная им умозрительная теория наследственности, согласно которой каждая клетка организма, включая половые, делится на две части — идиоплазму и трофоплазму. Только первая является субстратом наследственной изменчивости, основу которой составляют внутренние необратимые изменения, приводящие к преобразованию организации. Внешние факторы могут затрагивать идиоплазму лишь в соматических клетках, но такие изменения (Негели первым назвал их модификациями) по наследству, как правило, не передаются. Трофоплазма, служащая для питания клеток, напротив, оказывается ареной воздействия средовых факторов и ответственна за всю совокупность приспособительных признаков (подлинные модификации). Изменения этих признаков полностью обратимы и к путям наследственной передачи отношения не имеют.
Идея Ламарка и Негели о существовании у организмов двух категорий признаков в свете данных современной генетики наконец-то перестает быть мишенью для критики и выступает как одно из замечательных пророчеств. Она справедлива без особых поправок на время! Разве что удалось установить между этими категориями более четкую границу. Мы выделяем теперь инвариантные видовые, а стало быть как раз организационные, и полиморфные, т. е. приспособительные, признаки внутривидовых подразделений и вслед за Негели считаем, что последние к эволюции отношения не имеют. Многие воспринимают в наши дни аналогичное открытие генетики как нечто совершенно новое просто потому, что не знают истории. Для тех же, кто ее знает, это хороший повод вспомнить первооткрывателей и отдать должное их гению.
Но закончим наше знакомство с наследственной субстанцией в концепции Негели. По его глубокому убеждению, идиоплазма обладает очень сложным строением и наделена внутренним стремлением ко все большему усложнению. «Филогенетическое развитие, — констатирует Негели, — состоит… в том, что идиоплазма постоянно усложняется под действием внутренних причин…» (ibid., S. 181). В итоге и весь прогресс органического мира — процесс не случайный, а упорядоченный и направленный, идущий сообразно «определенному плану». Веский аргумент в пользу такого взгляда Негели не без основания усматривает в аналогии между филогенезом и онтогенезом. Нам представляется весьма вероятным, что в конечном счете, как это следует из приведенных и многих других высказываний, Негели стремился свести принцип усовершенствования, насколько это возможно, к молекулярно-физиологическим причинам.
В заключение обзора персональных концепций остановимся на многоплановом эволюционном кредо, быть может, одной из самых интересных фигур в неоламаркизме — американского палеонтолога и теоретика этого течения Эдуарда Копа.
Скажем прежде всего, что в учении Копа дуализм факторов эволюции полностью сохраняется, только внутренние, имманентные живому причины, эквивалентные градации Ламарка, он называет «силой роста», или батмизмом. В эволюции реальных групп организмов батмизм проявляется неравномерно, и соответственно, он то ускоряет, то замедляет развитие. Эту неравномерность в проявлении основного жизненного принципа Коп предложил называть законом акцелерации и ретардации. Акцелерация связана с появлением приобретенных в ходе филогенетической истории признаков на все более ранних этапах индивидуального развития. Ретардация выражается в замедлении прибавления и в конечном счете в утрате части таксономических признаков.
По представлениям Копа (Соре, 1887), акцелерация и ретардация — важнейшие механизмы эволюции, определяющие направленность развития филогенетических линий. Они действуют совершенно независимо от естественного отбора и безотносительно к потребностям адаптации. На основе акцелерации совершалась вся прогрессивная эволюция, ретардация же ответственна за регрессивную эволюцию. Для целей нашего анализа Эдуард Коп наиболее существенно, что в эво (1840–1897) люционной концепции Копа идея филогенетической акцелерации приняла своеобразную форму независимого развития родовых и видовых признаков. Их происхождение, по убеждению Копа, совершенно различно и не имеет ничего общего с дарвиновской схемой дивергенции. При этом под родовыми признаками он, как и Негели, понимал признаки конституционные, характерные и для более высоких систематических категорий, а под видовыми — приспособительные, поверхностные.
Эдвард Коп (1840-1897).
Обе категории признаков образуют в филогенезе две непрерывные, но абсолютно независимые друг от друга генеалогические линии. Коль скоро они совмещаются в едином организме, один вид может переходить из одного рода в другой, не утрачивая при этом своих видовых признаков. Образование новых родов происходит скачкообразно: «Превращение родов, — писал Коп, — могло быть быстрым и внезапным, а промежуточные… периоды постоянства могли быть весьма длительными…» (op. cit., Р. 79). Аналогичный процесс превращения признаков лежит, по мнению Копа, и в основе перехода от родов к более высоким систематическим категориям (например, подотрядам и отрядам). В этом случае утрата родовых признаков также необязательна.
В соответствии со своей концепцией Коп допускал, что одна и та же видовая форма могла существовать в последовательно сменявших друг друга родах и в различные геологические эпохи. Более того, могла возникать ситуация, при которой один и тот же вид мог одновременно принадлежать к двум и более родам, не утрачивая при этом своих видовых признаков, В этих несколько курьезных взглядах Копа, по-видимому, своеобразно преломилось влияние закона единства типа Бэра — Дарвина.
Поскольку при прогрессивной эволюции носителями более высокого уровня организации являются признаки систематически более высокой категории, допущение Копом опережающего изменения родового типа означало признание им широкого распространения в живой природе филогенетического ускорения, т. е. формирования признаков нового крупного таксона в рамках предыдущего. К примеру, новое семейство или отряд могли возникнуть, по Копу, путем присоединения нового признака к уже существующим во время эмбрионального развития их представителей. Эта блестящая идея воплотилась в наше время в одном из главных механизмов эволюционного преобразования организации, приложимых к систематическим группам животных и растений любого ранга. Но и в середине XX в. она получила широкое развитие в трудах многих палеонтологов и эволюционных морфологов.
Надо отметить, что если принцип филогенетической акцелерации носил в теоретических построениях Копа умозрительный характер, то представления о специфике механизмов эволюции на видовом и надвидовом уровнях опирались на исследования параллелизмов в формировании структурных особенностей различных групп животных (Соре, 1896). Эти исследования привели Копа к выводу, что развитие филогенетических линий происходит строго направленно и что систематические группы, начиная от родов и выше, образуются из разных корней, т. е. имеют полифилетическое происхождение.
Коп одним из первых высказал предположение, что надвидовые таксоны скорее всего возникают сальтационно и что периоды сальтаций сменяются состояниями устойчивости. Для последователя Ламарка это совершенно удивительное прозрение, если учесть, что неоламаркисты признают исключительно непрерывный и постепенный характер эволюции и сальтационизм им чужд по природе. Зато идею Копа о скачкообразном характере надвидовой эволюции приветствовали идеологи других эволюционных течений, где качественный скачок — нормативное понятие.
В воззрениях Копа есть и еще одна «оппортунистическая» черта. Оба рассмотренных нами направления в неоламаркизме опираются на механистическую трактовку движущих сил эволюции. Коп своим толкованием этих сил явно выходит за рамки и орто- и механоламаркизма и может быть отнесен к третьему направлению — психоламаркизму. Размышляя о причинах батмизма, влекущего живое по пути прогресса, Коп пришел к заключению, что таковыми могут служить только психика, сознание, воздействием которых на косную материю обусловлено само возникновение жизни. Вся прогрессивная эволюция животного мира обязана неуклонному развитию сознания, интеллекта и волевым актам — единственной силе, способной противостоять универсальному процессу деградации и разрушения. О том, так ли это на самом деле, ученые, как известно, продолжают спорить до сих пор. И здесь занимаемая ими позиция скорее определяется приверженностью определенной идеологии, чем данными науки.
Приверженцы психоламаркизма в своих эволюционных разработках опирались на ту сторону учения Ламарка, которая апеллировала к психическим проявлениям активности животных. Основателями и лидерами этого направления, кроме Копа, были немецкие биологи А. Паули, Р. Франсэ, Э. Геринг, а также русский зоолог В. А. Вагнер. В их представлениях волевые «усилия» животных, их психика и память выступили в качестве ведущей и даже единственной причины эволюции. В универсализации фактора сознания они пошли, однако, дальше Ламарка, наделив психическими способностями также растения и каждую клетку живого организма. Многие считали сознание первичным по отношению к жизни.
Психоламаркизм был частью или одной из форм витализма, позиции которого в период кризиса дарвинизма в начале XX в. особенно усилились. В книге, посвященной плачевному положению дарвинизма в современную эпоху, Франсэ, в частности, писал: «Ламаркизм отчасти тождественен с витализмом. Именно к нему относятся воззрения Бунге, Дриша, Кассовитца и Шнейдера [психический витализм]». Франсэ тут же добавлял, что «учение об одушевленности природы [ламаркизм]… впервые выставлено Ламарком» (Франсэ, 1908. С. 103, 104). Подобно другим основателям психоламаркизма, он вообще считал, что эволюция направляется не законами причинности, а свободной волей и «силой суждения», которые только и обладают формативной активностью.
Одним из идейных вождей психоламаркизма был также немецкий физиолог Э. Геринг. Согласно его ключевой идее, память является не только функцией высокоразвитого мозга, но и основным свойством живой материи. Геринг распространил способность нервных клеток к воспроизведению образов на все категории клеток, включая половые. По его мнению, унаследование приобретенных признаков основано на запоминании идиоплазмой раздражений, которые действовали на нее в прошлых поколениях.
Близкие Герингу представления развил французский зоопсихолог Пьер-Жан (Pierre-Jean, 1925). Он наделил одноклеточных и каждую клетку многоклеточных организмов «творческим сознанием», «зачаточной формой человеческой психики». В его представлении любой орган тела создается сознательным усилием его обладателя.
Психоламаркизм получил ощутимую поддержку в лице французского философа Анри Бергсона, создателя концепции «творческой эволюции» (Bergson, 1907; рус. пер, — 1914).
Даже на образованного читателя постсоветского пространства, воспитанного в духе строгого материализма, философия жизни Бергсона способна произвести шокирующее впечатление. Для него мысль о том, что «жизнь — это сознание, пущенное в материю» (там же, с. 163), — ненаучная идея, недостойная обсуждения. Ортодоксальный материалист никогда не согласится, что его идеология — разновидность предвзятой идеи. К примеру, не столь уж уникальные факты возвращения людей к жизни после клинической смерти они воспринимают как «сказку феи для взрослых». Свободный же от предвзятости ум, отталкиваясь от подобных фактов, мог бы задаться вопросом: раз «сила жизни» способна оживить только что умершего, то почему она не могла сделать некогда косную материю живой? Пора перестать открещиваться от нематериальных сил и начать их изучать, как это делают в засекреченных лабораториях.
Анри Бергсон (1859–1941).
Сущностью, основой и одновременно носителем развития и органической эволюции, придающей ей творческий характер, является, по Бергсону, нематериальный «жизненный порыв», отражающий божественную волю. Философ мыслит его как единый и общий «начальный толчок… противоположный физическим процессам». «Вся жизнь от начального толчка, который бросил ее в мир, предстанет перед ней [интуитивной философией] как поднимающийся поток, которому противодействует нисходящее движение материи» (там же, с. 240). Хотя, подобно снопу, жизненный порыв и делится на расходящиеся линии, у него есть первичное направление, он сохраняет в силу инерции единство и цельность начального импульса. Свидетельство тому Бергсон видит в явлениях параллельного развития и конвергенции, не объяснимых с позиции теории Дарвина.
Отвергая дарвинизм, теорию де Фриза, «тезис механизма» Эймера, Бергсон поддерживает психический аспект учения Ламарка, объединяемый идеей стремления живой природы к совершенствованию. Он с удовлетворением отмечает, что «из всех современных форм эволюционной теории неоламаркизм является единственной, которая может допустить внутренний и психологический принцип развития… Остается только выяснить, не следует ли тогда слово усилие брать в более глубоком, еще более психологическом смысле, чем то делает неоламаркизм» (там же, с. 69), И далее: «Мы пытались… установить на ясном примере глаза, что если здесь есть «ортогенезис», то должна привходить причина психологическая. К причине психологического порядка и прибегают некоторые из неоламаркистов. В этом, по нашему мнению, заключается один из прочных пунктов неоламаркизма» (там же, с. 78). В философии Бергсона, таким образом, была предпринята энергичная попытка восстановить старый витализм во всей его полноте.
Чтобы покончить с первоначальными течениями в неоламаркизме, коснемся еще ламаркодарвинизма, сторонники которого, не задумываясь об эклектичности получаемого сплава наук, стремились к примирению двух конкурирующих доктрин. Это представлялось возможным благодаря допущению самим Дарвином прямого приспособления на основе унаследования приобретенных признаков до момента решительного опровержения данных представлений генетикой.
Рассматривая эволюционные взгляды Жиара и Спенсера, мы уже отмечали их благожелательное отношение к участию естественного отбора в эволюции. Упоминалась и гипотеза «совпадающего отбора» Болдуина-Моргана. В первом случае, как в этом нетрудно убедиться, отбор оказывается всего лишь полезным «довеском» к самодостаточной теории.
Истории науки известна, однако, попытка более органичного объединения ламаркизма с дарвинизмом. Она принадлежала французскому биологу, одному из признанных теоретиков неоламаркизма Феликсу Ле Дантеку.
В основу своих теоретических построений Ле Дантек помещал дарвиновский естественный отбор, Он безоговорочно считал, что этот механизм выступает главной причиной адаптации в мире одноклеточных. Пытаясь выяснить механизм адаптивной эволюции многоклеточных, Ле Дантек выдвинул предположение, что клетки последних можно рассматривать как собрание тех же одноклеточных, но находящихся в крайне ограниченной среде и остро конкурирующих друг с другом. Сконструировать эту аналогию ученому помогла идея В. Ру (1881) о «внутреннем отборе», т. е. форме естественного отбора, только перенесенного на взаимоотношения клеток, тканей и частей организма: Благодаря такому отбору, действующему непрерывно, и достигаются, по мнению Ле Дантека, целостность реакции и адаптивный характер происшедшего изменения.
Феликс Ле Дантек (1869–1917).
Разъясняя смысл своей чисто умозрительной гипотезы, Ле Дантек писал, что «координация, составляющая основу живого, является исключительно результатом естественного отбора, действующего в каждый данный момент между гистологическими элементами его тела; она выражается в функциональной ассимиляции, которая укрепляет только полезные органы» (Le Dantec, 1897. P. 463). Ле Дантеку кажется, что, использовав в качестве исходного положения дарвиновский принцип, он пришел к раскрытию внутреннего содержания ламарковского механизма адаптации и тем самым добился главной цели своей научной деятельности — примирения сторонников двух различных концепций. Более того, он приходит к выводу: так как принципы Ламарка «естественно вытекают» из дарвиновских, то «учение Ламарка представляет собой, в сущности ограниченную отрасль дарвинизма» (Le Dantec, 1908. P. 201–202). Время показало, однако, иллюзорность подобного взгляда.
На рубеже XX в. неоламаркизм проник и в Россию. Из известных ученых его идеи разделяли анатом и педагог П. Ф. Лесгафт, а также географ и анархист П. А. Кропоткин. Впоследствии число сторонников неоламаркизма продолжало увеличиваться, и в 1920-е годы между ними и дарвинистами завязались острые дискуссии. Застрельщиками в них выступали биологи-ламаркисты Е. С. Смирнов, Ю. М. Вермель, Б. С. Кузин, М. В. Волоцкой, И. И. Ежиков, врач В. А. Обух. (Отражение этих дискуссий можно найти в «Вестнике Коммунистической академии» за 1927, 1928, 1931 и последующие годы, а также в сборнике «Преформизм или эпигенезис?» за 1926 г.)
Грубой пародией на ламаркодарвинизм была псевдонаучная доктрина Т. Д. Лысенко, монополизировавшая советскую биологию в период 1948–1964 гг. и по горькой иронии судьбы именовавшая себя «творческим дарвинизмом». Представления Лысенко и его единомышленников о наследственности как неделимом свойстве всей клетки, об адекватной изменчивости как результате простой ассимиляции внешних условий и их превращении в наследственную основу организма, о скачкообразном превращении одного существующего вида в другой из «крупинок» протоплазмы первого, о тождественности «вегетативных гибридов» половым и т. п. опирались на априорные натурфилософские рассуждения об обмене веществ, на ложно поставленные опыты при отсутствии генетического контроля и находились в полном отрыве отданных и методов генетики, биохимии и биофизики того времени. Это была атавистическая реверсия к XVIII в.
Расцвет неоламаркизма пришелся на первое десятилетие XX в. С началом второго десятилетия доверие к нему стало неуклонно снижаться. Одновременно менделизм и мутационизм завоевывали все большее число сторонников. Это было связано главным образом с распространением теории зародышевой плазмы Вейсмана, в свете которой наследование приобретенных признаков (НПП) казалось невозможным уже чисто теоретически. Проверка этого постулата опытным путем, на чем настаивали генетики, не давала ему решающего подтверждения.
Надо иметь в виду, что в защите НПП неоламаркисты по сравнению с генетиками находились в менее выгодном положении: в случае, если в эксперименте НПП не подтвердится, у них не останется шанса для его защиты. Генетикам подобная ситуация не угрожает: при положительном исходе проверки они всегда найдут способ его объяснить.
Менее выигрышной была и тактика борьбы неоламаркистов. Вместо того чтобы заботиться об укреплении собственной фактический базы, они на первых порах опирались в основном на критику своих противников. С другой стороны, большинство биологов не соглашались с тем, что механизм эволюции можно открыть в лаборатории, и это делало борьбу двух лагерей достаточно затяжной.
Так или иначе, в 30-е годы XX в. неоламаркизм в целом потерпел поражение, хотя и не исчез полностью. В ряде передовых стран Запада он все же сохранил по одному или по несколько своих авторитетных сторонников. Дольше всего неоламаркизм удерживал позиции во Франции. Еще в 40-е годы он пользовался здесь поддержкой большинства эволюционистов.
Теперь защитники неоламаркизма сознательно стремились к укреплению своих позиций. Для этого они настойчиво овладевали последними достижениями генетики, биохимии, квантовой химии, иммунологии, микробиологии, данными изучения цитоплазматической наследственности и симбиоза. И решение вопроса, как подтвердить дееспособность исповедуемой доктрины, было найдено!
Чтобы понять, как это произошло, нам необходимо проследить «побочную» линию развития исследований в генетике и иммунологии. Лицо генетики определялось, конечно, решающими успехами в изучении ядерного аппарата наследственности, где главная роль принадлежала школе Т. Моргана, но от этого магистрального потока отделялась едва заметная струйка, пробивавшаяся самостоятельным путем[14].
Еще в 1913 г. немецкий протозоолог В. Йоллос начал многолетнее изучение воздействия на наследственность парамеций действия высокой температуры и мышьяка. Ему удалось установить, что у значительной части популяции ответ на эти воздействия был специфически адаптивным, например вырабатывалась устойчивость к мышьяку, причем индуцированные наследственные изменения (кстати, Йоллос назвал их направленными мутациями) передавались потомству в течение сотен поколений уже после прекращения внешних воздействий. Эта первая серия экспериментов на парамециях дала Йоллосу основание высказать предположение, что и в природе естественные факторы среды оказывают на вызываемые ими мутации направляющее воздействие, благодаря чему они складываются в ортогенетический ряд, аналогичный тем, что известны из палеонтологии.
В 1930 г., сменив объект исследований на дрозофилу, он продолжил поиски ортогенетического механизма изменчивости на генном уровне. Их результатом стало заключение, что сублетальные температурные воздействия индуцируют одни и те же фенотипические изменения — вплоть до массового развития бескрылости. Наблюдавшиеся сначала специфические цитоплазматические изменения переходили в длительные модификации (Jollos, 1934).
Исследования Йоллоса не встретили понимания среди генетиков. В 1934 г. он, как и многие другие ученые, эмигрировал из фашистской Германии, и его публикации прекратились.
Со второй половины 1940-х годов облик американской генетики ощутимо изменился. В дополнение к дрозофиле в практику исследований уверенно входил новый модельный объект — микроорганизмы. В их наследственности выявился ряд сторон, не согласовывавшихся с классической концепцией гена. Складывалась особая бактериальная генетика. Многие биологи обратились к изучению загадочной цитоплазматической наследственности.
Пришло время вспомнить работы Йоллоса. Их возобновил и продолжил американский цитогенетик Трейси Соннеборн. Вскоре последовали первые открытия: возможность путем подбора условий осуществления конъюгации между разными линиями парамеций и обнаружение в цитоплазме некоторых особей генетической частицы каппа, делавшей ее носителей способными убивать других особей, ее не имевших. Перед Соннеборном открылась перспектива установления новой системы детерминации и наследования индуцированных внешними агентами признаков на уровне цитоплазмы. Важным рубежом на этом пути стало введение Г. Винклером понятия плазмагена (Winkler, 1924), названного так по аналогии с ядерными генами. В это сборное понятие Соннеборн включил также пластиды, митохондрии, кинетосомы, каппа-частицы и прочие субмикроскопические единицы, локализованные в цитоплазме. Особенно существенным оказался тот факт, что эти автономные от ядерного аппарата образования обладали геноподобными свойствами — способностями к репликации и мутированию.
Эти данные подтвердил другой американский цитогенетик К. Линдгрен (Lindegren, 1946) с женой. Изучая плазмагены (по Линдгрену, цитогены), он установил, что эти цитоплазматические частицы ответственны за ферментативную адаптацию микроорганизмов, а у дрожжей — за неменделевское расщепление. Первоначально цитогены синтезируются в хромосомах, а затем воспроизводятся в цитоплазме в присутствии субстрата, вызывающего адаптацию, уже независимо от ядерного гена. Данные экспериментов указывали на участие цитогенов в регуляции активности хромосомных генов, а возможно, и в дифференциации соматических клеток в онтогенезе.
К аналогичным выводам пришел также французский цитогенетик А. Буавэн (Boivin, 1947), изучавший направленные мутации у бактерий. Это позволило ему высказать гипотезу, по которой цитоплазматические рибонуклеиновые кислоты контролируют у многоклеточных состав цитоплазмы, а у микроорганизмов выступают носителями приобретенных признаков.
Все эти соображения и толкования, касающиеся участия цитоплазматических носителей наследственности в направленных мутациях и фиксации приобретенных признаков, были не более чем гипотезами, и механизм этих феноменов еще предстояло открыть. На помощь пришла иммунология (см.: Аронова, 2000а).
В начале 1940-х годов австралийский иммунолог Фрэнк Макферлейн Бернет (Burnet, 1941) выдвинул предположение, что антитела формируются не путем копирования антигена, как до того времени думами, но синтезируются ферментами, у которых антигены вызывают специфические адаптивные изменения. Эти адаптивные ферменты самореплицируются в антителе и передают ему специфическую информацию при его размножении. Выросшая популяция специфично адаптированных антител обеспечивает более успешную защиту организма при вторичном заражении. Правда, позднее Бернет совместно с Ф. Феннером (Burnet, Fenner, 1949) в новом варианте теории стал утверждать, что антиген вносит свою специфическую информацию в геном, а антитело уже формируется на этой вторичной матрице.
За всеми описанными событиями в цитогенетике и иммунологии внимательно следил французский эмбриолог Поль Вентребер, ревностный поклонник Ламарка. В течение ряда лет в его сознании зрела идея о том, что направленный характер мутаций можно объяснить данными этих наук и рассматривать антитела как аналог генов.
Поль Вентребер (1867–1966).
В 1949 г. Вентребер, будучи уже на 82-м году жизни и давно на пенсии, оставляет на время свой дом на берегу Средиземного моря и выступает в Парижской академии наук с докладом о «химическом ламаркизме», а в возрасте 95 лет выпускает о своей теории большую книгу под характерным названием «Живое — творец своей эволюции» (Wintrebert, 1962). Случай, прямо сказать, неординарный! Он свидетельствовал о силе убежденности этого жизнелюбивого и многоопытного старца в истинности сделанного открытия. Одновременно он показывал, сколь продуктивным может быть свежий нетривиальный подход к обоснованию интуитивной идеи. Рассмотрим оба упомянутых труда Вентребера вместе.
Опыт и широкая осведомленность в большом массиве экспериментально-биологических работ убедили Вентребера в существовании трех категорий мутаций, вызываемых совершенно различными причинами.
Первую категорию составляют мутации, индуцируемые сильными искусственными агентами типа рентгеновских лучей, высокой температуры, токсических веществ и проч. По словам Ветребера, они вызывают «прямое калечение наиболее уязвимых генов и приводят к случайным вариациям». Они носят в целом регрессивный характер и лишены всякого эволюционного значения.
Вторая категория представлена направленными мутациями, которые вызываются естественными воздействиями (например, химическими веществами) и включением чужеродных генов. Вентребер ссылается на эксперименты А. Буавэна, индуцировавшего мутации у бактерий поливом их колоний раствором, содержавшим ДНК других бактерий. В этих экспериментах подопытные бактерии интегрировали эту чужеродную ДНК в свой геном и, соответственно, изменяли свою наследственность. Явление того же порядка происходит при «вегетативной гибридизации». В обоих этих случаях, пишет Вентребер, имеет место не поломка гена, а своего рода «прививка геном», т. е. встраивание чужого генетического материала. Такие явления случаются в кризисных ситуациях, когда приобретение нового гена позволяет организму выжить и адаптироваться к изменившимся условиям. Эта категория мутаций эволюционно гораздо более перспективна.
К третьей категории Вентребер отнес мутации, вызываемые изменением климата. Это та категория наследственной изменчивости, на которую опирается традиционный ламаркизм, т. е. истинно эволюционные мутации.
Вторую и третью категории Вентребер назвал в своей книге, биологическими мутациями. На них строится эволюционный процесс.
Вентребер полностью разделял убеждение Ламарка, что причины изменения и движущие силы эволюции заключены в самих живых организмах, а именно в их жизненно важных функциях. Более того, в таком подходе к проблеме эволюции он видел основную заслугу Ламарка. В этом состоит, собственно, самая основа концепции органицизма, на которую опирается неоламаркизм в целом. Органииизм выдержал все исторические испытания и сейчас располагает прочной базой в физиологии, в науке о поведении и в новой генетике. Он неотделим не только от понимания эволюции, но прежде всего и от понятия самой жизни. Говорить о роли в эволюции активности живого и его целесообразного поведения (а это, если мы вспомним, ведущая идея позднего творчества Майра), отрицая при этом органицизм, — это все равно что учиться правильно писать, но отвергать пользу грамматики.
Признавая всю полноту гносеологической роли генетики, Вентребер в полной мере осознал, что проблема адаптивной изменчивости и передачи по наследству приобретенных признаков перешла теперь «из морфологии в область химии» и требует для своего решения отыскания соответствующих биохимических механизмов (Wintrebert, 1949). Отсюда понятно, почему Вентребер назвал свою теорию «химическим ламаркизмом».
Залогом успеха явился оригинальный подход Вентребера. Ученый уподобил эволюционный механизм процессу выработки иммунитета, т. е. представил его как ответную реакцию организма на вторжение чужеродного вещества. До сих пор многие иммунологи, включая Бернета, опирались в своих исследованиях на принцип эволюции, но Вентребер первым применил обратную процедуру — использовал теорию иммуногенеза для раскрытия эволюционного механизма. При этом логика его рассуждений была ясна: если направленная изменчивость обусловлена генетически, то следует поискать, какая система в организме в первую очередь ответственна за образование новых генов. Сходство процесса адаптации с защитной реакцией иммунной системы определенно указывала именно на эту систему.
Представление об иммунитете издавна связано с существованием антител (ныне их чаще именуют иммуноглобулинами), образующихся в организме позвоночных животных в ответ на проникновение в него чужеродных тел — антигенов. Последние могут быть представлены различными токсинами, болезнетворными микробами, вирусами и даже собственными клетками с измененной поверхностной мембраной. Функция антител состоит в распознании и обезвреживании антигенов. Чтобы антитела могли ее выполнять, организм должен обладать способностью создавать строго специфические антитела, точно соответствующие структуре антигена.
Вентребер предположил, что отправным моментом эволюции служит наступление кризисных условий среды. Такие условия нарушают нормальную работу внутренних органов, и они начинают вырабатывать какие-то вредные вещества, которые воспринимаются организмом как антигены. На появление подобных «антигенов функциональной недостаточности» (теперь их называют стрессорами, а породившую их ситуацию — стрессом) иммунная система. отвечает созданием в лимфоидной системе новых генов — производителей соответствующих антител. Новые гены, встраиваясь в. хромосомы половых клеток, изменяют наследственность вида и прежде всего как-то перестраивают ген, управляющий работой; внутренних органов (фактически тот же механизм лежит в основе позже открытой вирусной трансдукции). Происходит биологическая мутация, направленная на исправление функциональной недостаточности. Таким образом, в отличие от самопроизвольных, ненаправленных мутаций, принимаемых в СТЭ, биологическая мутация у Вентребера — это изначально адаптивное наследственное изменение. Получается, что организм сам активно (но без участия воли) производит свои мутации. И на такого рода мутациях, по Вентреберу, основана адаптивная эволюция.
Вентребер воспринял представление Соннеборна о двойственной природе гена — его способности существовать как в составе ядерного генетического аппарата, так и внутри цитоплазмы — в форме РНК-содержащих плазмагенов. Как эмбриолог, убежденный в организующих свойствах цитоплазмы, Вентребер допускал возможность синтеза в ней новых генов и их «доработки» до соответствия строению антигена. Плазмаген как-то узнает это строение и передает о нем информацию в клеточное ядро, т. е. фиксирует ее наследственно. Ген для Вентребера — всего лишь «продукт, сотворенный живой материей, ее посланник в хромосомах… сохраняемый и используемый, где и когда понадобится» (Wintrebert, 1962. Р. 318).
Представления Вентребера опередили свое время. Они абсолютно не вписывались в центральную догму генетики, не допускавшую самой возможности воздействия цитоплазматических изменений на генотип. Поэтому нет ничего удивительного в том, что идеи Вентребера не встретили понимания среди биологов. Они могли быть восприняты только после устранения абсолютного характера этой догмы.
Всего несколько лет отделяют смерть Вентребера (1966) от открытия РНК-содержащих вирусов, способных осуществлять обратную транскрипцию и встраиваться в геном клетки-хозяина, и 16 лет — от нематричного синтеза, раскрывшего способ образования нового гена в цитоплазме, который так интересовал Вентребера.
В 1971 г. Темин (Temin, 1971) высказал гипотезу, что в экстремальных условиях ретровирусы могут заражать половые клетки, и, внеся в них чужеродную генетическую информацию, превращаться в эндогенную форму, наследуемую совместно с геномом половых клеток. В дальнейшем они становятся неотличимыми от исконных клеточных генов.
В 1982 г. в области иммуногенеза был открыт нематричный синтез ДНК: цитоплазматические ферменты «разрезают» старые гены на части и при «сшивании» нового (кодирующего иммуноглобулин антитела) встраивают между этими частями небольшой фрагмент (он состоит из нескольких нуклеотидных пар), синтезируемый ферментативно, без участия генетической матрицы. В середине 1980-х годов был раскрыт и современный механизм выработки иммунитета, складывающийся из трехэтапного клонирования генов иммуноглобулинов и их высокочастотного направленного мутирования. Вся эта ступенчатая «доработка» гена, как предугадал Вентребер, совершается в цитоплазме.
Наконец, в 1988 г. американский генетик Дж. Кэйрнс экспериментально доказал существование направленного мутагенеза. Указанные открытия способствовали быстрому возрождению ламаркизма (подробно об этом см. в гл. 14).
Итак, концепция Вентребера находилась в русле или предвосхитила несколько будущих фундаментальных открытий: обратную транскрипцию, нематричный синтез ДНК, горизонтальный перенос информации, генетически обоснованное НПП. Идея о существовании направленного мутагенеза обрела прочное экспериментальное обоснование.
Как уже говорилось, Вентребер назвал свою концепцию «химическим ламаркизмом», поскольку в ней были предложены современные биохимические механизмы ламарковской адаптации. По сути, как мы только что видели, Вентребер исходил в ней из физиологических и иммунологических представлений, и, вероятно, его концепцию точнее можно было бы назвать «физиологическим» или «иммунологическим ламаркизмом».
Вентребер был первым, кто привлек иммунологию к решению эволюционных проблем. Он первым уловил логическую возможность сближения учения об эволюции с иммунологией под главенством ламарковской идеи активной адаптации. Это стало возможным благодаря определенным успехам иммунологии и нетрадиционной генетики. Об объективности наметившейся тенденции свидетельствовало появление новых последователей старой доктрины с их новыми гипотезами.
Одним из них стал молодой австралийский иммунолог Эдвард Стил, который сразу заявил о себе публикацией книги о соматическом способе НПГТ (Steele, 1979). Е. А. Аронова (1977), которой мы обязаны знакомству с ее содержанием, отмечает, что Стилу не были известны труды Вентребера и что в поисках ответа, может ли новая генетическая информация возникать в самом организме, он шел самостоятельным путем. При этом, в отличие от Вентребера, он положил в основу своей гипотезы так называемую клонально-селекционную теорию образования антител. Согласно данной теории антитела, формирующиеся в организме в ответ на вторжение чужеродных агентов, выступают в качестве рецепторов, с которыми эти агенты избирательно взаимодействуют. Как только взаимодействие установлено, запускается механизм клональной пролиферации (размножения) клетки антитела, дающий множество клеток, достаточно специфичных к данному антигену. Небольшая часть клеток из возникшего клона в иммунологической реакции не участвует. Она образует самоподдерживающуюся популяцию, ответственную за иммунологическую память, или иммунитет. За пролиферацией следуют этап интенсивных тонковых мутаций в клональных клетках и селекция возникших мутантов. Мутанты с более полной комплементарностью к антигену обретают возможность преимущественного размножения.
Стил предположил, что клональный отбор — универсальный механизм, лежащий в основе работы не только иммунной, но и любой другой системы организма. Так, если в соматической клетке случается мутация, которая может быть полезна в изменившихся условиях среды, то потомки именно этой клетки, согласно гипотезе Стила, будут по преимуществу слагать и поддерживать соответствующую ткань. Стил вообще полагает, что эволюционно значимые мутации происходят в первую очередь в соматических клетках, а клональная селекция обеспечивает их массовое размножение. Это резко повышает вероятность того, что мутантный ген будет захвачен ретровирусами, перенесен в половые клетки и вставлен в их генетический аппарат.
Поначалу реакция на гипотезу Стила была резко критической, но очень скоро за ее публикацией последовал ряд только что отмеченных фундаментальных открытий и экспериментов, которые автоматически ввели ее в «русло времени».
Глава 6. Финализм
Начнем рассмотрение отличительных особенностей финалистического понимания эволюции с хорошо известных примеров.
К. Бэра почти единодушно считают одним из столпов телеологического направления в эволюционизме. По его мнению (Baer, 1873, 1876), современный органический мир, как и Вселенная в целом, есть результат прогрессивного развития, охватывающего всю материю. Во всех живых существах заложено некое «стремление к известной цели», а именно к сохранению вида путем согласования совокупности жизненных процессов, упорядоченности и целенаправленности развития. Эта целенаправленность (Zielstrebigkeit) представляет собой всеобщий закон природы, в силу которого в ней осуществляется неуклонный прогресс — переход от простого к сложному, от менее гармоничного к более гармоничному. Конечной целью развития является возникновение рода человека, призванного взять на себя заботу о духовном прогрессе.
Бэр придерживался убеждения, что стремление к подобным «высшим целям» совершается с «абсолютной необходимостью», которая диаметрально противоположна случайности (Ваег, 1876. Bd. 2. S. 240)[15]. Отсюда понятно, что дарвинизм, не признававший наличия в природе предопределенных целей и выводивший эволюцию из суммирования случайностей, казался Бэру совершенно не выдерживающим критики. Что касается источника целенаправленности развития, то Бэр видел его в едином духовном начале (Творце) — первопричине всех законов природы (Ваег, 1873. S. 119; 1876. Bd. 2. S. 240).
В предыдущей главе мы познакомились с эволюционными взглядами неоламаркистов Эймера, Негели и Копа. Как мы видели, Эймер считал, что эволюционное развитие идет в немногих и — в силу внутренних конституционных ограничений — строго определенных направлениях. Это направленное развитие он назвал (ортогенезом и провозгласил универсальным законом эволюции. Его решающей движущей силой Эймер признал внешние условия, Сознательно противопоставляя свою концепцию дарвинизму, он подчеркивал, что ортогенез совершается безотносительно к пользе его носителей.
В отличие от Эймера, Негели (Nageli, 1884) утверждал, что эволюционный прогресс всецело предопределен «внутренним стремлением к совершенствованию», заложенным в идиоплазме организмов (автогенез), а Коп усматривал причину эволюции в таинственной внутренней «силе батмизма» (Соре, 1887, 1896), зависящей от сознания (витализм).
Однако, несмотря на различия в понимании факторов эволюции, концепции трех авторов роднили общие черты. Разделяя совокупность признаков организмов на организационные и приспособительные и связывая прогрессивную эволюцию только с первыми, они утверждали, что эволюция, подобно индивидуальному развитию, носит программированно-направленный характер.
В представлениях немецкого палеонтолога К. Бойрлена (Beurlen, 1933, 1949) получила наиболее полное воплощение идея цикличности развития филогенетических линий, ранее высказывавшаяся А. Гайэттом (1895), Ш. Депере (1907), Д. Н. Соболевым (1924) и др. Согласно этой идее каждая филогенетическая ветвь, подобно особи, проходит в своем развитии стадии юности, зрелости, старости и наконец умирает, исчерпав запасы заложенных; в ней эволюционных потенций. Старение и вымирание ветви — это столь же нормальное, естественное явление, как старение и смерть индивидуума. Любой таксон, согласно Бойрлену, имеет предельный срок жизни, который не может быть продлен никаким стечением благоприятных условий внешней среды.
Хотя две первые из приведенных эволюционных концепций относятся к XIX в. и именуются соответственно телеогенезом и неоламаркизмом, в них и в концепции Бойрлена заключены основные идеи неофинализма.
Целенаправленность предполагает достижение какого-то определенного рубежа или состояния, выступающего в качестве главной цели процесса развития. Во всех случаях, когда содержание такой цели выходит за рамки потребности адаптации к существующим условиям жизни и превращает ее в некий отдаленный и абстрактный образ, она, очевидно, утрачивает материалистический характер в привычном смысле этого понятия. Теории, постулирующие в качестве главной причины эволюции подобную нематериальную цель, мы и вправе назвать финалистическими.
При указанной трактовке цели и целенаправленности финализм может быть охарактеризован также как такое понимание развития, при котором идеальный результат процесса приобретает свойства причинности, а более позднее по времени выступает как исходное, начальное. Это, пожалуй, основной, исторически первый и наиболее бесспорный критерий финализма.
Однако фикализм может обходиться и без всяких целей. Достаточно строгой направленности развития по одному или немногим определенным каналам, лишь бы она имела единую начальную причину. Чем может обеспечиваться такая направленность при отсутствии внешней цели, если канализирующая функция естественного отбора отрицается? Только наперед заданной внутренней программой, которая вопреки всем внешним стимулам ведет данную эволюционную ветвь по намеченному пути, не давая ей уклониться в сторону. Обычно подобную программу со всей жесткостью, исключающей какие бы то ни было случайности, в финалистических доктринах осуществляют неразгаданные, таинственные внутренние причины.
По-видимому, истинное основание существования программированности эволюции и ее жесткой детерминации почти все финалисты видят в аналогии: по их мнению, историческое развитие любой филогенетической линии совершается по типу онтогенеза.
С этой аналогией связана еще одна отличительная черта финализма — представление об эволюции как растрате изначальных потенций и движении к неизбежному концу. В идеалистических гипотезах так называемой регрессивной эволюции идея растраты выражена с непосредственной прямотой, в прогрессионистских же теориях она принимает вид циклического процесса.
Таким образом, основные критерии, дающие основание относить ту или иную концепцию к финалистической, лежат в области таких параметров эволюционного процесса, как его направленность, движущие силы и характер протекания. Рассмотренные критерии могут, как было показано на примерах, находиться в той или иной концепции порознь, но могут выступать и в сочетании друг с другом.
Наконец, наиболее общим отличительным признаком финализма можно считать наличие в соответствующей теории некоего духовного начала, подчиняющего себе обычные материальные причинные зависимости, происхождение и механизм действия которых причинно не объясняются.
Из сказанного вытекает, что финализм лишен той концептуальной целостности, какой обладают дарвинизм, неоламаркизм или любое другое из рассматриваемых нами течений эволюционной мысли. Это скорее особый способ видения феномена эволюции, основанный на определенной логической модели или архетипе и специфическом категориальном строе мышления. Более того, финализм базируется на предметной основе других эволюционных направлений. Поэтому совершенно закономерно, что мы встречаем среди сторонников финалистической трактовки эволюции представителей неоламаркизма, номогенеза (Берг), сальтационизма (Шиндевольф), генетического антидарвинизма (Бэтсон), организмизма (Вуджер, Уайтхед) и других течений.
Слова «финализм» и «финальность» не включены ни в одно из изданий Большой советской энциклопедии, их нет также ни в философской, ни в других отраслевых энциклопедиях и словарях. Лишь в старом «Словаре иностранных слов» (1964) дается краткое разъяснение, что финализм — это «то же, что телеология». Интересующие нас слова не вошли также ни в Британскую, ни в Американскую энциклопедии. Мы обнаружили их лишь во французской литературе.
Слово «финальность» происходит от латинского «finis», а его употребление восходит к глубокому Средневековью. Оно содержит в себе двоякий смысл, означая и «конечный», и «целевой». В этом звучании, определяемом латинским корнем, термин и вошел в международный научный лексикон. В английском ему соответствует слово «goal» (в меньшей степени «purposiveness»), в немецком — «Ziel», «Finalitat».
В большой французской энциклопедии Ларусса понятие финальности в общей части статьи разъясняется как «существование или природа цели», конечной причины: «Финальность не упраздняет детерминизма; она его включает, требует и присоединяется к нему (Гобло)». В других французских источниках этим термином охватывается широкий круг разнообразных явлений, а его трактовка зачастую различна и даже противоречива.
Ж. Моро, являющийся противником финализма, характеризует его как «философскую позицию, стремящуюся рассматривать любое явление в зависимости от его предначертания, его цели и его конца (fin), как если бы этот конец, предварительно вписанный в процесс наблюдаемого явления, обладал приоритетом перед своей причинностью. Финальность может быть определена как причинная реверсия времени, иначе говоря, как детерминизм наоборот» (Moreau, 1964. P. I). Другой противник финализма Э. Каан определяет финализм исключительно через констатацию целевых зависимостей (Kahane, 1965. Р. 317). Во всех случаях, однако, наличие финальности связывается с обратным течением времени. Поскольку же подобное условие абсурдно, то «согласование с реальным направлением времени, — указывает М. Г. Макаров, — достигается финализмом путем признания мистической природы целевого фактора» (Макаров, 1973. С. 315).
Наиболее обстоятельно содержание понятия финальности и финализма раскрывается во французском «Техническом и критическом словаре по философии», составленном А. Лаландом (Lalande, 1962). В самом общем значении под финальностью в нем понимается «факт стремления к цели; свойство того, что стремится к какой-либо цели; приспособление средств к достижению ими цели». И далее автор пишет, что «финальность… это процесс, примером которого может служить сознательная деятельность человека, мыслящего будущее событие возможным и зависящим от его воли и желания, к осуществлению которых он стремится». Финальность может выражаться в приспособлении частей к целому или частей целого друг к другу. В применении к явлениям природы она означает приспособление тех или иных явлений к будущим условиям, которые не являются факторами этого приспособления и, следовательно, не выступают в роли действующих причин. Приспособление может трактоваться трояко: антропоморфически — как результат сознательной деятельности (например, божественной мудрости); также антропоморфически, но по образцу нашей бессознательной деятельности (таковы, например, представления неовиталистов); наконец, как следствие психической направленности. В последнем случае живые организмы наделяются направленными потребностями, а присущая им финальность, по терминологии Гобло, может быть названа «причинностью потребности» (causality du besoin), или «действием потребности без сознания» (action du besoin sans pensée) (там же, с. 356). Таковы, например, взгляды психоламаркистов.
Финализм включает в себя учение о конечных причинах. Он обычно противопоставляется механицизму (т. е. материализму), ибо применяется для всех случаев, когда отказываются объяснить явления на основе действующих механических причин. Такова характеристика финальности и финализма, данная Лаландом применительно к классическому пониманию этих понятий.
Мы считаем излишним предлагать свою дефиницию данных понятий. Подведем лишь итог уже сказанному. Нам представляется правомерным относить ту или иную концепцию к финализму, если она удовлетворяет хотя бы одному из следующих четырех критериев:
примату целевых нематериальных отношений над реальными каузальными связями (1);
наличию внутренней наперед заданной программы развития, детерминирующей строгую направленность эволюции (2);
уподоблению эволюции онтогенезу и движению к неизбежному финалу (3);
эквифинальности развития (4), речь о которой пойдет ниже.
Коснемся естественно возникающего вопроса о соотношении финализма и телеологии. Специально он, по-видимому, никем еще не ставился. Если же судить по употреблению этих терминов в философской литературе (чаще ими пользуются раздельно, в более редких случаях — в той или иной взаимной связи), то во мнениях по данному вопросу обнаруживается полный разнобой. Одни авторы (Фролов; 1970, 1985; Ермоленко, 1979) видят в финализме особую разновидность телеологии, фиксирующей внимание на достижении процессом конца (финала), другие (Давиташвили, 1966; Макаров, 1974, 1977) считают их синонимами. Нам представляется более правильным рассматривать телеологию как составную часть финализма, несмотря на то что исторически понятие телеологии древнее понятия финализма. Но обратимся к содержанию обоих терминов.
Из приведенной характеристики финализма следует, что в онтологическом плане понятие финальности соответствует понятию «телос» и обе философские системы в известной мере совпадают. Их совпадение совершенно несомненно в той части и в той мере, в каких в рассматриваемом явлении или процессе признается наличие целевого начала, выступающего в роли главного организатора развития. В данном случае два разных термина обозначают, в сущности, один и тот же факт (реальный или воображаемый), и потому мы вправе пользоваться ими как синонимами (так, с одинаковым успехом концепции развития, предложенные Аристотелем или Бэром, можно назвать телеологическими и финалистическими).
Хотя в упоминавшемся обзоре «финализма-диригизма» Давиташвили термин «телеология» и оказывается в подчиненном по отношению к финализму положении, они по содержанию фактически совпадают. Это признает сам Давиташвили, определяя финализм лишь по одному критерию — наличию «сверхъестественной силы… ведущей эволюцию жизни к какой-то предустановленной цели» (Давиташвили, 1966. С. 54).
Однако, как было сказано, современный финализм не ограничивается признанием одних целевых отношений. Его наиболее характерной чертой является, по-видимому, рассмотрение биологического феномена с точки зрения его внутренней запрограммированности и вписанного в его развитие неизбежного конца. В этом смысле типичными для финализма оказываются представления о цикличности и завершенности органической эволюции.
Не менее характерная черта современного финализма идеалистическая трактовка явления эквифинальности, т. е. стремления биологических систем к достижению одного и того же конечного результата при отклонениях в исходных условиях. Эквифинальность, первоначально открытая Г. Дришем в сфере регуляционных процессов эмбриогенеза, в дальнейшем получала ясе более широкое научное обоснование, обогатив свой арсенал новыми фактами, добытыми физиологией, генетикой и этологией.
То обстоятельство, что соответствующие регуляторные механизмы, лежащие в основе эквифинальности, до сих пор не раскрыты, способствует сохранению благодатной почвы для фаталистических толкований.
В свете изложенного нам представляется обоснованный рассматривать новейшие телеологические концепции как составную часть финализма. Но при этом мы не видим необходимости настаивать на соблюдении различий в употреблении названных терминов. Здесь важнее другое обстоятельство. Дело в том, что телеология — слово более древнее. Оно проистекает от древнегреческого слова «телос», что означает «цель», а также «конец», «граница» (совпадение со значением понятия «финальность»), В употреблении указанных двух терминов сложилась поэтому определенная историческая традиция, которой следует придерживаться. Соответствующие старые биологические учения, бытовавшие до XIX в. включительно, было бы целесообразно называть телеологическими, а концепции XX в. — финалистическими.
Исторически телеология и финализм возникли как реакция на неспособность механистического материализма объяснить целесообразный и направленный характер биологических явлений. В XX в. источник трактовки эволюционного процесса в духе финализма следует искать в отказе как от лапласовского детерминизма, казалось окончательно скомпрометировавшего себя в механо-ламаркизме, так и от детерминизма статистического (вероятностного), отталкивающегося от «слепой случайности» и получившего воплощение в доктрине селекционизма. Обе эти системы мыслятся финалистами в одинаковой мере бессильными альтернативами. Вскрытие причин и характера органической эволюции в рамках указанной антиномии, по мнению финалистов, просто невозможно.
Поиск третьего пути для объяснения эволюции, которому разные авторы дают разные названия, и составляет идейное содержание финализма. По выражению замечательного французского историка биологии Ж. Ростана, занимавшего в вопросе о механизме эволюции позицию скептика, мысль биолога вращается вокруг «обманчивой трилеммы: случай — антислучайность — ламаркизм» (Rostand, 1951. Р. 203). Если заменить в этой формулировке ламаркизм на механистический детерминизм, а антислучайность — на финализм, то перед нами предстают основные для западной эволюционной мысли системы враждующих гносеологических принципов.
Следует сказать о наиболее общих методологических ориентирах финализма. Подобно неоламаркизму, финализм всецело опирается на принципы органицизма и организмоцентризма (типологизма), справедливо рассматривая носителем эволюции каждый отдельный индивид. Соответственно, финализмом игнорируется популяционный уровень биологической организации, а вместе с ним также участие в эволюционном процессе случайностных и вероятностных событий. Негативное отношение к случайности в качестве первоосновы эволюции связано в финализме также с неприятием созидательной роли естественного отбора. Эволюционисты, стоящие на позициях финализма, трактуют отбор исключительно как охранительный, консервативный и распределительный фактор второстепенного значения. Отказ от селективной канализации развития побуждает финалистов рассматривать вероятностную интерпретацию эволюционных изменений как синоним индетерминизма.
Финализм опирается на аналогию фило- и онтогенеза и склонен к их отождествлению. Некоторые из его приверженцев считают, что филогенетическому развитию присуща не менее жесткая (но не каузальная) детерминация, чем процессу индивидуального развития. Аналогичный взгляд получает все большее признание и среди эволюционистов бывшего Советского Союза, которые постепенно осознают, что между фило- и онтогенезом гораздо больше сходства, чем различий. В качестве априорного постулата в финализм входит и представление об изначальной целесообразности. Наконец, финализм выступает апологетом абсолютной качественной специфичности биологических объектов и решительно отвергает познавательную роль метода редукции.
Еще в советские времена в финализме признавались некоторые положительные стороны. Его главной эвристической ценностью считали выявление принципиально нового типа связей явлений и причин развития, обусловленных существованием в биологических системах цели или программы развития. На их основе финализм открывал новый прием познания — целевой подход, при котором исследование процесса ведут с точки зрения его конечного результата, исходя из которого ретроспективно выясняют приведшие к нему причины. Но в противовес финализму в рамках господствовавшего диалектического материализма постулировалось существование в природе исключительно объективных целевых зависимостей, реализующихся через материальные связи (телеономия).
В середине XX в. финализм упрочил свои позиции, приобретя опору в активно распространявшихся в то время системноструктурных методах исследования и в информационном подходе. Финализм в целом усвоил понятийный аппарат и язык таких наук, как кибернетика, термодинамика, физиология высшей нервной деятельности, этология и др., и всячески стремился представить свой расцвет как закономерную революцию в строе научного мышления. Идеологи марксистской диалектики в СССР были всерьез обеспокоены, что целевые отношения начинают понемногу переходить из сферы познания в сферу бытия.
Финализм в биологии — это, таким образом, яркий пример междисциплинарного понятия, которое объединяет в себе прежде всего принципы философии, эпистемологии, телеологии, кибернетики как «идеологически нагруженных» дисциплин. По этой причине то или иное решение проблем финализма является важной составляющей мировоззрения и хорошим индикатором степени интеллектуальной свободы общества.
Наглядный тому пример — изменение отношения к финализму в странах бывшего СССР после крушения социалистической системы. Рассмотрев в свое время финалистические концепции в эволюционной теории (Назаров, 1984), мы были вынуждены писать о них в резко критическом ключе. Возвращаясь сейчас к ним снова, мы с удовлетворением меняем оценки на прямо противоположные. Мы не испытываем больше стеснения и не прибегаем к эзоповому языку, говоря, что миром живого управляют непознанные нематериальные силы или что даже есть веши, которые в принципе вообще не могут быть познаны. С возвращением свободы совести и религии, с осознанием неисчерпаемости и безграничности всего сущего ученые, не сговариваясь, приходят дедуктивным путем к пониманию существования над собой и всем сущим власти Верховного Разума точно так же, как все высшие животные совершенно интуитивно ощущают превосходство над собой человека.
Если мы согласимся с этим главным тезисом, то причины неприятия финализма становятся прозрачными. Тогда в значительной мере утрачивают концептуальный смысл весьма многочисленные и порой очень искусно построенные работы бывших советских философов и методологов, видевших в финализме только объект для критики. У нас же отпадает нужда воспроизводить сравнительно недавнюю полемику, теперь уже канувшую в лету. Поэтому мы можем без опасения упустить что-то ценное непосредственно обратиться к биологическому материалу.
Идеи финализма в форме классической телеологии имеют многовековую историю. С их помощью объясняли целесообразность организации живого и всего мироздания задолго до возникновения эволюционного учения. Они берут свое начало в учении Аристотеля о конечных причинах и первичной энтелехии, одушевляющей органические тела. Именно в учении Аристотеля телеологический взгляд на окружающий мир впервые обретает характер законченной системы.
Согласно представлениям Аристотеля, все существующие мертвые и живые тела заключают в себе цель (telox). определяющую их скрытую сущность. В природе ничто не совершается «понапрасну» — без цели. Понятие цели предполагает ответ на вопрос, «ради чего» существует или изменяется данная вещь. В самом общем смысле цель выражается в «стремлении» косной материи к осуществлению себя в той или иной «форме», т. е. становлению вещей такими, какими мы их знаем. Отсюда убеждение Аристотеля в целесообразности природы и всего мирового процесса. Вслед за Платоном Аристотель особенно настаивал на полноте осуществления как переходе потенции в актуальность.
Следует заметить, что в трактовке Аристотеля целевой процесс совершенно четко ограничен. Для него цель представляется предлогом, вырастающим в универсальный телеологический принцип конечности мира.
Коль скоро цель оказывается побудительной силой всякого движения (развития), приводящего к осуществлению, она должна рассматриваться и как его верховная причина — причина всех причин. Аристотель помещает ее на первое место в своей иерархии причин (Аристотель, 1934). Позднее она будет названа средневековыми схоластами конечной (или финальной) причиной — causa finalis.
Но цель, по Аристотелю, действует не непосредственно: конечная причина требует для своего осуществления причины действующей. Последняя представляет собой внешнее побуждение, оказываемое на данное тело, мыслимое как пассивное (Аристотель, 1936. С. 34). Однако вопрос об истинной причине движения Аристотель решает деистически, допуская существование божественного «перводвигателя».
Цель может быть внешней и внутренней. Рассматривая целесообразность биологических процессов, Аристотель усматривает глубокое родство между «произведениями природы» и «произведениями искусства» (т. е. вещами, созданными человеком): и те и другие вызваны к жизни ради известной цели и благодаря одинаковым средствам. Разница между ними, однако, состоит в том, что причина первых заключена в них самих, а вторых — лежит вовне (организм создает себя сам, а произведение искусства создает мастер).
От Аристотеля берут начало идея внутренней цели (причины), действующей в живой природе, и учение об энтелехии, одушевляющей органические тела. Он явился, таким образом, основателем имманентной телеологии, которая вместе с его учением просуществовала в неприкосновенности до Нового времени.
В XIX в. рассмотрение вопросов целесообразности и гармонии в природе приобретало все более предметный характер, а их изучение переходило из сферы натурфилософии в область конкретных биологических исследований.
Кювье конкретизировал проблему телеологии применительно к биологической организации, сформулировав принцип условий существования. По этому принципу существование всего живого обеспечивается, с одной стороны, координацией частей организма в составе единого целого, что соответствовало классическому понятию внутренней телеологии, а с другой — отношениями соответствия организма окружающей среде, что отвечало требованиям внешней телеологии. Обе части единого принципа и оба типа телеологии были слиты воедино.
Телеологический взгляд Кювье на живую природу обнаруживается и в трактовке им взаимоотношений разных форм организмов друг с другом. Хотя Кювье и считал, что каждый биологический вид образует вместе с соответствующей средой замкнутую систему, подчиненную одной конечной цели, разные виды оказываются в то же время взаимно необходимыми — одни как жертвы, другие как хищники или как фактор, сдерживающий размножение.
В учении Ламарка понятие телеологии впервые применяется к проблеме органической эволюции. Оно находит выражение в представлении Ламарка о градации как главном факторе филогенетического прогресса. Хотя условия среды и нарушают правильную градацию, они не выводят организмы за пределы установленного плана строения. В учении Ламарка старая аристотелевская идея приобрела, таким образом, в применении к историческому развитию живой природы совершенно четко выраженное телеологическое содержание. То же толкование распространено Ламарком и на изменчивость, целесообразный характер которой он принимал за аксиому.
Следующий важный этап в уточнении содержания имманентной телеологии связан с немецкой классической философией начала XIX в. Вслед за Кантом, решительно отвергшим причинность, общую для природы и человека, Шеллинг, Шопенгауэр и Гегель окончательно закрепили взгляд на коренное различие целесообразности произведений природы и продуктов человеческой деятельности. В отличие от последних, где известные средства для достижения цели производит внешняя и совершенно им чуждая причина (человек) и, таким образом, она сама, средства и цель оказываются разделенными, в произведениях природы деятельным началом выступает внутренняя причина, которая для достижения цели развивает свою собственную сущность. В природе, следовательно, причина, средства и цель соединены вместе. В ней, как и в любом живом существе, все взаимосвязано — и цель, и средства. Причина природы и жизнедеятельности отдельного организма лежит в них самих и осуществляет свою цель в самой себе. С немецкой классической философией связана, таким образом, идея саморазвития природы — одно из ценнейших завоеваний философской и биологической мысли.
Вся оставшаяся часть XIX в., исключая последнее десятилетие, ничего принципиально нового в телеологическое понимание эволюции не внесла. Такие столпы телеологии, как К. Бэр и А. Годри, лишь олицетворяли силу этой идеи.
Великое открытие немецкого эмбриолога Ганса Дриша положило начало важнейшему и совершенно новому критерию финализма и вместе с тем послужило источником мощного фонтана финалистических идей XX в., в центре которого выше других забила струя виталистического финализма.
В экспериментальных наблюдениях над развитием яиц морских ежей Дришу (Driesch, 1891) удалось установить следующий факт. Искусственно отделяя друг от друга бластомеры, образовавшиеся после первого деления дробления, он отмечал, что, несмотря на эту операцию, из каждого изолированного бластомера развивались не половинчатые, а полноценные личинки. Тот же результат наблюдался и в случае четырех и восьми бластомеров, возникших при последующем дроблении. Из этих экспериментов Дриш сделал в целом правильное заключение, что зародыш представляет собой гармонично-эквипотенциальную систему, все части которой обладают одинаковой потенцией и способны к восстановлению целого.
Тем самым была открыта новая форма целесообразности — способность к достижению конечного результата различными путями и при любых начальных условиях, названная эквифинальностью. Для описания этого реального биологического свойства, механизм реализации которого большей частью остается неясным по сей день, Дришем был предложен целый ряд специальных терминов («проспективная потенция», «проспективное значение» и др.), которые прочно вошли в обиход научной мысли.
В поисках объяснения этого замечательного явления Дриш (Driesch, 1894, 1909) сразу осознал непригодность обычных механистических каузальных моделей и прибег к нематериальному фактору «целостности» — аристотелевской энтелехии, которая незримо присутствует во всяком организме.
В отличие от «жизненной силы» ранних виталистов Дриш наделил энтелехию сверхчувственной и несубстанциональной природой. Он сам называл ее «непознаваемым психическим» началом и отмечал, что «энтелехия всецело отлична от материи и полностью противоположна материальной каузальности» (Driesch, 1921. S. 510).
В понимании Дриша, энтелехия — это сама сущность жизни, основа наследственности и всех прочих свойств живого. Будучи носителем идеи «целое больше суммы частей», энтелехия представляет собой внутреннюю целестремительность, ориентирующую индивидуальное развитие на достижение целостного и гармоничного состояния и целесообразное реагирование на внешние условия.
По Дришу, энтелехия управляет только онтогенезом. Последователи Дриша распространили ее «власть» и на эволюцию. Энтелехия превратилась в единственную силу филогенетического развития, придав последнему характер имманентного финалистического процесса.
Другим источником новых финалистических концепций стала философия «творческой эволюции» Бергсона (1907).
Обзор течений и концепций в финализме XX в. целесообразно начать с гипотезы антислучайности, в которой финализм предстает в форме гносеологически недифференцированной идеи самого общего характера, приемлемой для создателей любых более специальных финалистических концепций и потому оказавшей широкое влияние на биологов, не удовлетворенных детерминизмом с его редукционистскими идеалами.
Авторами этой гипотезы были крупнейший французский зоолог-энциклопедист первой половины XX в. Люсьен Кено, широко известный в мире как первый генетик, подтвердивший законы Менделя на зоологическом материале и открывший явление преадаптации (1901), и швейцарский генетик Эмиль Гийено, зачинатель исследований на дрозофиле в Европе, сторонник идеи тератологической эволюции и один из ревностных борцов с ламаркизмом. Оба ученых прошли сходный путь идейных исканий.
Кено вступил на научное поприще ламаркодарвинистом (1894), но уже через несколько лет навсегда разубедился в эволюционном значении отбора и в противовес разработал теорию преадаптации. Затем в течение 20 лет он с гордостью разделял взгляды только что зародившейся школы менделистов-мутационистов. Но и тут, в конце концов, его ждало разочарование. С этим новейшим генетическим подходом он не нашел ответа на главный, всю жизнь волновавший его вопрос — как возникают типы организации и удивительно целесообразные морфологические структуры.
Люсьен Кено (1861-1951).
Кено обращает все больше внимания на совершенство адаптаций животных и растений, на их тонкие коадаптации, которые постепенно становились его главными аргументами в пользу финал истинности эволюции. Он будет собирать бесчисленные примеры этих приспособлений до конца жизни и делать все более глубокие финалистические выводы. Он отметит со всей убежденностью посвященного, что финальность, наблюдаемая в явлении адаптации, — это «наиболее неоспоримый факт», результат «чистого наблюдения», и назовет ее «финальностью осуществленной» (Cudnot, 1941. Р. 40), или, в вольном переводе, финальностью факта. Поскольку любой орган служит для какой-то цели, всю физиологию можно было бы назвать «наукой о финальности органов». О том, что вся жизнь «пропитана финализмом», свидетельствует и то, что одними и теми же общими словами обозначают орудия и машины человека и напоминающие их структуры у животных и растений, служащие аналогичным целям.
В гл. 3 уже говорилось, что решающую роль в окончательном переходе Кено на позиции финализма сыграло экспериментальное исследование образования мозолистых затвердений на запястье передних конечностей свиньи-бородавочника (Phacochoerus africanus) (рис. 7), выполненное Кено совместно с Р. Антони (Anthony, Cuenot, 1939). Из факта, что мозоль на «коленях», на которые опускается животное, когда выискивает в земле коренья, имеется уже у зародыша, Кено сделал вывод, что первоначально крупная мутация одновременно произвела могучую морду, нужное строение передних конечностей с мозолями и соответствующий инстинкт добывания пиши. В этом чудесном акте возникновения новой адаптации во всем наблюдаемом ее совершенстве крупная мутация — всего лишь орудие главной действующей причины — «зародышевой изобретательности», имманентной всему живому.
Рис. 7. Свинья бородавочник (Phacochoerus).
Интересно, что, даже живя в свободно мыслящей стране, в свой «материальный век» Кено предпочитал избегать упреков в финализме, слишком отягощенном, по его собственному признанию, «провиденциальным смыслом». Поэтому для обозначения своей гипотезы он выбрал более нейтральный термин «антислучайность» (anti-hasard), впрочем совершенно ясно говорящий за себя.
Кено заимствовал этот термин (за неимением лучшего) у английского астрофизика А. Эддингтона (1935), а тот сконструировал его на основе выводов швейцарского математика Ш.-Э. Гийено (1934) об исчезающе малой вероятности случайного возникновения жизни, сделанных из статистических расчетов. Этим понятием впоследствии пользовались П. Леконт дю Ноюи, П. Теар де Шардэн, Ж. -Л. Паро и многие другие. Как указывал Кено, антислучайность для него — временное название и символ «глубокой и неизвестной причины», необходимой для объяснения специфики живого и его эволюции.
Следуя за Шопенгауэром, Дришем и Бергсоном, Кено и Гийено считают антислучайность и зародышевую изобретательность, лежащие в основе финальности, нематериальным фактором психической природы, эквивалентным человеческому сознанию и разуму, а осуществляемые ими изменения — аналогом сознательной человеческой деятельности (Cuénot, 1941, 1944; Guyénot, 1938, 1951). Фактор указанной природы локализован в оплодотворенной яйцеклетке, где преформированы все признаки организма.
По мнению Кено, изобретательность выступает в эволюции и направляющим агентом. В одной из поздних работ он, в частности, писал по этому поводу: «Чтобы понять очевидные намерения, ежеминутно обнаруживаемые организмами, неминуемо приходится допустить, что в природе, кроме действующих причин, составляющих предмет изучения науки, существует направляющий агент метафизического порядка (выделено мной. — В. Н.), ведущий изменения к полезной цели… Его можно назвать ортогенетическим агентом» (Cuénot, 1946. Р. 61–62). Чуть ниже Кено добавляет, что метафизический агент, руководящий ортогенезом, имеет определенную связь с энтелехией Дриша и жизненным порывом Бергсона.
Антислучайность и изобретательность как сущности метафизические представляются Кено практически недоступными научному познанию, но они могут быть схвачены исключительно с помощью чистого разума, помимо всякого чувственного опыта (ор. cit., р. 41, 66–67). Это такая же загадка, как бесконечность времени и пространства или сущность сознания и материи.
Область господства финальности не ограничена, по Кено, онто- и филогенезом, но простирается много дальше. Финальность органов, индивидов и видов может быть «всего лишь частицей еще более высшей финальности». Ибо индивиды погибают уже после того, как «природа приняла огромные предосторожности», чтобы обеспечить сохранение вида; природа допускает и вымирание видов, но опять-таки после того, как благодаря изменчивости и захвату свободных пространств она «надежно позаботилась» об их замене новыми видами. Доводя это рассуждение до логического конца, Кено приходит к заключению, что «конечная и высшая финальность» состоит в сохранении жизни на Земле: «все происходит так, как если бы Природа хотела жизни и ее вечного сохранения» (Cuénot, 1925. Р. 385), «как если бы жизнь имела цель — увековечить себя вопреки космическим изменениям через непрерывную смену фаун и флор» (Cuénot, 1938. Р. 30). Эту мысль поддерживает и Гийено: жизнь давно бы угасла, ибо ее дорога вся «усеяна трупами», не будь она «постоянным изобретением» (Guénot, 1951. Р. 16, 33).
Бажная черта финализма — идея цикличности эволюционного развития. Согласно этой идее любая филогенетическая ветвь, подобно отдельному индивиду, проходит в своем развитии три стадии — юности, зрелости и старости — и затем умирает в результате якобы исчерпания своих эволюционных потенций. Старение и смерть ветви — такой же естественный исход, как старение и смерть индивида. Получается, что любой таксон имеет предельный срок жизни, который не может быть продлен никаким стечением благоприятных обстоятельств. По конечной фазе развития ветви эту концепцию именуют также теорией старения, или филогеронтией.
Идея цикличности была высказана итальянским палеонтологом Дж. Брокки (1814) еще в доэволюционный период развития биологии для объяснения исчезновения биологических родов и видов как альтернатива теории катастроф. Но она не получила особого распространения и еще долгое время после появления теории Дарвина оставалась невостребованной.
Возрождением этой идеи и обретением ею подлинно эволюционного содержания мы обязаны трудам А. Гайэтта (1895), Ш. Депере (1907) и Ф. Ле Дантека (1910). С начала 30-х годов XX в. она получает широкое мировое признание среди финалистически мыслящих биологов. В Советском Союзе теорию цикличности на 10 лет раньше энергично развивали Л. С. Берг и Д. Н. Соболев (Берг, 1922; см.: 1977. С. 135; Соболев, 1924). Последний присвоил трем фазам цикла специальные названия.
Многочисленные сторонники доктрины цикличности, представляющие различные специальности, единодушно настаивают на автогенетической природе движущих сил, лежащих в основе цикла. Им представляется, будто эволюция филогенетической линии следует ортогенетическим путем к определенной цели и будто ею движет какой-то внутренний мистический мотор, который в конце концов, когда будет исчерпана его потенциальная энергия, остановится, как расслабленная пружина.
Вот как рисует общую панораму эволюции жизни на Земле авторитетный немецкий палеонтолог К. Бойрлен (Beurlen, 1933). Его взгляды интересны не только потому, что отражали характерную черту финализма, но и тем, что они впитали современные ему генетические представления и идею изменения факторов самой эволюции.
Примитивные организмы, населявшие Землю в первую фазу эволюции, отличались высокой пластичностью и повышенной способностью приспосабливаться к плавно изменявшимся условиям среды. Это были почти исключительно «чистые фенотипы», реагировавшие на внешние факторы широкими модификациями. Отсутствие сдвигов в окружающей среде в течение относительно длительного времени приводило к повторным фенотипическим реакциям и воспроизводству одних и тех же модификаций, которые постепенно превращались в наследственно закрепленные механизмы развития, — происходила фиксация модификаций. Это означало ослабление способности к дальнейшим модификационным изменениям, а стало быть, утрату первичной лабильности. Организмы становились все более консервативными в свой конституции и теперь уже не могли так легко приспосабливаться к новым переменам в окружающей обстановке.
Одновременно с фиксацией модификаций усиливалась зависимость онтогенеза от генотипа. По словам Бойрлена, развитие сомы при автономизации полового пути все более «механизировалось». Теперь вступал в свои права новый фактор — отставание в развитии половой системы, которая у каждого последующего поколения созревала на более поздней стадии онтогенеза. В результате процессы индивидуального роста и развития удлиняются, увеличивается дефинитивная величина тела, что ведет к гигантизму. Дальнейшие нарушения в половой, а следовательно, и в эндокринной системах приводят к бесплодию и вымиранию вида вследствие «старческого вырождения».
Жизнь бы давно угасла, если бы время от времени в той или иной ветви не возникали неотеническим способом новые юношеские типы с новым комплексом «зачатков», обладающих широкими потенциями дальнейшего развития на основе модификационной изменчивости. Подобные омоложения, или неоморфозы, означают рождение новых филогенетических ветвей, которым суждено повторить описанный путь эволюционных превращений.
Кроме идеи эволюционного цикла в этой гипотетической панораме все перевернуто. Общий путь эволюции всего живого диаметрально противоположен тому, каким его представляет Бойрлен.
Неверно представление, что примитивные организмы почти лишены наследственности и представлены одними фенотипами. Другой убежденный приверженец финализма А. Вандель, с аргументами которого мы будем подробно знакомиться чуть ниже, гораздо ближе к истине, когда пишет, что в бактериях преобладает генотип и их эволюция всецело зависит от мутаций и отбора (Vandel, 1968). Ошибочно само противопоставление фенотипа генотипу. Организмы, стоящие на вершине эволюционной лестницы, не лишены модификаций; напротив, именно у них способность к этому виду изменчивости достигает особой высоты и служит основой широкой индивидуальной приспособляемости. Как свидетельствуют факты, именно в ходе эволюции модификации приобретают все большее значение. И надо сказать, что об этом уже было известно в 30-х годах (Кирпичников, 1935; Лукин, 1936; Шмальгаузен, 1938, 1939).
Сторонники теории цикличности и, соответственно, финализма особенно настаивают на обязательности фазы вымирания как закономерном финале филогенетического развития любой линии. Можно было бы ожидать, что по мере становления СТЭ и распространения ее тезиса о неофаниченном органическом прогрессе вера в теорию цикличности будет подорвана. Однако этого не произошло, и во второй половине XX в. идею этой теории в разных вариантах продолжали разделять как многочисленные последователи финализма, так и представители других направлений. На позициях цикличности, возможно, продолжали молчаливо оставаться и многие палеонтологи бывшего СССР. Зато не скрывал от научного сообщества своих пристрастий к ней такой авторитет, как Б. Л. Личков (1945, 1965). Впрочем, как это ни парадоксально, теории старения и цикличности придерживались и некоторые из главных творцов СТЭ (Rensch, 1947, 1954; Simpson, 1960).
Уже эти внешние показатели отношения к теории свидетельствуют о сложности данной проблемы. Обширный фактический материал, накопленный палеонтологией, является, как известно, «немым» и в зависимости от той или иной его интерпретации может как подтвердить, так и опровергнуть проверяемую гипотезу. Скорее всего здесь нет общего правила: одни группы стареют и вымирают, другие, хотя и очень старые, не вымирают, а некоторые даже процветают, так что проблема, по-видимому, не имеет однозначного решения.
Дарвинисты, однако, стараются убедить, что идея фатального вымирания в конце цикла — идеалистическое заблуждение (Шмальгаузен, 1939а, 19396; Парамонов, 1945, 1978; Майр, 1968, 1970; Dobzhansky, 1975). Будучи непримиримыми противниками предопределенности, они, разумеется, исходили в своих оценках из убеждения, что судьба таксона зависит исключительно от вектора естественного отбора, и резко критиковали теорию цикличности за фазу старения и вымирания. При этом они ссылались на существование ряда очень древних групп («живых ископаемых») и возможность выхода биологических форм из тупика специализации на путь ароморфной (эрогенной) эволюции (Ремане, 1952, 1959; Тахтаджян, 1954; Майр, 1968). Исследовав пути эволюции олигомерных червей к иглокожим, Н. А. Ливанов (1955) показал, что к ароморфозу способны переходить даже формы, вступившие на путь дегенерации. Возможность смены узкой специализации (теломорфоза) алломорфозом, а затем и ароморфозом при выходе на сушу предков наземных позвоночных обосновала Э. И. Воробьева (1977, 1992).
Основным фактором вымирания является с точки зрения дарвинизма появление более сильных конкурентов (см.: Давиташвили, 1969). Но этому соображению противоречат многие факты, в частности совместное существование динозавров и териодонтов на протяжении юры и мела, т. е. не менее 120 млн лет (Татаринов, 1985).
В прямой связи с идеей цикличности стоит также вывод, что в современную нам эпоху прогрессивная эволюция полностью закончилась и что мы являемся свидетелями исключительно процесса видообразования. Этот типичный для финализма вывод часто связывают с появлением человека как апогея эволюции, в организации и способностях которого она якобы достигла своей конечной пели (Vandel, 1949, 1965).
Обратимся теперь к следующей отличительной особенности финализма — родству индивидуального и исторического развития. Ее удобно рассмотреть на примере эволюционной концепции Ванделя как одной из наиболее стройных и последовательных доктрин современного финализма. По многим ведущим положениям она прямо противоположна СТЭ.
Альбер Вандель, профессор Тулузского университета, — одна из центральных фигур французской зоологии XX в. Он был крупнейшим специалистом по мировой фауне подземных местообитаний и на протяжении всей жизни развивал финалистический взгляд на биологическую эволюцию.
Вандель всегда считал, что различия между онто- и филогенезом больше кажущиеся, чем реальные, ибо в обоих случаях перед нами феномен развития, которое осуществляют независимые индивиды. Оба феномена подчиняются одним и тем же законам (Vandel, 1954. P. 341). Поскольку филогенез слагается из «клеточных поколений», Вандель называет его также трансиндивидуальным онтогенезом.
В пользу тождественности онто- и филогенеза Вандель возвел целую систему аргументов. Один из первых — математический закон аллометрического роста (Huxley, Teissier, 1936), устанавливающий определенные соотношения между размерами целого организма и отдельных его частей (органов). Многие авторы подтвердили его приложимость к филогенезу (Симпсон, Херш, Юпе, Форе-Фремье). Вандель подвел под этот закон новый фактический материал, описав многочисленные количественные соотношения признаков у наземных равноногих ракообразных — мокриц рода Porcellio (Vandel, 1951), у пиринейского вида Phymatoniscus tuberculatus (Vandel, 1954), а также развитие коадаптаций (Vandel, 1950). В итоге исследований он пришел к заключению, что факторы аллометрическго роста чувствительных органов всегда действуют в одном направлении и определяют ортогенез филетической эволюции, который может автоматически приводить к гипертелерии (Vandel, 1954).
Альбер Вандель (1894–1980).
К числу общих факторов индивидуального и исторического развития, свидетельствующих об их тесном родстве, Вандель относит действие «формообразовательных» гормонов, а также причины, ведущие к неотении и педоморфозу (Vandel, 1961).
В одной из последних работ (Vandel, 1972) он описал факт поразительного организационного постоянства двух видов мокриц, разобщенных географически после распада Гондваны в начале мелового периода 135–140 млн лет назад. Они различались по единственному мелкому морфологическому признаку. Вандель увидел в этом факте пример «филогенетического преформизма», который, в свою очередь, советские критики взглядов Ванделя (Завадский, Ермоленко, (966) отнесли к разновидности неономогенеза.
Сознавая очевидное различие в жесткости детерминации онто- и филогенеза, Вандель пытался его сгладить своим представлением о снижении в ходе этих процессов роли генетических факторов. Будучи убежден в нерасторжимом единстве генома и цитоплазмы в индивидуальном развитии и их равноправной роли в эволюции, Вандель проявлял закономерный интерес к различным формам внехромосомной наследственной изменчивости и справедливо отмечал, что онтогенез многоклеточных — это не чисто «генетическое, а эпигенетическое явление» (Vandel, 1968. Р. 86).
Совершенно по-современному выглядят представления Ванделя об уменьшении непосредственной роли генов в ходе эволюционного развития и о включении мутаций в сложившуюся организацию, очень напоминающие взгляды И. И. Шмальгаузена и М. М. Камшилова.
Согласно Ванделю, в ходе эволюции от низших форм жизни к высшим действие генетических факторов все более опосредовалось совокупностью регуляторных процессов онтогенеза. «Можно утверждать, — пишет Вандель, — что все мутации у многоклеточных были бы летальными, если бы живое не обладало способностью к авторегуляции…» (Vandel, 1964. Р. 565). Дело дошло до того, что у высших животных ббльшая часть их генома остается неактивной. Онтогенез как следствие многоклеточности позволил им заменить жесткость генетических процессов более гибкими механизмами, допускающими широкие модификации и регуляции. В качестве посредников генов выступают «зоны индукции», а на более поздних этапах филогенеза — эндокринная система и даже психические факторы.
Весьма напоминают взгляды Шмальгаузена и представления Ванделя о включении (ассимиляции) мутаций в сложившуюся организацию. Это включение осуществляется в ходе процессов саморегуляции, когда через изменение онтогенетических корреляций весь организм оказывается перестроенным. Только благодаря этому, отмечает Вандель, бесполезное изменение превращается в полезное. На этом, однако, сходство со Шмальгаузеном кончается, ибо в отличие от последнего Вандель не приемлет в ассимиляции роли отбора.
Таким образом, как в онтогенезе многоклеточных жесткость непосредственной генетической детерминации ослаблена совокупностью регуляторных механизмов, так и в ходе прогрессивной эволюции гены, согласно Ванделю, все более утрачивали свое прямое воздействие на конституцию и свойства организма.
В наши дни после долгого периода, когда онтогенез и филогенез считались совершенно различными процессами, отечественные эволюционисты начинают постепенно преодолевать разрыв между ними.
Авторитетный российский специалист в области генетики развития Л. И. Корочкин скоро уже 10 лет (Korochkin, 1993; Корочкин, 2002) как выступает с аргументацией общности закономерностей индивидуального и исторического развития, основанной на единстве материала наследственности — ДНК. «Едва ли правильно думать, — пишет Корочкин, — что развертывание заключенной в ДНК наследственной информации осуществляется в этих процессах принципиально различными способами… гораздо разумнее и логичнее распространить экспериментально выявленные и доказанные особенности индивидуального развития на вторичные и обусловленные ими эволюционные события, которые сами по себе не поддаются, как правило, точной экспериментальной проверке…» (Корочкин, 2001а. С. 185). И далее Корочкин резонно замечает, что если мы признаем целесообразность онтогенеза, то «отсюда следует предположение о целесообразности и эволюционного процесса…». «Процесс онтогенеза не случаен… Отчего же эволюция должна основываться на случайных мутациях и идти неведомо куда по “ненаправленному” пути? Собственно, посмотрев внимательно на различные эволюционные ряды… поневоле начинаешь подозревать наличие как бы предопределенного генетически, закономерного, “запрограммированного” в самой структуре ДНК (как и в случае индивидуального развития) филогенеза, как бы направленного по некоему “преформированному каналу…”» (Корочкин, 20016, С. 56). Яснее не скажешь! Корочкин отмечает, что в этом духе уже высказывался Л. С. Берг, а мы добавим еще имя Ж. Моно (Monod, 1970).
Важный аргумент в пользу единства онто- и филогенеза состоит также в том, что второй не может сделать ни одного шага без изменения первого. Вандель видел это яснее, чем кто-либо другой, и потому считал, что ключевое значение для познания эволюции имеют эмбриологические исследования. Именно эмбриология, а вовсе не генетика и не палеонтология призвана проложить путь к разгадке тайн филогенеза. Согласно убеждению Ванделя, все эволюционные преобразования вплоть до самых крупных чаще всего рождаются на стадии яйцеклетки, а онтогенез их только усиливает (Vandel, 1948), доводя до изменений фундаментального характера. Сообразно с такой гипотезой «зародышевой эволюции» Вандель выступает за скачкообразную, эксплозивную эволюцию, использующую массовую направленную изменчивость.
Для полноты характеристики концепции Ванделя как финалистической необходимо сказать еще о трактовке ученым движущих сил эволюционного развития. Будучи последовательным органицистом, Вандель воспринял и развил идеи Кено, Гийено, Бергсона об определяющем значении в эволюции психического фактора и создал на этой основе концепцию авторегуляции (Vandel, 1955).
Авторегуляция, или саморегуляция, — это свойство организма как открытой системы поддерживать свою видовую и индивидуальную конституцию в условиях постоянства внешнего материального и энергетического потоков, пронизывающих всякое живое тело (Vandel, 1953, Р. 189). В современной литературе синонимом такой саморегуляции является понятие гомеостаза — физиологического и генетического.
Вандель перенес авторегуляцию с онто- на филогенез. В его представлении прогрессивная эволюция неразрывно связана с ростом способности филетической ветви к авторегуляции, а регрессивная — с падением этой способности. Хотя в трудах Ванделя нет на это прямых указаний, именно такой вывод напрашивается при знакомстве с существом его концепции. Вандель особо выделяет в макроэволюции ту восходящую линию, которая, породив бесконечные отклонения, ведет от вируса к человеку. Неуклонное повышение способности к авторегуляции и пробуждение сознания, достигающего своего апогея с появлением человека, составляют, по мнению Ванделя, объективную цель эволюции. Она смогла осуществиться благодаря тому, что во всех крупных подразделениях животных эволюция постоянно шла в сторону приобретения сложной нервной системы и коррелятивно связанным с ней повышением психизма. Это, по Ванделю, единственный тип усложнения организации, который гарантировал эволюционные линии от регресса. По этой причине развитие нервной системы он считает настоящим критерием эволюции животных.
Таким образом, психизм и вместе с ним авторегуляция рассматриваются Ванделем как первородное свойство живой материи, как мистическая сила, заложенная в филлуме ввиду конечной цели всего сущего и определяющая финальность живой природы. Их нарастание в эволюции — процесс совершенно автономный от среды.
Психофиналистическая трактовка эволюционного процесса дает основание Ванделю предложить чисто антропоморфический прием изучения его путей и направленности — считать организацию человека итогом развития всего живого и по ней оценивать все филогенетические преобразования, через которые прошел животный мир. Один из основных трудов Ванделя по проблемам эволюции так и назван — «Человек и эволюция» (Vandel, 1949, 1958). Это, кстати, и есть целевой подход, который допускали И. Т. Фролов, М. Г. Макаров и Т. Я. Сутг. Когда-то от него уже отказывались, но не из-за финальности, а из-за антропоморфизма.
На примере рассмотренных концепций мы смогли убедиться, сколь органично финализм и психовитализм сливаются друг с другом при описании эволюции и ее движущих сил. Трудно сказать при этом, какое начало из обозначенных этими «измами» является ведущим.
Психовитализм — часть витализма, и у них общая история. Витализм же XX в., в отличие от витализма старого, больше не считает себя абсолютно несовместимым с механицизмом и редукционизмом. Он видит в них некий полезный дополнительный инструмент и даже склонен брать их в союзники, правда, при условии своего главенства в этом союзе. Другая характерная черта неовитализма — полное признание правомочности финалистического (телеологического) метода познания биологических процессов — путем умозаключения от следствия к причине. Считается также, что этот мыслительный прием отражает телеологическую природу самих объектов исследования. Вместе с тем и сам финализм, как это было показано на примере воззрений Кено и Ванделя, с неизбежностью приходит к виталистическим выводам.
В начале XX в. витализм получил мощную поддержку в учении Дриша об энтелехии, и его стали единодушно считать основателем неовитализма. В 1905 г. он выпустил специальный труд «Витализм. Его история и система» (рус. пер.: Дриш, 1915), в котором дал всестороннее обоснование этой доктрины.
Дриш не внес в характеристику энтелехии сколько-нибудь существенных изменений и по прошествии 30 лет после введения этого понятия, но на протяжении всей жизни продолжал уточнять свои виталистические позиции. Главный итог состоял в том, что если в начале творчества он старательно избегал всего психического, то впоследствии, уподобившись типичным психовиталистам, сделал ведущим принципом жизни душу и объединил ее с энтелехией. Душа стала «более глубоким» и более важным атрибутом всего сущего (Driesch, 1930).
Сам Дриш ограничивал сферу господства энтелехии рамками индивидуального развития. Его же многочисленные последователи без особого затруднения распространили ее власть и на органическую эволюцию. При этом, зная о негативном отношении Дриша к теории Дарвина, они ставили в заслугу своему учителю избавление биологии от «механического дарвинизма».
Наиболее ортодоксальные продолжатели Дриша допускают тесное соединение в организме обычных каузальных отношений с высшим финальным началом и единодушно выступают за полную легализацию в биологии финализма и телеологии. По мнению немецкого физиолога и цитолога И, Хааса, тайна жизни состоит в «упорядоченности» (организации), не имеющей причин в «материальном субстрате» (Haas, 1956. S. 61). «При возникновении органических структур, — пишет Хаас, — действует агент, который по сравнению с материей способен на “большее”. Он действует через посредство материи, но сам от нее отличен… В сравнении с ним материя наделена лишь пассивными возможностями» (Haas, 1964. S. 291). Хотя Хаас именует описываемый агент «гештальтфактором», нетрудно догадаться, что речь идет в данном случае об одной из разновидностей энтелехии.
Нематериальный агент, по Хаасу, ведает «разумными», или телеологическими, процессами. Кроме них в организме происходят и процессы причинные, т. е. жизнь предопределена как каузально, так и телеологически. Соответственно, ее следует изучать, по мнению этого автора, по обоим направлениям.
Американский генетик Э. Синнот вместо понятия энтелехии чаше пользуется словом «дух». Дух присущ всему живому, в том числе одноклеточным животным и растениям. Он является источником их целостности и гармоничности (Sinnott, 1957). Такие взгляды принято именовать панпсихизмом, или мнемизмом (от греч. mnêmê — память). Будучи истоком как психического, так и органического (физического) начала жизни, мнема объединяет их в неразделимое целое. В эволюционных представлениях Синнота панпсихические идеи прочно слиты с финализмом.
Опираясь на данные молекулярной биологии, явление гомеостаза, принципы кибернетики и идеалистическое учение о целостности организмов, Синнот разработал широкую концепцию «телизма» (от греч. télos — конец, совершение), или философию целей, в соответствии с которой развитие любых систем, включая и биологические, совершается под эгидой заложенных в них целей. Органическая эволюция непознаваема, так как ее двигатель не поддается рациональному анализу, однако Синнот утверждает, что жизнь развивалась направленно благодаря определенному коду (будучи генетиком, он полагает, что такую роль играл генетический код). В коде и содержится цель развития как заранее поставленная «задача» (Sinnot, 1961. Р. 190–195). Помимо цели действует и стремление любого живого существа к реализации или, по Аристотелю, осуществлению.
6 определенных отношениях дальше Дриша и Синнота пошел немецкий философ А. Венцль (Wenzl, 1951). Он мыслит энтелехию исключительно как сущность духовного порядка, способную, когда она пребывает в телах животных, к «бессознательному» осознанию своей цели. Для доказательства бытия Бога в качестве верховного духовного источника Венцль умозрительно расчленяет единую энтелехию на ряд иерархически соподчиненных «частных» энтелехий сообразно существующим уровням биологической организации. Так, мы находим у него энтелехию субклеточных структур, клетки, организма, вида и более высоких ступеней, вплоть до сверхэнтелехии, или Божественного Духа. Вся эта иерархия всецело подчинена у Венцля телеологическому принципу: энтелехия высшей ступени является целью энтелехии предшествующей ступени. Сверхэнтелехия как конечная цель предвосхищена Творцом. Иными словами, финализм Венцля обращен к Богу. К этим представлениям очень близки идеи последователя А. Уайтхеда — американского философа Дж. Берджерса.
Внимательный читатель, прочтя последнюю страницу, скорее всего уже ощутил отсутствие в тексте биологической предметности, а возможно, и почувствовал досаду на снижение требований авторов книги к отбору научного материала. Действительно, вопреки декларациям о необходимости изучения как финалистичес кого, так и каузального начала в эволюции живого, даже биологи из лагеря неовитализма причинной стороной материальных взаимодействий не очень интересуются и часто обходятся без наблюдений и экспериментов. Да и в суждениях о нематериальных факторах господствуют общие умозрительные рассуждения натурфилософского характера. И хотя современным узкоспециализированным исследователям молекулярного уровня очень бы не помешало небольшое «добавление» натурфилософии, беспредметное философствование биолога наших дней удовлетворить не может.
Тем не менее вернемся к неовитализму, чтобы иметь представление о разнообразии его форм.
В представлениях американского физиолога Р. Лилли оригинально соединились монадология Лейбница, гилозоистские взгляды английского философа А. Уайтхеда о психической активности молекул и атомов, мнемизм Блейлера — Риньяно и понятие о «соотношении неопределенностей» физика В. Гейзенберга, Существование в живой природе нематериального направляющего фактора психической природы Лилли логично выводит из факта неподчинения жизни второму закону термодинамики — факта, и в наши дни разделяемого большинством биологов (Lillie, 1937, 1946, 1948). Первоначально Лилли считал, что «психические импульсы», как он называл нематериальный фактор, возникают в «психическом поле» яйцеклетки, физическую основу которого образует совокупность хромосомных генов, но впоследствии под влиянием Уайтхеда «погрузил» их в недра атома.
Лилли воспринял принцип индетерминизма, из которого выросла квантовая механика. Аналог «случайным» микрофизическим изменениям он увидел в генных мутациях, выражение которых на макроуровне формирующегося организма не гасится, а усиливается. Усиление эффекта мутаций в ходе онтогенеза — реальное явление. Нечто аналогичное предложил позднее Вандель, писавший о резком усилении даже небольших зародышевых изменений в течение индивидуального развития. В конечном счете индетерминизм на молекулярном уровне перерастает во всеобщий индетерминизм биологических процессов, включая и прогрессивную органическую эволюцию. Лилли истолковывает их случайность как «духовную свободу действий», которую высший духовный фактор обращает в жесткую предопределенность и абсолютную неизбежность телеологического процесса.
Концепцию органического индетерминизма восприняли многие финалистически настроенные биологи (Мак-Дуголл, Рувьер, Леконт дю Ноюи, Парро), она вошла составной частью в организмизм, а психовитализм обрел в ней дополнительную опору для критики дарвинизма и материалистической диалектики.
Идея антислучайности и изобретательности Кено имела продолжение не только в концепции авторегуляции Ванделя. У нее был и второй плод — «психобиологическая теория» как законченная и чисто идеалистическая философская система, построенная коллегой Кено по университету в Нанси философом и психологом Реймоном Рюйе (Ruyer, 1946). В этой системе психическое и органическое (структура и функции организмов) не просто соединены, а слиты или, лучше сказать, спаяны в одно целое. Рюйе известен также как крупный теоретик финализма.
Концептуальную основу теории Рюйе составляет идеалистическое представление о двух планах бытия — реально наблюдаемом и потенциальном («запространственном мире», по терминологии Рюйе), находящемся вне времени и пространства. Потенциальное — это особая духовная аксиологическая сфера, где сосредоточены все ценности мира — сознание, память, идеи и цели. В ходе процесса актуализации сознание превращается из потенциального в активную динамическую силу, способную к материальному формотворчеству. Роль сознания, психического в развитии зародыша важнее роли генома. Таким образом, уже исходная посылка Рюйе финалистична: жизнь есть реализация ценностей, лежащих за ее пределами.
Из трех форм сознания, признаваемых Рюйе, наиболее важен первичный психизм, лежащий в основе организации и поведения живого и проявляющийся в бессознательных действиях организма. Он не зависит от нервной системы и вообще не связан ни с какой структурой. Будучи слит с бытием, психизм по сравнению с «органическим» предстает более фундаментальным началом.
Если перевести эти абстрактные суждения на биологический язык, то получается, что морфогенетические факторы всегда сознательны и что, следовательно, морфогенез и сознание — единое понятие. Подобно Р. Лилли, Рюйе видит проявление сознания в существовании любой молекулы и любого атома и распространяет на них понятие организма. В проповеди неограниченного панпсихизма он приходит к идее полной непрерывности между объектами химии; биологии и психологии и предлагает рассматривать две последние как единую науку (подробнее см.: Назаров, 1984. С. 163–182). Одну из своих задач Рюйе видел в обосновании спиритуалистического (духовного) происхождения первичного психизма.
Взгляды Рюйе, активно пропагандировавшиеся им как с университетской кафедры, так и на страницах книг, встретили понимание и поддержку или совпали с собственными представлениями не только ряда философов, но и многих биологов (Вольф, Парро, Бунур, Ванделъ, Дальк, Пивто).
Позиция Ванделя совершенно ясна и понятна. Психизм для Ванделя — начальная причина самой авторегуляции. Местом его сосредоточения является живая протоплазма. На многочисленных примерах он стремится показать трудность отделения психического от чисто органического. Так, образование моллюском раковины, являющейся продуктом мантии, — чисто органический процесс, тогда как гнездо птицы, построенное из посторонних материалов, чуждых обменным процессам организма, — результат психической деятельности. В первом случае перед нами орган тела, во втором — орудие.
Это крайние случаи. Но в природе можно обнаружить массу переходных явлений, оценка которых затруднительна. К какою рода явлениям — органическим или психическим, спрашивает Вандель, следует отнести, например, гнездо колюшки, построенное из травинок, склеенных выделениями самца, или гнездо макропода, состоящее из пузырьков воздуха, связанных секретом слюнных желез самца?
Вандель различал два уровня сознания — видовой и индивидуальный (Vandel, 1949). Под видовым сознанием он понимал «организатор, управляющий активностью вида (или групп видов)» и лежащий в основе действия всех его особей. Его главный критерий состоит в том, что «животное как индивид не сознает смысла и значения своих действий» и, как еще точнее выражается Вандель, «оно не имеет никакого представления о цели, которую преследует». Последняя осуществляется «бессознательно» (op. cit., р. 133).
В психическом плане, разъясняет Вандель, видовое сознание — это функционирование еще исключительно органического характера, не отличимое от физиологических функций. Хотя обычно оно проявляется через посредство нервной системы, это свойство неспециализированной протоплазмы, всех клеток организма. Действие его проявляется чрезвычайно медленно.
Индивидуальное сознание возникает на базе видового и рассматривается Ванделем как важнейший этап эволюции. Это — «личный опыт», не закрепленный наследственно. Его основной критерий состоит в том, что «особь чувствует цель, которую преследует. Она приобретает видение будущего» (op. cit., р. 136).
В последнее время мы оказываемся свидетелями разочарования в редукционизме и усиливающейся тенденции к поиску адекватных методов познания специфичности жизни. Такие попытки автоматически обращают тех, кто их предпринимает, к витализму и его многовековому спору с материализмом. Третий способ познания — финалистический — ведет, как мы видели, также к витализму.
Непредубежденный человек, окидывая взором всю эту бесконечную тяжбу двух мировоззрений, видит, что материализм до сих пор не может опровергнуть витализм. Для того чтобы это сделать, ему необходимо вскрьггь сущность феномена жизни — что это: особая химическая реакция или особый вид энергии? — и создать живое из неживого в лаборатории. Над этим трудились веками и продолжают трудиться лучшие умы человечества. В XX в. им на помощь пришла мощная и очень быстрая аналитическая техника. Но с каждым новым этапом познания ученые открывали только новые, все более глубинные уровни структурной сложности, но не продвигались ни на шаг в разгадке основной тайны. Возникли биохимия, биофизика, затем молекулярная биология, на которые возлагалось много надежд. Если продолжать идти и дальше тем же путем, то могут возникнуть «атомная биология» и «биология элементарных частиц» — то, над чем многие смеются в гипотезах виталистов. Но жизнь осуществляет свои функции на уровне молекул, относящемся к компетенции биохимии, а этот уровень уже достаточно познан. Тогда не пора ли делать выводы?
Завершим, однако, рассмотрение финализма Рюйе. Его соображения о природе и порядке реализации финальности логично вытекают из учения о двух планах бытия. Как высшая и вечная ценность органического мира, она пребывает в «запространственном мире» всех «сверхвременных» ценностей. Только будучи вневременным фактором, она и может оказывать свое регулирующее воздействие на течение процессов, совершающихся под влиянием естественных причин.
В книге, целиком посвященной логическому обоснованию финальности, Рюйе (Ruyer, 1952) дает ее дополнительную характеристику. Его внимание сосредоточено на двух структурах — эмбрионе и мозге, которые, по его мнению, являют собой примеры «унитарных областей», соединяющих запространственный и пространственно-временной миры. Понять тип активности этих структур невозможно, если исключить наличие в них «абсолютного надзора», обеспечивающего эквипотенциальность. Отсюда Рюйе делает вывод, что «унитарная активность» финалистична, а поскольку Вселенная «есть только совокупность таких активностей, финальность универсальна» (op. cit., р. 269). И далее: «Индивидуальные финальности подчинены одной Финальности, или одному общему Смыслу.» Если Рюйе мыслит «запространственный мир» совершенно независимым от реального физического мира, то в его системе мы впервые сталкиваемся с трансцендентной разновидностью органической финальности, внешней по отношению к организмам. Именно такой вывод напрашивается из анализа его книг, поскольку Рюйе трактует финальность в психологическом ключе и утверждает производность материи от сознания.
Исходный психовитализм в представлениях ряда авторов перерастает в спиритуализм, когда они обнаруживают, что Дух является для психического первоосновой. В финализме поэтому существует автономное течение. Философские построения его главных представителей — французов П. Леконта дю Ноюи и П. Тейара де Шардэна — хорошо известны, и нам нет нужды на них останавливаться. Вместо этого коснемся гипотез регрессивной эволюции, выражающих финалистический аспект филогенетического развития с непосредственной наглядностью.
До сих пор речь шла о прогрессионистских концепциях, авторы которых считают восходящее развитие доминирующим направлением эволюции. Таковы два исходных эволюционных учения — Ламарка и Дарвина, взгляды создателей СТЭ и большинства сторонников финализма.
Но уже Дарвин признавал регресс одним из направлений эволюции. В последарвиновское время и особенно в XX в. в биологии появились доктрины, трактовавшие историческое развитие органического мира как выражение преобладающих процессов упрощения организации, деградации и вырождения. Признание существования деградации и неизбежности конца как раз и отражает то новое «приобретение» XX в., которым современный финал изм отличается от собственно телеологии.
А. Н. Северцов (1931, 1939, 1949), разделивший морфофизиологическую дегенерацию на частную и общую, и его последователь И. И. Шмальгаузен (1939, 1969) всегда связывали случаи организационного регресса с переходом в иную, как правило, более простую, среду или со сменой образа жизни. Согласно их представлениям, регресс всегда вторичен, произволен по отношению к прогрессивной эволюции и сопровождается хотя бы частным прогрессом в каких-то иных системах органов. «Чистого» регресса в природе не существует.
Соответствующие гипотезы финалистов стали предметом критики в связи с тем, что они стремились представить регресс как универсальный модус эволюции, трактовали его как имманентный живому процесс, не зависящий от условий среды, и не объясняли причин исходного органического богатства и совершенства.
Зачинателем идеи регрессивной эволюции считают А. Виганда (Wigand, 1874). Согласно его убеждениям, эволюция протекала активно только в далеком геологическом прошлом, когда сформировались все крупные подразделения органического мира. По мере приближения к современности первоначальный запас «витальной энергии» и «образовательной силы» постепенно уменьшался. Организмы утрачивали эволюционную пластичность, уровень их жизнеспособности снижался. Соответственно, эволюция замедлялась, сокращались амплитуда видовой изменчивости и масштаб вновь возникавших таксонов. Именно эта идея составила основу представлений сторонников филогеронтизма. Взгляды Виганда и его единомышленников положили начало полемике по проблеме прогресса и регресса.
Французский философ А. Лаланд (Lalande, 1892, 1930) применил идею регресса к эволюции человека, обратив внимание, что прогрессивное развитие интеллекта имело оборотной стороной общее ослабление физических возможностей, физиологический распад и затухание ряда инстинктов. Лаланд пришел к заключению, что по сравнению с высшими животными организация человека явно деградировала. Аналогичные мысли высказали позже А. Каррел (1935), внук Дарвина — Ч. Г. Дарвин (1952), Хук (1958) и многие другие западные антропологи-финалисты.
Достаточно известны финалистические гипотезы Д. Роза (1899, 1931) о сокращении размаха изменчивости и У. Бэтсона (1905) — под названием «присутствие — отсутствие». Преемником второй гипотезы выступил шведский генетик-растениевод Н. Гериберт-Нильссон (1918, 1941, 1953), который считал, что каждый шаг эволюции связан с утратой гена.
В качестве генеральной линии эволюции рассматривал регресс Т. Г. Морган (1926, 1936). Подтверждение своему убеждению о растрате «жизненной энергии» с течением эволюции он видел в падении мутабельности биологических видов. Морган склонялся к мысли, что всякое новое мутационное изменение наверняка менее совершенно и менее приспособлено по сравнению с исходным фенотипом.
В 40-е годы XX в. во Франции вышло несколько книг с характерными названиями «Старение мира живого» (Decugis, 1941), «Регрессивная эволюция» (Salet, Lafont, 1943) и др., авторы которых рисовали мрачную картину всеобщего упадка и деградации органического мира после грехопадения первых людей. В подобных гипотезах многие биологи усмотрели переход от финализма к одной из форм креационизма.
Все указанные гипотезы трактовали регресс в эволюции в морфологическом аспекте. Первая теория регресса, построенная исключительно на физиолого-биохимической основе, принадлежит французскому микробиологу и протистологу Андре Львову. В 1944 г. вышла его книга «Физиологическая эволюция. Изучение потери функций у микроорганизмов» (Lwoff, 1944). В ней был обобщен 20-летний опыт сравнительно-эволюционного изучения физиолого-биохимических функций одноклеточных организмов, точнее их способностей синтезировать жизненно необходимые органические вещества из неорганических источников. Сравнивая способность к различным синтезам у примитивных и эволюционно развитых форм в пределах одних и тех же систематических групп (простейших, бактерий, отчасти грибов), Львов обнаружил, что у первых она была всегда выше, чем у вторых. Отсюда он сделал заключение, что с физиологической точки зрения, эволюция сопряжена с потерей функций. Поскольку же биохимические свойства организмов имеют, по мнению Львова, первостепенное жизненное значение, физиологическая деградация выражает саму сущность процесса эволюции[16].
Сравнивая физиологическую и собственно биологическую (морфологическую) эволюцию, Львов многократно подчеркивал, что оба демонстрируемых ими ортогенеза сходны, а скорее даже идентичны, так как «зависят от самой структуры материи» (op. cit., р. 232, 276). Можно сказать, что гипотеза Львова явилась физиологическим вариантом филогеронтизма и, соответственно, представила собой пример имманентного финализма.
Это было, по существу, последнее крупное обобщение оригинального характера по проблеме регресса. Все, что появлялось позднее в этой области, лишь повторяло высказанные ранее идеи и комбинировало отдельные элементы уже существовавших гипотез.
В концепции уже хорошо знакомого нам Ванделя регресс занимает не меньшее место, чем прогресс. Регресс является уделом большинства филетических линий. От него гарантированы только те линии, которые прочно связали себя с повышением авторегуляции — усовершенствованием нервной системы и усилением психизма. Регрессом, по Ванделю, является весь процесс видообразования (микроэволюции) и специализации к частным условиям существования (например, подземным местообитаниям и глубоководным зонам мирового океана).
Изучив преадаптивную фазу становления фауны подземных местообитаний, Вандель (Vandel, 1964) констатировал строго направленное (ортогенетическое) ослабление авторегуляции у ее представителей. В этом факте он видит неопровержимое доказательство того, что причина наблюдаемого ортогенеза заключена в самом организме, а не в каком-либо влиянии среды или естественного отбора. Это особенно усиливает фи налистический характер концепции Ванделя.
Солидаризируясь с Бэтсоном, Жаннелем и Львовым, Вандель в качестве общей закономерности эволюции отмечает, что самые древние формы обладают «наиболее полной организацией», а современные — ее большей «простотой», что отражает более или менее «далеко зашедшую деградацию» (Vandel, 1967. Р. 588). Надо сказать, что в отличие от авторов указанных выше гипотез Вандель придерживается убеждения, что регрессивной фазе эволюции предшествовал эволюционный прогресс.
В завершение краткого обзора финализма периода его становления и расцвета нужно сказать, что в наши дни он не только не сдал своих позиций, но, напротив, распространился на молекулярные отрасли биологии. Мы уже приводили высказывания Корочкина о современном понимании филогенеза. Они опираются как на собственный опыт экспериментальных исследований, так и на многочисленные данные зарубежных авторов (В. Геринга, Дж. Валентайна, X. Карсона и др.). Здесь уместно добавить, что, согласно его гипотезе, в сателлитной ДНК записано несколько морфологических сценариев филогенеза, которые реализуются по мере обеднения генома, неизбежного при его реорганизации с помошью мобильных генетических элементов (МГЭ). Эволюция при этом идет как в восходящем, так и в нисходящем направлении, но в обоих случаях она предопределена строением генома и носит имманентный направленный характер, иными словами, финалистична. Корочкин сам признает, что подобная трактовка эволюции (ничего нового не возникает, а происходит только развертывание предсуществующего) означает перевод на молекулярный язык гипотезы, высказанной в начале XX в. Лотси и Бэтсоном (Корочкин, 1984. С. 79). К этим именам с полным правом можно добавить имя Ванделя. Как мы только что видели, Корочкин повторил его текстуально.
* * *
Финализм обладает широким полем взаимопонимания с неоламаркизмом. Их общим идейным базисом выступает представление о внутренних, имманентных живому причинах развития, лежащих в основе органицизма. Такими внутренними причинами в обоих эволюционных направлениях часто оказываются психика и сознание. Поэтому вполне закономерно, что многие эволюционисты, стоящие на позициях органицизма, в равной мере принадлежат к неоламаркизму и финализму. Не приходится удивляться, что после крушения неоламаркизма финализм в какой-то мере заполнил его нишу.
Для обоих направлений характерно скептическое отношение к эволюционной роли генных мутаций. Финализм решительно противопоставляет себя дарвинизму, а неоламаркизм если и включает в отдельных случаях естественный отбор в эволюционный механизм, то на правах второстепенного фактора.
Глава 7. Сальтационизм и макромутационизм
Слово «сальтация» (от лат. saltatio — скачок, прыжок) в пояснении не нуждается. Сальтационизм, бросив вызов исходным эволюционным теориям, стал главным антиподом градуализма. Спор между этими альтернативными представлениями заполнил весь XX в. Можно сказать, что популярность и обыденность самого определения «сальтационный» — символ тех уступок, на которые пришлось пойти СТЭ. И сегодня сальтационными называют в равной мере скачкообразное возникновение изменчивости, внезапное образование новых форм и таксонов, резкую смену биот в геологическом прошлом.
Критики салътационизма называют это течение также макромутационизмом, макрогенезом, а одно из его направлений — неокатастрофизмом.
Важнейшими эмпирическими и идейными предпосылками формирования сальтационизма явились отсутствие в палеонтологической летописи переходных форм между крупными таксонами; факты, создающие впечатление внезапного вымирания групп в конце геологических периодов и столь же внезапного появления новых форм в их начале; догматизация положения дарвинизма о градуалистическом характере эволюции и якобы абсолютной равномерности ее темпов; оппозиция принципам строгого униформизма; невосприимчивость к популяционному мышлению и приверженность типологизму.
Сальтационистские взгляды были высказаны некоторыми натурфилософами (Л. Мопертюи, Ш. Бонне) еще в додарвиновский период. Истоки современного сальтационизма берут начало с выступлений Э. Зюсса (1863), А. Келликера (1864), О. Геера (1868) и С. Майварта (1871), составивших первую волну сальтационизма.
Зюсс и Геер считали, что новые виды образуются в результате внезапной перечеканки форм, вызываемой физико-географическими (климатическими) факторами и охватывающей большинство представляющих их особей. Периоды массовых перечеканок кратки, и они чередуются с длительными периодами стабильности. Келликер назвал свою гипотезу теорией гетерогенного размножения. Он также высказался за скачкообразные эволюционные преобразования и противопоставил их принципу постепенности, но при этом в отличие от Зюсса и Геера усматривал в скачкообразных превращениях таксонов проявление внутреннего закона развития. Очагом превращений Келликер считал внезапные изменения, совершающиеся на ранних стадиях эмбриогенеза. Таким образом, Келликер предугадал важнейшее концептуальное завоевание эволюционизма XX в. и явился одним из родоначальников идеи об аналогии между эволюцией и онтогенезом. Его преемником стал В. Вааген, предложивший для обозначения продукта эксплозивного «инорождения» термин «мутация».
Существенной опорой этого начального сальтационизма послужили гипотезы так называемой тератологической эволюции, у истоков которых стоял Э. Жоффруа Сент-Илер. Идеи этого выдающегося трансформиста первой половины XIX в. получили плодотворное развитие в трудах Ш. Нодэна, К. Дареста, а в начале XX в. — в творчестве Э. Рабо и Э. Гийено.
Прямой предшественницей мутационной теории Г. де Фриза (1901–1903) явилась гипотеза гетерогенезиса русского ботаника С. И. Коржинского (1899). В своей неоконченной работе он уверенно писал, что новые формы и новые таксоны у растений возникают посредством внезапных гетерогенных отклонений и вне всякой связи с внешними условиями. Естественный отбор скорее препятствует их сохранению. Отметим также, что, согласно представлениям Коржинского, вновь возникшие формы остаются стабильными до появления следующего отклонения. С именами Коржинского и де Фриза связана вторая волна сальтационизма.
Третья волна зародилась в Советском Союзе в 20-е годы XX в. С гипотезой эксплозивной эволюции на основе крупных мутаций выступил автор «Номогенеза», крупнейший ихтиолог Л. C. Берг (1922; см. о нем в гл. 11). Его идеи поддержали Д. Н. Соболев (1924), А. А. Любищев (1925) и Ю. А. Филипченко (1926). В это же время во Франции соображения о тератологическом характере эволюции в свете мутационной теории развивал Э. Гийено.
В качестве исходного момента Гийено принимает положение, что только мутации как единственный тип наследственных изменений лежат в основе эволюции. Сообразно различной амплитуде вызываемых ими морфологических изменений мутации могут различаться по величине. Мелкие мутации определяют формирование рас, разновидностей и подвидов, крупные дают начало новым видам, родам и даже отрядам. Эту гипотезу Гийено обосновывает, во-первых, сравнением способов гистологических изменений в эмбриогенезе уродов, и прежде всего Частей скелета, со сравнительно-анатомическими рядами ископаемых и современных позвоночных, усматривая между ними глубокую аналогию; во-вторых, тем, что одни и те же уродства у некоторых групп беспозвоночных (например, иглокожих) выступают то как случайные индивидуальные особенности, то как постоянные признаки видов, родов и семейств.
По мнению Гийено, именно тератологическая гипотеза позволяет объяснить происхождение многих узкоспециализированных форм, которые в силу своего уродства оказались обреченными на единственный образ жизни в условиях ограниченного биотопа. Например, Гийено так же, как и мы сейчас, рассматривает исчезновение способности к полету у многих птиц открытых пространств (страусов, казуаров; ископаемых Apteryx, Dinormis, Aepyomis) не как эволюционное новшество, связанное с приспособлением к бегу, а как катастрофическое уродство. Выживание этих птиц зависело от отсутствия врагов. Одни виды окончательно исчезли, другие находятся на пути к исчезновению. Никак нельзя считать «нормальными» формами муравьедов и ленивцев, лапы которых имеют столь несуразное строение, что первые лишь с трудом передвигаются по земле, а вторые вовсе не покидают кроны деревьев. Подробно анализируя в этом плане организацию неполнозубых и китообразных, Гийено называет их живой «коллекцией уродов».
Продолжая рассуждения в том же направлении, Гийено замечает, что строение любого животного можно было бы описать, используя язык тератологии. Организация самого человека уродлива в сравнении со строением его четвероногих предков. На первый взгляд может показаться несуразным признавать за уродствами какое-либо эволюционное значение. Но подобное ходячее представление, по мнению Гийено, совершенно ошибочно, ибо различие между нормальным и ненормальным весьма относительно и несет печать антропоморфизма.
Различными доводами опровергает Гийено самое серьезное возражение против эволюционной роли уродств — их низкую жизнеспособность. Он отмечает прежде всего, что по вопросу о жизнеспособности наукой накоплено недостаточно данных, поскольку уродов никто не оставлял для размножения. Гийено считает ошибочным мнение, будто врожденные уродства всегда связаны с дезинтеграцией, с нарушением координации частей и утратой функций. В отличие от травматических дефектов координация частей и работа органов при врожденных уродствах полностью сохраняются. Гийено ссылается на чрезвычайно интересные исследования Ж. Сальмона (Salmon, 1908), которому на примере эмбрионального развития конечностей у морских млекопитающих удалось показать, с одной стороны, сохранение обычных структурных соотношений и взаимозависимостей при эктромелии (недоразвитии конечностей), возникшей на основе крупной мутации, с другой — близость ведущих к ней процессов обычным морфогенетическим процессам, лежащим в основе нормального онтогенетического развития рудиментов конечностей тюленей и дельфинов.
В описываемой работе Гийено всецело разделял точку зрения де Фриза на периодичность мутирования. Он признавал, что виды могут быть неизменными в течение более или менее длительного времени, а затем спорадично или один за другим претерпевать крупные мутации и превращаться в новые формы. Впрочем, в отличие от своего преемника Р. Гольдшмидта, он допускал, что основу крупных эволюционных изменений могут составлять и мелкие мутации и что вообще их амплитуда принципиального значения не имеет.
Однако в трактовке морфологических уродств Гийено сохранил приверженность идее крупных системных мутаций как их непосредственной причины (Guyénot, 1929, 1935, 1946), не стремясь в этом случае к особым доказательствам. Одновременно он пришел к заключению, что мелкие индивидуальные изменения, на которые опирается теория Дарвина, ввиду отсутствия в природе дифференциальной смертности не могут служить материалом отбора. В связи в этим Гийено утверждал, что дарвинизм не выдержал экспериментальной проверки (Guyénot, 1939. Р. 32). Так, еще до Гольдшмидта и несколько отличным от него путем Гийено пришел к сходным макромутационистским выводам.
Следующая и, пожалуй, самая судьбоносная для эволюционной теории волна сальтационизма приходится на 40-60-е годы XX в. Она представлена фундаментальными концепциями Р. Гольдшмидта, А. Далька и О. Шиндевольфа, к подробному рассмотрению которых мы и перейдем.
Идея системных мутаций Р. Гольдшмидта и ее судьба
Вспомним, что, изучая эмбриональное развитие свиньи-бородавочника, Кено пришел к выводу, что наиболее вероятной причиной появления этого вида могла быть одна крупная мутация, обладавшая системным эффектом. К идее макромутации как инструменту «зародышевой изобретательности», обеспечивающей внезапное и гармоничное преобразование биологической организации, с той или иной степенью полноты пришли, как мы только что видели, Гийено, Вандель, Уиллис и некоторые другие исследователи. Знакомство с литературой того периода по проблемам эволюции показывает, что концепции скачкообразной прогрессивной эволюции, опиравшиеся на макромутационистские представления, образовали в 40-50-х годах XX в. одно из радикальных направлений антидарвинизма мирового масштаба. Однако никто из упомянутых авторов не внес столь значительного вклада в разработку идеи о крупных мутациях, как Р. Гольдшмидт.
Видный немецкий цитолог и генетик Рихард Гольдшмидт известен как автор классических исследований по генетике пола у непарного шелкопряда, по цитологии простейших, а также как один из основателей физиологической генетики. В 1936 г., будучи не в состоянии примириться с нацистским режимом, установившимся в Германии, Гольдшмидт эмигрировал в США, где занял должность профессора Калифорнийского университета. Еще находясь в Германии, он на протяжении двух десятилетий успешно разрабатывал проблемы микроэволюции, оставаясь убежденным дарвинистом. Однако в итоге изучения изменчивости непарного шелкопряда он пришел к заключению, что географические расы и подвиды вовсе не являются зачинающимися видами. На этом основании, как пишет сам Гольдшмидт в автобиографии (Goldschmidt, 1960. Р. 318), он примерно к 1932 г. радикально изменил свои взгляды на механизмы образования видов и всех надвидовых систематических категорий, встав на позиции макромутационизма.
Рихард Гольдшмидт (1878–1958).
В 1940 г. в Нью-Хавене вышла его широкоизвестная книга «Материальные основы эволюции» (Goldschmidt, 1940), более половины которой посвящено генетическим причинам макроэволюции. Она подвела итог его соображениям по этой проблеме, высказывавшимся им в 1920-30-е годы, и всем своим содержанием была направлена против дарвинизма.
Гольдшмидт делит мутации по степени их влияния на организм на две категории — микромутации и системные мутации, проводя между ними резкую грань. Под первой категорией он подразумевает обычные генные, или точковые, мутации. Они изменяют лишь отдельные признаки организма, производя вариации частного, поверхностного характера. Результатом накопления микромутаций является микроэволюция, или эволюция в пределах вида. Микроэволюции посвящена вся первая часть книги.
Здесь Гольдшмидт рассматривает природу единичных мутаций, местный полиморфизм, подвиды и географические расы с их клинальной изменчивостью, ограничивающие ее факторы, действие изоляции и пр. Основным механизмом микроэволюции он считает постепенную аккумуляцию микромутаций, которые лишь в отдельных случаях могут дополняться случайными локальными макромутациями или их полиморфными рекомбинациями. Согласно определению Гольдшмидта, «микроэволюция через накопление микромутаций — мы можем также сказать “неодарвиновская эволюция” — это процесс, который ведет к диверсификации строго в пределах вида и обычно, если не исключительно, осуществляется ради адаптации вида к особым условиям, существующим на территории, которую он в состоянии занять» (Goldschmidt, 1940. Р. 183). Различия между подвидами носят обычно клинальный характер, но совокупность подвидов (иначе говоря, биологический вид) отделена от другой совокупности (или другого вида) четким разрывом, который, как это особо подчеркивает Гольдшмидт, не может быть заполнен обычными генными мутациями. Отсюда Гольдшмидт делает вывод: «Подвиды поэтому на самом деле не являются ни зарождающимися видами, ни моделью для возникновения видов. Они являются более или менее разнообразными тупиками внутри видов. Решительный шаг в эволюции, первый шаг к макроэволюции, шаг от одного вида к другому требует иного эволюционного метода, отличного от простой аккумуляции микромутаций» (ibid.). Этому «иному эволюционному методу» посвящена вторая часть книги, озаглавленная «Макроэволюция». В чем же он состоит?
Источником макроэволюционных новшеств является, по Гольдшмидту, вторая категория мутаций — мутации системные, которым и уделено здесь главное внимание. Под системными мутациями Гольдшмидт понимает такие радикальные преобразования внутренней структуры хромосом, которые полностью меняют физиологическую реакционную систему организма и, видоизменяя ход индивидуального развития, приводят к возникновению нового фенотипа и нового вида, резко отличного от прежнего по целому ряду важнейших признаков. Неотъемлемые свойства системных мутаций — координированный характер возникающих морфологических (фенотипических) изменений и их формирование в одном поколении, благодаря чему новая видовая форма оказывается отделенной от исходной родительской непроходимым разрывом без каких бы то ни было переходных состояний.
Вопреки попыткам Гольдшмидта подвести под идею системных мутаций солидную фактическую основу, используя накопившийся в генетике материал по хромосомным перестройкам, она в действительности осталась у него недоказанной гипотезой. Вместо того чтобы дать точные и неопровержимые доказательства существования системных мутаций, Гольдшмидт ограничивается указанием, что они «способны объяснить» многие факты (ibid., р. 240). В числе последних он приводит примеры сложных взаимных адаптаций, таких, как взаимные приспособления в строении цветов и насекомых, знаменитый конек телеологов — «целесообразность использования чужого», т. е. приспособления других видов, галлы растений с преформированным выходным отверстием, многочисленные случаи мимикрии. Говоря о виде парусников (Papilio dardanus), имеющем несколько морфологических типов самок, поразительно точно копирующих ядовитых бабочек других семейств, Гольдшмидт отмечает, что их миметические признаки вряд ли могли обладать какой-либо селективной ценностью до того момента, пока не оформилась целостная адаптация. Тем самым Гольдшмидт утверждает, что подобное приспособление могло быть результатом лишь одного неделимого акта. Данный аргумент и сам подбор примеров — далеко не оригинальный прием. Им пользовались многие биологи до Гольдшмидта, в частности Кено.
Как уже было сказано, Гольдшмидт связывал системные мутации с крупными преобразованиями в строении хромосом. Заключаются эти преобразования не в «качественном химическом изменении»[17] их компонентов, а исключительно в порядке их расположения. Таковы обычные инверсии, нехватки (делеции), транслокации, инверсии, описанные цитогенетиками. Случаи их обнаружения собраны в руководствах ряда авторов (Dobzhansky, 1937; Darlington, 1937; Vandel, 1938). Совершенно ясно, что, высказывая данное соображение, Гольдшмидт опирался на недавно установленное явление эффекта положения гена, которому дал иное толкование. Хромосомная природа системных мутаций как раз и делает понятным, почему новый вид, связанный со становлением новой стабильной реактивной системы, может возникать «мгновенно или несколькими последовательными шагами», разделенными «непроходимыми» перерывами. «Системная структурная мутация, — заключает Гольдшмидт, — представляется главным генетическим процессом, ведущим к макроэволюции, т. е. эволюции за пределами тупиков микроэволюции» (Goldschmidt, 1940. Р. 245).
Развивая представление о системных макромутациях, Гольдшмидт многократно и настойчиво подчеркивает, что они определяются не какой-то одной внутренне преобразованной хромосомой, а всем хромосомным комплексом в целом и полностью обособлены от микромутаций. В связи с этим он наряду с признанием более или менее независимого действия индивидуальных хромосом (точнее, их перестроек) предпочитает говорить о единой зародышевой плазме. Именно она, взятая как целое, контролирует, по мнению Гольдшмидта, реакционную систему организма, которая представляет собой не мозаику разрозненных реакций, а единую систему развития.
Подобный взгляд на материальную основу развития как нечто целостное и неделимое невольно напоминает интегративную гипотезу Филипченко. Будучи антиподами по вопросу о носителе наследственных потенций, они, однако, сходятся во взгляде на процесс их реализации концептуально.
С этих позиций Гольдшмидт резко ополчается на теорию гена и дарвинистскую идею накопления под действием естественного отбора генных мутаций как источника видообразования, которые сам некогда разделял. Оппозиция атомистической теории гена и сопутствующим ей трудностям объединения мозаичного действия отдельных генов в рамках единого и целостного организма проходит лейтмотивом через всю книгу Гольдшмидта. Он категорично заявляет, что классическая атомистическая теория гена не является необходимой ни для генетики, ни для эволюционного учения, что она «блокирует прогресс эволюционной мысли» (как это произошло, например, с Добжанским) и, если не будет устранена, повергнет генетику в состояние кризиса (ibid., р. 209, 243). Вместе с ликвидацией теории гена отпадет и дарвиновский принцип аккумуляции микромутаций, абсолютно непригодный для понимания макроэволюции[18]. Привлекает внимание тот факт, что и в данном контексте Гольдшмидт подчеркивает полную независимость возникновения хромосомных перестроек от «так называемых генных мутаций».
Гольдшмидт предпринял попытку связать реконструкцию хромосом с физиологическими процессами развития и разработать целостную концепцию, составившую предмет новой научной дисциплины — физиологической генетики (Goldschmidt, 1938). По этой концепции единственное генетическое изменение, происшедшее на самых ранних стадиях эмбриогенеза, пусть даже небольшая системная мутация, посредством цитоплазмы влияет на темп формообразовательных реакций, замедляя одни из них и ускоряя другие. При этом основными действующими агентами выступают различные гормоны, которые управляют локальными процессами роста и приводят к результатам огромной морфологической значимости. В итоге изменяется весь ход индивидуального развития и возникает новая сбалансированная система, которая в случае ее жизнеспособности оказывается и новым видом. Эта в целом рациональная схема послужит в дальнейшем основой многих гипотез макроэволюции через одноразовое преобразование онтогенеза, в которую разные авторы внесут лишь частичные коррективы. Что касается Гольдшмидта, то он был убежден, что созданная им модель макроэволюции через системные мутации применима к формированию систематических категорий любого ранга — от вида до типа.
Гольдшмидт не видел возможности подтверждения своей гипотезы макроэволюции в ближайшее время. Он также полагал, что подтвердить, равно как и опровергнуть ее, генетика как наука в основном экспериментальная не в состоянии. Если быть совершенно точным, то, согласно мнению Гольтдшмидта, для изучения низшего уровня макроэволюции (от вида до семейства) какая-то часть информации, основывающейся на сотрудничестве генетики и систематики, еще пригодна. При изучении же более высокого уровня экспериментальная генетика (за исключением ее раздела — физиологической генетики) как источник информации исключается. Выводы в отношении этого уровня можно делать на основе объединения соображений, вытекающих из общей генетики, с данными эмбриологии, сравнительной анатомии и палеонтологии (Goldschmidt, 1940. Р. 184). Для автора чисто генетической концепции — далеко идущее признание! К сожалению, оно осталось нереализованным.
Гипотеза Гольдшмидта была бы неполной, если бы он не коснулся возможной судьбы системных мутаций. И Гольдшмидт доводит ее до логического завершения, предлагая чисто умозрительное понятие «hopeful monsters» — «обнадеживающих уродов» (Goldschmidt, 1960, 1961). Впервые упомянутое в лекции 1933 г., оно так и закрепилось за его именем. Идея, побудившая Гольдшмидта сконструировать это понятие, проста. В результате системных мутаций возникает масса уродливых или аномальных форм, сразу устраняемых отбором. Однако среди них могут оказаться так называемые обнадеживающие единичные экземпляры, оказавшиеся со случайно выгодными в данных условиях аномалиями, которые в силу благоприятных обстоятельств уцелеют и дадут начало новому типу организации, основав совершенно новую макроэволюционную ветвь.
Возникновение нового органического типа посредством жизнеспособных «обнадеживающих уродов» предполагает, что последние преадаптивным путем приобретают признаки, которые дают им возможность занять иную экологическую нишу. «Уродство, появляющееся благодаря единственному генетическому шагу, могло позволить занять новую средовую нишу и таким образом произвести одним шагом новый тип», — утверждал Гольдшмидт (Goldschmidt, 1940. Р. 390).
Отстаивая идею макроэволюции через системные мутации и «обнадеживающих уродов», Гольдшмидт отвергает распространенное мнение, высказанное, в частности, в работе Добжанского и Соколова (Dobzhanski, Socolov, 1939), о неизбежной утрате жизнеспособности хромосомными мутантами. При этом он указывает, что новые структуры могут выжить в популяциях только в отсутствие давления отбора на гетерозиготы и при специфических условиях инбридинга.
Обращает на себя внимание тот факт, что и эту гипотезу Гольдшмидт не пытается обосновать сколько-нибудь убедительными фактическими данными. Он голословно утверждал, будто ее подтверждает совокупность данных генетики, эмбриологии и систематики. В качестве иллюстрации жизнеспособности уродливых родоначальников новых макрофилогенетических ветвей Гольдшмидт приводит всего два примера, и оба они неудачны. Эго возникновение в природе камбалы с односторонним расположением глаз, а среди домашних животных — таксы. По словам Гольдшмидта, появление карликовой собаки с короткими кривыми ногами представлялось простым уродством до тех пор, пока человек не подобрал для нее подходящую нишу — преследовать барсука в его норе.
В данном случае Гольдшмидт также ищет своих идейных предшественников. Он указывает прежде всего на имя Дарвина, который зарегистрировал факты уродств у домашних животных, но не придал им эволюционного значения, так как полагал, что уродства способны выживать лишь при особых и весьма редко встречающихся обстоятельствах. Но есть малоизвестная книжка натуралиста-любителя Э. Бонавиа (Bonavia, 1895) об эволюции животных, одна из глав которой целиком посвящена уродствам. В отличие от Дарвина Э. Бонавиа утверждал, что последние способны играть в эволюции очень существенную роль, поскольку вместе с ними одним большим шагом возникает новая видовая адаптация.
Однако, как это ни удивительно, Гольдшмидт не ссылается на своих самых реальных предшественников и, можно сказать, единомышленников. В его книге совершенно не упомянуты соответствующие работы К. Дареста и Э. Гийено, а приведены только труды двух английских ботаников-систематиков — Г. Гаппи и Дж. Уиллиса, пришедших к идее макромутации независимо от генетики (см. об этом в гл. 13).
Концепция эволюции на основе макромутаций Гольдшмидта поначалу пугала эволюционистов своей радикальной новизной и казалась слишком фантастичной. Ее предпочитали игнорировать. Чуть позже на нее обрушились с язвительной критикой представители СТЭ. Каждый крупный дарвинист и в бывшем СССР, и на Западе считал своим долгом бросить в нее камень поувесистее.
Непреодолимые трудности создавала для гипотезы, по мнению Майра, Ренша и Завадского, проблема отыскания «многообещающими уродами» брачных партнеров. Неясно также, как без возвратных скрещиваний только от одной пары производителей может возникнуть самостоятельная жизнеспособная популяция — родоначальница нового органического типа. Гольдшмидта упрекали в том, что, увлекшись соблазнительной идеей, он абстрагировался от реальной экологической обстановки. На этом принципиальные возражения не заканчивались. Для того чтобы макромутации, порождающие уродливые формы, могли положить начало новому виду и более высокой таксонологической категории, они должны возникать с большой частотой, ибо только в этом случае один из миллионов уродов мог бы оказаться «небезнадежным». В природе же частота аномальных особей слишком низка. Что касается хромосомных перестроек, то, как считал Майр, они за немногими исключениями не служат механизмом репродуктивной изоляции и не способствуют видообразованию. Но, как мы увидим ниже, Майр в этом вопросе заблуждался.
Некоторые из возражений снял сам Гольдшмидт, самое главное — А. Дальк, остальные — современная «подвижная» генетика. Но в тот период массовой критики гипотеза Гольдшмидта остро нуждалась в поддержке, которую, как он считал, генетика в принципе оказать не могла.
Помощь пришла со стороны молодого поколения палеонтологов. Некоторые из них, до недавнего времени игнорировавшие генетику, ощутили потребность согласовать свои взгляды с данными генетики и физиологии развития. Гольдшмидт с удовлетворением ссылается на О. Шиндевольфа (Schindewolf, 1936), выводы которого в отношении характера и темпов осуществления крупномасштабных эволюционных преобразований полностью совпали с его собственными. Идейная солидарность этого крупного палеонтолога имела для Гольдшмидта особое значение. Прошло еще немного времени, и основные идеи «еретика» приняли также А. Дальк, К. Х. Уоддингтон и Г. Дэнжеман. Но при этом большинство современников так и сохранили к ним негативное или недоверчивое отношение.
В попытке подвести под идею системных мутаций фактическое обоснование английский генетик и эмбриолог К. Х. Уоддингтон обратился к генетике бактерий, цитогенетике и тканевым культурам. В книге «Стратегия генов» (Waddington, 1957) он обращает внимание на явление трансдукции генов у бактерий и указывает на возможность искусственного введения в бактериальную клетку группы генов извне, которые интегрируются с ее геномом. Впоследствии было установлено, что посредством введения в микроорганизмы существующих видов рекомбинантной ДНК, т. е. совершенно чужеродных генов, можно получить новые формы. Эти факты дали основание Уоддинггону предполагать, что нечто сходное может происходить и у эукариотных организмов. Он даже высказал гипотезу о существовании особых «предгенных частиц» нуклеиновой природы, будто бы соединяющихся с обычными генами. В редких случаях эти частицы способны радикально изменить свое поведение и явиться причиной возникновения совершенно нового отряда.
Спустя 12 лет на симпозиуме по теоретическим проблемам биологии в Белладжио (1969) Уоддингтон заявил, что если системная мутация до сих пор не обнаружена у многоклеточного организма, то сходное явление можно наблюдать в культуре его соматических клеток. Замечено (Green, Torado, 1967), что в. них иногда возникают крупные «перетасовки генома», сопровождающиеся значительными морфологическими изменениями. В результате появляется клеточная линия нового типа. Эти факты, по мнению Уоддингтона, свидетельствуют о том, что «нечто подобное “генетической революции” или системным мутациям действительно может происходить» (Waddington, 1969. Р. 124).
С гипотезой о гипермутации, близкой понятию системной мутации, выступил профессор Лозаннского университета Г. Дэнжеман (Dingemans, 1956). Как ни странно, но в его представлении подобная крупная мутация связана чаще не с группой генов, а с одним-единственным («основным») геном, обладающим варьирующим «соматическим выражением» и влияющим на группы сцепленных с ним прочих генов. Мутировавший ген якобы всегда приводит к согласованным изменениям целой группы тканей и всех признаков животного. Гипермутации и лежат в основе крупных макроэволюционных преобразований, которые совершаются скачками и отделены друг от друга миллионами лет покоя и стабильности. В силу неизвестной таинственной причины каждая последующая крупная мутация по направлению совпадаете предыдущей, благодаря чему создается направленность эволюции. Эгу постоянную ориентацию макромутаций, разделенных огромными промежутками времени, автор провозглашает одним из основных законов эволюции и тем самым заявляет о себе как стороннике номогенеза.
Но подлинное признание и успех пришли к гипотезе Гольдшмидта только в 1970-е годы. Это стало возможным, с одной стороны, благодаря прогрессу молекулярной биологии и биологии развития, а с другой — благодаря новому подъему сальтационистских представлений как в палеонтологии, так и в эволюционном учении в целом. Это, естественно, возродило интерес к проблеме макромутаций системного эффекта и их возможного участия в макроэволюционных событиях.
Идеи Гольдшмидта были по достоинству оценены и подняты на щит прежде всего создателями теории прерывистого равновесия, которые солидаризировались с ними не только по существу, но и по форме. Так С. Гулд прямо заявил, что «макроэволюция осуществляется через редкий успех… обнадеживающих уродов, а не через непрерывные мелкие изменения внутри популяции» (Gould, 1977. Р. 30), буквально повторив формулировку Гольдшмидта. Не без участия Гулда разрыв между видами, не заполняемый изменчивостью клинального типа, стали называть разрывом Гольдшмидта (Gould, 1982. Р. 137). И сегодня мы можем с уверенностью сказать, что основные положения гипотезы Гольдшмидта выдержали испытание временем (включая тест Поппера) и полностью согласуются с экосистемной моделью эволюции. О том, какие генетические механизмы отвечают современному пониманию системной мутации, речь пойдет в гл. 17.
Понятие онтомутации А. Далька
Рассмотрим еще одну макрогенетическую концепцию, на первый взгляд напоминающую гипотезу Гольдшмидта, но на самом деле существенно отличающуюся от нее трактовкой как природы источника изменчивости, так и способа ее включения в процессы эволюции.
Бельгийский зоолог Альбер Дальк, один из крупнейших специалистов XX в. в области эмбриологии и биологии развития, подошел к проблеме эволюции с точки зрения тех различий в путях достижения дефинитивной организации, которые наблюдаются в эмбриогенезе у представителей ныне существующих типов животных. Опираясь на доскональное знание течения морфогенетических процессов, Дальк пришел к выводу, что два-три десятка основных планов строения (или архетипов), известных, по крайней мере, с кембрия, должны были установиться путем «радикальных трансформаций» самых ранних стадий эмбрионального развития (DaIcq, 1949). Соответственно, ключ к пониманию возникновения фундаментальных различий в организации главных групп животных нам может дать только эмбриология: в ней «наша единственная надежда узнать способ, посредством которого (возможно) архетип кишечнополостных дал начало различным основным группам» (Dalcq, 1957. Р. 152).
Альбер Дальк (1893–1973).
Ясно сознавая, что резкие преобразования строения, случись они у взрослого организма, сразу обернулись бы для него катастрофой и обреченностью на гибель.
Дальк особо отмечает, что они могут переноситься зародышем в силу его чрезвычайной пластичности и присущей ему высокой регуляционной способности[19].
Для обозначения «резких, глубоких, радикальных и одновременно жизнеспособных трансформаций, возникающих в цитоплазме яйцеклетки как морфогенетической системе», Дальк предложил термин «онтомутации» (Dalcq, 1949. Р. 393)[20]. Одним из самых типичных примеров онтомутации он считал возникновение вторичноротых через перевертывание оси симметрии яйца, произошедшее у кого-то из представителей первичноротых.
Дальк приписывал онтомутациям очень большую широту проявления. В статье, посвященной анализу вклада каузальной эмбриологии в решение проблем эволюции, он, в частности, писал: «Вполне допустимо, что одна и та же онтомутация могла быть причиной целой цепи вытекающих друг из друга событий — образования оболочки, симметрии, кинематики, индукции и даже развития головного мозга» (Dalcq, 1949. Р. 384).
Рассматривая роль онтомутаций в становлении млекопитающих, Дальк вскоре дополнил их характеристику: наряду с преобразованием цитоплазмы онтомутация, по его мнению, включает также «общее изменение всей ядерной системы» и отличается плейотропным действием. Настаивая, подобно Гольдшмидту, на системных и крупномасштабных проявлениях действия онтомутаций, реализующихся с большой быстротой, Дальк резко возражает Г. Картеру (Carter, 1951), который допускал, что изменения онтогенеза могут быть аддитивны и приходятся на его конечные стадии. Он прямо указывает, что разрывы в палеонтологической летописи — следствие онтомутаций.
Но и это не все. Дальк склоняется к мысли, что такие решающие изменения должны были в первую очередь происходить в физиологии самки и уже во вторую очередь отражаться на производимых ею яйцеклетках (Dalcq, 1955. Р. 250).
Взгляды Далька на источник и природу онтомутаций, к которым он пришел независимо от Гольдшмидта, весьма существенно отличаются от понятия системных мутаций. Различия между Дальком и Гольдшмидтом в понимании природы макромутаций проявились не только в подходе к проблеме. Они были связаны и с существенным прогрессом, достигнутым генетикой и физиологией развития за истекшее десятилетие. Гольдшмидт, как мы видели, не разделял моргановской корпускулярной концепции гена и подходил ко всем вопросам с точки зрения собственной хромосомной теории. В то время, когда им было предложено понятие системной мутации, основной догмат молекулярной генетики о прямой передаче информации по цепочке ДНК-РНК-белок еще не был сформулирован.
Дальк интересовался в первую очередь структурными изменениями и биохимическими процессами, совершающимися в цитоплазме. В Брюссельском университете, где он работал, с участием его бывшего воспитанника Ж. Браше интенсивно изучались молекулярные аспекты внутриклеточных процессов и роль нуклеиновых кислот и белков в развитии организма. В итоге биохимико-эмбриологический подход Далька к проблеме эволюции оказался еще более перспективным.
Исходным моментом эволюционных представлений Далька служит тезис о детерминирующей роли тонкой организации яйца по отношению к ранним стадиям эмбрионального развития. Дальк (Dalcq, 1949, 1951, 1954) пришел к заключению, что основные морфологические черты будущего организма определяются еще в ходе ортогенеза — до оплодотворения. В период дробления и гаструляции цитоплазматические органеллы и структурно-биохимические особенности цитоплазмы принимают в главных событиях онтогенеза не меньшее (если не большее) участие, чем геном. Обе указанные системы взаимодействуют.
Аналогичные соображения об источнике и характере макроэволюционных преобразований одновременно и независимо от Далька высказал французский зролог А. Ванд ель, относившийся к генетике оппозиционно (его макроэволюционную концепцию мы уже рассматривали).
По представлениям Ванделя (Vandel, 1949, 1954, 1955), крупномасштабная эволюция всецело обязана зародышевым изменениям, происходящим в яйце и усиливающимся в дальнейшем в ходе онтогенеза. Под зародышевыми изменениями Вандель понимал не генные мутации, а изменения в самой организации яйцеклетки, обнаруживаемые классическими цитологическими методами (общая архитектоника яйца, положение полюсов и оси его симметрии, характер биохимико-конституционных градиентов, тип дробления и т. п.). Так, опираясь на данные цитологии, эмбриологии и палеонтологии, он делает вывод, что вторичноротые произошли от первичноротых путем перевертывания оси симметрии яйца (Vandel, 1948). К организационным изменениям он относил, в частности, тип изменчивости клещей, изученный Ф. Гранджаном (Grandjean, 1949) и названный им «уклонениями», который не подчиняется законам Менделя, изменчивость цитоплазматических структур и изменчивость, привносимую вирусами.
Существование немутационной, а также особых механизмов мутационной изменчивости благодаря решающему прогрессу молекулярной биологии последней четверти XX в. перестало быть предметом одних лишь догадок прозорливых умов. Сравнительно недавние открытия радикальным образом изменили наши представления. Облигатный и факультативный компоненты наследственной системы, вариационная и динамическая (эпигенетическая) изменчивость, инсерционные мутации, регуляторная роль мобильных генетических элементов — все это совершенно новые явления, новые формы и пути передачи наследственной изменчивости, которых либо не знала, либо не допускала классическая генетика (см. об этом в гл. 16). В свете этих революционных открытий гипотезы, подобные макроэволюционным идеям Далька и Ванделя, обретают прочное основание.
Оценивая учения Далька и Ванделя, следует признать, что это были скорее эпигенетические, чем генетические, концепции. Они отвечали общей тенденции науки в исследовании причин индивидуального развития, которая, как это хорошо показала Е. Б. Баглай (1979), состояла в разработке идеи взаимодействия ядерного генетического аппарата с цитоплазмой. В приложении к онтогенезу эта концепция, с одной стороны, означала предвосхищение идеи существования оперона и впоследствии была подтверждена открытиями молекулярной генетики в области репрессии и дерепрессии генов, с другой стороны, ориентировала исследователей на поиск таких каналов инвариантного воспроизведения онтогенезов, которые непосредственно не связаны со стандартным генетическим механизмом.
При рассмотрении взглядов Филипченко мы уже касались современных представлений о факторах, детерминирующих начальные этапы эмбрионального развития. Можно считать окончательно доказанным, что процесс дробления яйцеклетки зависит от веществ цитоплазмы и всецело контролируется материнской программой развития. Геном же зародыша на данном этапе не функционирует. Все это твердо установленные факты. Однако представлять дело так, будто начальный период эмбриогенеза вообще не зависит от генетических факторов, означает совершать грубую ошибку. Материнская программа дробления зародыша осуществляется, как известно, за счет цитоплазматической иРНК, выработанной во время мейоза под действием материнского генома (Дэвидсон, 1972. С. 39). Поэтому соответствующие взгляды Далька вместе с аналогичными представлениями Коротковой и Токина следует считать устаревшими. Другое дело — изменения в ооцитах, влияющие на материнскую программу развития, к которым, в сущности, и сводится понятие онтомутации.
Надо сказать, что механизм онтомутации, хотя он пока еще и остается гипотетическим, отличается от понятия системной мутации чисто концептуальными преимуществами. Благодаря наличию системы обратных связей он оказывается открытым для влияний со стороны окружающей среды. Последняя действует на ооциты как непосредственно — во время их роста и дифференциации, так и посредством окружающих их питательных и фолликулярных клеток. Следовательно, при онтомутации цитоплазма выступает посредником между средой и генетическим регуляторным механизмом.
В случае онтомутации снимается основное затруднение, стоящее перед гипотезой «обнадеживающих уродов», — нахождение для них брачного партнера и создание потомства. Дело в том, что, по представлению Далька, онтомутации, приводящие к глубокой перестройке всей онтогенетической системы, вызываются резкими изменениями внешних факторов, которым в одно и то же время подвергаются самки всей местной популяции в период созревания яйцеклеток. Такие воздействия среды могут быть и многократными. В гипотезе Далька, следовательно, новый вид возникает сальтационно, в результате массового преобразования всей его популяции. И этот вывод Далька, напоминающий сходные представления Филипченко, Берга, Ванделя и других исследователей, находит подтверждение в современных наблюдениях. Так, в ходе 20-летних исследований М. Д. Голубовским (1978) обнаружен новый феномен: вспышка мутаций одновременно во многих географически удаленных популяциях, являющихся результатом транспозиции мобильных генетических элементов, имевших место у самок задолго до начала мейоза. Но признание наличия в онтомутации механизма обратных связей со средой означает возможность экспериментальной проверки гипотезы. А между тем никто из экспериментаторов настоящей онтомутации не описал. Возможно, это связано с трудностями ее идентификации.
Тем не менее вопрос о возможности существования в природе жизнеспособных форм с резко преобразованным онтогенезом типа онтомутантов никак нельзя решать огульно отрицательно. В течение последних 25–30 лет накапливалось все больше фактов обнаружения достаточно крупных мутаций, относящихся преимущественно к растениям и беспозвоночным. О влиянии цитоплазмы на функционирование генома свидетельствовали многочисленные опыты с пересадкой ядер у амфибий (Лопашов, 1968; Gurden, 1969; Laskey, Gurdon, 1970; Гердон, 1971; Лопашов, Хоперская, 1977). К. Равен показал, что некоторые из цитоплазматических факторов яйцеклетки обыкновенного прудовика (брюхоногого моллюска) обладают экзогенной природой и проникают в цитоплазму развивающегося ооцита извне посредством окружающих его фолликулярных клеток (Raven, 1966, 1967, 1972).
В настоящее время биологи пришли к довольно единодушному мнению, что в ходе онтогенетического развития формируется единая ядерно-цитоплазматическая система. По аналогии с феноменом усиления в ходе индивидуального развития даже самых малых сдвигов в генетической программе дифференциации до крупных морфологических преобразований современная наука не отрицает и морфологического эффекта возможных изменений в архитектонике цитоплазмы яйцеклетки. Согласно авторитетному мнению профессора Базельского университета В. Геринга (1985), подытожившего данные биологии развития начала 1980-х гг., некоторые мутации материнского эффекта, сказывающиеся на пространственной организации зародыша, проявляются в изменении передне-задней и дорсовентральной полярности яйцеклетки еще в период ее формирования в яичнике матери. Геринг делает вывод, что изучение мутантов, возникающих вследствие мутаций материнского эффекта, позволяет предполагать, что «цитоплазма яйцеклетки содержит вещества, определяющие пространственные координаты будущего эмбриона» (Геринг, 1985. С. 116). Но вот о химической природе веществ, кодируемых материнскими генами и придающих впоследствии цитоплазме яйцеклетки ее пространственную поляризацию, кроме упоминавшейся иРНК, пока мало что известно. Возможно, это и какие-то белки (например, гистоны), как предполагалось раньше (Arms, 1968; Гордон, 1971).
Все изложенное показывает, что вопрос о значении взаимодействия генетической системы, цитоплазмы и среды в установлении качественно нового онтогенетического равновесия, могущего иметь далеко идущие эволюционные последствия, находится в стадии пристального изучения и еще далек от окончательного решения.
Подобно прочим мутационистам, Дальк не отрицает полностью участия естественного отбора в эволюционном процессе, но он решительно против признания его ведущей роли в становлении планов строения. Отбор может вступать в свои права лишь после возникновения типа и способствовать его прогрессивной дифференциации (Dalcq, 1951). А вообще же Дальк старается избегать обсуждения этого вопроса. Об игнорировании Дальком селекционных процессов весьма красноречиво говорит его указание, что «на факты эволюционного развития надо смотреть не под углом зрения адаптации, а с точки зрения организации» (Dalcq, 1955. Р. 248). Вступая в известное противоречие с собственным пониманием онтомутации, допускающим вмешательство факторов среды, он заявляет о себе как о стороннике органицизма и последователе Берталакфи и Вуджера.
На примере рассмотренных гипотез мы могли убедиться, что инициативу в поиске движущих сил и механизмов эволюции с некоторых пор уверенно захватывает генетика. Ключевую роль в развитии учения о макроэволюции она сохраняет за собой и сегодня, не переставая удивлять ученый мир все новыми неожиданными открытиями, заставляющими пересматривать десятилетиями складывавшиеся концепции. На короткое время ее серьезной конкуренткой в разработке макроэволюционных гипотез становится эмбриология. Вскоре, однако, выясняется, что все догадки об абсолютной независимости архитектонических и конституционных изменений яйцеклетки от генетических факторов являются ошибочными (см. также гл. 16). С этого момента позиции эмбриологии в борьбе за пальму первенства оказываются серьезно подорванными.
Сальтационизм в палеонтологии первой половины XX в.
Начиная с 1900 г. палеонтология (особенно на Западе), дотоле в известной мере служившая опорой теории Дарвина, на четыре с лишним десятилетия становится оплотом антидарвинизма. В лагере противников Дарвина оказались как общепризнанные исследователи (Циттель, Абель, Осборн, Роза, Депере), так и специалисты меньшего масштаба (Иекель, Кокен, Земпер, Вальтер, Додерлейн, Дакке, Дувийе, Штейнман, Бойрлен). Позднее ряды противников дарвинизма пополнили такие всемирно известные палеонтологи, как Т. де Шардэн, Хюне, Шиндевольф, Буль, Пивто.
В противовес дарвиновским причинам эволюции они выдвигали по крайней мере три положения: об особых автономных силах прогрессивной эволюции, об их имманентности всему живому и о скачкообразном (эксплозивном) характере крупномасштабной эволюции. Последнее положение приобрело особую популярность, причем среди палеонтологов разной идейной ориентации. Они сознательно противопоставляли его тезису о непрерывности и постепенности эволюции. Сальтационизм провозглашает своим идейным лозунгом перевернутый афоризм Лейбница, который приобретает отныне противоположный смысл: «Природа делает скачки».
В рамках сальтационистской трактовки внутривидовой и надвидовой эволюции доминирующим становится представление о чередовании периодов относительного эволюционного покоя и быстрого формообразования. Проиллюстрируем сказанное на примере взглядов отдельных палеонтологов, отличающихся своим сальтационистским характером.
Один из последователей Копа — А. Вудвард (Woodward, 1906) считал силу батмизма главным фактором эволюции и был убежден, что она действует прерывисто. Отсюда чередование быстрых прогрессивных шагов эволюции, отмеченных приобретением новых признаков радикального характера, с длительными периодами постоянства форм. Эта периодическая последовательность «импульсов», или «взрывов» энергии, дававших начало более высокой организации, свойственна, по Вудварду, не только классу рыб, ископаемые формы которых им были досконально изучены, но и всему органическому миру.
Немецкий палеонтолог О. Иекель (Jaekel, 1902) также полагал, что крупные эволюционные преобразования совершаются исключительно благодаря внезапным скачкам большого масштаба, приходящимся на ранние стадии зародышевого развития, когда организм еще сохраняет большую долю пластичности. Подобный скачок, приводящий к глубоким морфологическим преобразованиям, Иекель назвал метакинезом (ibid., S. 35). Этот термин, однако, не прижился. Гораздо более долговечным оказалось понятие «анастрофы», предложенное И. Вальтером (Walter, 1908) для обозначения фазы быстрой трансформации органического типа. Вальтер отмечал, что анастрофы наблюдаются во всех систематических группах животных — от рода до класса — и появляются только по прошествии длительного времени, в течение которого группы животных «живут в форме безразличных, с трудом характеризуемых прототипов, не обнаруживающих существенных изменений…» (ibid., S. 551). Аналогичные соображения развивал Р. Ведекинд (Wedekind, 1920).
В известной мере предвосхищая идеи Гарстанга и де Бира, Иекель считал, что в основе образования крупных систематических подразделений лежит явление остановки развития (эпистаз), прерывающее нормальный онтогенез до достижения организмом дефинитивного состояния. С эпистазом он связывал отсутствие переходных форм между большими группами. В соответствии с этой гипотезой новые таксоны возникают благодаря «омоложению» старых, причем последние обычно представляют собой единицы более высокого систематического ранга. В таком случае эволюция идет как бы сверху вниз.
В подобной трактовке макрофилогенеза нет ничего удивительного, если принять во внимание, что Иекель также был последователем Копа. Подобно Копу, он резко отделял видообразование, якобы характеризующееся исключительно внешними признаками, от процессов образования высших (от рода) таксонов, носящих, по Иекелю, строго ортогенетический характер.
В пользу эксплозивного характера возникновения новых филогенетических ветвей в той или иной форме высказывались также Депере (1915), Хенниг (Hennig, 1932), Дакке (Dacque, 1935), Бойрлен (Beurlen, 1937) и др.
В 30-е годы XX в. на Западе получило известность учение А. Н. Северцова о главных направлениях эволюционного развития. Чтобы оттенить специфику ароморфоза как филогенетического преобразования, связанного с приобретением адаптаций универсального значения и повышением общего уровня энергии жизнедеятельности, Северцов в ряде случаев довольно резко противопоставлял ароморфоз и идиоадаптацию, чём вызвал одобрительное отношение к своей теории со стороны Дакке, Бойрлена, а позднее и Шиндевольфа.
Учение об ароморфозе Дакке (Dacque, 1935) воспринял как конкретизацию своих представлений о возникновении новых организационных признаков путем взрыва. Воспользовавшись терминологией Северцова, он писал, что после такого взрыва ароморфные признаки остаются долгое время почти неизменными. Утверждение Дакке о возникновении ароморфоза внезапно, подобно взрыву нельзя рассматривать иначе как его собственный домысел, ибо ничего подобного Северцов нигде и никогда не писал.
Предметом домыслов со стороны указанных авторов явилось и само происхождение ароморфных изменений. К сожалению, Северцов не уделил достаточного внимания каузальной стороне этого явления, ограничившись общими соображениями о детерминирующей роли естественного отбора. В этом пункте Дакке и Бойрлен, однако, разошлись с Северцовым кардинально. Ратуя за особые таинственные причины ароморфоза, Дакке заявлял, что они возникают «сами из себя» (Dacque, 1935. S. 194). Впрочем, здесь уместно заметить, что вообще этот палеонтолог допускал эволюцию только в пределах типа организации.
Позднее Шиндевольф (Schindewolf, 1950), приветствуя учение Северцова об ароморфозе и проводя параллель с собственным представлением о перечеканках типовой организации, сравнивал его с сальтационистскими идеями Геера и Келликера.
Французский палеонтолог Ш. Депере (1915) — один из немногих, кто пытался связать темпы эволюции с ее формами и с уровнем возникающих таксонов. Он допускал образование новых видов путем как медленных и постепенных изменений, так и изменений внезапных, скачкообразных. Первый тип, по Депере, дает объяснение возникновению ваагеновых мутаций. Но, как указывает ученый, путем такой медленной «прямой эволюции», кажущейся «самым нормальным и наиболее обычным процессом палеонтологического развития», никогда не возникают столь значительные уклонения, которые можно было бы отнести к различным семействам. Все развитие совершается в силу внутренних причин, независимо от среды.
Путь образования высших подразделений системы, начиная с семейств, по Депере, иной. Он связан с более быстрыми превращениями, возникающими на основе «боковой изменчивости», которая имеет «коренное различие» с «прямым… нормальным развитием». В другом месте Депере связывает дифференциацию на отряды, классы и типы с бифуркацией ветвей одного и того же семейства (там же, с. 212, 214). Из этих высказываний становится совершенно ясно, что под вторым способом формообразования Депере понимал тот, что теперь именуется видообразовательной, или кладистической, эволюцией и которому придается такое значение в современной теории прерывистого равновесия.
Новые ветви, отделяющиеся от более древних при втором способе эволюции, могут возникать либо путем географической изоляции (процесс довольно медленный), либо путем взрыва, пример которого дает, по де Фризу, внезапное образование видов (путь более быстрый, но, по замечанию Депере, менее доказательный). Любопытно то, что, подобно современным пунктуалистам, Депере считал, что периоды кризиса, связанного с быстрым видообразованием, чередуются с периодами относительного покоя (или более слабой изменчивости). Правда, во время покоя филогенетическая ветвь медленно и правильно проходит нормальные стадии своего развития. Иными словами, она развивается по первому способу эволюции — самопроизвольно, независимо от воздействий внешней среды.
После учения Берга и Соболева, о которых речь впереди, в Советском Союзе в 50-е годы XX в. возникла своеобразная сальтационистская концепция, трактовавшая организм как совокупность таксономических признаков, обязанных своим происхождением факторам внешней среды разного географического распространения. Авторы этой концепции — ботаники С. С. Хохлов, М. М. Ильин и И. С. Виноградов — назвали ее политопной монофилией, поскольку филогенез в ней осуществляется путем одновременного превращения целых популяций вида, рода, семейства и т. д. в новые таксоны параллельными филами. Мы не будем, однако, рассматривать эту фантастическую гипотезу, к тому же находившуюся в идейном родстве с лысенковской доктриной, и сразу перейдем к фундаментальной теории О. Шиндевольфа.
Теория типострофизма О. Шиндевольфа
Имя выдающегося немецкого палеонтолога XX в. Отто Шиндевольфа широко известно на пространстве бывшего Советского Союза. Он являл собой тот тип ученого, взгляды которого всегда служили хрестоматийным объектом для публичной критики, а эрудиция и умение активно пользоваться огромным фактическим материалом — предметом тайного восхищения. И так было всегда, начиная с того момента, как И. И, Ежиков (1940) и Л. Ш. Давиташвили (1948, 1966) бросили Шиндевольфу упрек в автогенезе и идеализме. Теперь мы знаем, что неотступность критики часто оказывается верным показателем и значимости теории, и масштабности личности ее создателя.
Выше уже говорилось о тяге ряда палеонтологов молодого поколения к генетике. Именно палеонтологи первыми почувствовали комплементарность этой дисциплины к своей специальности в деле обоснования конструируемых моделей эволюции. Однако они не видели взаимности, и мост между этими двумя весьма удаленными друг от друга областями знания приходилось строить им одним.
Между тем генетика не была монолитной. В 1940-е годы в ее рамках существовали по крайней мере четыре ветви: классическая моргановская, популяционная, физиологическая и только начинавшая формироваться цитоплазматическая, и между ними нужно было делать выбор.
Как писал Дж. Симпсон в автобиографии (Simpson, 1978), его побудили обратиться к генетике труды Добжанского, Гольдшмидта и особенно Шиндевольфа, который одним из первых осознал плодотворность союза с генетикой, хотя якобы и дал его результатам «превратное толкование». Мы знаем, что Симпсон выбрал в союзники генетику популяционную и, восприняв ее постулаты, поставил палеонтологию на службу СТЭ, Шиндевольф поступил иначе. Он остановил свой выбор на той части эволюционной генетики, которая, игнорируя популяционные процессы, поставила во главу угла гипотетические макрогенетические изменения на уровне индивида. Это была физиологическая генетика Гольдшмидта. Она и сыграла важнейшую концептуальную роль в оформлении взглядов Шиндевольфа в единую систему. Гипотеза Гольдшмидта только усилила сальтационизм Шиндевольфа.
Исходные методологические посылки Шиндевольфа прямо противоположны позиции Симпсона и типичны для сальтационизма. Это распространение закономерностей онтогенеза на филогенез и трактовка обоих процессов развития как феноменологически идентичных, отрицание эволюционной роли случайности и ее перехода в необходимость через статистический процесс, рассмотрение в качестве носителя эволюции отдельного индивида (организмоцентризм) и, соответственно, типологический подход к анализу эволюционных событий, трактовка макроэволюции как строго ортогенети чес кого развития филогенетических стволов, совершающегося под действием таинственных внутренних причин (органииизм). Последний постулат в сочетании с верой во врожденную способность всего живого к целесообразным реакциям делает понятным, почему в концепции Шиндевольфа и эволюционных построениях его единомышленников естественному отбору практически нет места.
Отто Генрих Шиндервольф (1896-1971).
Контуры теории типострофизма складывались в сознании ее автора на протяжении четверти века и получили законченное выражение в широко известной книге Шиндевольфа «Основные вопросы палеонтологии» (Schindewolf, 1950а).
Основу его теории составили представления о смене типов организации, преобразования которых автор назвал типострофами, а свою теорию — соответственно, типострофизмом. Ее источником и основанием послужил объективный факт неполноты палеонтологической летописи.
Сообразно принимаемой Шиндевольфом цикличности эволюционного процесса, развитие филогенетических стволов распадается на три специфические фазы — типогенез, типостаз и типолиз, различающиеся между собой по движущим силам, темпам и характеру развития.
В первой фазе цикла — патогенезе — в результате быстрой и внезапной перечеканки существующих типов образуется большое число новых типов и подтипов организации. Причиной перечеканки являются макромутации (комплексные мутации), возникающие самопроизвольно и вызывающие одномоментное коренное и гармоничное изменение всей сложной системы структур и функций организма. Макромутации приводят к крупномасштабной генетической реконструкции отдельных индивидов, часть которых и оказывается родоначальниками новых типов.
Первоначально Шиндевольф придерживался мнения, что макромутации возникают самопроизвольно. Позднее, с переходом на позиции катастрофизма, стал склоняться к мысли, что они вызывались резкими изменениями в уровне космической и солнечной радиации (Schindewolf, 1954, 1963). От масштабов мутации зависит глубина трансформации типа. В качестве наиболее демонстративных примеров решающей роли таких мутаций, выведших новый тип на магистральный путь ортогенетического развития, Шиндевольф приводит образование однопалой конечности у лошади и эксперименты с превращением цветка львиного зева из билатерального в радиально-симметричный.
В связи с отсутствием какой-либо предопределенности в возникновении и характере макромутаций все организационные преобразования в фазе типогенеза совершаются случайно на основе исключительно свободного формообразования. Шиндевольф особо отмечает, что ввиду чрезвычайной краткости данной фазы и стремительности типострофических преобразований какое-либо влияние на них внешних факторов или естественного отбора абсолютно исключено. Поэтому типогенез адаптивно нейтрален. Возникновение новых типов (планов строения), способных к прямолинейному развитию, создает, по Шиндевольфу, решающую предпосылку прогрессивной эволюции.
Будучи палеонтологом, Шиндевольф не занимался изучением механизма типостроф, но не воздержался от ряда умозрительных суждений по этому вопросу. По его мнению, перечеканка типовых планов строения происходит на самых ранних стадиях развития исходного типа. Настаивая на раннеонтогенетическом изменении типов, Шиндевольф замечает, что они наступают тем раньше, чем значительнее качественный масштаб структурных различий и чем выше таксономический ранг будущей группы организмов, воплотившей признаки нового типа (Schindewolf, 1950а, S. 255). В ряде случаев у Шиндевольфа можно встретить прямое указание, что новый тип таксона появляется непосредственно из яйцеклетки животного, принадлежащего к предшествующему таксону.
В фазе типостаза (т. е. постоянства типов) новые филогенетические стволы (типы), возникшие в предыдущей фазе, переходят к «принудительному ходу развития» — ортогенезу, совершающемуся параллельными линиями. Вместе с тем в рамках достигнутых планов строения происходит процесс дифференциации и возникает огромное органическое многообразие. В процессе непрерывного видообразования принимает некоторое участие и естественный отбор, пришлифовывающий новые виды к окружающим условиям.
В фазе типолиза (т. е. распада типов) чрезмерная специализация и не зависящее от внешних факторов переразвитие отдельных структур и органов, нарушающие сбалансированность организации, в конце концов приводят к вымиранию всех форм типа.
Одна из наиболее существенных черт теории типострофизма состоит в том, что ее автор решительно разграничивает типогенез и адаптивную эволюцию, иными словами, процессы макро- и микроэволюции. Настаивая на коренном различии типогенеза и процесса видовой дифференциации, Шиндевольф, по сути, следует за Ламарком и Бэром. В его представлении это не только два различных, но и два противоположных процесса, подчиняющихся разным закономерностям. Шиндевольф останавливается на этом вопросе особенно подробно и пытается его обосновать на обширном палеонтологическом материале.
По сравнению с дарвинизмом в концепции Шиндевольфа мы сталкиваемся с обратным порядком возникновения в эволюции иерархической системы таксонов. По убеждению Шиндевольфа, типострофы, а следовательно, и истинная эволюция совершаются не путем видообразования, не путем аккумуляции мелких изменений, а путем непосредственной перечеканки совокупности признаков типа (архетипа). Шиндевольф со всей категоричностью утверждает, что черты организации типов, семейства, порядка или класса формируются не через изменение принадлежащих к ним видов, а путем «непосредственной выработки типового комплекса от семейства к семейству, от порядка к порядку, от класса к классу», т. е. «целостного изменения типов». «В этом, — подчеркивает Шиндевольф, — ядро теории типострофизма, которая в корне отличается от дарвинистских взглядов и направлений» (Schindewolf, 1950. S. 398). Впрочем, приоритетное значение в фазе типогенеза Шиндевольф отдает нисходящему процессу «раздробления высших типовых единиц на низшие» (op. cit., S. 395). Естественно, что при подобном понимании макроэволюции он вынужден считать свои типы не менее реальными формами, чем виды. Для подтверждения своей правоты Шиндевольф проводит аналогию с порядком индивидуального развития и ссылается на эмбриологический закон Бэра, согласно которому развитие идет не от специального к общему, а от общего к специальному, а также на правило неспециализированного происхождения, гласящее, что исходным пунктом прогрессивного развития выступает более простая, недифференцированная организация.
Здесь невольно напрашивается сопоставление взгляда Шиндевольфа на механику макроэволюции с представлениями креациониста Л. Агассиса, названного Ф. Энгельсом «последним великим Дон Кихотом» в биологии. Раскрывая кредо Агассиса, Энгельс писал, что, согласно его представлениям, «…бог творит, начиная об общего, переходя к особенному и затем к единичному, создавая сперва позвоночное как таковое, затем млекопитающее как таковое, хищное животное как таковое, род кошек как таковой и только под конец льва и т. д., т. е. творит сперва абстрактные понятия в виде конкретных вещей, затем конкретные вещи» (Маркс, Энгельс. Т. 20. С. 521–522).
Однако, как мы увидим дальше, представления Шиндевольфа о способах возникновения высших таксонов находят подтверждение как в пунктуализме, так и в открытиях молекулярной генетики.
Своеобразную трактовку получила в теории Шиндевольфа проблема вида и видообразования. Согласно его взглядам, отличительные признаки видов носят поверхностный характер и не имеют ничего общего с признаками, на которых основывается различие типов; они никак не могут превращаться друг в друга. Более того, развитие признаков двух данных категорий в филогенезе протекает в значительной мере антагонистично. Исходя из подобной посылки, Шиндевольф приходит к заключению, что путем усиления и прогрессирующей дифференциации видовых признаков и присоединения их части к имеющемуся видовому комплексу может возникнуть не более общий план строения, а, напротив, произойти «сужение степени общности наличной комбинации признаков» (Schindewolf, 1950а. S. 274), Отсюда он делает вывод, что усиливающаяся специализация и дифференциация — вовсе не средства прогрессирующего естественно-исторического развития, но, напротив, «препятствие к подъему», и считает, что этому принципу, враждебному развитию, должен быть противопоставлен другой, снимающий «сужающие, тормозящие действия специализации» и вновь создающий общие (недифференцированные и дающие потомство) основы развития. «Это средство, приносящее новые импульсы, заложено в проникающем изменении типов» (op. cit., S. 300). Отсюда общая оценка видообразования как всего лишь завершающей надстройки над высшими типами и как «самого бедного результатами частного случая общего принципа изменения типов». Все это напоминает позицию Ванделя.
Наконец, еще один веский довод в пользу своей концепции Шиндевольф видел в явлении предварения филогении онтогенией.
Он обратил внимание на существование некоторых ископаемых серий, которые свидетельствовали в пользу явления, названного Л. С. Бергом филогенетическим ускорением, или предварением признаков. Выдвинув аналогичную гипотезу, Шиндевольф назвал ее протерогенезом (Schinderwolf, 1925, 1929, 1936). Позднее она вошла как составная часть в теорию типострофизма.
Сущность гипотезы протерогенеза сводится к утверждению, что между онто- и филогенезом существует таинственная односторонняя связь, при которой первый действует на второй при реализации типовых признаков. По убеждению Шиндевольфа, новый комплекс признаков, возникший на основе раннеонтогенетической перечеканки плана строения, в ряду последующих онтогенезов все более смещается от юношеских стадий к стадиям зрелости и старости: ювенильные признаки становятся сенильными. При этом если в новом комплексе и сохраняется какой-то рудимент предкового состояния, то он постепенно сокращается и наконец совершенно исчезает. Получается нечто противоположное биогенетическому закону: состояние предков повторяют не юношеские, а старческие стадии; место же рекапитуляции (палингенезов) занимает то, что должно произойти в будущем. Благодаря переходу протерогенетических признаков на все более поздние стадии как раз и происходит расчленение предыдущего типа и образование признаков «подчиненных типов» (Schindewolf, 1950а. Р. 269).
В поисках обоснования своей гипотезы Шиндевольф подробно исследовал группы аммонитов и пришел к заключению, что протерогенез касается лишь отдельных органов и комплексов признаков, но не организма в целом.
Эволюционные представления Шиндевольфа, в особенности касающиеся внезапного превращения типов организации, имели весьма широкий резонанс. Это объяснялось в первую очередь тем, что две категории доводов в пользу внезапного скачкообразного формообразования — малочисленность переходных форм в палеонтологической летописи и предполагаемая крупномасштабная реконструкция организмов с помощью системных мутаций, — доныне питавшие два независимых потока эволюционной мысли, представленные, с одной стороны, палеонтологами, а с другой — генетиками и эмбриологами, теперь соединились воедино. Каждый из этих потоков нашел в другом свое идейное дополнение. В свете учения о макромутациях на разрывы в палеонтологической летописи стали смотреть не как на следствие ее временной неполноты, а как на реальный и закономерный факт: между крупными систематическими подразделениями переходных форм не существовало, их вообще не должно быть, поскольку один тип организации благодаря системной (или онто-) мутации непосредственно превращается в другой. При этом в соответствии с типологическим мышлением приверженцы макрогенеза полагали, что потенциально основателями новой систематической категории могли стать отдельные индивиды.
Подобный концептуальный альянс двух эволюционных течений не мог не привести к усилению сальтационизма, и, действительно, в 50-60-х годах XX в. наблюдается его мощный подъем, захвативший не только палеонтологов, но и неонтологов многих специальностей. В числе первых можно назвать имена Петрункевича, Броу, Лемана, Токе, Тинтана, Пивто, в числе вторых — Керкута, Маттея, Жаннеля, Кэннона, Штерна, Ванделя и многих других. В СССР на позициях сальтационизма оказались Личков, Любищев, Хохлов, Ильин, Красилов, Алтухов, Ивановский. При общности идейно-теоретических позиций каждый из названных авторов вносил в понимание механизма эволюции свои специфические особенности.
Для многих, если не для большинства, сальтационистов стало характерным представление о затухании или полном прекращении макроэволюции в современную эпоху. Соответственно, и различного рода макромутации трактовались ими как фактор эволюции давно минувших геологических эпох. Основным аргументом в пользу такого представления служит тот факт, что практически все крупные систематические подразделения (типы, классы) беспозвоночных, а также предки современного типа хордовых известны уже с кембрия. Этот взгляд особенно типичен для финалистического крыла сальтационизма.
Яркой иллюстрацией может служить позиция английского палеонтолога Дж. Броу (Brough, 1958). Этот автор делит всю биологическую эволюцию на два этапа. Первый можно назвать эпохой великого типогенеза. На этом раннем этапе мутационный процесс отличался масштабностью, высокими частотами, а сами мутации носили направленный характер. Такие мутации порождали «великие волны» жизни, когда внезапно возникали новые высшие таксономические единицы — типы, классы, отряды. На втором, позднем этапе высшие таксоны уже не образуются, поскольку в силу исчерпания потенциальной энергии эволюции макромутации прекратились. Вместо них начался процесс обычного мутирования, наблюдаемый в настоящее время. Соответственно, и эволюция на этом этапе не выходит за пределы низших систематических единиц. Зато свое место среди факторов эволюции впервые занял естественный отбор.
Упрочение сальтационизма в 60-80-е годы XX в. Неокатастрофизм
С середины 60-х годов XX в. число сторонников идеи сальтационизма или сальтационного возникновения видов и надвидовых таксонов, отвергающих единство факторов микро- и макроэволюции, неуклонно растет. Характерно, что в своих макрогенетических построениях они уже опираются не на псевдонаучные представления о природе наследственности и изменчивости, а на достижения классической и молекулярной генетики. Не менее важно, что ученые, о которых пойдет речь, являются высококомпетентными специалистами, отличающимися широтой эрудиции и критическим складом ума.
Позиции сторонников типичного макрогенеза заняли палеоботаник В. А. Красилов (1969, 1972, 1977), генетик Ю. П. Алтухов и антрополог Ю. Г. Рычков (1972), палеонтологи В. Е. Руженцев (1960) и А. Б. Ивановский (1976). Их макроэволюционные концепции отличаются следующими общими чертами. Виды и таксоны более высокого систематического ранга возникают скачкообразно в результате редких макромутаций системного характера или серии таких мутаций, следующих друг за другом. Внутривидовая изменчивость (генетический полиморфизм), порождающая популяционно-генетические процессы, не имеет того эволюционного значения, которое ей приписывается теорией селектогенеза. Хиатусы, наблюдаемые между ныне существующими таксонами и ископаемыми группами, реальны и связаны не с неполнотой данных, а с естественным отсутствием переходных форм. Поскольку новый морфологический тип рождается всегда в форме видов, которые лишь в таксономическом плане могут быть неравноценными, между процессами видообразования и макроэволюции нет принципиального различия. Все эти положения, в сущности, идентичны концепциям Гольдшмидта и Гуго де Фриза. На идейное родство с ними указывают сами авторы (Алтухов, Рычков, 1972. С. 186). Ивановский (1976) предпочитает солидаризироваться с Шиндеводьфом.
Алтухов и Рычков (1972) трактуют системные мутации как проявление дупликаций генов, полиплоидии (и политении) и хромосомных перестроек, а Красилов (1977) — как перестройку полигенных регуляторных систем. Последний полагает, что если гипотеза о разуплотнении участков ДНК повторной ДНК, вкрапленной между структурными локусами, верна, то делении участков повторной ДНК могут вызвать наложение последовательных событий онтогенеза с макромутационными последствиями.
Подобно Любищеву, Алтухов, Рычков, Красилов и Ивановский считают, что периоды образования новых видов и высших таксонов путем качественной реорганизации генома (кладогенез) сменяются периодами длительной стабильности, на протяжении которых новые виды и филумы не возникают. Поскольку эта идея была высказана Любишевым, Алтуховым и Рычковым не позднее 1972 г., можно говорить о предвосхищении ими аналогичного утверждения теории прерывистого равновесия.
Весьма существенное значение в эволюции придают упомянутые авторы явлениям неотении и педоморфоза, многими отождествляемым, и отчасти архаллаксису. По мнению Красилова (1977), за неотению ответственны мутации регуляторных генов, контролирующие темпы роста (аллометрический рост) и степень развития органа. Иными словами, к неотении приводит часть системных макромутаций, которые он именует фетализирующими мутациями. Последние приобретают решающее значение при захвате группой в условиях жесткого отбора новой адаптивной зоны и характеризуют некогерентную эволюцию. Участие педоморфоза в формировании многочисленных групп животных подтверждено многими авторами.
Генеральной линией эволюции основных отделов растений вот уже более полвека A. Л. Тахтаджян (1948, 1954, 1983, 1991) считает неотению и архаллаксис. Вероятно, никто из ботаников до него не придавал столь широкого значения этим явлениям. Он показал, что путем неотении появились многие высшие таксоны сосудистых растений — вплоть до класов и отделов. Таким путем древесные формы превратились в травянистые, из стробила голосеменных предков возник цветок, а вместе с ним сформировались цветковые растения.
В широком использовании модуса неотении при объяснении макроэволкшионных новшеств крупного масштаба у растений заключены истоки сальтационистских представлений Тахтаджяна и причина его обращения к механизму макромутаций. Благодаря макромутациям неотенические превращения быстры и прерывисты и возникают в небольших периферических изолятах. Путь к макроэволюционным новшествам лежит через «многообещающих монстров». Как ни редки случаи их возникновения и как ни ничтожна вероятность их успешного развития, но при длительности геологического времени даже очень редких случаев успеха достаточно, чтобы объяснить многие скачкообразные события макроэволюционного характера. Тахтаджян полагает, что «именно таким путем возникли высшие растения от зеленых водорослей, голосеменные — от примитивных разноспоровых папоротников, цветковые растения — от примитивных голосеменных, однодольные — от двудольных, некоторые порядки и семейства цветковых растений, а также многие роды» (Тахтаджян, 1983. С. 1600). По мнению Тахтаджяна, «многообещающие монстры» бывают представлены только единичными особями, и потому основателем популяции может быть только единичная особь (оплодотворенная самка или диаспора обоеполого растения).
В этом вопросе Тахтаджян сходится, как мы видели, с Алтуховым, Рычковым, Шиндевольфом и Гольдшмидтом. Он отличается от них, однако, тем, что считает сальтационистский способ формообразования более редким по сравнению с градуалистическим. Примерно такое же место отводят этому модусу эволюции Л. П. Татаринов (1987, 1988) и Н. Н. Воронцов (1984, 1999).
В связи с предпринятым анализом сальтационистского течения необходимо остановиться на его отношении к общепринятым методам униформизма и актуализма.
Сальтационизм в трактовке способов филогенетического развития вполне может сочетаться с униформизмом в толковании факторов и причин эволюции. Именно так обстояло дело в случае гипотез Келликера, Майварта или Коржинского, которые не отрицали постоянства единых причин эволюции, но полагали, что они действуют прерывисто.
Как было показано на примере главных сальтационистских концепций эволюции, рассмотренных в этой главе, представления о внезапных массовых перечеканках типов, об одномоментном появлении новых таксонов на основе макромутаций расходятся с результатами эволюционных событий последних геологических эпох. Это прекрасно сознают и Гольдшмидт, и Дальк, и Шиндевольф. Они без колебания порывают с идеей униформизма о постоянстве факторов эволюции и в противовес ей выдвигают тезис о внезапных сменах одних факторов и причин принципиально иными, носившими глобальный характер. Они также полностью отрицают какую-либо преемственность между причинами, действовавшими в прошлом, с ныне существующими. Подобные сальтационистские представления, по-видимому, по аналогии с теорией катастроф Кювье получили название неокатастрофизма (Степанов, 1959). Интересно, что с этим термином в целом согласился сам Шиндевольф (Schindewolf, 1963. Р. 430).
Неокатастрофизм[21], получивший развитие с начала прошлого века, стал одной из основных форм антидарвинизма. К нему влекло биологов по разным причинам, но их всех объединяло несогласие с представлениями о равномерности темпов эволюции. В прерывистости и скачкообразности они видели основной закон филогенетического развития и распространяли этот принцип на сами движущие силы эволюции.
Отвергая модель эволюции как процесса суммирования небольших изменений, Шиндевольф писал: «…скорее можно считать, что наряду с факторами, аналогичными действующим в настоящее время, в доисторические времена происходили еще и другие процессы, которые, будучи относительно редкими событиями, отделенными от нас огромными промежутками времени, поэтому недоступны наблюдению и эксперименту» (Schindewolf, 1950а. S. 333). Шиндевольф говорит «наряду», желая лишь создать видимость того, будто полностью не порывает с методом актуализма. Существо же его теории ясно свидетельствует, что он вовсе не признает факторов эволюции, общих для прошлого и настоящего, и допускает существование лишь одних частных факторов, заменяющих друг друга вне связи с какими-либо материальными причинами.
Сказанное в равной мере относится к Гольдшмидту, Далъку и их единомышленникам. Эти авторы и сами неоднократно отмечают, что эпоха направленных макромутаций и типогенеза давно миновала и наблюдаемый мутационный процесс красноречиво свидетельствует об истощении «энергии эволюции» (Dalcq, 1951; Matthey, 1954; Brough, 1958).
Пожалуй, большая часть сторонников неокатастрофизма придерживаются мнения о периодическом характере смен факторов и причин эволюции. В их числе находятся Гольдшмидт, Дальк, Шиндевольф до его перехода на позиции гипотезы о детерминирующей роли космической и солнечной радиации, а из отечественных сальтационистов — Дичков, Красилов и Ивановский.
Выступающие за непериодичность составляют явное меньшинство. Они связывают смену факторов с внезапным вмешательством в процессы эволюции уникальных или случайных абиотических агентов и тем в значительной мере делают свои гипотезы принципиально недоказуемыми.
Заканчивая обзор сальтационизма, мы не прощаемся с этим течением окончательно. Нам еще предстоит встретиться с его современным и наиболее авторитетным вариантом — теорией прерывистого равновесия (см. гл. 15).
* * *
В идейном отношении сальтационизм стоит ближе всего к финализму и номогенезу. С первым его роднят перенос на филогенез закономерностей индивидуального развития и связанная с этим трактовка эволюции как циклического процесса. В эволюционных построениях Шиндевольфа связь с финализмом выражена наиболее полно и проявляется со всей наглядной очевидностью, в гипотезе Гольдшмидта она более завуалирована. По способу возникновения новых типов организации союзниками сальтационизма оказываются синтезогенетический модус эволюции и гипотеза горизонтального переноса генов, как это будет видно из содержания соответствующих глав.
Близость сальтационизма к номогенезу определяется общностью представления о закономерном характере изменений внутренней организации живого и признанием номогенетиками, что эти изменения происходят скачкообразно. По мнению Шиндевольфа, присущую всему живому способность к направленному развитию и целесообразному реагированию следует считать «прафеноменом», т. е. элементарным проявлением жизни, «остатком, который пока неразложим и по своей сути до конца непознаваем» (Schindewolf, 1950а. S. 430). Аналогичные соображения разделял и Дальк.
Глава 8. Теллурические гипотезы сопряженной мегаэволюции и смены биот
Среди разнообразных теллурических (от лат. tellus — земля) концепций эволюции выделяется довольно четко очерченная группа гипотез, в которых утверждается, что все революционные события в эволюции жизни, вплоть до смен фаун и флор, вызывались геологическими переворотами и крупными изменениями физико-географических условий. Обе категории явлений хронологически сопряжены, и, коль скоро изменение условий на поверхности Земли подчинены определенному ритму, преобразования биоты также носят периодический (циклический) характер.
Гипотезы, которые будут рассмотрены ниже, касаются исключительно мегаэволюции (в понимании Симпсона), или эрогенной (ароморфной) эволюции, выражающейся в появлении новых типов организации и сопутствующего ей вымирания прежних групп, но не механизмов видообразования. Речь пойдет о наиболее крупных биологических революциях, отделенных друг от друга десятками и сотнями миллионов лет.
Отличительной чертой всех теллурических гипотез сопряженной эволюции служит представление, будто в истории Земли длительные периоды (их именуют эпейрогеническими), в течение которых изменения земной коры и физических условий на поверхности земного шара происходили медленно и постепенно, чередовались с краткими периодами резких геологических преобразований (их называют орогенными фазами). В эти краткие периоды только и должно было происходить формирование эрогенных групп организмов.
Отметим сразу, что идея сопряженности тектонических фаз и эволюционных преобразований крупного масштаба была абсолютно чужда системе взглядов как Лайеля, так и Дарвина, выдвинувших и всесторонне обосновавших представление о плавности и медленности геологических и биологических преобразований на основе обычных причин, действующих и поныне (принцип актуализма). Идея сопряженности родилась в геологии и отчасти в той области знания, которая входит теперь в компетенцию геофизики. Произошло это в самом конце XIX в. и имело своей отправной точкой учение Кювье. В крайних вариантах концепция сопряженной эволюции представляет собой одно из течений неокатастрофизма, и здесь уместно добавить, что она питалась в значительной мере теми же источниками. Последние же были связаны с разработкой таких проблем, как причины неполноты палеонтологической летописи, неравномерность темпов эволюции, внезапное появление и исчезновение обширных групп животных и растений на рубежах геологических эр и периодов. Следует также иметь в виду, что все эти проблемы обсуждались в условиях острого кризиса дарвинизма.
В наши дни идея катастроф не только не отброшена, но, кажется, завоевывает все большее признание, и в первой половине XX в. она занимала в палеонтологии и биостратиграфии господствующее положение. Теория Дарвина, напротив, утратила в этих науках всякое влияние.
Одной из специфических причин появления сопряженных гипотез послужило, как нам представляется, то обстоятельство, что идея этапности или периодичности в развитии органического мира получила опору в разработанной геологами геохронологической шкале времени, принятой для периодизации геологической истории фанерозоя. А эта шкала, как известно, сама основана, в частности (или даже по преимуществу), на палеонтологическом методе. Получилась любопытная ситуация. Факты, добытые в одной области знания (в палеонтологии), послужили для разработки основополагающего принципа периодизации в другой (исторической геологии), а сложившись в ней в целостную концепцию, стали навязывать ее первой независимо или вопреки эмпирическим данным. При этом изрядная часть специалистов молчаливо воспользовались неправомочным приемом. Развивая гипотезу этапности жизни и ее сопряженности с крупными геологическими переворотами, многие палеонтологи стали ошибочно полагать, что в основе исторического преобразования основных подразделений органического мира (а то и биоты в целом) лежат те же хронологические закономерности, которые определяют смену форм, служащих руководящими ископаемыми в биостратиграфии. А между тем очевидно, что надежность биостратиграфических границ, установленных по немногим ископаемым видам, ни в коей мере не умаляется тем, что их смена не будет синхронизирована с развитием каких бы то ни было других групп. Но палеонтологи думали иначе, видимо, считая, что биостратиграфические границы должны быть чуть ли не универсальными.
Первые гипотезы сопряженной эволюции
Одна из первых гипотез сопряженной эволюции принадлежит профессору Варшавского университета В. П. Амалицкому (1896).
Он с полной определенностью утверждал, что в течение большей части геологических периодов эволюция организмов протекала сравнительно спокойно, на границах же периодов и особенно эр за относительно короткие промежутки времени происходила коренная смена населения Земли. Первопричиной такой смены являлись громадные колебания земной коры, порождавшие интенсивные горообразовательные процессы. Самые грандиозные геологические события происходили в конце палеозоя и на рубеже мезозоя и третичного периода, когда на Земле поднимались высочайшие горные цепи, соединялись и разъединялись первичные материки, изменялись размеры и очертания океанов. В эти переломные моменты истории Земли темпы биологической эволюции резко возрастали.
Проанализировав самые общие факты геологической истории, которыми располагала тогда наука, Амалицкий пришел к выводу, что «главные моменты в развитии органического мира, на основании которых земную кору делят на группы и системы, а соответственно сему историю Земли — на эры и периоды, совпадают с главными моментами в развитии лика Земли» (Амалицкий, 1896. С. 26). И далее, конкретизируя эту мысль, Амалицкий добавляет, что энергичные горообразовательные процессы, приходящиеся на конец палеозоя и в особенности на начало кайнозоя, «находят себе аналогию в разграничении и последовательном увеличении по степени интенсивности эволюции — палеозойской, мезозойской и кайнозойской» (там же, с. 27). Смена «организованных миров» имела место и на протяжении самих эр. Так, в палеозое их было пять, в мезозое — три.
Гипотеза Амалицкого была по своему содержанию достаточно умеренной. Так, он считал, что вымирание больших групп организмов происходило вовсе не всегда под действием катастрофических изменений в окружающих условиях: оно никогда не достигало общепланетарных масштабов, поскольку никогда не было универсальных катастроф. Более того, вымирание даже чаще носило последовательный и постепенный характер. Амалицкий придерживался также взгляда, что периоды, не находящиеся на границах эр, связаны переходами, а неизвестные пока переходы будут со временем найдены. Не порывая с принципом униформизма, Амалицкий считал, что прежние и ныне действующие факторы различаются только по степени напряженности.
С аналогичной идеей стадийности (периодичности) в развитии разных групп животных, соответствующей определенным эпохам истории Земли, одновременно с Амалицким выступил А. Годри (1896).
В первой четверти XX в. гипотеза периодичности эволюции окончательно окрепла, можно сказать, приобрела даже хрестоматийный характер и завоевала признание в Европе, США и СССР. В разных ее вариантах первопричиной преобразований органического мира признаются то непосредственно сами тектонические процессы, то вызываемые ими перемещения материков и океанов, то изменения климата, сказывающиеся на комплексе эколого-географических условий.
Так, У. Мэттью (Mattew, 1915) развивал представление, согласно которому в истории Земли происходило правильное чередование эпох нивелировки рельефа, обширных трансгрессий, теплого и влажного климата с эпохами горообразования и общего поднятия континентов, регрессий, холодного и засушливого климата. В условиях первых возникают новые типы организации, возрастает общее систематическое разнообразие, осваиваются новые местообитания с новыми источниками пиши. В условиях вторых одни органические формы продолжают расширять зону жизни, повышая свою активность, другие клонятся к упадку и сходят со сцены.
Идею периодической активизации и ослабления тектонических движений земной коры как непосредственную причину пульсаци-онного характера биологической эволюции развивали А. Грабау (1913, 1924), Дж. Баррел (1917), Э. Ог (1921), Зондер (1922), Ч. Шухерт (1924), Г. Штилле (1924), Дж. Джоли (1929). Особой популярностью пользовались теория геологических революций Г. Штилле и пульсационная гипотеза А. Грабау.
Согласно первой (Stille, 1924) в период интенсивного горообразования происходит гибель зачастую огромных групп животных, а вслед за бурной эпохой орогенеза всегда наблюдалось появление новых, более высокоорганизованных форм, словно бури и катастрофы, сокрушая все живое, разбрасывали по Земле зародышей и возбуждали новые силы для появления и расцвета более сложной жизни.
Согласно гипотезе Грабау (Grabau, 1913, 1924), смена флор и фаун обусловлена периодическими трансгрессиями и регрессиями, вызывавшимися подъемами и опусканиями морского дна и охватывавшими весь земной шар, а также изменениями климата, происходившими в результате дрейфа континентов.
По мнению Ога (Haug, 1921) и Зондера (Sonder, 1922), в истории Земли были четыре глобальные революции, и каждый геологический цикл имел продолжительность от 200 до 300 млн лет; по Баррелу и Шухерту, таких революций было пять, а по Джоли — шесть или семь. Соответственно, Джоли считает, что продолжительность одного цикла составляла порядка 160–240 млн лет (Джоли, 1929).
Сущность гипотез циклической эволюции и одновременно всю глубину непонимания специфически биологической природы ее движущих сил ясно выразил один из бывших советских исследователей теории катастроф, который писал, что «история Земли и жизни на ней связывается в одно неразрывное целое, подчиненное работе одних и тех же механизмов. За долгие годы покоя в недрах Земли происходит медленное накопление механической и химической энергии. Она, наконец, выражается катастрофическими потрясениями, приводящими за собой резкую смену одних жизненных форм другими» (Кузнецов, 1930. С. 45).
Что можно сказать по поводу всех этих гипотез? Та или иная периодичность геологических событий — закономерность твердо установленная. Бесспорно также, что процессы горообразования, вулканическая деятельность, изменения в ритме вращения Земли, перемещения материков, крупные трансгрессии и регрессии, вызывавшиеся поднятиями и опусканиями дна океана, изменения рельефа суши и климата не могли не воздействовать на органический мир и характер его эволюции, В каждом конкретном случае они изменяли привычные условия жизни, открывая перед одними группами организмов перспективы расширения зоны жизни, перед другими — ее сужение и в конечном счете гибели. Но ни в одном случае они не могли быть непосредственной причиной крупномасштабных эволюционных преобразований, как это утверждают авторы сопряженных гипотез. Тем более не могут быть такой причиной один или два-три из указанных факторов, в каких бы масштабах и сколь внезапно они бы ни действовали. Допущение непосредственно детерминирующей роли абиогенных факторов в эрогенной эволюции означает, кроме того, отрицание значения живого в определении собственных качественных преобразований и представляет собой проявление старого механицизма.
Коренной недостаток «сопряженных» гипотез состоит в том, что их авторы рассматривали действие геологических агентов в отрыве от общебиологических факторов эволюции. Последние в большинстве случаев их просто не интересовали, поскольку по сути своих гипотез они должны были допускать возможность прямого формообразующего действия абиотических условий среды.
Есть еще одно обстоятельство, более частного порядка, позволяющее отвергнуть непосредственную детерминирующую роль геологических событий. По данным современной науки, ни одно из них не захватывало всей поверхности земного шара, и, следовательно, они не могут быть ответственны за истребление больших групп животных и растений, имевших всесветное распространение. В лучшем случае с их помощью можно объяснить гибель органического населения в определенных ограниченных частях земного шара, никак не грозящую полным вымиранием ввиду сохранения тех или иных форм в других частях планеты. В самом деле, можно ли с помощью орогенеза, явлений диастрофизма или изменения положения океанов и материков объяснить вымирание таких обширных групп, имевших общепланетарное распространение и впоследствии напело исчезнувших, как аммониты, белемениты, трилобиты, остракоиды, табуляты, граптолиты, четырехлучевые кораллы или отряды мезозойских ящеров? Подчинение судьбы этих групп животных всецело событиям геологической истории означало бы насилие над фактами.
Если в результате геологических катастроф целиком вымирали самые многочисленные и процветавшие группы, то уместно поставить вопрос: почему прочим группам удавалось избежать этой участи? Где могли они продержаться в неблагоприятные периоды и благодаря чему вообще жизнь не только не прерывалась, но вскоре делала крупные шаги по пути прогресса? Ответа на эти вопросы в трудах сторонников сопряженной эволюции мы не находим. Он и не может быть дан помимо анализа биологических факторов эволюции.
В качестве курьезного примера того, каким образом некоторые геологи, далекие от знания законов жизни реального мира животных и растений, представляли себе способы его сохранения в эпохи катаклизмов, приведем точку зрения уже цитированного нами Дж. Джоли. Этот авторитетный английский геолог всерьез полагал, что жизнь на Земле не прерывалась исключительно благодаря Луне. Это небесное тело ответственно, как известно, не только за регулярные приливы и отливы морских вод, но и за периодически возникающие приливы земной коры. Вследствие приливов коры накапливающаяся в недрах Земли в течение долгих веков радиоактивная теплота получает возможность переходить в воды океанов и якобы спасать таким образом их население от гибельной перемены обстановки (Джоли, 1929. С. IX).
Идея сопряженной эволюции в работах исследователей бывшего Советского Союза
К сторонникам тектонической гипотезы эрогенной эволюции обычно относят Д. Н. Соболева, хотя это не вполне правильно. Соболев (1927) разделяет представление о резкой смене фаун и флор на границах биостратиграфических подразделений. Что касается фаун, то, по его мнению, коренные преобразования в их составе происходили на рубежах протерозоя и палеозоя, девона и карбона, перми и триаса, мезозоя и кайнозоя и совладали с эпохами соответствующих тектонических диастроф. Указанные рубежи служат границами последовательных «волн жизни», или биогенетических циклов, в пределах которых организация меняется медленно и постепенно (рис. 8), Зато каждая новая волна жизни начинается с фазы появления новых органических форм (анабазис), возникающих в результате внезапного преобразования предшествующих типов организации. В короткий промежуток времени на основе дивергенции и дифференциации возникшая прогрессивная группа достигает максимального видового разнообразия. В дальнейшем виды на протяжении целых периодов либо остаются неизменными, либо претерпевают регрессивные изменения, завершающиеся вымиранием.
Вымирание животных, по Соболеву (1928), вызывается вспышками орогенеза не непосредственно, а косвенно; оно связано с дефицитом кислорода и избытком углекислого газа, возникающими вследствие усиления сопровождающей горообразовательные процессы вулканической деятельности. С течением времени растительность выправляла нарушенный газовый баланс, и кислородный голод животных прекращался, но затем, ближе к концу каждой диастрофической эпохи, нехватка углекислоты вызывала кризисное состояние флоры, которая тоже испытывала циклические превращения, правда, совершавшиеся в ином, чем у фауны, ритме.
Соболев считал прогресс основной тенденцией в развитии органического мира. По этому поводу он писал: «Как правило, новый цикл достигает большей эволюционной высоты по сравнению с предыдущим… эволюционные волны поднимаются все выше, и общая объемлющая биогенетических циклов, проходящая по их вершинам, представляет собой восходящую кривую, которая изображает прогрессивную эволюцию органического мира, общую филэволюцию, или анабазис» (Соболев, 1924. С. 175).
Рис. 8. Схема развития волн жизни по Соболеву (из: Личков, 1965).
Революции. I — восточнославянская; II — каледонская; III — еарисцийская; IV — древнекиммерийская; V — новокиммерийская; VI — альпийская; э — эоцен; о — олигоцен; м — миоцен; п — плейстоцен; сплошная линия — иссушение; пунктирная — увеличение влажности.
Концепцию Соболева можно относить к числу рассматриваемых гипотез циклической эрогенной эволюции лишь условно, исключительно по признаку внешнего сходства, поскольку в отличие от них она была построена на автогенетической основе: Соболев считал, что изменения внешних как абиотических, так и биотических условий, какого бы масштаба они ни достигали, способны оказывать на эволюционное развитие только регулирующее воздействие, ускоряя или замедляя его и вызывая вымирание отдельных групп. Повышение же уровня организации, наблюдаемое в истории органического мира, есть результат присущего организмам «внутреннего закона развития», родственного принципу градации Ламарка и закону органического роста Копа.
Авторами климатических гипотез смены крупных таксонов выступили в СССР П. П. Сушкин и Н. Н. Яковлев. По мнению Сушкина (1922), появление и расцвет последовательных классов позвоночных, включая человека, стоят в непосредственной связи с глобальными изменениями климата на протяжении геологической истории Земли. Сушкин насчитывал в общей сложности пять таких глобальных изменений. Распространение климатических условий, сопутствующих краснопесчаниковой фации, подготовило в девоне появление наземных позвоночных. Климат каменноугольной эпохи создал обстановку, благоприятную для широкого распространения и расцвета примитивных амфибий. Переход к условиям верхней перми, оттесняющим амфибий на задний план, обусловил начало расцвета рептилий, продолжавшегося в течение всего мезозоя. Охлаждение климата в верхнем мелу оттесняет, в свою очередь, на задний план рептилий и выдвигает на авансцену жизни птиц и млекопитающих. Наконец, постплиоценовый ледниковый период, вызвав местное ослабление фауны млекопитающих, предопределил выход на арену человека.
Яковлев (1922) выделял в истории биоты три критических периода, когда происходила смена доминирующих типов: конец силура, конец палеозоя и рубеж между мезозоем и кайнозоем.
Отстаивая принцип непосредственной детерминации кардинальных перемен в фауне и флоре изменениями в климате, оба автора отвергали их объяснение на основе теории естественного отбора: «Здесь нет прямого вытеснения низшего типа морфологически высшим; надлом преобладания доминирующего типа происходит прежде всего переменою условий, а не прямою конкуренцией», — утверждал Сушкин (1922. С. 30), а вслед за ним и Соболев (1924. С. 183). Его поддерживал Яковлев, также отмечавший, что «одна группа не вытесняет другую, вступая с нею в борьбу, но занимает место, ею освобождаемое, вследствие вымирания от неблагоприятных условий жизни, прежде всего неорганических и прежде всего климатических» (выделено мной. — В. Н.) (Яковлев, 1922. С. 92).
Сушкин отмечал, что с наступлением новой эпохи одерживает верх «более высокий тип в морфологическом и биологическом отношении». И хотя он отрицал факт конкурентного вытеснения этим новым, более высоким типом типа предшествующего, мы ясно видим в его гипотезе признание в данной смене типов решающей роли возникновения нового благоприятного комплекса условий, названного впоследствии Симпсоном адаптивной зоной. Именно благодаря такому комплексу условий на месте, освободившемся после гибели старого типа, осуществляется расцвет нового типа. Раскрытие ведущей роли благоприятной совокупности внешних условий в расцвете новых типов организации — бесспорно, положительная сторона гипотезы Сушкина. Существенно также отметить, что, по Сушкину, новый тип возникает, по-видимому, не внезапно. Его немногочисленные представители существовали уже в предшествующую эпоху, но тогда не имели возможности размножиться.
Идею о детерминирующей роли климата разделяли такие авторитетные исследователи, как Л. С. Берг (1925), М. И. Голенкин (1927), Р. Лалл (1924), В. Циммерман (1930). В деталях их представления отличались друг от друга, по существу же все они могли служить примером одного из вариантов неокатастрофизма. Прошло еще два десятилетия, в течение которых дарвинизм снова окреп и обрел силу в новом, более высоком синтезе знаний об органической эволюции, а сопряженные гипотезы неокатастрофического толка продолжали нарождаться. Одна из искусных гипотез такого рода принадлежала советскому палеонтологу Б. Л. Личкову (1945, 1965), настойчиво разрабатывавшему ее на протяжении более 20 лет.
Подобно своим предшественникам, взгляды которых только что были рассмотрены, Личков разделял геологическую историю Земли на ряд циклов, с которыми хронологически совпадало существование тех или иных флор и фаун, или, по принимаемой Личковым терминологии Соболева, «волн жизни». Начало цикла, знаменующееся новой тектонической диастрофой, означает одновременно революцию в органическом мире, рождающую новую волну жизни. В общей сложности в истории земного шара, начиная с кембрия, было шесть геологических циклов и, соответственно, шесть волн жизни. Их средняя продолжительность составляла 60–70 млн лет.
Каждый цикл Личков делит на три фазы — ледниковую, умеренную и ксеротермическую (ксерофитную). Ледниковая фаза — это время наиболее контрастного рельефа (с высокими горами, покрытыми ледниками) и максимальной денудации, когда текучие воды выносили большое количество солей. Эти соли создавали как на суше, так и в море благоприятные условия для пышного развития растительности. А обилие разнообразной растительности способствовало расцвету животного мира — в равной мере наземного и морского. За ледниковой следовала фаза умеренная, когда контрастность рельефа и интенсивность денудации падали, а органический мир, не претерпевая резких перемен в своем составе, обретал состояние равновесия. Для этой фазы характерны постоянство условий, умеренный климат и обилие пищевых ресурсов. Биологическая эволюция отличалась низкими темпами, плавностью и не выходила за пределы видо- и родообразования. В ксеротермическую фазу выраженность рельефа и величина денудации падали до минимума, резко сокращались наличные запасы воды и пиши и происходила массовая гибель животных «вследствие невозможности удовлетворить жажду и голод».
Борис Леонидович Личков (1888-1966).
Таким образом, ледниковая фаза — это фаза революционная, творческая, созидательная. Она сравнительно коротка. Умеренная фаза может быть охарактеризована как фаза относительного покоя, по времени она наиболее протяженная. Ксерофитыые фазы Личков называет «самыми критическими в истории органического мира», поскольку это фазы «вымирания животного мира и сокращения растительности». Вымирание на суше и в морях происходило синхронно. Любопытно, что, по мнению Личкова, жизнь на Земле в ксерофитные фазы спасала от полного уничтожения только их относительная краткость (они длились от нескольких сотен до нескольких тысяч лет) и то, что за ними следовали новые вертикальные движения земной коры с образованием складок, влекшие за собой увеличение пищевых и водных ресурсов. Интересно также, что в эпоху засухи, как считал Личков, вымирали прежде всего менее пластичные формы, тогда как более пластичные «выдвигались вперед, и с этой точки зрения фазы вымирании являлись фазами усиленного творчества новых порядков и классов в животном мире» (Личков, 1945. С. 179).
Гипотеза Личкова носила комплексный характер. В ней учитывалось влияние на органический мир практически всей совокупности физико-географических условий, причем они были выстроены в цепочку сообразно существующим между ними причинно-следственным отношениям. Тектонические процессы вызывали изменения в интенсивности денудации, в климатическом режиме они вели к перемещениям природных вод. Следствием указанных событий были изменения в почвах и растительном покрове. Воду, почву и растительность Личков и рассматривал в качестве непосредственных факторов макроэволюции.
На первый взгляд признанию прямого детерминирующего влияния абиотических агентов противоречит утверждение Личкова о том, что крупные периодические изменения в физико-географической обстановке воздействовали на животный и растительный мир посредством изменений в условиях «естественного отбора и борьбы за существование в зависимости от количества пищевых ресурсов» (там же, с. 176). Однако эта вскользь оброненная фраза нигде больше никаким конкретным материалом не подкрепляется и, по сути дела, служит формальной данью дарвинизму. Зато, обсуждая гипотезу М. И. Голенкина (1927) о прямом влиянии увеличения яркости света и сухости климата на внезапную смену прежней растительности (саговниковых) покрытосеменными в середине мелового периода, Личков утверждает, что на рубеже мезозоя и кайнозоя, как и в начале любого геологического цикла, борьбы между новыми и старыми группами не было: новая растительность «пришла как бы на пустое место… совершенно аналогично тому, что было среди животных» (Личков, 1965. С. 95).
В соответствии с представлением, что тектонические диастрофы действовали на мир животных через мир растений, Личков, следуя за А. Н. Криштофовичем (1941), утверждал, что каждая новая фаза в развитии растительности опережает соответствующую фазу смены животного мира, поскольку растения первыми реагируют на изменения климата.
Через 20 лет после опубликования своей гипотезы Личков (1965) внес в нее существенные дополнения и высказал некоторые дополнительные соображения по поводу развития общей теории эволюции.
Во-первых, весь прогресс органического мира, выражающийся в повышении уровня организации растений и животных, совершается, по мнению Личкова, не на основе случайностей, а в силу строгих закономерностей. Здесь, по его выражению, «царит полный номогенез».
Во-вторых, Личков дополнил причинную цепь геолого-географических событий ледниковой фазы новым звеном и поместил его на первое место. По его мнению, чередование геологических циклов вызывается изменениями в скорости вращения Земли вокруг оси и в форме самой Земли: «Спокойное беспрепятственное вращение Земли… самым непосредственным образом влияет на видообразование и создание новых форм» (там же, с. 87–88). Далее он называет «твердой закономерностью» тезис о том, что «прогресс органических форм всецело зависит от вращения нашей планеты и определяется его ходом» (там же, с. 88). Периодичность изменения скорости вращения Земли и его инициирующее воздействие на крупномасштабные геологические события можно считать теперь доказанным фактом. Эту теорию всецело разделяет В. А. Красилов (1985, 1986 и позднее).
Личков многократно останавливается на заслугах Кювье. Отвергая вслед за Ш. Депере (1915) и А. П. Павловым (1924) правомочность его обвинений в креационизме, Личков утверждает, что Кювье был первым ученым, выявившим существование волн жизни и очень точно обозначившим их грани (т. е. «перевороты»). Но поскольку волны жизни — это этапы развития животного мира, Личков, преувеличивая значение этого факта, с восхищением восклицает, что «этого великого ученого следует считать одним из подлинных творцов идеи эволюции в биологии», а если говорить еще точнее, то Кювье «положил начало большой [имеется в виду макроэволюция] эволюционной теории» (Личков, 1965. С. 90). Что касается Ламарка, Жоффруа Сент-Илера и Дарвина, то они волн жизни вовсе не заметили. Дарвин и его последователи вместо больших волн провозгласили медленную постепенную эволюцию. Можно, конечно, с натяжкой утверждать, продолжает Личков, что вымирание в конце волн — это и есть отбор, но правильнее сказать, что «это явление особого типа и масштаба, отличающееся от повседневно происходящего отбора» (там же, с. 94). И далее из тезиса о том, будто Дарвин не включил в свою теорию явление вымирания, Личков делает вывод, что в теории эволюции «имена Дарвина и Кювье должны быть поставлены рядом как друг друга дополняющие» (там же).
Личков не разъяснил, почему учение Кювье о переворотах должно быть дополнено именно дарвинизмом, который для объяснения причин крупномасштабной эволюции в геологическом прошлом им отвергался. Но, судя по содержанию его концепции, он желал бы ограничить сферу приложения дарвинизма микроэволюцией, протекающей в перерывах между революционными эпохами.
Критика гипотез сопряженной эволюции
Рассмотренные гипотезы были подвергнуты критике в ряде работ отечественных (Степанов, 1959; Давиташвили, 1969; Завадский, Колчинский, 1977) и зарубежных специалистов (Simpson, 1944, 1953; Henbest, 1952; Westoll, 1954; George, 1958; Heberer, 1960; и др.). Так, Т. Уэстол (Westoll, 1954), проанализировав большой палеонтологический материал, пришел к выводу, что представления о хронологическом совпадении периодов активных тектонических процессов с появлением одних и вымиранием других групп животных явно преувеличены. Это относится, в частности, к периоду каледонского орогенеза конца силура — начала девона, к которому принято относить вымирание граптолитов, а также к обширным трансгрессиям и регрессиям морей в позднемеловое время, когда шло вымирание аммонитов и гигантских наземных рептилий. Уэстол дал вполне дарвинистскую трактовку смены фаун, показав, что названные группы животных вымирали не вследствие прямого действия тех или иных геологических катаклизмов, а в результате того, что они не выдерживали конкурентной борьбы с новыми, оказавшимися более приспособленными к изменившейся обстановке формами. Кроме того, сами геологические революции вовсе не охватывали, по Уэстолу, весь земной шар и, следовательно, не могли быть причиной глобальных перемен в составе фаун. Самое большее, они вели к пространственной изоляции отдельных зоогеографических областей или, наоборот, к их объединению, затрудняя или облегчая обмен между их животным населением.
Гораздо более радикальной оказалась критика Дж. Симпсона (Simpson, 1944; Симпсон, 1948, Simpson, 1949а). Он решительно отверг мысль о том, что тектонические события могли быть непосредственной причиной крупных эволюционных преобразований. Симпсон (1948) показал, что совпадение появления новых групп, предки которых отсутствуют в палеонтологической летописи, с основными переломными моментами в истории Земли часто действительно имело место. Но это совпадение не столь полно, как представлено в ряде работ по исторической геологии. Например, ни один из классов позвоночных, по свидетельству Симпсона, не появился в эпоху горообразования. Скорее, они возникли между этими эпохами. Так, если следовать геологической шкале Шухерта и Данбара (Schuchert, Dunbar, 1933), птицы и млекопитающие появились, по всей вероятности, в триасе, т. е. уже после Аппалачской эпохи и задолго до Ларамидской. Если их появление «подогнать» по времени к той или иной эпохе горообразования меньших масштабов, то, по мнению Симпсона, получаются чисто гипотетические и субъективные суждения.
Симпсон (1948; Simpson, 1949а) также отмечает разновременность крупных шагов в эволюции животных и растений. Как известно, геологическую историю делят на эры, опираясь на смену фаун. Если шкалу геологического времени строить по флорам, то палеофиту будет соответствовать господство плауновых, хвощей и кордаитов, сохраняющееся до середины перми, мезофиту — голосеменных, простирающихся до нижнего мела, кайнофиту — покрытосеменных, появляющихся с верхнего мела. Налицо, таким образом, несоответствие палеозоя, мезозоя и кайнозоя палеофиту, мезофиту и кайнофиту, демонстрирующее разновременность основных событий в эволюционных линиях животных и растений.
Эпохи горообразования, по мнению Симпсона, чаще совпадали с периодами вымирания старых групп, с крупными межконтинентальными миграциями и в меньшей мере — с моментами возникновения новых таксонов. Периоды поднятий и орогенеза влекли за собой последствия, и не имеющие отношения к эволюции, в частности они приводили к разрывам в стратиграфической, а следовательно, и палеонтологической последовательности.
Симпсон объективно оценивает случаи как совпадения, так и несовпадения появления новых таксономических групп, находящихся на уровне мегаэволюции. Так, совпадение времени возникновения четырех отрядов класса рыб и класса амфибий с периодами поднятий и орогенеза оказывается не большим, чем можно было бы ожидать в порядке простой случайности. С другой стороны, среди рептилий и млекопитающих процент отрядов, возникающих в такие периоды, достаточно высок, чтобы его можно было приписать случаю. Однако Симпсон склонен объяснять эти случаи хронологического совпадения фактической непрерывностью тектогенеза. Самый же существенный и трудноопровержимый тезис Симпсона состоит в том, что наличие хронологического совпадения вовсе не означает существования каузальной связи между геологическими и биологическими событиями. Такой связи между ними, по мнению Симпсона, чаще всего нет.
Работы Симпсона 1940-х годов произвели сильное впечатление на палеонтологов всего мира. Под их воздействием и не без общего влияния процессов, приведших к созданию синтетической теории эволюции, к концу этого периода в эволюционной палеонтологии явный перевес одержали сторонники дарвинизма.
Для рассматриваемых гипотез сопряженной эволюции большое значение помимо этого события имеет и «свой» частный рубеж, связанный с появлением «космических» гипотез неокатастрофического толка. Как мы увидим в следующей главе, эти существенные перемены вовсе не означали, что гипотезы, помещающие во главу угла геологические или климатические факторы и столь характерные для первой половины XX в., больше не появлялись. Они по-прежнему продолжали нарождаться, но как бы отступили на второй план. С другой стороны, их авторы стали все чаще опираться на могущество вновь открытого фактора. В итоге благодаря новым фактическим данным неокатастрофические гипотезы периодичности макроэволюции получили в течение последних 20–25 лет необычно широкую известность.
Гипотеза Н. Ньюэлла
В качестве примера чисто теллурической концепции второй половины XX в. рассмотрим гипотезу американского палеонтолога Н. Ньюэлла (Newell, 1963). Этот влиятельный специалист выдвинул предположение, что периодические массовые вымирания животных могли быть обусловлены экстатическими (вековыми) колебаниями уровня Мирового океана, наступавшими, например, вследствие диастрофизма. При этом Ньюэлл опирался на данные геологии, свидетельствующие, что дно Тихоокеанского бассейна начиная с мелового периода медленно опускается относительно окружающих материков. В течение палеозоя и мезозоя суша возвышалась над морем в очень небольшой степени, и, по мнению автора, достаточно было уровню океана подняться всего на несколько футов, чтобы произошло затопление огромных территорий; или настолько же опуститься, чтобы осуществился спад океанических вод. Периодические трансгрессии и регрессии должны были приводить к глубоким экологическим переменам в прибрежных сообществах. Но в силу трофических связей перемены неизбежно распространялись и на животное население внутренних частей суши и моря.
Моменты максимального затопления материков совпадали, по Ньюэллу, с периодами наибольшей эволюционной диверсификации, когда увеличивалось число биотопов, особенно болотистых. Морские регрессии, напротив, уменьшали наличное число биотопов, ужесточали давление естественного отбора и приводили к массовым вымираниям. Ньюэлл следует в этом отношении за П. Клаудом (Cloud, 1948), который усматривал значение трансгрессий в увеличении разнообразия биотопов и снижении давления отбора.
Любопытно, что Ньюэлл включает в качестве одного из факторов вымирания такой чисто экологический механизм, как исчезновение ключевых видов, находящихся в основании экологических пирамид. Говорит он и о «соблазне» использования факта конкуренции со стороны более приспособленных форм, однако до осознания ведущей роли в вымирании биотических факторов Ньюэлл не доходит.
Рис. 9. Эпоха вымираний и расцвета животных по Ньюэллу (1967).
По расчетам Ньюэлла, на протяжении 600 млн лет геологической истории были 30 больших и сотни малых колебаний уровня моря. В течение этого же времени произошло шесть крупных революционных преобразований И также сотни мелких изменений в органическом мире, в результате которых в общей сложности полностью вымерло две трети семейств животных (Newell, 1963. Р. 77, 92). По поводу несоответствия числа больших колебаний уровня моря и биологических революций в статье Ньюэлла ничего не говорится.
В более поздней работе (Newell, 1967) Ньюэлл осуществил статистический анализ вымирания семейств главных групп животных по периодам геологической истории. Приводимая им диаграмма (рис. 9), охватывающая 2250 семейств ископаемых и ныне существующих животных, отражает этапы наибольшего вымирания и расцвета животного мира. Из нее следует, что в конце кембрия вымерли 52 % всех существовавших ранее семейств, в конце девона — 30 %, в конце перми — 50 %, в конце триаса — 35 % и в конце мела — 26 %. Таким образом, резюмирует Ньюэлл, «на протяжении относительно коротких промежутков времени от четверти до половины всех семейств животных земного шара исчезли, тогда как средняя скорость вымирания для всех геологических периодов составила приблизительно 17 %, а минимальная — 3 %» (ibid., р. 76–77). Из этого же анализа следовал и другой важный вывод: «после вымирания наступали моменты необыкновенного расцвета (новых форм] в свободных экологических нишах. Скорость эволюции после периодов массового вымирания резко возрастала» (ibid., р. 77).
Анализ, проведенный Ньюэллом, подтвердил, таким образом, стандартное представление об этапности макроэволюции. Его же гипотеза о трансгрессиях и регрессиях как ее причине встретила сочувственное отношение со стороны ряда специалистов (House, 1963; Webb, 1969; Wiedmann, 1973; Линдберг, 1973; Fischer, 1981; Валлизер, 1984; Уэбб, 1986). В одной из работ Ньюэлл (1986) подтвердил свою приверженность климатической гипотезе, но при этом высказал предположение о множественности причин, обусловливавших вымирание, и возможной уникальности диастрофических событий на границах некоторых эпох.
Наибольшей известностью в России пользуется климатическая гипотеза В. А. Красилова, построенная на палеоботаническом материале. Поскольку она отражает самый современный подход к эволюции и опирается на новейшие открытия естественных наук, мы рассмотрим ее в заключительной главе книги.
Часть IV. СОВРЕМЕННЫЕ НЕДАРВИНОВСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ЭВОЛЮЦИИ
Глава 9. «Космические» гипотезы этапности развития органического мира
«Космическая» гипотеза О. Шиндевольфа
Первая гипотеза, в которой для объяснения смены фаун привлечены факторы внеземного происхождения, принадлежит О. Шиндевольфу. На протяжении всего жизненного пути Шиндевольф занимался исключительно разработкой проблем макроэволюции и на всех этапах творчества сохранял принципиально негативное отношение к дарвинизму.
Знаменитая теория типострофизма, изложенная Шиндевольфом в двух монографиях (Schindewolf, 1950а, 1950b), была построена преимущественно на автогенической основе. Шиндевольф считал, что типострофы, т. е. акты возникновения новых типов организации, осуществляются исключительно под действием внутренних причин, заложенных в живой материи. Однако в начале 1950-х годов в его представлениях о причинах эволюции произошел резкий перелом. Он испытывает разочарование в своей автогенической концепции и начинает настойчиво развивать гипотезу о ведущей роли в биологической эволюции космических факторов.
Здесь ради исторической справедливости мы должны сделать отступление и напомнить, что идея о тесной зависимости живой природы от космической радиации принадлежит замечательному русскому и украинскому ученому, основателю гелиобиологии А. Л. Чижевскому (Tchijevsky, 1929, 1936–1937)[22]. Чижевский посвятил свои исследования главным образом выяснению зависимости массовых эпидемических заболеваний («эпидемических катастроф») и смертности от периодичности солнечной активности.
Согласно новой концепции Шиндевольфа (Schindewolf, 1954а, 1954b, 1963), резкое увеличение частоты макромутаций, приводившее к ускорению темпов макроэволюции, вызывалось периодическими катастрофическими изменениями в уровне жесткой космической и солнечной радиации. Такие изменения должны были оказывать на все живое самое радикальное воздействие — вызывать угасание одних форм и появление на основе удачных макромутаций других, как правило более прогрессивных и высокоорганизованных. При этом падающий на Землю радиационный поток, естественно, охватывал всю биосферу в целом.
Шиндевольф рассматривал не только прямое мутагенное действие проникающей радиации. Он учитывал также и возможный биологический эффект образующихся под ее влиянием радиоактивных изотопов. Последние способны проникать в живое органическое вещество, входить в состав его макромолекул, в том числе и тех, из которых построены хромосомы.
По мнению Шиндевольфа, губительное воздействие радиации должно было сильнее всего сказываться на животных, поздно достигающих репродуктивного возраста. Таковы в основном крупные формы. Поэтому неудивительно, что, например, в конце мелового периода в первую очередь вымерли гигантские динозавры и птерозавры.
Еще до перехода на позиции эктогенеза Шиндевольф решительно отвергал все теллурические гипотезы, доказывавшие обусловленность макроэволюции орогенезом, изменениями климата или трансгрессиями (Schindewolf, 1950а). Во-первых, опираясь на палеонтологический материал, он доказывал, что «великие фаунистические разрывы» хронологически далеко не всегда совпадают с этими событиями, и был в этом отношении абсолютно прав. Во-вторых, Шиндевольф также справедливо считал, что геологические катаклизмы никогда не охватывали одновременно всего земного шара, а тем более всех сред и биотопов. В период геологических эволюций на Земле всегда оставались зоны, не затронутые катастрофами и служившие прибежищем для многочисленных представителей прежних фаун и флор.
Зато при объяснении коренных переломов в составе морской и наземной фаун на рубежах геологических эр выявляется явное преимущество «космической» гипотезы. Состоит оно в том, что космическое излучение было глобальным фактором, радиация одновременно охватывала животный мир во всех средах жизни — в морях, на суше, в воздушном пространстве (Schindewolf, 1954b).
Шиндевольф — яркий представитель того направления в неокатастрофизме, которое отстаивает периодичность явлений массового вымирания крупных таксонов и возникновения новых типов организации. Доказательство существования таких переломных моментов в истории органического мира и прежде всего обнаружение великих фаунистических разрывов на границах эр сам Шиндевольф считал главным в своей теории (Schindewolf, 1958). Каждый из таких переломных моментов знаменуется появлением новых филогенетических стволов животных. Что касается вымирания, то его может и не быть, как, например, при переходе от кембрия к ордовику. Проанализировав фаунистический разрыв на рубеже между пермью и триасом, Шиндевольф пришел к заключению, что на этом рубеже состав фауны полностью обновляется: вымирают 22 отряда и возникают 20 новых. На границе мела и третичного периода также имеет место полное обновление фауны: вымирают 14 и нарождаются 24 отряда.
Многие палеонтологи, рассматривавшие фактическую сторону работ Шиндевольфа, справедливо обратили внимание на неполноту охвата палеонтологических данных, сознательный или бессознательный недоучет таксонов, переходящих из одной эры в другую.
Так, М. А. Шишкин (1964) показал, что стереоспондильные амфибии жили в перми и триасе. Л. Ш. Давиташвили (1969) писал, что в «подборе» групп, характеризующих разрыв между мелом и кайнозоем, нет важнейших групп, геохронология которых совершенно не соответствует концепции Шиндевольфа. Это относится, в частности, к костистым рыбам и таким их подразделениям, как Subholostei, Hoiostei и Teleostei. Представители трех отрядов насекомых (термитов, блох, веерокрылых), внесенные Шиндевольфом в таблицу как третичные, в более ранних отложениях просто не найдены. Отсутствие их находок в дотретичное время, как полагает Давиташвили, нельзя считать доказательством того, что они тогда еще не существовали. К сказанному надо добавить, что между специалистами существуют немалые разногласия в оценке объема и в характеристиках многих крупных таксонов как беспозвоночных, так и позвоночных животных. Соответственно, и момент первоначального обнаружения представителей таких таксонов в палеонтологической летописи фиксируется по-разному.
Шиндевольф признавал, что предложенная им гипотеза сильно упрощает реальный механизм эволюции и что она совершенно недостаточно обоснована. Но после многолетних размышлений над причинами макроэволюции он останавливает на ней свой выбор за неимением лучшего объяснения той «гигантски сложной» загадки, какую представляют собой великие перевороты в органическом мире.
О. Шиндевольф ясно видел и те затруднения, с которыми сталкивается его гипотеза (Schindewolf, 1954b). Одно из них — несовпадение во времени фаунистических разрывов с разры вам ц в растительном мире. Прежде всего Шиндевольф пытается найти объяснение несоответствию рубежа палеофита и мезофита, приходящегося на середину перми, границе в развитии фаун, разделяющей пермь и триас. Но это оказывается практически невозможно, если не вступать в противоречие с фактами. Чтобы выйти из затруднительного положения, Шиндевольф стремится показать, что разрывы между флорами не были столь резкими, как разрывы между фаунами, поскольку основные группы растений никогда не испытывали такого массового вымирания, как животные. Шиндевольф допускает, что в исторические моменты, переломные для животного мира, мир растений мог вовсе не реагировать на повышение уровня радиации.
«Космическая» гипотеза, имевшая дело с универсальными общепланетарными агентами, охватывавшими все среды жизни, казалось, снимала трудности, стоявшие перед многими теллурическими (относящимися к земным факторам) гипотезами. Однако она не учитывала экранизирующий и поглотительный эффекты водной среды, практически избавлявшие водных обитателей от воздействия жесткой радиации. А между тем многие группы морских животных вымирали синхронно с наземными группами, и, например, «солевая» гипотеза Личкова лучше объясняла Данный феномен.
Признавал Шиндевольф и несоответствие своей гипотезы данным экспериментальной генетики, свидетельствовавшим о полной летальности или пониженной жизнеспособности мутантов, возникающих под действием ионизирующего облучения. И тем не менее он остался верен идее макроэволюции в силу космических причин до конца своих дней.
В последующих работах (Schindewolf, 1958, 1960, 1963) Шиндельвольф выступает в защиту «космической» гипотезы более решительно и категорично, но никакой дополнительной аргументации не приводит. Он окончательно утверждается в мысли, что неокатастрофизм, «космические взрывы» — это простое выражение фактов, а не что-то надуманное, идущее от философии или мировоззрения. Шиндевольф (1963) ссылается теперь и на своих русских единомышленников — Н. П. Дубинина, Е. А. Иванову, В. И. Красовского и И. С. Шкловского.
«Космическая» гипотеза Шиндевольфа получила известный резонанс на Западе. В ее поддержку выступили некоторые палеонтологи (Liniger, 1961; Henshaw, 1963; Hatfield, Camp, 1970; Boureau, 1972), однако гораздо большее число специалистов подвергли ее критике. Н. Ньюэлл (Newell, 1956) обратил внимание на абсолютную спекулятивность гипотезы Шиндевольфа, на то, что она основана на произвольных и труднопроверяемых допущениях. Доза облучения, достаточная, чтобы вызвать летальный исход у наземных животных, вероятнее всего, оказалась бы совершенно неэффективной в отношении водных обитателей, живущих на глубине хотя бы нескольких метров. Поэтому, окажись данная гипотеза правильной, эффект воздействия космической радиации сказался бы на наземных организмах гораздо сильнее, чем на водных. Сходные соображения высказал и К. Бойрлен (Beurlen, 1956), отмечавший невозможность проверки гипотезы существующими методами исследования. Он указывал также, что факт повышения мутабельности под действием радиации еще не дает основания для вывода об ускорении эволюционного процесса.
В Советском Союзе одним из первых концепцию Шиндевольфа подверг разбору и критике Д. Л. Степанов, называвший ее автора «наиболее… последовательным выразителем идей катастрофизма в современной палеонтологии» (Степанов, 1959. С. 11). На ее умозрительный характер и несоответствие фактам обратили внимание также Л. Ш. Давиташвили (1969), К. М. Завадский и Э. И. Колчинский (1977), В. И. Назаров (1984). «Коренной недостаток построений Шиндевольфа, — пишут Завадский и Колчинский, — недооценка актуалистического метода, что открыло ему возможность построить концепцию преимущественно на догадках… Вместо того чтобы осторожно дополнять наши знания о каузальных основах эволюции, полученные путем экспериментального анализа современных процессов, и вносить поправки на специфические условия прошлых геологических эпох, Шиндевольф отверг эти знания и пытался заменить их целой системой догадок» (Завадский, Колчинский, 1977. С. 155). Приведенную характеристику правомерно отнести ко всему неокатастрофизму.
Гипотеза В. И. Красовского и И. С. Шкловского. Расширение исследований в области космической и радиационной биологии
В 1957 г. советские астрономы В. И. Красовский и И. С. Шкловский опубликовали короткую статью, в которой независимо от Шиндевольфа высказали гипотезу, близкую к его концепции. По их мнению (Красовский, Шкловский, 1957), Земля, двигаясь в Галактике вместе с Солнцем и окружающими ее планетами, периодически попадает в такие области межзвездного пространства, где вследствие вспышек сверхновых звезд плотность космических лучей оказывается на несколько порядков выше по сравнению с нормой и ее современной величиной. Ближайшие к Солнцу звезды, по данным этих авторов, вспыхивали как сверхновые за время существования Земли около десяти раз. В статье со ссылкой на А; Тэкерея (1956) приводятся даже годы вспышек сверхновых нашей Галактики за последнюю тысячу лет, а в отдельной книге И. С. Шкловского (1973) говорится, что история сохранила довольно значительное число хрюник и научных трактатов с описаниями самих вспышек.
Эпохи, когда поток жесткого излучения от сверхновых превышал на Земле средний уровень космической радиации в десятки раз, продолжались до нескольких тысяч лет. В пределах этих эпох могли быть и относительно короткие периоды, длившиеся сотни лет, когда поток первичных космических лучей, достигавших Земли, превышал современный в сотни раз. Этот важнейший фактор, по мнению авторов, до настоящего времени никогда не учитывался, а на некоторых этапах эволюции он мог иметь важное, если не решающее значение, так как влек за собой серьезные биологические и прежде всего генетические последствия (Красовский, Шкловский, 1957. С. 198). Усиление радиации вызвало увеличение частоты мутаций. Если для видов с коротким циклом размножения для удвоения частоты мутаций требуется увеличение интенсивности космической радиации в сотни и тысячи раз, то для долгоживущих форм удвоение частоты мутирования достигается при увеличении дозы облучения всего в 3—10 раз. Отсюда авторы сделали заключение, что длительное, продолжающееся тысячи лет воздействие в десятки раз увеличенной радиации могло оказаться губительным для специализированных видов животных с ограниченной численностью популяций, как это было в случае с крупными рептилиями, вымершими в конце мела.
С другой стороны, значительное повышение уровня космического излучения могло оказаться фактором, благоприятным для дальнейшей прогрессивной эволюции других видов животных и растений. Высокая радиоактивность, обусловленная попаданием Солнечной системы в радиотуманность, могла явиться причиной, стимулировавшей возникновение самой жизни из неживой материи (Шкловский, 1962), На Западе идеи Красовского и Шкловского поддержал Д. Рассел.
Критикуя взгляды Красовского и Шкловского, Давиташвили (1969) указывал, что, даже по представлениям типичных сторонников неокатастрофизма, великие переломы в истории жизни (например, мезозойское вымирание) растягивались на миллионы лет. Утверждать, что они совершались всего за какие-нибудь несколько тысяч лет, могут лишь исследователи, мало искушенные в сложных проблемах геологической истории и палеонтологии, которым их решение потому и кажется «очень легким делом».
С начала 60-х годов XX в. объем работ в области космической биологии стремительно возрастает, происходит и расширение общего фронта исследований, который охватывает всю совокупность проблем — от астрофизики до радиационной генетики. Появился и ряд обобщающих работ (Henshaw, 1963; Terry, Tucker, 1968; Бернал, 1969; и др.), в которых для объяснения причин революционных событий в истории биоса использовались сведения по космическому радиационному метагенезу.
Данные о качественной характеристике космических излучений и радиационной устойчивости организмов все более обрастали количественными показателями. Так, было приблизительно подсчитано, что сверхновые звезды, которые создают на поверхности Земли летальную для многих животных дозу облучения в 500 Р, вспыхивают каждые 50 млн лет, а звезды, создающие облучения 25 ООО Р, — один раз в 600 млн лет. Последняя доза, по-видимому, никогда не достигала земной поверхности, поскольку в противном случае жизнь на нашей планете была бы уничтожена или прервана (Terry, Tucker, 1968). Если для млекопитающих летальная доза при облучении в течение 30 суток составляет от 250 до 600 Р, то для амеб она оказывается порядка 100 000 Р, а для инфузорий — 300 000 Р (Современные проблемы радиационной генетики, 1969). Сине-зеленые водоросли способны существовать чуть ли не в условиях атомных реакторов.
В 1974 г. в Москве состоялось совещание по теме «Космические факторы и эволюция органического мира». В ряде выступлений его участников было подтверждено, что спорадическое увеличение интенсивности жесткой радиации вызывает резкое усиление генных и хромосомных мутаций и что оно ответственно за периодические биологические революции, охватывающие почти все группы биоса (см.: Космос и эволюция организмов, 1974). Подобная позиция была четко представлена в обзорном докладе Л. И. Салопа, который еще в 1964 г. на примере биологического взрыва в начале кембрия высказал гипотезу, аналогичную гипотезе Красовского и Шкловского (Салоп, 1964. С. 23).
Л. И. Салоп (1977) рассматривает «животворное» действие космических лучей в плане важнейших биологических революций.
Первая и самая важная биологическая революция — появление жизни на Земле в начале архейской эры — была всецело обязана жесткой радиации, приведшей к возникновению абиогенным путем простейших живых органических молекул, как это следует из теорий Опарина, Бернала, Мюллера и Кальвина. Поданным бостонской школы биохимиков и микробиологов во главе с М. Нассом, прародителями всех существующих организмов были синезеленые водоросли и бактерии, которые и сейчас очень скоро после атомных взрывов, производившихся на атоллах Тихого океана, первыми заселяют освободившиеся экологические ниши. Переходя к биологической революции в начале кембрия, Салоп отмечает, что одновременное появление скелетных организмов, их быстрая филогенетическая дивергенция, приведшая к появлению высокоспециализированных форм, могла быть только следствием интенсивного мутагенеза под действием радиации.
Изменения в уровне радиации явились, по Салопу, причиной и массовых вымираний, как это было, например, показано на планктонных фораминиферах, подвергшихся кризису в конце перми (Loeblich, Таррап, 1964), или на известковых нанофоссилиях Алабамы позднего мела (Mayers, Worsley, 1973).
Самое важное подтверждение гипотеза космического мутагенеза находит, по мнению Салопа, в исследованиях причин вымирания динозавров.
Литература, затрагивающая эту проблему, огромна. Десятки, а возможно, даже сотни различных гипотез проникли на страницы многочисленных популярных изданий. Ограниченный объем данной книги не позволяет нам касаться этого специального и к тому же более частного вопроса. Поэтому приведем лишь одну оригинальную гипотезу.
В 1968 г. на территории Франции были обнаружены яйца девяти видов верхнемеловых динозавров. Исследование этих яиц показало, что они обладали очень толстой скорлупой, состоящей из нескольких слоев, подобно тому как это бывает в патологических случаях у яиц современных домашних птиц. Возникает это явление, названное «яйцом в яйце», оттого, что выношенное яйцо не откладывается, а возвращается (нередко многократно) из выводных путей назад в яйцевод птицы. При этом каждый раз нарастает новый слой скорлупы. Образование многослойной скорлупы закупоривает каналы, по которым в яйцо поступает кислород, и эмбрион погибает. Было высказано предположение, что единственной причиной подобного патологического явления могло быть резкое учащение мутаций под действием космических причин, вызвавших гормональные дефекты у древних рептилий (см.: Кириллов, 1970).
Пригодность «космической» гипотезы обнаруживается, по Салопу, и при анализе революционных этапов в развитии растений. Он опирается на версию М. И. Голенкина (1947), который в поисках причины быстрой экспансии покрытосеменных в конце мела, якобы совпавшей с усилением яркости света и сухости воздуха, склонялся в пользу космического излучения. Салоп полагает, что в силу гораздо большей радиочувствительности хвойных интенсивное облучение могло погубить хвойные леса или затормозить их развитие, но совершенно не сказаться на лиственных или даже благоприятствовать их эволюции. Аналогичным образом можно объяснить взрывное распространение трав в конце плиоцена — начале плейстоцена. Не исключено, добавляет Салоп, что и появление предков человека было также связано с космическим мутагенезом, вызвавшим ускоренное развитие человекообразных приматов.
Подобно Чижевскому, Салоп приходит к заключению, что Земля и жизнь на ней представляют собой не закрытые саморазвивающиеся системы, а являются частью космоса. «Не только солнечные, но и далекие межзвездные — галактические — космические лучи животворны; без них невозможно ни появление, ни существование, ни развитие» (Салоп, 1977. С. 30).
Со сходными идеями о видообразовательном значении радиации, действующей через изменение магнитного поля Земли, выступил на Западе С. Тсакас (Tsakas, 1984; Tsakas, David, 1986).
Возможное влияние на организмы взрывов сверхновых звезд на сравнительно близком расстоянии от Солнечной системы было специально подвергнуто проверке в ряде исследований по данным об изотопном составе ряда элементов для эпох массовых вымираний. Эти исследования дали отрицательные результаты (см., например: The quest for a catastrophe, 1980).
Интенсивная разработка космических гипотез этапности развития органического мира выдвинула на первый план старую проблему вымирания. Эта чрезвычайно сложная проблема оказалась в центре внимания даже далеких от биологии исследователей. Продолжали появляться все новые версии, касающиеся факторов вымирания разных групп организмов. Фундаментальную сводку о причинах вымирания, обобщившую существующие гипотезы и накопленный палеонтологией материал по основным группам животных и растений в разрезе геохронологической шкалы, опубликовал Л. Ш. Давиташвили (1969). Признавая участие в процессах вымирания внешних физических факторов, Давиташвили в основном развивал в качестве причины вымирания дарвиновскую идею о конкурентном вытеснении менее высокоорганизованных существ более высокоорганизованными и лучше приспособленными. Однако во второй половине XX в. эта идея все более утрачивала доверие ученых, включая и палеонтологов, большинство которых искали объяснение вымирания в катастрофических событиях, внешних по отношению к биосу. Параллельно крепло представление о вымирании как важнейшем факторе макроэволюции, освобождающем жизненное пространство для вновь возникающих форм. Подобный взгляд на вымирание стал существенным компонентом теории прерывистого равновесия.
Все чаще стали публиковаться новые сведения о периодичности массовых вымираний, основывающиеся на статистической обработке палеонтологических данных. Мы еще вернемся к этому вопросу и соответствующим ему трудностям в конце этой главы. Содержащиеся в ряде таких работ выводы о правильной периодичности этого феномена наводили на мысль о его астрономической (космической) природе. В начале 1980-х годов старые представления о вспышках сверхновых звезд получили неожиданное развитие. Некоторые американские и английские астрономы (Д. Уайтмор, Р. Меллер, А. Джексон) выдвинули гипотезу, по которой периодические массовые вымирания могли вызываться еще не открытой звездой — Немезидой. Гипотетическая звезда вращается вокруг Солнечной системы по сильно удлиненной эллиптической орбите, то удаляясь от Солнца, то приближаясь к нему. При сближении с Солнцем, происходящим каждые 26 млн лет, Немезида проходит через кометное облако и выбивает из него десятки астероидов, часть из которых падает на Землю. Далее разыгрывается цепь уже земных событий, завершающаяся массовым вымиранием.
Различные варианты этой гипотезы обсуждались на специальной конференции по причинам периодичности массовых вымираний, состоявшейся в 1984 г. в Калифорнийском университете (США). По свидетельству Л. П. Татаринова (19856), впервые на подобном форуме тон задавали не палеонтологи и геологи, а астрономы и физики.
Возрождение астероидной гипотезы
В начале 1980-х годов самой популярной среди космических стала астероидная гипотеза. В этой связи вспомнили американского палеонтолога М. Делаубенфельса, высказавшего в 1956 г. предположение, что мезозойские ящеры были уничтожены мгновенным действием высоких температур, вызванных падением на Землю крупного метеорита, химика Г. Юри (Urey, 1973), объяснявшего массовые вымирания столкновением с Землей комет, и самого родоначальника идеи — П. Лапласа. Выходу старой гипотезы на передний край науки способствовало важное открытие. В 1979 г. в Италии в отложениях, пограничных между мелом и палеогеном, группой во главе с физиком из Калифорнийского университета Л. Альваресом был обнаружен тонкий глинистый слой, сильно обогащенный иридием — элементом, характерным для вещества астероидов и метеоритов. Резко повышенное содержание иридия между слоями той же эпохи вскоре было зафиксировано на территориях Дании, Испании, в Северной Америке, Новой Зеландии, на дне Тихого и Атлантического океанов и в других местах, что свидетельствовало о глобальном масштабе явления. Одновременно здесь было установлено присутствие других металлов платиновой группы, а также никеля и кобальта в концентрациях, превышающих норму на один-два порядка. Но наиболее показательным было обнаружение в иридиевом слое ударно-метаморфизированных зерен кварца, встречающихся только в породах ударных кратеров. Все это с большой степенью вероятности указывало на то, что приблизительно 65 млн лет назад произошло столкновение Земли с крупным космическим объектом — астероидом или кометой. Тогда же Альваресом была высказана гипотеза, что это столкновение и явилось причиной массовых вымираний на рубеже мезозоя и кайнозоя[23].
По данным содержания иридия были рассчитаны ориентировочные размеры упавшего небесного тела, которые оказались характерными для астероидов (диаметр 5—16 км, масса порядка n·1017 г). При гигантском взрыве от столкновения с Землей астероид превратился в мощное пылевое облако, распространившееся по всей атмосфере. Осаждение пыли и привело к равномерному распределению по Земле избыточного иридия.
Луис Уолтер Альварес (1911–1988).
По мнению одних авторов (Alvarez et al., 1980), сокращение количества солнечной радиации, достигавшей поверхности Земли, вызванное запылением атмосферы при взрыве астероида, должно было на несколько лет полностью приостановить фотосинтез, а следовательно, повлечь и массовое вымирание животных. Впоследствии Альварес (Alvarez et al., 1982) сократил трагическую паузу в фотосинтезе до нескольких месяцев. Другие авторы (Hsii et al., 1982) предполагали, что массовое вымирание было связано с нагреванием атмосферы, происходившим или сразу после падения астероида, или спустя тысячи лет после этого события в результате накопления в атмосфере углекислого газа. Поглощение последнего уменьшилось прежде всего в океанах ввиду гибели фитопланктона из-за остановки фотосинтеза.
Существенное значение для укрепления астероидной гипотезы должны были иметь, с одной стороны, подсчеты вероятной частоты падения небесных тел на Землю, с другой — определение периодичности вымираний на протяжении фанерозоя и сопоставление полученных данных друг с другом. Исследователи и пошли по этому пути. На международном совещании, посвященном внезапным событиям в истории Земли (Западный Берлин, 1983), в ряде докладов была отмечена хорошая степень совпадения обоих показателей (см.: Будыко, 1984). Вместе с тем на нем прозвучала критика принципа униформизма, который в его узкой интерпретации мешает пониманию особых событий космического масштаба. Это второе соображение вызвало сочувствие и среди ряда исследователей бывшего СССР. М. И. Будыко предлагал, например, «уточнить формулировку актуалистического подхода» и основывать его «на использовании не только закономерностей процессов, непосредственно наблюдаемых человеком, но и закономерностей тех современных процессов, которые безусловно происходят, но по тем или иным причинам непосредственно наблюдаться не могут» (Будыко, 1984. С. 328). К. такого рода процессам Будыко относит те события внеземного происхождения, которые происходят с низкой частотой.
Астероидной гипотезе и глобальным катастрофам специальное внимание уделил Л. П. Татаринов (19856, 1987). По era мнению, периодическое падение на Землю астероидов диаметром 10 км и более можно считать доказанным, но хронологическое совпадение этих катастрофических событий с массовыми вымираниями весьма сомнительно. Во-первых, процессы вымирания в большинстве групп начались за сотни тысяч, а то и миллионы лет до момента предполагаемой катастрофы; во-вторых, смена биоты даже на рубеже мела и палеогена не была внезапной. Палеонтологический материал свидетельствует о том, что это был продолжительный и многоэтапный процесс, носивший характер избирательного замещения. Так, по мнению Татаринова (1987), динозавры скорее всего пали жертвой конкуренции со стороны молодой прогрессивной группы млекопитающих, появившихся еще в конце триаса за 130 млн лет до вымирания динозавров. Татаринов справедливо утверждает, что даже гигантская катастрофа, предположительно способная уничтожить жизнь на половине поверхности земного шара, привела бы к вымиранию незначительного числа семейств животных и растений. В случае катастрофы глобального масштаба вымирание оказалось бы неизбирательным. Отсюда закономерен вывод, что ни одна из «катастрофических» моделей не объясняет смысла биотических процессов, происходивших в критические моменты истории Земли, и что популярность самих моделей держится на чисто психологической склонности людей к новизне.
В связи с тем что мысль о внезапном ударном воздействии катастроф наталкивается на серьезные противоречия, в последующие годы все большее внимание обращалось на отдаленные последствия падения астероидов или их сочетание с другими факторами. Так появились различные гипотезы, промежуточные между чисто космическими и теллурическими. К ним принадлежат, например, радиоактивная, вулканическая и ледниковая.
Принимая, что появление радиоактивных изотопов на поверхности Земли обусловлено их постоянной миграцией из недр земного шара, современная наука не отрицает возможности их возникновения под воздействием космического излучения. Что касается действия изотопов на живые существа, то оно отличается высоким мутагенным эффектом и длительностью, соответствующей периоду их распада. Одна из первых гипотез, основанных на действии радиоактивности, была высказана еще Е. А. Ивановой (1955). Изучая ископаемую фауну морских беспозвоночных среднего и верхнего карбона русской платформы, она пришла к выводу, что смена их фаунистических комплексов предшествовала периодам диастроф и, по-видимому, вызывалась действием радиоактивных элементов. Впоследствии сходные гипотезы получили развитие как в нашей стране, так и за рубежом.
С начала 1980-х гг. все большее значение стали придавать катастрофическим последствиям вулканической деятельности, причем возобладала тенденция рассматривать ее как следствие падения на Землю небесных тел. Считается, что столкновение астероида с Землей вызывает серию вулканических извержений взрывного характера, продолжающихся сотни или даже тысячи лет.
По подсчетам О. Туна (Toon et al., 1982), вследствие падения крупного астероида температура воздуха над океанами снижалась на 2-3°C и держалась на этом уровне в течение более чем двух лет, а над континентами — на несколько десятков градусов и не поднималась до полугола. В пересчете на среднее для всей Земли получается снижение температуры на 9°C.
Зависимость вымирания от падения температуры в результате извержений, охватывающих чуть ли не весь земной шар, более тридцати лет изучал известный климатолог М. И. Будыко (1964, 1967, 1971 и позднее). По его данным, суммарная солнечная радиация, достигающая поверхности Земли, падает более чем на 50 %, и средняя температура у земной поверхности понижается на 5—10 % на срок в несколько десятков месяцев. Такого похолодания было, по его мнению, достаточно для быстрого вымирания большинства стенотермных животных, в том числе из состава мезозойской фауны (Будыко, 1984. С. 308, 309).
Итак, гипотезы, чисто теллурические по своей природе и происхождению, вступили в недавнее время в тесное взаимодействие с концепциям», имеющими своей отправной точкой идею о первенствующей роли космических или тех или иных внеземных факторов. Они светят теперь как бы их отраженным светом.
Убежденный сторонник идеи подчинения ритма жизни на Земле космическим причинам, академик Б. С. Соколов пишет: «Кажется, что только внешние по отношению к живым системам события могли синхронно и в одном направлении воздействовать на них. И трудно представить какой-либо другой источник такого эффективного воздействия на органический мир Земли, кроме изменений в солнечной радиации и других видов еще более мощного космического излучения, хотя и действующих постоянно, но подверженных резким колебаниям вплоть до «ударных». Они-то и могли быть источником крупных событий в развитии жизни…» (Соколов, 1981. С. 11). Он добавляет также, что в комплексном влиянии на ход развития органического мира космическая радиация была теснейшим образом связана с климатическими изменениями, состоянием физических полей Земли и геохимическими процессами на ее поверхности.
Следует сказать, что по мере успокоения страстей, вызванных сенсационным открытием группы Альвареса, популярность ударных космических гипотез стала падать. Их стали теснить представления, в которых биотические изменения планетарного масштаба связывались с цепочкой обычных и более длительных геологических событий, инициированных периодическими изменениями параметров орбиты и ротации Земли. По крайней мере, в странах бывшего Советского Союза они явно уступили место экосистемной теории эволюции.
Этому факту есть и объективное основание. Астероидную гипотезу, например, доказать невозможно. Во-первых, источником иридия служит не только космос, но и вещество мантии, причем, по мнению некоторых специалистов (Красилов, 1987, 2001), второй более вероятен. В недавнее время было обнаружено, что в ряде глубоководных скважин мощность иридиевых слоев доходит до 50–60 см, что совершенно исключает вероятность их космического происхождения. Во-вторых, разрешающая способность стратиграфического метода не превышает 300 тыс. лет, и, стало быть, менее продолжительные события просто не могут быть выявлены.
Трудности в оценке массовых вымираний
В заключение целесообразно остановиться на развитии статистических исследований массовых вымираний и оценке степени их достоверности в связи с неполнотой палеонтологической летописи. В течение последних 30 лет наблюдалась возраставшая тенденция к охвату статистическим анализом все большего числа таксономических групп и их низведению в идеале до видового уровня.
Г. П. Леонов (1973) по материалам капитальной отечественной сводки «Основы палеонтологии» построил значительное число графиков, отражающих развитие многих групп органического мира на рубеже мезозоя и кайнозоя на уровне семейств и отрядов. Он пришел к выводу, что изменения, особенно при сопоставлении фаун и флор, асинхронны и не обнаруживают четкой закономерности.
Противоположная картина резкого вымирания на указанном рубеже предстает в сводке Д. Рассела (Russell, 1977), сгруппировавшего исследуемые таксоны по экологическому признаку в планктонные, бентосные, нектонные, наземные и воздушные. Почти внезапно вымирают 28 отрядов и классов и возникают 8 новых групп. Появляются в мелу и продолжают существовать в кайнозое 5 групп.
При анализе изменений на родовом уровне (всего учтено 2868 родов) тот же автор установил величину вымирания около 50 %, наиболее сильного среди морских организмов (табл. 1).
Таблица 1. Величина вымирания родов на рубеже мезозоя и кайнозоя (Russell, 1977)
Интересны также данные Рассела о сокращении числа видов во многих родах после вымирания. В итоге к началу третичного времени вымирает около 75 % видов, существовавших в конце мела. Столь грандиозный масштаб вымирания автор подтвердил и в более поздней сводке (Russel), 1979). К сожалению, эти данные не отражают конкретный ход событий, так как мел и третичный период рассматриваются Расселом без подразделений на века.
В 1982 г. американские палеонтологи Д. Рауп и Дж. Сепкоский (Raup, Sepkosky, 1982) произвели статистический анализ вымирания морских животных на протяжении фанерозоя на материале 3300 семейств. Они пришли к заключению, что за это время были по крайней мере четыре массовых вымирания — в конце ордовика, в конце перми, в конце триаса и в конце мела, и в общей сложности вымерло. 2400 семейств. Наиболее резкое вымирание приходилось на конец перми.
Применив усовершенствованную технику анализа, эти же авторы (Raup, Sepkosky, 1984) обнаружили на протяжении последних 250 млн лет геологической истории девять бесспорных пиков вымирания, следующих друг за другом с четкой периодичностью в 26 млн лет в мезозое и кайнозое и 34 млн лет — в палеозое. Следует, однако, заметить, что обе сводки не отличаются достаточной полнотой, поскольку не учитывают изменений в составе растительных и наземных животных организмов и не позволяют вести анализ на родовом уровне.
Примечательна работа «Рубеж мезозоя и кайнозоя в развитии органического мира» (Шиманский, Соловьев, 1982), вышедшая в СССР под редакцией академика Л. П. Татаринова и не имеющая аналогов в мировой литературе. В ней дан детальный анализ смены разных групп беспозвоночных, позвоночных и растений не только на семейственном, но и на родовом уровне. По некоторым же группам динамика прослежена на уровне видов.
В работе говорится, что картина смены органического мира в целом отличается исключительной сложностью. Несомненно значительное вымирание в самых различных классах. Наиболее впечатляющим оно было среди пресмыкающихся. Из 63 семейств, существовавших в конце мела, 39 не дожили до кайнозоя (63 %).
Сильнее всего вымирание сказалось на видах и родах, слабее — на семействах, и оно почти не отразилось на более высоких таксонах. Имелись классы, вымирание в которых не совпадало по времени с массовым вымиранием в других группах (таковы гастроподы и насекомые). В некоторых случаях вымирание видов и родов (последних в данной группе) в последнюю эпоху мела (Маастрихте) шло очень постепенно (аммоноидеи, иноцермы). В большинстве случаев значительное вымирание охватывало только часть крупных таксонов класса, в остальных же случаях оно было незначительным или даже не происходило вовсе (мшанки, головоногие). В итоге авторы сводки отмечают, что, хотя на описываемом рубеже и шло очень сильное изменение состава большинства групп, полная их перестройка растягивалась на многие миллионы лет, и кайнозойский облик фауна приобрела только к эоцену (Шиманский, Соловьев, 1982. С. 30).
Из содержания приведенных сводок напрашивается вывод о значительных трудностях, с которыми приходится сталкиваться как при изучении самих критических эпох в жизни биоты, так и при сопоставлении данных, полученных разными авторами. Прежде всего недостаточны надежность и точность сведений о стратиграфической привязке палеонтологического материала. Даже в такой капитальной отечественной сводке, как «Основы палеонтологии», в большинстве случаев указывается только эпоха существования таксона и редко — век. Отсюда невозможность судить о точном распределении таксона. Серьезное препятствие составляет также то обстоятельство, что палеонтологи пока не располагают возможностью рассматривать развитие органического мира в целом на видовом уровне. Осложняет дело и субъективность в подходе к систематике организмов.
Наконец, очень важным объективным фактором, снижающим достоверность получаемых результатов, является известная неполноценность фактических данных, связанная с неполнотой палеонтологической летописи, с переселением отдельных групп в новые экологические ниши, с плохими условиями захоронения и пр.
Действительно, заключение о существовании в ту или иную эпоху данного рода (или вида) обычно делается при наличии соответствующих находок. Если таких находок для указанного момента нет, резюмируют, что данный род (или вид) вымер. Однако подобное заключение по многим причинам может не соответствовать действительности. Ясно также, что если из-за ограниченности числа находок по данной группе они обнаруживаются не для каждого рассматриваемого интервала времени, то перед моментом массового вымирания неизбежно будут отмечаться исчезновения того или иного числа родов (или видов), которые в действительности вовсе не вымерли. Чем фрагментарнее палеонтологическая летопись, тем большее число таких «псевдовымираний» будет зафиксировано ранее срока действительного исчезновения соответствующих форм.
Общим недостатком статистических сводок по вымиранию является учет минимального числа достоверных массовых вымираний, тогда как их фактическое число может быть гораздо большим.
Не меньшие трудности стоят на пути доказательства периодичности крупномасштабных изменений абиотических факторов. Думается, что если даже будут доказаны реальность тех или иных событий катастрофического масштаба и их временная сопряженность с важнейшими биологическими революциями, это еще не будет означать, что тем самым доказана решающая роль этих событий в судьбах больших групп животных и растений.
Вот почему следует признать, что на современном уровне знаний решить проблему этапности и сопряженности макроэволюции не представляется возможным. Для этого потребуются огромные усилия многих специалистов разного профиля, и можно ожидать, что фронт соответствующих исследований будет расширяться.
Однако совершенно ясно, что предполагаемые случаи этапности в развитии биоты нельзя объяснить какой-либо одной, пусть самой могущественной причиной. Судя по всему, на каждую группу организмов действовал целый комплекс абиотических и биотических факторов (в их системном единстве), причем решающую роль должна была играть взаимозависимость групп в реальных экосистемах при контролирующей функции биосферы в целом. Радикальные изменения в состоянии этих высших уровней интеграции живого, нарушавшие их гомеостаз, вызывали сложнейшие цепные реакции на всех предшествующих уровнях.
Поэтому наиболее перспективной стратегией исследований можно считать изучение динамики биомассы в прошлые эпохи, как это настоятельно рекомендует Л. П. Татаринов (1983, 19856), и взаимодействия организмов с окружающей средой на уровне глобальной экологической системы.
Глава 10. Симгенез и симбиогенез
До сих пор, рассматривая разные течения эволюционной мысли, мы имели дело в основном с дивергентной эволюцией, известной во времена Дарвина, — кладогенезом (собственно дивергентная эволюция), анагенезом (филетическая эволюция) и стасигенезом, или персистированием (термины Ренша и Хаксли).
В XX в. получил прочное обоснование альтернативный способ формообразования — путем слияния (или иных форм интеграции) геномов разных видов (или представителей более высоких таксонов), названный К. М. Завадским (1968) синтезогенезом, а Н. Н. Воронцовым (1980) — симгенезом. Наиболее распространенным его модусом является гибридогенез — образование новых форм путем гибридизации.
Гибридогенез и сетчатое видообразование
Гибридизация, в том числе отдаленная, известна с незапамятных времен. Ее практиковали уже древние народы Передней Азии со времен неолита. Так, систематически скрещивая осла с кобылой, они получали мулов, отличавшихся повышенной мускульной силой и выносливостью. Вместе с тем они хорошо знали, что мулы не дают потомства. В те же далекие времена в природе был обнаружен и введен в культуру спонтанно возникающий плодовитый аллополиплод сливы — гибрид алычи и терна.
Бесплодие подавляющего большинства гибридов или их реверсия к родительским формам на протяжении веков служили важнейшей опорой представления о постоянстве видов. Нестройные голоса первых инакомыслящих стали раздаваться только в XVIII в. Самый авторитетный принадлежал Карлу Линнею.
Хрестоматийный характер приобрело высказывание Линнея о том, что «существует столько видов, сколько их создало бесконечное существо». Оно переходило из одного учебника по эволюционной теории в другой, причем без указания источника. Одним из первых его привел в своем «Курсе дарвинизма» (1945) А. А. Парамонов (с. 29). Действительно, эта формула наглядно свидетельствовала о следовании Линнея господствовавшим креационистским взглядам на постоянство видов в начале творческого пути (первые издания «Системы природы», «Основании ботаники»), Однако впоследствии Линней изменил свои взгляды и под влиянием фактов счел возможным допустить возникновение новых видов путем гибридизации.
Толчком послужило обнаружение среди зигоморфных цветков обыкновенной льнянки (Unaria vulgaris) цветков с пелорическим венчиком (Линней, 1989. С. 352). Из этого факта Линней сделал предположение, что растение с правильным актиноморфным венчиком (пелория) — это новый вид, возникший в результате скрещивания видов льнянки с неправильными (зигоморфными) венчиками. Линней также пришел к выводу, что вид бодреца Pimpinella agrimmides мог произойти в результате скрещивания Pimpinella sBnguisorba minor laevis с репейником Agrimonia officinarum, а вид вероники Veronica spuria явиться продуктом гибридизации Veronica maritima и вербены Verbena officinalis. При этом Линней подметил любопытную общую закономерность: гибриды в строении цветка чаще походят на материнский вид, а в строении листвы — на отцовский.
Уделив большое внимание гибридизации, Линней одним из первых получил путем опытного скрещивания в научных целях гибрид Tragopogon pratensis. Эти эксперименты он продолжал до конца своих дней. Линней поддерживал также аналогичные работы своих учеников, которые в период 50—70-х годов публиковались в сборниках <<Amoenitates Academiae» и воспринимались как выражающие взгляды своего учителя.
Допущение Линнеем возможности появления новых видов в пределах рода в результате гибридизации получило отражение в ряде его работ, в особенности в труде «О существовании пола у растений», представленном на конкурс Санкт-Петербургской академией наук, опубликованном в 1760 г. и удостоенном премии. Мы находим его также в «Родах растений» издания 1763 г. и в 13-м издании «Системы природы» (1774), где вместо прежнего принципа «nulla species nova» (никаких новых видов) Линней отметил, что «бесконечное существо создало в продвижении от простого к сложному, от малого к многому столько растений, сколько есть ныне отрядов. Затем в результате гибридизации возникли современные роды. Затем Природой были созданы виды» (цит. по: Воронцов, 1999. С. 184–185).
Высоко оценивая заслуги Линнея как «провозвестника эволюционизма», Н. Н, Воронцов (там же, с. 190) пишет, что «Линнею были свойственны определенные элементы эволюционного подхода: он допускал возможность гибридогенного происхождения новых видов от старых».
Во второй половине XVIII в. в связи с развитием селекционной практики фактическая база опытной гибридизации заметно расширилась. Среди последователей Линнея появились натуралисты с известными именами, такие, как А. Дюшен, Жорж Бюффон, А. Т. Болотов и Эразм Дарвин.
Однако следующая важная веха в развитии проблемы приходится уже на начало XX в. и связана с именем голландского генетика Яна Лотси, сторонника постоянства видов.
Первоначально Лотси изложил свою гипотезу «эволюции при постоянстве вида» в двух работах (Lotsy, 1914, 1916) и в дальнейшем пропагандировал ее до конца жизни (Lotsy, 1925а, 1925b). Нужно сказать, что с признанием ему не слишком повезло — и в основном из-за приверженности идее постоянства. В начале XX в. эта идея неоднократно возрождалась в разном одеянии и в разных странах — но, ввиду того что основная победа над ней уже была одержана дарвинистами и ламаркистами в XIX в., ее повторное явление на свет вызывало особое возмущение эволюционистов. В России и Советском Союзе гипотезу Лотси всегда подвергали и еще недавно продолжали подвергать уничтожающей критике (Филипченко, Четвериков, Комаров, отчасти Вавилов; Гайсинович, 1988. С. 229–230), зачастую приписывая ее автору несвойственные ему взгляды и не давая себе труда заглянуть в подлинники.
Сейчас, когда страсти по постоянству видов давно улеглись и даже появление научного креационизма не вызывает активной реакции отторжения, можно спокойно и объективно оценить и Лотси. Вспомним в этой связи, что в свое время никто не сделал так много для грядущего торжества идеи эволюции, как два истых апологета фиксизма — Линней и Кювье.
Ян Паулус Лотси (1367–1931).
Свою главную книгу «Эволюция путем гибридизации» (Lotsy, 1916) Лотси посвящает памяти Чарлза Дарвина и, хотя развивает в ней отнюдь не дарвиновскую концепцию, цитирует его сочинения как самые авторитетные источники чуть ли не на каждой второй странице. Сведения же из Дарвина о плодовитых гибридах у растений и животных воспроизводит с особой полнотой.
Лотси практиковал в своем саду широкомасштабные опыты по скрещиванию разных видов львиного зева (Antirrhinum), энотеры (Oenothera) и некоторых других растений и был в курсе аналогичных экспериментов Э. Баура и Г. де Фриза. Эти опыты, а также классическое исследование В. Иоганнсена (1903) убедили Лотси, что чистые виды, как всегда представленные гомозиготными формами, абсолютно постоянны. Утвердившись в этом представлении, он, естественно, не мог согласиться с теорией де Фриза (за исключением идеи о регрессивных мутациях, при которых, однако, полагал эволюцию немыслимой), решительно отрицал существование наследственной изменчивости и считал себя вправе заявить, что эволюция в дарвиновском понимании невозможна.
При постоянстве видов их эволюционные преобразования возможны, по убеждению Лотси, только благодаря межвидовой гибридизации. Этому механизму Лотси придает значение единственного фактора эволюции и многократно повторяет это утверждение в своей книге, часто выделяя его курсивом. «Когда природа разрешает скрещивания, — пишет Лотси, — начинается эволюция; когда скрещивания становятся невозможными, она приостанавливается» (op. cit., р. 99). Соответственно, все живые диплоидных организмы видятся Лотси гибридными, их лишь ошибочно принимают за чистые формы. Вот почему, в частности, не представляется возможным доказать проявление мутационной изменчивости, если бы таковая и существовала. Тем самым Лотси все же признает видовую наследственную изменчивость, но только комбинативную. Он указывает на своего предшественника — австрийского ботаника А. Кернера (Kerner, 1863), который первым обосновал механизм гибридогенного видообразования.
Опираясь на закон расщепления Менделя и производя простые математические расчеты, Лотси показывает, что с увеличением числа поколений гибридов, размножающихся в себе (инцухт), доля гомозиготных особей неуклонно возрастает и при миллионе потомков только две остаются гетерозиготными. В природе эта теоретически непреложная закономерность в силу разных обстоятельств часто нарушается, но, сколько бы гомозигот ни образовалось, они уже составляют новые константные виды. В принципе такое возможно уже со второго поколения. Как известно, такой способ видообразования подтвержден современной генетикой (Грант, 1991. С. 263).
Подобно тому как каждый индивид имеет двух родителей, так и каждый вид должен иметь два предковых вида, но попытаться определить их — совершенно безнадежная задача ввиду беспорядочности происходящих в природе скрещиваний и частого вымирания родительских видов. Поэтому филогения представляется Лотси не наукой, а «продуктом фантастических спекуляций» (Lotsy, 1916. Р. 140).
Именно Лотси положил начало широкой политипической концепции вида, предложив различать наряду с обычными линнеевскими видами — линнеонами — их более мелкие подразделения — элементарные виды, или чистые формы — жорданоны[24]. Только последние и представляют собой истинные виды, реально существующие в природе. Различия между ними субстанциональные: у каждого свой состав плазмы и, соответственно, особая конституция образуемых гамет. О том, каковы они конкретно, нам ничего не известно.
Лотси допускает адаптацию линнеонов к среде и считает доказанным существование естественного отбора, но трактует эти механизмы вразрез с представлениями Дарвина. Приспособление, по его мнению, достигается исключительно изменением состава линнеона вследствие внутривидовых скрещиваний и вымирания менее приспособленных жорданонов. Что касается отбора, то его роль всегда негативная: он причина не появления, а вымирания форм. Вымирание начинается сразу после рождения нового линнеона. С течением времени в ходе борьбы за существование число составляющих его жорданонов неуклонно сокращается (этому сопутствует и уменьшение числа скрещиваний), пока в конце концов не остается один, сохранение которого в рамках чистого инцухта тоже не может быть гарантировано. Аналогичный механизм определяет и судьбу высоких таксонов вплоть до класса.
Таким образом, все ныне существующие линнеевские виды, по Лотси, — это реликты более широких групп, некогда возникших путем скрещивания. В далекие эпохи отдаленные скрещивания время от времени давали исключительные результаты — возникали новые планы строения, появлялись новые классы. Лотси допускал, например, что позвоночные животные могли появиться в результате гибридизации двух представителей беспозвоночных (op. cit., р. 147).
Из всего сказанного видно, что Лотси слишком «обделил» природу, оставив в ее распоряжении лишь один механизм самосохранения и развития — гибридизацию. Он также слишком переоценил креативные потенции гибридизации, так что собственно эволюция предстала как процесс деградации, перехода от сложного к более простому, заполняющий промежутки между двумя плодотворными актами гибридизации. По существу, его гипотеза напоминала концепцию В. Бэтсона, хотя возможность эволюции путем утраты генов Лотси решительно отрицал.
В заключение этого анализа хотелось бы отметить, что при всех крупных ошибках Лотси, ясно выявившихся в ходе дальнейшего развития науки, созданная им концепция отличается цельностью, а также полнотой охвата эволюционной проблематики. В соответствии с ее логикой Лотси отрицал какую бы то ни было продуктивность понятия гомологии, развивал идею полифилетического и политопного происхождения видов, был одним из первых сторонников цикличности эволюции. Несомненная заслуга Лотси состоит в том, что он привлек внимание к симгенетическому формообразованию и в полной мере осознал огромное эволюционное значение возникновения раздельнополости, диплоидности и полового размножения. Лотси совершенно справедливо отмечал, что только с появлением атрибутов жизни возникла и комбинативная изменчивость, а вместе с ней стала возможной настоящая прогрессивная эволюция.
Если на Западе не нашлось сколько-нибудь крупного ученого, который бы творчески развивал идеи Лотси, то, как это ни парадоксально, убежденный последователь его доктрины обнаружился в коммунистическом Советском Союзе. Им стал известный ботаник, один из основателей флорогенетики — науки о зарождении и развитии флоры земного шара — М. Г. Попов.
Михаил Григорьевич Попов (1893-1955).
Стержневая идея всего будущего научного творчества Попова о гибридизации как источнике всего неисчерпаемого разнообразия растительного мира зародилась у него в конце 1920-х гг., когда с помощью морфолого-географического метода он исследовал происхождение главных родов средиземноморской флоры (Попов, 1927, 1928). Уже тогда он пришел к выводу, что эта флора возникла в результате обширных гибридизационных процессов.
В дальнейшем он (Попов, 1954, 1956, 1963) превратил гибридизацию в универсальный инструмент образования у растений новых видов, родов, семейств, порядков и даже целого типа покрытосеменных. Вкратце содержание его гипотезы заключается в следующем.
Основным путем образования новых форм растений во все времена была гибридизация. Ее формообразовательная эффективность тем выше, чем дальше друг от друга морфологически отстоят скрещивающиеся родительские виды. В гибридном потомстве от взаимно далеких видов часто возникают резко отличные формы, вполне или частично константные, — так называемые нодэны (по имени французского ботаника Ш. Нодэна, изучавшего последствия экспериментальной межвидовой гибридизации). Вместе с тем частота таких «продуктивных» отдаленных скрещиваний в природе прямо пропорциональна близости скрещивающихся форм, и, стало быть, в случае гибридизации представителей высших таксонов она крайне низка и происходит раз в десятки и сотни тысяч лет, а то и на порядок реже.
Этим не исчерпываются препятствия, стоящие на пути рождающегося нового вида. Из тысяч и десятков тысяч «странных новообразований» только один нодэн даст начало новому виду, и то если он найдет подходящую экологическую нишу и ему будет благоприятствовать отбор. Остальные погибнут или останутся в числе немногих особей в составе популяций старых видов. Нои они вскоре будут поглощены возвратным скрещиванием, если не окажутся изолированными физиологическими или пространственными барьерами. Отсюда, по мнению Попова, понятен медленный темп эволюции.
Попов указывал также, что при гибридогенном видообразовании эволюция и, соответственно, систематика целых групп растений не могут изображаться в форме древа и принимают вид сети (Попов, 1954. С. 879–880).
Отметим, что, игнорируя данные генетики, Попов полагал, что возникающие при гибридизации новые признаки и свойства оказываются следствием взаимодействия разных комплексов аминокислот, комбинации которых безграничны.
Развивая свою гипотезу, Попов пришел к категорическому выводу о возникновении покрытосеменных единцтвенным путем — скрещиванием древних групп голосеменных гнетовых с беннеттитовыми (цикадовыми). К такому же заключению много раньше Попова пришел американский ботаник Э. Андерсон (Anderson, 1934) — и его приоритет Попов специально отмечает — а вслед за ним и другой американский ботаник — Д. Стеббинс (Stebbins, 1950). Именно такое статистически «крайне невероятное», по словам Попова, скрещивание привело к появлению Angiospermae, Вскрывая существо вопроса, Попов писал: «Величайшее событие, рождение покрытосеменных, т. е. скрещивание Гнетовых с Беннеттитовыми, подготовлялось миллионы лет, прежде чем совершилось <...> “чисто случайно”, по-видимому только в одном месте Земли и только однажды» (Попов, 1956. С. 769).
Гипотезу Попова часто подвергали критике как за претензию на универсальность, так и за слепое следование «реакционным» идеям Лотси, но автор продолжал упорно ее отстаивать. Конечно, как это станет ясно читателю из последующих разделов книги, представления Попова о случайности и частоте-редкости описываемых феноменов не соответствуют новейшим представлениям, но сама идея об отдаленном гибридогенезе как источнике видообразования обрела прочный статус одного из распространенных путей эволюции.
Решающим доказательством реальности гибридогенного видообразования в природе послужили работы по экспериментальному синтезу новых видовых форм и по ресинтезу существующих. Они положили начало экспериментальному моделированию тех механизмов эволюционного процесса, которые осуществляются посредством полиплоидии и гибридизации. Вместе с тем эти работы открыли совершенно новые перспективы перед селекционной практикой.
Мировую известность приобрели эксперименты Г. Д. Карпеченко по синтезу межродового гибрида между редькой (Raphanus sativus) и капустой (Brassica oleracea), опубликованные в 1924–1927 гг. и описанные затем в огромном количестве книг, как отечественных, так и зарубежных (рис. 10). Цитологический анализ полученного плодовитого гибрида, названного рафанобрассикой, показал, что он имел в своем хромосомном наборе сумму диплоидных наборов родительских форм (2n = 18), т. е. был тетраплоидом. Тем самым впервые в истории была преодолена гибридная стерильность, неизменно возникающая вследствие нарушения конъюгации хромосом в мейозе из-за не гомологичности хромосом гаплоидных гамет. В данном же успешном эксперименте Карпеченко имел дело с нередуцированными диплоидными гаметами.
Григорий Дмитриевич Карпеченко (1899-19941).
Трудно сказать, знал ли Карпеченко работу датского генетика О. Винге (Winge, 1917), который первым высказал предположение, что восстановление нормального мейоза и плодовитости у межвидовых гибридов может быть достигнуто только в случае удвоения числа хромосом. Однако Карпеченко поступил именно так, как если бы ему было известно это указание. В дальнейшем удвоение хромосомного набора у родительських видов для получения автополиплоидов стали осуществлять, применяя искусственные агенты — высокие и низкие температуры, химические и радиационные мутагены.
Оценивая экспериментальный синтез нового вида, осуществленный Карпеченко, Н. Н. Воронцов отмечает, что это был первый случай конструирования нового генома, т. е. применения той технологии, которая через пол века получила название генетической инженерии (Воронцов, 1999. С. 479–480). Экспериментальные работы, связанные с преодолением генетических трудностей на пути к созданию новых аллополиплоидов, послужили отправной точкой для разработки Карпеченко (1935) строго научной теории отдаленной гибридизации, которая не утратила своей ценности до сегодняшнего дня.
Рис. 10. Схема экспериментов Г. Д. Карпеченко (из: Воронцов, 1980).
В этом же ряду стоят опытные работы по межвидовой и межродовой гибридизации (за исключением мнимой «вегетативной») плодово-ягодных культур, на протяжении длительного времени проводившиеся И. В. Мичуриным. Наука требует объективности: пора освободить имя этого выдающегося селекционера-самоучки от довлеюшего над ним груза тех трагических ассоциаций, в которых он неповинен!
Среди многочисленных гибридов, полученных Мичуриным, особый теоретический интерес представляет синтез принципиально нового растения — церападуса, полученного от скрещивания вишни Primus chamaecerasus и черемухи Padus padus maakii. Мичурин считал церападус новым зарождающимся видом (см.: Мичурин, 1939. Т. 1).
В дальнейшем опытным путем было получено огромное число новых амфидипломных форм, большая часть которых не встречается в природе. В этом направлении особенно успешной была деятельность сотрудников Н. И. Вавилова и шведского генетика А. Мюнтцинга. Простое перечисление всех этих форм заняло бы несколько страниц, и в этом нет никакой необходимости. Обратим лишь внимание на хозяйственно наиболее значимые.
Многолетние работы по совершенствованию ржано-пшеничных гибридов, начатые Г. К. Мейстером в 1918 г. и продолженные целой плеядой известных селекционеров, увенчались созданием октоплоидного сорта тритикале (Мюнтцинг, 1977), обладающего рядом ценных свойств. Много новых хозяйственнозначимых форм принесли опытные скрещивания культурных злаков с дикими, например твердой и мягкой пшеницы с разными видами пырея, осуществлявшиеся под руководством Н. В. Цицина (1960). В частности, полученная им октоплоидная многолетняя пшеница Triticum agropyrotriticum Cicin содержит 2п = 56 хромосом, из которых 42 от пшеницы и 14 от пырея.
Ресинтез ряда культурных и диких растений неопровержимо свидетельствовал об их гибридогенном происхождении. Так, сотрудник Вавилова В. А. Рыбин скрещиванием терна (Prunus spinosa) и алычи (P. divaricata) воссоздал культурную сливу (P. domestica); болгарский генетик Д. Костов, временно работавший в СССР, объединением двух диплоидных дикорастущих видов табака (Nicotiana silvestris и N. tomentosus) ресинтезировал культурный табак (N. tabacum); А. Мюнтцинг получил дикорастущий вид пикульника (Galeopsis tetrahit) путем гибридизации двух видов (G. speciosa и G. pubescens).
Продолжая развивать работы учеников Мюнтцинга и Вавилова, американский генетик Д. Л. Стеббинс в 1940-1950-е годы экспериментально получил такие аллополиплоиды, которые содержали в своем геноме хромосомные наборы как минимум четырех биологических видов (Stebbins, 1950). Впоследствии он доказал, что подобные гибридные виды, имеющие не менее четырех предков, распространены и в природе (Stebbins, 1974, 1982).
Гибридные формы, происходящие от четырех видов, образуются поэтапно. Сначала возникают аллотетраплоиды (по числу сочетаний из 4 их может быть 6 вариантов) — продукты слияния гамет с нередуцированными наборами хромосом. На следующем этапе в случае повторного нарушения редукции в мейозе слияние тетраплоидных гамет может дать ряд вариантов аллооктоплоидов, т. е. форм с вторично дуплицированным числом хромосом. Если гибридизационный процесс продолжится, то возможно и возникновение таких форм, предками которых будут, например, четыре диплоидных и два аллотетраплоидных вида. В любом случае нескрещиваемость разнохромосомных видов преодолевается сохранением в гаметах диплоидного числа хромосом. Такие сложные формы Стеббинс предложил называть полиплоидными комплексами (compilospecies).
В 1970-е годы американский генетик и ботаник В. Грант (1980, 1991) выделил отдельный способ гибридного видообразования с участием внешних преград, обеспечивающих изоляцию нарождающихся видов от других. К этим преградам он относит экологическую и сезонную изоляцию, а также особенности строения цветка. Различия между видами, ведущие к возникновению таких преград, находятся под контролем определенных генов. У потомков естественных межвидовых гибридов происходит расщепление по этим генным различиям, и у новых продуктов этого расщепления возникает новая комбинация признаков, создающая основу для появления новых изолированных субпопуляций. Если изоляция последних сохранится и далее, то из них разовьются новые виды. Примеры такого способа гибридогенного видообразования пока единичны, и они не обладают полной достоверностью.
Подводя итог рассмотрению гибридогенного способа видообразования у растений, подчеркнем его чрезвычайно широкое распространение в природе. По данным Стеббинса и Айалы (1985) 47 % покрытосеменных представляют собой полиплоиды, среди которых подавляющее большинство относится к аллополиплоидам. М. Д. Голубовский (2000) в своей новой книге поднимает эту цифру даже до 52–58 %. К этому огромному числу гибридных видов следует добавить формы культурных растений, синтезированных методами экспериментальной полиплоидии.
Во второй половине XX в. полиплоидное и гибридогенное формообразование было обнаружено и в мире животных. Оно зафиксировано преимущественно в группах, размножающихся партено-генетически или бесполым путем.
Ю. И. Полянский (1960, 1971 и позднее) не только установил сами факты регулярности полиплоидных процессов среди радиолярий, инфузорий, амеб и других простейших, но и показал, что полиплоидия у них служила основой прогрессивной эволюции. Б. Л. Астауров еще в 1930-е годы выдвинул гипотезу о существовании естественной полиплоидии у бисексуальных животных, а в дальнейшем подтвердил ее в своих экспериментах по получению межвидовых гибридов тутового шелкопряда — Bombyx mori х В. mandarina (Астауров, Острякова-Варшавер, 1957). Фактически Астауров, добиваясь 100-процентного выхода однополого потомства с нужными свойствами, получил целую серию форм разного уровня плоидности. С этой целью он использовал не только сложные схемы скрещиваний, но и промежуточную стадию искусственно вызванного партеногенетического размножения. Конечным этапом этих процедур оказались аллополиплоидные бисексуальные насекомые, способные к самостоятельному размножению. Многолетние эксперименты дали основание Астаурову (1969) заявить, что он рассматривает их как модель эволюционных процессов в естественных популяциях некоторых групп животных.
Одна из первых догадрк о существовании полиплоидии и гибридизации у позвоночных принадлежит шведскому зоологу Г. Свердсону (Svardson, 1945). По его мнению, таким путем могло возникнуть семейство лососевых рыб. Кариологические исследования и данные электрофореза, полученные в 1970-е годы B. C. Кирпичниковым (1979) и Ю. П. Алтуховым (1989), подтвердили это предположение и выявили другие группы рыб, в эволюции которых гибридизационные процессы играли важную роль. Полная сводка всех известных фактов этого рода содержится в книге В. П. Васильева (1985).
Л. Я. Боркин и И. С. Даревский (1980) описали неординарный тип гибридргеиного видообразования у ряда амфибий (роды Ambystoma и Rana) и рептилий (роды Lacerta и Chemidophorus). Они, в частности, указали, ссылаясь на работы Л. Бергера (Berger) и других исследователей, что обычная прудовая лягушка Rana esculenta представляет собой гибридную форму от скрещивания R. lessonae и R. ridibunda.
Эти авторы изложили концепцию последовательной гибридизации с обязательной промежуточной фазой образования диплоидной гибридной клональной и, как правило, однополой формы. Эту концепцию ныне разделяют большинство специалистов. Она предполагает существование как минимум трех основных генетических этапов гибридогенного видообразования, ведущих к аллотетраплоидии у позвоночных.
На первом этапе в результате гибридизации на уровне бисексуальных нарождающихся диплоидных видов может образоваться диплоидная форма, переходящая к клональному размножению путем гиногенеза (рыбы), «одалживания» отцовского генома на одно поколение (рыбы, бесхвостые амфибии) или партеногенеза (хвостатые амфибии, рептилии). На втором этапе вледствие возвратной гибридизации этой диплоидной однополой формы с одним из родительских видов может возникнуть триплоидная однополая форма, размножающая с помощью гино- или партеногенеза. Наконец, на третьем этапе в результате скрещивания этой последней с одним из близких бисексуальных диплоидных видов может появиться тетраплоидная форма, способная вернуться к нормальному бисексуальному размножению (рис. 11).
Рис. 11. Схема гибридизации (Боркин, Даревский, 1980).
Авторы отмечают, что эта схема (второй и третий этапы) хорошо согласуется с экспериментально подтвержденной гипотезой Б. Л. Астаурова (1969) о непрямом развитии естественной полиплоидии у шелковичного червя.
Для биолога должен составить особый интерес феномен «одалживания» генома самцов: он сливается с геномом гибридных самок в процессе оплодотворения, но элиминируется у их потомков в ходе мейоза. В последнее время этот феномен стали обнаруживать также в развитии некоторых гибридных беспозвоночных.
В ходе дальнейшего изучения мировой фауны ящериц общее число видов гибридогенного происхождения из разных семейств увеличилось до 40 (Даревский, 1995). Обнаружены они в самых различных частях земного шара. Таковы 14 видов североамериканского рода Cnemidophorus, комплекс видов западноавстралийских гекконов Heteronotia binoei, гекконы сборного вида Lepidodactylus lugubris с тихоокеанских островов, 5 кавказских партеногенетических видов скальных ящериц рода Lacerta, а также вьетнамская триплоидная ящерица Leiolepis guntherpetersi. Все они появились сравнительно недавно — в голоцене или плейстоцене.
Достаточно подробно изучены скальные ящерицы горного Кавказа (Даревский, 1967; Даревский, Гречко, Куприянова, 2000).
Из 18 обитающих здесь видовых форм 7 представлены партеногенетическими самками, предположительно образовавшимися в результате серии актов естественной межвидовой гибридизации. Самки этих видов, имеющие диплоидный набор хромосом (2n = 38), легко спариваются с самцами бисексуальных видов, включая в свой геном мужской гаплоидный набор хромосом. В результате их потомство становится триплоидным (3n = 57), и в нем сочетаются признаки материнского и отцовского видов (с преобладанием материнских). Триплоидные формы размножаются исключительно партеногенетически, В смешанных гибридных популяциях на их долю приходится иногда до 10–12 % от общей численности особей. Как и все нечетно-полиплоидные организмы, они лишены эволюционной перспективы.
Автор (Даревский, 1995) полагает, что партеногенетические виды ящериц возникали в истории их рода многократно путем скрещивания одних и тех же родительских пар. Некоторые однополые виды представляют собой отдельные клоны или совокупность немногих клонов, берущих начало от одной или нескольких самок-прародительниц. Существование парте ноге нети ческих форм дает виду биологическое преимущество: благодаря тому, что потомство оставляют все особи популяции, темп размножения вида удваивается, и это способствует поддержанию его численности на высоком уровне.
Плодовитые гибриды, встречающиеся в природе среди млекопитающих, были изучены, в частности, Н. Н. Воронцовым. В последней книге (Воронцов, 1999) он привел случаи скрещивания между малым (Spermophilus pygmaeus) и крапчатым (Sp. suslicus), между большим (Sp. major) и краснощеким (Sp. erythrogenys) сусликами.
Еще три десятилетия назад Э. Майр специально отмечал, что гибридогенное видообразование хотя и часто постулировалось, но ни разу не было доказано. Сейчас можно с уверенностью заявить, что оно точно доказано всей совокупностью цитогенетических, биохимических, иммунологических и морфологических методов.
Рис. 12. Схема ретикулярной эволюции (из: Dobzhansky, 1951).
Из всего сказанного в этом разделе следует, что рассмотренные факты гибридогенного формообразования демонстрируют принципиально недарвиновский механизм видообразования: во всех описанных случаях происходит не разделение (дивергенция) филетических линий, а их схождение. Схематически этот процесс можно отобразить в виде сетки, совершенно аналогичной той, которая возникает при построении полной генеалогии любого человеческого рода. Отсюда второе название гибридогенного формообразования — сетчатое, а в английском звучании — ретикулярное видообразование (или эволюция) (рис. 12). Этот термин ввел в биологию Ф. Г. Добжанский (1937)[25].
Симбиогенез
Кроме гибридогенеза в природе существует и такой способ объединения разнородных организмов с образованием новых, при котором слияния геномов исходных форм не происходит. В результате образуются организмы-кентавры, классическим примером которых могут служить лишайники.
Впервые мысль о двойственной природе этих растений была высказана швейцарским ботаником С. Швенденером (Schwendener, 1869). В начале 1880-х годов она получила полное подтверждение. Было доказано, что лишайники представляют собой продукты эволюционного объединения гриба и водоросли, т. е. получилось, что целый отдел царства растений возник не путем дивергенции, а с помощью обратного процесса — слияния ранее совершенно самостоятельных организмов.
Однако, как показала Л. Н. Хахина (1973, 1975, 1979), заслуга в изучении этого удивительного феномена, поразившего многих современников, в гораздо большей степени принадлежит русским ботаникам, которые в ряде моментов даже чуть опередили своего швейцарского коллегу.
В 1867 г. А. С. Фаминцын и О. В. Баранеикий опубликовали на немецком языке (Famintsin, Baranetsky) сообщение об опытах, в которых им удалось отделить гон иди и (одноклеточные зеленые водоросли) лишайника от его бесцветного слоевища. Гонмдии оказались способными к самостоятельному существованию в культуре, подобно своим свободноживущим собратьям, образовывали споры и по строению весьма походили на таковых рода Cystococcus. Из соображений научной щепетильности авторы еще не заявили о двухкомпонентной природе лишайника, они воздержались от принятия этой идеи и тогда, когда ее высказал Швенденер, но сделанное ими открытие фактически уже означало положительное решение этого вопроса.
Через 40 лет А. С. Фаминцын обратился к проблеме роли симбиоза[26] в эволюции и в серии статей (1907а, 19076, 1912а, 19126 и позднее) попытался представить симбиоз как важный формообразующий фактор, дополняющий работу дивергентного видообразования. Интересно, что теперь Фаминцын (1907) задался идеей показать, что принцип, породивший лишайники, можно распространить и на растительную клетку как структурную единицу.
Чуть раньше с аналогичной гипотезой — независимо от Фаминцына — выступил ботаник Казанского университета К. С. Мережковский (Mereschkovsky, 1905), брат поэта Д. С. Мережковского. Так родилось учение о симбиотическом происхождении клетки зеленых растений, которое после введения Мережковским в 1909 г. ныне общепринятого термина «симбиогенезис» (симбиогенез) стало называться учением о симбиогенезе. В переводе с греческого это слово означает «возникновение на основе совместной жизни».
По мнению обоих авторов этой фантастической гипотезы, и ядро, и хлоропласты (хроматофоры) с заключенным в них хлорофиллом, и центросомы — короче, все известные тогда органеллы растительной клетки — ведут свое происхождение от бактерий и водорослей, которые проникли некогда в бесцветный амебоподобный (или флагеллятоподобный) животный организм извне и стали его постоянными симбионтами. При этом особое значение для подтверждения гипотезы имели хлоропласты с их большой автономией и, как были убеждены авторы, непрерывностью этих пластид в ряду клеточных поколений; важным представлялось их сходство с современными свободноживущими одноклеточными водорослями.
Фаминцын полагал, что хлоропласты ведут свое начало от таких форм, как хлореллы и ксантеллы. Мережковский вел их генеалогию от примитивных сине-зеленых (цианей). При этом оба категорически отвергали традиционные представления об их образовании всякий раз заново путем дифференциации клеточной плазмы.
Надо сказать, что Мережковский шел в своих рассуждениях дальше Фаминцына. Он был убежден (Мережковский, 1909), что в основе всего живого лежат две глубоко различные плазмы — микоидная, из которой состоят бактерии, сине-зеленые водоросли и большая часть грибов, и амебоидная, которая слагает ткани животных и растений, Организмы, составленные из микоидной плазмы (Мережковский называл их микоидами), принадлежат к самому древнему царству на Земле, В результате симбиоза простейших безъядерных амебоидных существ (монер) с первичными микоидами — бактериями биококками — возникли первичные одноклеточные организмы — амебы и флагелляты.
Бактерии образовали ядро клетки.
Андрей Сергеевич Фаминцын (1835-1918).
Затем благодаря симбиогенезу совершился новый «творческий акт»: в первичные амебы и флагелляты внедрились сине-зеленые водоросли и превратились в хлоропласты. Так, путем двойного симбиоза возникли клетки всех высших растений.
К концу 1930-х гг. интерес к проблеме симбиогенеза, столь активно обсуждавшейся до сих пор как в отечественной, так и в зарубежной науке, резко падает, а вскоре о ней и вовсе забывают. Это объясняется в основном двумя причинами. С исчерпанием возможностей светового микроскопа в исследовании микроструктур клетки дальнейшие дискуссии становились бесплодными, а все попытки (в том числе Фаминцына) культивирования в искусственных средах зерен хлорофилла, извлеченных из растительной клетки, оказались тщетными.
Но из теоретических построений Мережковского по крайней мере одна идея — о двух плазмах — оказалась пророческой. Начиная с 60-х годов в сознании цитологов и микробиологов все более крепло представление о глубокой пропасти, которая разделяет безъядерные (точнее было бы сказать — доядерные) организмы, каковыми являются бактерии, и ядросодержащие, к которым относятся все остальные. Коренные различия между ними, как выяснилось, распространялись и на ультраструктуры, в том числе формы укладки ДНК (Кернс, 1967), В итоге оказалось, что различия между ядерными и безъядерными глубже и фундаментальнее, чем между традиционными царствами животных и растений, и что вполне обоснованно делить все живое на два надцарства — прокариот и эукариот (Тахтаджян, 1973), Замечательно, что границы этих надцарств (за исключением грибов) совпали с распределением организмов между двумя типами плазмы у Мережковского.
Успехи в изучении ультраструктур клетки 1960-х гг., ставшие возможными благодаря новым методам исследования (электронная микроскопия, центрифугирование, усовершенствование биохимических, цитофизиологических и других методов), создали основу для возрождения гипотезы Фаминцына — Мережковского на новом уровне. С обновленной гипотезой о симбиогенетическом происхождении эукариотической клетки выступила молодой биолог из Бостонского университета Линн Саган-Маргулис (Sagan, 1967; Margulis, 1970 и позднее). Не упомянув своих русских предшественников, она развила ряд положений, очень близких представлениям Мережковского.
Л. Маргулис опиралась теперь на целый ряд гораздо более достоверных фактов, свидетельствовавших об автономии клеточных органелл, их сходстве друг с другом, а также с цианеями и бактериям. Было установлено, что как пластиды, так и митохондрии способны к авторепродукции, причем не всегда синхронизированной с митотическим циклом клетки. Они содержат собственный генетический аппарат, в значительной мере автономный от ядерной ДНК, причем на долю внеядерной ДНК приходится от 5 до 40 % всей ДНК клетки. Обнаружилось также, что ДНК органелл всех до сих пор изученных эукариотических организмов сложена в виде колец, как это наблюдается у всех бактерий и одноклеточных сине-зеленых водорослей, тогда как ядерная ДНК эукариот образует хромосомы, располагающиеся линейно (Кернс, 1967). Сообразно генетическим различиям пластиды и митохондрии обладают и своим высокоавтономным белоксинтезирующим аппаратом (Филиппович, Светайло, Алиев, 1970).
Лини Маргулис (род. 1938).
Зато по тем же и целому ряду других характеристик хлоропласты оказались сходными с синезелеными водорослями (Taylor, 1970; Пахомова, 1972, 1974), а митохондрии — с бактериями (Nass, 1969; Рудин и Уилки, Лини Маргулис (род. 1938) 1970).
Опираясь на эти данные, Маргулис (Margulis, 1970) предложила следующую модель симбиотического возникновения эукариотической клетки (рис. 13). Родоначальником всех форм жизни, от которого не менее чем 3,3 млрд лет назад началась органическая эволюция на Земле, был небольшой гетеротрофный амебоидный прокариотный организм, еще не способный дышать кислородом. Эти гипотетические допотопные организмы поглотили, не убивая, более мелкие аэробные бактерии, которые в теле своих хозяев превратились в митохондрии (первый этап симбиогенеэа). Образовавшиеся в результате более крупные микоплазмолодобные организмы приобрели высокоподвижные спирохетоподобные бактерии и стали жгутиконосными формами. Спирохетоподобные бактерии способствовали образованию настоящего ядра, жгутикового и митотического аппаратов — возникли простейшие эукариотические организмы, давшие начало царствам животных и грибов (второй этап симбиогенеэа). Наконец, последним этапом эволюции эукариотической клетки стало объединение с фотосинтетиками типа примитивных цианей, которые превратились в фотосинтезирующие пластиды и открыли своим хозяевам путь к приобретению автотрофного типа питания (третий этап симбиогенеза). Этот последний этап дал начало всему стволу растений. Таким образом, все эукариоты, по Маргулис, являются по меньшей мере двухгеномными организмами.
Симбиогенетическая гипотеза возникновения эукариот получила широкую поддержку и распространение как на Западе (Raven Р. Н.; Schnepf Е., Brown R. M.; см. сводку: Cavalier-Smith, 1995), так и в России (Тахтаджян А. Л.; Генкель П. А.; Яблоков А. В. и Юсуфов А. Г.; см. обзор: Кусакин, Дроздов, 1994). В своей последней книге по эволюции Н. Н. Воронцов заявил, что он принимает «гипотезу симбиогенеза как наиболее вероятную» (Воронцов, 1999. С. 496). При этом он справедливо добавляет, что последовательность этапов симбиогенеза могла быть и другой, но в любом случае эволюционное развитие не могло быть монофилетическим. Впрочем, есть исследователи, не согласные с Маргулис. Они считают, что митохондрии и хлоропласты не произошли от бактерий, а всего лишь получили от них ряд генов (Gogarten, 1995).
Рис. 13. Схема симбиотического возникновения эукариотической клетки по Маргулис (из: Тахтаджян, 1973).
Таким образом, как и в случае гибридогенеза и полиплоидии, когда образование новых форм происходит благодаря слиянию и дупликации геномов, возникновение новых таксонов путем симбиогенеза связано с пространственной интеграцией двух или более геномов в рамках одного организма (его клеток), т. е. осуществляется путем синтезогенеза, прямо противоположным дивергенции. Здесь нет места для каких бы то ни было процессов микроэволюции. Это чисто макроэволюционный (точнее, мегаэволюционный) процесс.
Обсуждение проблемы симбиогенеза и всех новейших открытий молекулярной биологии, на которые она опирается, побудило многих исследоввателей к перестройке общей филогенетической системы органического мира, а именно ее самых верхних этажей, составляющих предмет мегасистематики. Характерной тенденцией последнего времени стало увеличение числа ее высших подразделений — надцарств, царств, подцарств и типов (отделов). Так, в генеральной системе А. Л. Тахтаджяна (1973), пользующейся широким признанием, два надцарства, четыре царства и девять подцарств. О. Г. Кусакин и A. Л. Дроздов (1994) предложили систему, состоящую из 22 царств и 132 типов. Интерес к соотношению объемов высших таксонов сохраняется по сей день.
Глава 11. Номогенез
Этот термин (от греч. «nomos» — закон) впервые вошел в биологию благодаря изданию Л. C. Бергом одноименной книги с полным названием «Номогенез, или эволюция на основе закономерностей» (1922). С тех пор им стали обозначать прогрессионистские эволюционные гипотезы, авторы которых рассматривают эволюцию как запрограмированный процесс реализации внутренних, имманентных живому организму закономерностей. В своей исходной форме номогенез противопоставлялся теории Дарвина как основанной исключительно на случайной изменчивости и потому названной тихогенезом.
Руководствуясь априорными суждениями в духе кантианского агностицизма, Берг провозгласил основным законом эволюции «автономический ортогенез» — имманентное свойство живой природы производить независимо от внешней среды все более совершенные формы. Постулируя наличие у организмов такого целенаправленного внутреннего процесса, или силы, Берг указывает, что нечто аналогичное уже было высказано в России К. Бэром, Н. Я. Данилевским и Н. Н. Страховым, а на Западе — К. Негели и Э. Копом.
Концентрируя свое внимание главным образом на прогрессивной эволюции и случаях «истинного новообразования», Берг честно признает, что о причинах прогресса ему ничего не известно. Зато о способах его осуществления он пишет с полной определенностью. Согласно его номогенетической концепции, автономические факторы изменяют «существенные признаки, определяющие самый план строения данной группы» (там же, с. 182), и ведут ее по пути прогресса. В итоге возникают новые органы и образуются систематические группы от уровня вида до класса, причем Берг специально подчеркивает, что соответствующие признаки часто «образуются в определенном направлении <…> независимо от пользы… а иногда — даже во вред организму» (там же, с. 179).
По мнению Берга, запрограммированность эволюционного развития филогенетических линий органически включает в себя явление преадаптации. Наряду с автономическим ортогенезом ученый обосновывает его ссылками на преобладание в эволюции параллелизмов и конвергенций и иллюстрирует их искусно подобранными примерами.
Источник прогрессивных преобразований Берг усматривает в стереохимических свойствах белков, т. е. в изменениях их пространственной структуры, побуждающей формы изменяться только в определенном и всегда целесообразном направлении.
Как же представлял себе Берг механизм возникновения новых признаков, а вместе с ними — новых видов и более высоких таксонов?
Во всех случаях это процесс, одновременно охватывающий всех особей данного вида и сразу на громадной территории. При его описании Берг пользуется такими эпитетами, как эпидемический, массовый, стихийный, и многократно возвращается к этому вопросу.
Тезис о массовом характере преобразования населения вида Берг настойчиво противопоставляет положению Дарвина о действии естественного отбора на индивидуальную изменчивость и преимущественное сохранение первоначально небольшого числа изменившихся индивидов. Изменчивость, лежащая в основе образования новых признаков, никогда не бывает случайной. Она всегда возникает закономерно, т. е. в нужное время, и направлена в сторону, полезную для ее обладателей. В этом, по Бергу, «и заключается вся соль вопроса об эволюции: получается ли полезное случайно или закономерно?» (там же, с. 180). К этому следует добавить, что в полном отрицании случайности и, напротив, в утверждении строгой закономерности преобразования как раз и состоит идейное ядро теории номогенеза. Но коль скоро изменчивость закономерна и направленна, нужда в естественном отборе как факторе эволюции полностью отпадает.
Массовые преобразования форм, связанные с возникновением новых признаков, могут осуществляться не только под действием автономических процессов, но и под влиянием географического ландшафта, т. е. причин хорономических. В этом случае новые формы возникают в результате географической изоляции части популяции вида, испытывающей «принудительное» превращение.
Влияние географического ландшафта по сравнению с действием автономических причин намного скромнее по результатам, так как оно способно приводить лишь к образованию подвидов, в лучшем случае — викариирующих видов. Соответственно, Берг уделяет этому фактору гораздо меньше внимания.
Отдавая приоритет причинам автономическим, Берг разъясняет, что их действие проявляется в так называемых мутациях Ваагена[27] — морфологических изменениях, происходящих во времени» которое разделяет соседние геологические горизонты. При этом новые виды образуются путем замещения (субституции) старых, материнских на основе «массового преобразования» громадного количества особей, а не путем дивергенции, как это мыслится Дарвином. Более того, массовое тиражирование нового признака только и есть гарантия его прохождения сквозь бдительные сети отбора и его наследственного закрепления. Сами же мутации совершаются исключительно скачками, почему между истинными таксонами никогда не бывает переходных форм. Берг отмечает также, что «массовое преобразование есть явление геологического порядка: оно связано с изменением фауны данного горизонта и происходит в известные промежутки времени, чтобы затем опять на долгое время прекратиться.
Это и есть путь прогрессивной эволюции» (курсив мой. — В. Н.) (там же, с. 317).
Лев Семенович Берг (1876-1950).
Что касается масштаба возникающих новообразований, то он бывает самым различным, но главное, что это часто «резкий и заметный шаг… в морфологическом отношении: это может быть образование плаценты, конечности типа пятипалой, конечности типа летающей, появление гетеростилии, семени, двуполого цветка и т. п.» (там же, с. 329), Таким путем возникают, по Бергу, новые роды, отряды и даже классы. Способ образования высших таксономических единиц такой же, как и низших. При этом прогрессивные изменения совершаются впервые в молодом возрасте или в эмбриональном состоянии.
В противоположность мутациям Ваагена, т. е. филетическим преобразованиям, мутации де Фриза, по мнению Берга, никакого видообразовательного и вообще эволюционного значения не имеют, ибо они появляются у единичных индивидов, а их носители — мутанты — обычно образуются путем утраты генов. На подобных мутациях основывать прогрессивную эволюцию невозможно.
Преобразования одних форм в другие происходят периодически, скачками. Есть эпохи, пишет Берг, когда творческая сила природы дает калейдоскоп органических форм, а есть времена, когда эта сила как бы дремлет. Внешнее выражение такого хода эволюции мы видим в самом делении геологической истории на эры, периоды и эпохи. Если проследить последовательность родственных родов и видов, замещавших друг друга исторически, то, как бы ни были полны палеонтологические данные, история всегда оказывается прерванной. Берг склонен считать скачкообразность законом прогрессивной эволюции и меняет смысл известного афоризма Лейбница на противоположный: «Природа делает скачки».
Представления Берга о судьбе внутривидовых подразделений прямо противоположны дарвиновским. Предваряя идеи многих современных макрогенетиков, он полагал, что эти низшие внутривидовые единицы никогда не в состоянии «дорасти» до вида в результате дивергенции, а, наоборот, виды, возникнув сразу, скачком, разделяются на подвиды и более мелкие единицы. В современную нам эпоху, отмечал Берг, вполне можно наблюдать разложение сборного (линнеевского) вида на его составные элементы, но никто еще не видел обратного процесса — превращения расы в вид путем подбора, и нельзя допустить, чтобы такой процесс мог происходить. Следовательно, по Бергу, сначала образуется вид, а уже затем происходит его расщепление на соответствующие внутренние составные части. В обратную сторону процесс не идет.
В соответствии с представлением о первичном разнообразии форм жизни и их параллельном эволюционном развитии Берг отстаивает идею крайней полифилии и противопоставляет ее дарвиновскому принципу дивергенции. Соответственно, филогенетические отношения между систематическими группами представлялись ему не в форме ветвистого дерева, а в виде ржаного поля. Интересно, что, подобно голландскому генетику Я. Лотси — представителю совершенно иного эволюционного направления, — Берг допускал возможность политопного и повторного образования видов и высших таксонов и верил в частичную обратимость эволюции.
Но вернемся к стержневой идее «Номогенеза…». Берг сам ясно определил ее выбором одного из эпиграфов к главе об определенном направлении, или — закономерности, эволюции. «В области органической природы, — говорится в нем, — точно так же, как и в области неорганической природы, случайность отсутствует, и полезность многих деталей тела возникает по законам, а не в результате случайностей или случайных событий» (Osborn, 1909. Р. 225).
Благодаря единым законам развития «эволюция идет в определенном направлении», по конкретному руслу, подобно электрическому току, распространяющемуся вдоль проволоки (сравнение Берга). Она складывается из направленного (а отнюдь не хаотического) изменения признаков организмов. Варьировать же в определенном направлении организмы побуждают главным образом внутренние, автономические причины.
Направленность эволюции всего нагляднее проявляется в явлениях конвергенции (параллелизма), при которых у двух или более рядов форм развиваются сходные признаки, поскольку эти явления вызываются «наследственной склонностью варьировать в одинаковом направлении».
Берг особо отмечает, что конвергенция — не исключительное явление, как думал Дарвин, а «основной закон эволюции органического мира» (там же, с. 228). В силу этого закона сходство между организмами может быть не только результатом кровного родства, но следствием более общего принципа — развития живого по одинаковым законам. Поэтому Берг не делает принципиального различия между гомологией и конвергенцией.
Книга Берга насыщена примерами конвергенции как родственных, так и далеких друг от друга групп организмов, относящихся и к животному, и к растительному миру. Фактически вся сравнительная анатомия могла бы, по его мнению, служить в этом отношении иллюстрацией. Среди позвоночных параллельное развитие демонстрируют эволюция зубов у рептилий и млекопитающих, постепенное окостенение позвоночника у высших рыб, уменьшение числа костей в черепе, превращение сердца из двухкамерного в трех- и четырехкамерное (последнее развилось совершенно независимо у крокодилов, птиц и млекопитающих). По целому ряду внешних и внутренних признаков обнаруживается сходство ихтиозавров с дельфинами, хищных птиц с совами. Совершенно удивительно одинаковое устройство органа зрения у кольчатых червей, членистоногих, головоногих моллюсков и позвоночных. Такой орган, как плацента, кроме соответствующего инфракласса млекопитающих имеется у ряда мшанок, у некоторых насекомых и скорпионов, у оболочников, у акулы Mustelus lаеvis, а также у некоторых сумчатых. Природа трижды сделала попытку создать формы с автостилическим черепом среди позвоночных, а именно у химер (рыбы), у двоякодышащих и, наконец, у четвероногих.
Большое число параллельных рядов форм позволяет построить также палеонтологический материал. Они широко известны среди гониатитов, аммонитов, паплюдин, динозавров, теридонтов, лошадиных, между птерозаврами и птицами, крокодилами и птицами и т. д.
О закономерной направленности эволюции свидетельствуют также явления филогенетического ускорения или предварения признаков, а также закон гомологических рядов в наследственной изменчивости, установленный Н. И. Вавиловым (1920; Вавилов, 1968; Vavilov, 1922). Говоря о последнем, Берг замечает, что «Вавилов проводит идею номогенеза более успешно, чем это делаю я в настоящей работе» (там же, с. 224), а также многократно ссылается на его данные.
Николай Иванович Вавилов (1887-1943).
Сущность закона гомологических рядов совершенно ясна в той формулировке, которую ему дал сам автор:
«1. Виды и роды, генетически близкие, — писал Вавилов, — характеризуются сходными рядами наследственной изменчивости с такой правильностью, что, зная ряд форм в пределах одного вида, можно предвидеть нахождение параллельных форм у других видов и родов. Чем ближе генетически расположены в общей системе роды и линнеоны, тем полнее сходство в рядах их изменчивости.
2. Целые семейства растений, в общем, характеризуются определенным циклом изменчивости, проходящей через все роды и виды» (Вавилов, 1968. С. 32).
Данный закон основан на анализе громадного материала по изменчивости культурных растений и их диких сородичей и никогда никем не опровергался. Вавилов привел удивительно правильные параллельные ряды форм, как в пределах одного рода (у пшеницы, ячменя, овса, пырея), так и у разных родов (ржи и пшеницы, разных представителей бобовых и тыквенных).
Особенно нагляден пример поразительного сходства разных родов — культурной чечевицы (Ervum lens) и часто засоряющей ее посевы плоскосемянной вики (Vicia saliva). Оба растения одновременно цветут и созревают, а их семена по размеру и форме настолько похожи друг на друга, что сортировочные машины не в состоянии их разделить. Хотя роль искусственного отбора в данном случае несомненна, сами формы с одинаковыми семенами были обнаружены в природе, где они образовались в полном соответствии с законом изменчивости до и помимо всякого отбора.
В свете закона Вавилова особенно поблекла значимость явлений мимикрии как комплекса адаптивных внешних признаков, имитирующих внешность хорошо защищенных видов, и как приспособления, якобы возникшего под действием естественного отбора. Вавилов и Берг высказываются по этому поводу в унисон: первый видит в случаях мимикрии «повторение циклов изменчивости в различных семействах и родах», а второй утверждает, что «явления мимикрии… целиком могут быть подведены под понятие гомологических рядов» (Берг, 1977. С. 313). В цитируемой книге Берг собрал много примеров (главным образом среди бабочек) бесполезности мимикрии, когда имитаторы подражают сразу многим видам других семейств, когда имитатор и модель никогда не видели друг друга, так как обитают на разных континентах. Опираясь на закон Вавилова, полное развенчание дарвиновского толкования миметизма осуществил австрийский энтомолог Ф. Гейкертингер (Heikertinger, 1954).
Дарвинисты, всегда яростно критиковавшие Берга, в отношении закона Вавилова часто использовали тактику замалчивания и уж во всяком случае редко вспоминали, что, наряду со сходной изменчивостью видов, родов и семейств, Вавилов признавал существование у них специфических, до поры неизменных признаков — радикалов. К числу таких радикалов относятся, в частности, величина и кратность хромосомных наборов. У пшеницы, например, она обычно кратна семи (у однозернянок — 14, у твердых — 28, у мягких — 42). Понятно, что подобный радикал, как и вообще любой количественный признак, не может возникнуть постепенно, как — обычно принято считать — развиваются качественные признаки под действием отбора. Он мог образоваться только сразу, одномоментно, например в результате гибридизации или геномной мутации.
Закон Вавилова приобрел не только универсальное общебиологическое значение. Он оказался одним из самых практичных теоретических обобщений генетики. Подобно периодическому закону Менделеева, позволившему целенаправленно искать в природе еще не открытые химические элементы, он создал ориентиры для поисков доселе неизвестных видов и разновидностей, — могущих оказаться полезными в селекции тех или иных культур. В частности, широко известен пример обнаружения Вавиловым наперед им предсказанных форм ржи без лигулы у основания листовой пластинки и с опушенными колосьями, совершенно аналогичных соответствующим формам пшеницы. Им же было найдено так называемое голое просо. Многие другие формы растений и целые гомологические ряды были обнаружены сотрудниками, учениками и последователями Вавилова, способствуя тем самым популяризации его закона. Последний стал известен и западному научному сообществу благодаря публикации в 1922 г. статьи Вавилова в «Journal of Genetics» (Vavilov, 1922). Его с одобрением восприняли многие крупные генетики. Он послужил также толчком для разработки А. А. Заварзиным (1923; см. также: 1986) концепции параллелизма в филогенетическом развитии тканей.
Вавилов (как, впрочем, и многие интерпретаторы его закона) писал, что закон гомологических рядов «не противоречит дарвинизму, наоборот, развивает его» (Вавилов, 1939. С, 519). Одним из доводов в пользу такого толкования служило предположение о проявлении действия гомологичных генов, унаследованных от общего предка, аналогичного тому, которым для объяснения параллельной изменчивости пользовался Дарвин. Кроме того, Вавилов допускал возникновение фенотипических сходств в результате действия разных аллелей одного гена и даже разных генов, что было подтверждено уже через полвека данными молекулярной биологии при изучении так называемых неполных и ложных гомологий на уровне генотипа (см., например: Медников, 1980, 1981, 1983).
Сделаем маленькое отступление. Как Вавилов установил свой закон для фенотипических признаков, так и Дарвин, естественно, описывал случаи аналогичной изменчивости по видовым признакам, т. е. оба этих явления относятся к морфологическому уровню организации. Современная молекулярная генетика с еще большей убедительностью, чем классическая генетика времен Вавилова, показала самостоятельность, или глубокую автономию, процессов формообразования от генетических факторов. Во всяком случае, такое впечатление будет сохраняться до тех пор, пока фенетика не воссоздаст всю цепочку событий от гена (или генов) до интересующего нас морфологического признака. А поэтому не стоит полагать, что доказательство плейотропной или полигенной детерминации фенотипических сходств может снять противоречие между направленной изменчивостью у Вавилова и ненаправленной — у Дарвина. Это противоречие остается реальным фактом. Поэтому абсурдно одновременно принимать закон Вавилова и осуждать закон конвергенции Берга.
Впрочем, в условиях уже сложившегося в СССР в 1930-е гг. тоталитарного строя и жесткого идеологического контроля даже крупные биологи могли писать одно, а думать другое. Подгонять же под материалистическую диалектику и дарвинизм новые открытия считалось обязательным требованием лояльности. Тем более значимым для нас становится непредвзятое суждение А. А. Любишева, считавшего, что с открытием закона гомологических рядов Вавилов сделал «очень крупный шаг по пути проникновения в закономерности систематики и эволюции», который «не гармонировал <…> с общей системой дарвиновских взглядов на эволюцию…» (Любищев, 1982. С. 248, 252–253).
Эволюционной концепции Берга близки взгляды палеонтолога Д. Н. Соболева. Подобно Бергу, он признавал существование закона автономического ортогенеза, считая его выражением автономного и имманентного живому свойства изменяться во времени. Но в отличие от Берга, который его только постулировал, Соболев стремился найти ему прочное обоснование на ископаемом материале.
Развивая свою теорию биогенеза, Соболев (1924), как и Берг, считал, что филогенетические превращения, ведущие к возникновению высших таксонов, осуществляются преимущественно сальтационным путем. Порождаемую сальтациями прерывистость эволюции он даже провозгласил законом биогенеза. При этом, следуя заде Фризом и Бэтсоном, Соболев полагал, будто сальтации сводятся, как правило, к утрате наследственного фактора и поэтому направляют эволюцию в сторону регресса.
Дмитрий Николаевич Соболев (1872–1949).
Сближает Соболева с Бергом и представление, что случающиеся филогенетические превращения организмы испытывают уже при своем рождении. К этому Соболев добавляет, что «подобно индивидуумам, и высшие органические единицы, очевидно, также родятся, они возникают благодаря более или менее глубокому превращению или филогенетическому метаморфозу» (там же, с, 171). Соболев допускал и частичную обратимость эволюции, утверждая, что почву для сальтационистских превращений, «по-видимому, всегда готовило обратное развитие или омоложение» (там же, с. 164).
Однако нас больше интересует другая, более ранняя работа Соболева, посвященная исследованию закономерностей филогенетического развития девонских головоногих моллюсков — гониатитов (Соболев, 1913). Опубликованная девятью годами ранее «Номогенеза» Берга, эта работа в ряде моментов, относящихся к особенностям параллельной изменчивости, опережала Берга концептуально и предвосхищала разработки современных его последователей.
Коснемся прежде некоторых понятий, которыми оперирует Соболев. Согласно его представлениям, существуют три рода эволюционных изменений: изменения комбинационные, градационные и мутации де Фриза. Последние характеризуются внезапностью, но их формообразовательная роль ограниченна, и Соболев их не рассматривает.
В центре внимания ученого, безусловно, градационные изменения[28], которые представлены уже упоминавшимися нами мутациями Ваагена — морфологическими изменениями в разрезе геологического времени (современные исследователи чаще называют их хроноклинами). Несколько последовательных мутаций образуют ряд, или линию.
Вообще, ряд как таковой можно построить только по одному признаку. Но в палеонтологии, имеющей дело с биологическими объектами и, следовательно, с коррелятивной изменчивостью, возможны ряды по двум или нескольким признакам (как, например, в случае ряда копытных). Фактически все параллельные ряды форм, приводимые Бергом, построены по одному признаку.
Соболев сознательно анализирует сочетания или комбинации признаков. Он, очевидно, полагал, что если существует направленная и параллельная изменчивость, то в одной линии одновременно может быть несколько параллельных рядов — для каждого признака свой. Так, он пишет, что, взяв две пары признаков, мы получим четыре их возможных сочетания попарно и столько же больших групп гониатитов. Теперь можно проследить их градационные изменения. Сам Соболев проследил преобразования немногих признаков морфологии раковины и обнаружил, что изменения в различных линиях и группах линий происходят в одинаковом порядке — через те же градации и стадии, что и в других. При таком параллельном развитии целый ряд «видов» какого-либо «рода» может претерпеть подобные и одинаково направленные изменения и, таким образом, приобрести признаки другого «рода» (там же, с. 10).
Параллельно развивающиеся линии не обособлены друг от друга. Время от времени они скрещиваются, и тогда комбинации признаков соседних рядов (линий) соединяются промежуточными комбинациями, состоящими из признаков обеих линий. При многократном соединении (анастомозах) перекрещивающиеся линии образуют сложную сеть родственных связей, которую Соболев называет сетью скрещивания. Таким образом, пишет Соболев, мы приходим к представлению о «сетчатом строении органического мира», поскольку последний «состоит из комбинаций» (там же, с. 85).
Соболев обнаружил также, что один и тот же признак у форм, живущих одновременно, может быть представлен в нескольких вариациях. Носителей таких вариаций Соболев назвал изомерами. Примером может служить такой важный систематический признак, как характер сутурной (лопастной) линии. Ее видоизменения при одинаковом числе лопастей связаны с их разной локализацией. В ходе эволюции получаются изомерные стадии сутуры. Соболев установил четыре независимых параллельных ряда по этому признаку. Наконец, Соболев пришел и к идее отображения эволюционного многообразия параллельных рядов в виде таблицы, как это предлагают современные номогенетики. Вот как он говорит об этом сам: «Если комбинации с одинаковыми формулами [признаков] расположить в вертикальные ряды по стадиям сутуры и притом таким образом, чтобы одинаковые стадии расположились горизонтальными рядами, тогда место пересечения вертикального ряда с горизонтальным точно определяет положение комбинации (или группы комбинаций)». Он добавляет, что так мы получаем «более точную и естественную систему». В приводимых таблицах гониатитов и климений Соболев располагает комбинации каждой линии по градациям и стадиям сутуры.
Исследования параллельной изменчивости после открытия закона Вавилова, столь многочисленные в 1920-е годы, к началу 1940-х годов полностью прекратились. Об этом законе и номогенезе Берга забыли на целых два десятилетия. К проблеме вернулись только в начале 1960-х годов, причем в западных публикациях имена Вавилова и Берга чаше всего уже не упоминались[29].
Особняком стоит французский зоолог-биоспелеолог Альбер Вандель, уже знакомый нам как типичный представитель финализма. Можно сказать, что по всем ключевым характеристикам развиваемой им эволюционной концепции (Vandel, 1948, 1949, 1963, 1968) он солидарен с Бергом. Это касается и идеи авторегуляции, родственной автономическому ортогенезу Берга, и филогенетического преформизма, и представлений о единстве законов онто- и филогенеза, о массовом и приспособительном характере изменчивости, делающей излишним вмешательство отбора, об исключительно сальтационном формообразовании и о том, что эволюция начинается с преобразования типов организации (подробнее см.: Назаров, 1984).
Интерес к закономерностям эволюции определялся у разных авторов разными причинами, но наиболее общими, по-видимому, были затруднения в истолковании параллелизмов, направленности и телеономичности эволюции с позиции теории отбора (СТЭ), выявление эволюционной значимости активности организмов, способности живого к самоорганизации, склонность искать объяснения сложных вопросов упорядоченности эволюции в рамках определенных философских и научных традиций (например, приверженность многих французских эволюционистов гипотезе антислучайности, разработанной в 30-е годы Л. Кено).
Заслуживают упоминания (а некоторые и более подробного рассмотрения) четыре концепции. Причины канализованности и телеономичности эволюции в них связывают с увеличением количества ДНК (С. Оно), со структурой белков (Ж. Моно), с процессами трасформаиии, заложенными в организации вещества и энергии (А. Лима-де-Фария), с законами системной общности всех объектов природы (С. В. Мейен, Ю. А. Урманцев).
Американский молекулярный биолог Сусуму Оно попытался связать грандиозные макроэволюционные события с многократной дупликацией генов и увеличением на этой основе количества. ядерной ДНК (Ohno, 1969; Оно, 1973). Путем дупликации избыточных (нефункционирующих копйй) генов возникают новые — как структурные, так и регуляторные — гены, ответственные за крупные морфологические преобразования. Это так называемые тандемные дупликации, которые влекут за собой также пропорциональное увеличение размеров клеток тела и делают невозможной дальнейшую функциональную дивергенцию вновь возникающих копий. Поэтому для обеспечения нормального хода макроэволюции тандемные дупликации должны были чередоваться с полиплоидией — дупликацией всего генома.
По мнению Оно, по достижении предками амниот уровня организации рептилий с высокоспециализированным механизмом определения пола «великий эксперимент природы с дупликациями генов» должен был прекратиться, о чем свидетельствует относительная стабилизация размеров генома (у змей и ящериц он колеблется в пределах от 60 до 67 %, а у птиц — от 44 до 59 % размера генома плацентарных млекопитающих). Адаптивная радиация млекопитающих происходила уже без заметного числа дупликаций — только за счет ранее накопленных копий генов. Избыточные копии, не используемые в настоящее время, могут оказаться полезными в будущем при новых обстоятельствах.
С момента публикации работ Оно был установлен ряд фактов, нарушающих постулированную закономерность. Помимо того что у некоторых рыб и земноводных обнаружилось количество ДНК, в 25 раз превышающее ее содержание у любого из видов млекопитающих (Уотсон, 1978. С. 507), фактически в пределах любого крупного таксона этот показатель обнаруживает большой разброс. Даже в пределах одного семейства, а также рода количество ДНК разнится в несколько раз: у разных видов дрозофил — в 2,5 раза, у близких видов злаков — в 3 раза, а у лютиков — в 5 раз (Голубовский, 2000. С. 81). Кроме того, выяснилось, что в состав ДНК входят фракции из многократно повторяющихся последовательностей, не кодирующих никаких полипептидных цепей, на долю которых приходится до 80–90 % генома. Поэтому находится немало специалистов, которые вообще отрицают какую бы то ни было корреляцию между прогрессивной эволюцией и величиной генома (Корочкин, 1985).
Французский биохимик Ж. Моно (Monod, 1970) наделил телеономическими свойствами белки и свел к их принципам организации все характеристики сложного многоклеточного организма, почти буквально повторив Берга. Подобные свойства белков зависят, по Моно, от их способности вступать в стереоспецифические взаимодействия нековалентного характера с другими соединениями. Отсюда он сделал вывод, что структурная самосборка организма в онтогенезе и изменения в ней, переходящие в филогенез, представляют собой суммарный итог самопроизвольной организации белков, информация о которой заключена в их структуре. К идее направленности и неслучайности эволюции приходят и многие другие зарубежные биологи разных специальностей (Whyte, 1965; Riedl, 1978; Taylor, 1983).
Среди современных номогенетических толкований эволюции выделяется своим радикализмом концепция автоэволюции шведского цитогенетика испанского происхождения Антонио Лима-де-Фариа (1991). Она в равной мере отражает идеи западного структурализма и глобального эволюционизма. По последовательности проведения принципов последнего она стоит в одном ряду с построениями Берга, Тейяра де Шардена и Янча.
В понимании А. Лима-де-Фариа биологическая эволюция — всего лишь продолжение эволюции физико-химической, которая началась с рождением Вселенной. В этой предбиологической эволюции он выделяет три последовательных автономных уровня — эволюции элементарных частиц, химических элементов и минералов. Присущие последним законы и правила задают все особенности биологической эволюции и прежде всего налагают на нее все новые ограничения, пока не останется всего один или несколько возможных путей ее реализации. Эта стержневая идея Лима-де-Фариа проходит лейтмотивом через всю его книгу.
Согласно общепринятой точке зрения канализация эволюционного развития есть следствие ограничений, накопленных организацией биологических объектов в ходе предшествовавшей эволюции. Новизна концепции Лима-де-Фариа заключается в том, что ограничения, по его мнению, возникают на трех низших уровнях организации и биологическая эволюция их только отражает. Это положение он пытается продемонстрировать на примерах бесчисленных сходств.
Нельзя не согласиться с тем, что высшие формы движения материи, включая в себя низшие, не затушевывают и не отменяют действующих в них закономерностей. Так, если белки при нагревании свыше 45–50°C испытывают денатурацию, то и организмы, тела которых построены из белков, погибают при тех же температурах. Ток, вырабатываемый электрической батарейкой, представляет собой поток ионов, возникающий в электролите в результате окислительно-восстановительной реакции. Электрические потенциалы, образующиеся на биологических мембранах, в клетках и специальных электрических органах у ряда рыб, имеют ионную природу.
Рис. 14. Листовидные структуры. А. Минерал: чистый висмут в самородной форме (Medenbach, Sussieck-Fornefeld, 1983). Б. Растение: лист сумаха (Feirvnger, 1956). В. Беспозвоночное: бабочка-листовидка (Kallima) со сложенными крыльями, так что видна нижняя поверхность обоих крыльев (Cott, 1951). Г. Беспозвоночное: листовидка Chitonisctis feedjeanus; видоизменения передних крыльев, в том числе средней и боковых жилок, делающие ее похожей на лист (Cott, 1951). По Лима-де-Фариа.
Однако Лима-де-Фариа заявляет о себе как о крайнем редукционисте, Он серьезно полагает, что «биологическая эволюция полностью обусловлена упорядоченностью трех предшествовавших эволюций» и что все биологические явления можно и нужно свести к законам физики и химии (там же, с. 22, 365). Закономерности и канализация органической эволюции задаются уже на уровне элементарных частиц, а последующие уровни их только еще больше упорядочивают.
Следствием такого жестко канализованного развития оказывается, по Лима-де-Фариа, гомологичность изоморфизмов, наблюдаемых в живой и неживой природе. На страницах его книги мы видим многочисленные и зачастую поразительные примеры морфологического сходства кристаллических структур минералов со структурами животных и растений (рис. 14–18). Но при этом мы не обнаруживаем у него ни малейшего стремления к отысканию какого-либо критерия для отделения сходств, имеющих общую причину, от чисто внешних, ничего не говорящих аналогий. В результате в одном ряду с примерами, заслуживающими изучения, помещены и подобные следующему: сеть жилок листа Arum, капиллярная сеть лапки лягушки и фрагмент растрескавшегося от засухи песчаника (!). Но самое слабое место развиваемой концепции состоит в том, что ее автор подбирает только желательные примеры, но не может доказать единства лежащего в их основе механизма, ибо, как он сам признает, физика элементарных частиц и особенно процесса кристаллизации еще остается недостаточно изученной.
Рис. 15. Изогнутые выросты. А. Минерал, самородки серебра обычно имеют изогнутую форму (Ehrhardt, 1939). Б. Растение: плод Martynia lutea (сем. Martyniaceae) (Heywood, 1978). В. Позвоночное: скелет мамонта, вымершего хоботного, обитавшего не севере Европы и е Азии (Pierantoni, 1944). По Лима-де-Фариа.
Лима-де-Фариа убежден, что причину биологической эволюции надо искать в том, откуда берут свое начало форма и функция. А они, безусловно, имеют своих предшественников в мире минералов, химических элементов и элементарных частиц. В этом мире еще не было и в помине ДНК и генов, а закрепление во времени характерных структур (паттернов) уже имело место. Так проявлялось свойство атомов, молекул и минералов. «Спиральная форма, характерная для раковин моллюсков, — пишет Лима-де-Фариа, — уже существовала в галактиках, а гексагональные структуры глаза насекомого — в снежинках» (там же, с. 330).
Рис. 16. Растущие кристаллы и органы. А. Молекулы: кристаллы льда, образовавшиеся из конденсирующихся паров воды (Cabrera, 1937). Б. Растение: молодые побеги папоротника Pteridium aquilinum (Cabrera, 1936). В. Беспозвоночные: личиночная стадия стеблевой морской лилии (Pierantoni, 1944) По Лима-де-Фариа.
Рис. 17. Слоистые кольцевые структуры. А. Молекулярный процесс: кольца Лизеганга в смеси азотнокислого серебра и двухромовокислого калия в желатине (Rinne, 1928). Б. Растение: поперечный разрез стебля Mucuna altissima (сем. Papilionaceae) (Strasburger, 1943). 8. Минерал: агат; растворенные минералы осаждаются слоями в тонкозернистом кварце (Desautets, 1968). Г. Позвоночное: поперечный разрез основания волоса в кожечеловека (Nachtigall, Kage, 1980). По Лима-де-Фариа.
Становится понятно, почему Лима-де-Фариа назвал свою концепцию автоэволюцией. Действительно, развертывание биологических программ, согласно этой концепции уже предусмотрено процессом трансформации, заложенным в первичной материи и энергии. Одним из наглядных проявлений высокой степени независимости развития от внешних причин выступают явления самосборки и самоорганизации, проявляющиеся на всех уровнях — от первозданной материи до человеческих сообществ. К спонтанной упорядоченной ассоциации способны как элементарные частицы, атомы и молекулы, так и клетки, органы, организмы и сообщества.
Очевидно, что с концепцией автоэволюции совершенно несовместимы случайность и отбор, и Лима-де-Фариа возражает против них особенно резко, призывая на помощь все свое красноречие. Он называет отбор «абстрактной концепцией», которая должна быть изгнана из биологии. Что касается случайности, то это тоже вымышленная категория, которую постоянно эксплуатируют «неодарвинисты» для прикрытия собственного невежества. В биологических явлениях нет места случайности, и даже мутационный процесс благодаря молекулярным ограничениям носит направленный характер.
Рис. 18. Структуры, напоминающие цветок. А. Минерал: арагонит — карбонат кальция с большей плотностью, нем кальцит (Ehrhardt, 1939). Б. Беспозвоночное: актиния с ее «жалящими» щупальцами (Wheeler, 1940). В. Растение: продольный разрез цветка Cycadeoidea ingens (Strasburger, 1943). Г. Беспозвоночное: голотурия Cucumaria plane (Pierantoni, 1944). По Лима-де-Фариа.
В представлении Лима-де-Фариа законы и механизмы эволюции еще предстоит открыть, а гены и хромосомы играют в ней лишь второстепенную роль.
Между автоэволюцией и преформизмом можно вполне поставить знак равенства. Лима-де-Фариа считает, что даже самые крупные макроэволюционные события, ознаменовавшие становление планов организации, не означают появления чего-то истинно нового. Уровень эволюции, воспринимаемый как новый, возникает в результате перекомбинирования уже существовавших компонентов. И так во всем, будь то какая-то особая клетка, форма, структура или функция.
Одним из первых, кто воспринял в Советском Союзе концепцию Берга после, казалось, ее полного забвения, был известный палеонтолог Б. Л. Личков (1965), горячий сторонник Ж. Кювье и автор одной из сопряженных с геологическими циклами гипотезы эволюции. По его убеждению, все прогрессивное развитие органического мира совершалось не на основе случайностей, а в силу строгих закономерностей. Однако уточнять эти закономерности, а тем более раскрывать их природу Личков не стал.
Эту миссию взяли на себя талантливый палеоботаник и теоретик-эволюционист, рано ушедший из жизни, С. В. Мейен и тесно сотрудничавший с ним Ю. В. Чайковский. Можно сказать, что они стали главными продолжателями Берга и некоторым образом Любищева в силу своей естественной склонности искать закон и порядок там, где его особенно трудно обнаружить. Мейен и Чайковский вообще стремились к «номотетизации» биологии, но, в отличие от господствовавшей тенденции к осуществлению этого намерения с помощью редукционистской методологии, они решали эту задачу путем познания биологического разнообразия.
Как известно, порядок в разнообразии, изучаемом типологией (у Чайковского — диатропикой), создает систематика (таксономия), которая опирается на данные о строении организмов, или, точнее, об их признаках. Эту науку о признаках Мейен (1977) предложил называть мерономией. В отличие от Таксономии, распределяющий формы организмов по группам, в случае мерономии мы делим организм на части — по морфологическим, физиологическим или экологическим признакам, а классифицируя эти последние, получаем мероны («классы частей»). Примерами меронов могут служить любые части целого (органы, ткани, определенный тип клетки, физиологическая функция и т. п.), общие для данного таксона. В сумме они составляют его архетип, или план строения. Мерономия обеспечивает таксономию «признаковым пространством и данными о соотношении признаков у разных объектов» (Мейен, 1978. С. 496).
Теперь, сравнивая ряды параллельных таксонов, Мейен констатировал, что у них наблюдается сходный, а иногда и идентичный набор меронов. Чем ближе друг другу таксоны, тем больше число одинаковых меронов. У видов одного рода они почти все совладают. Эту повторяющуюся последовательность меронов в паралельных таксонах Мейен назвал рефреном (там же, с. 501).
По аналогии с периодическим законом в химии он считал полезным графическое отображение рефренов в виде таблицы, где по горизонтали представлены изменения мерона в рядах сравниваемых таксонов. Вертикальные столбцы означают тогда одинаковые состояния выбранного мерона в этих таксонах (аналог одинаковой валентности в таблице Менделеева). Фактически это те же гомологические ряды Вавилова, только сведенные в таблицу. Мейен считал, что подобная форма записи ценна не столько для систематики, сколько для понимания процесса эволюции.
Рис. 19. Рефрен мерона «парные конечности» (из: Чайковский, 1990).
Так, при подобной записи мерона «парные конечности» (рис. 19) для всех классов позвоночных выявляется общий рефрен: от полного отсутствия обеих пар до образования органа полета — крыла. Таблица наглядно демонстрирует возникающее в силу закона параллелизмов признаковое пространство, позволяющее предсказывать, что может и чего не может быть в эволюции. В природе, правда, вовсе не обязательно должно существовать такое число разных форм, какое способно занять все клетки таблицы. Так, возвращаясь к мерону «парные конечности», надо отметить, что в истории никогда не было крылатых амфибий и птиц без задних конечностей. Мейен справедливо замечает, что без выявления всего мыслимого разнообразия нельзя установить и существования многих запретов.
Рис. 20. Типы расчленений листовой пластинки (из: Мейен, 1973).
Один из самых наглядных примеров рефрена на ботаническом материале — типы расчленения листовой пластинки (рис. 20). Хотя в типологии обычен поиск закономерности в повторяемости признаков внутри таксонов, самая суть рефренов, по мнению Мейена, в выявлении закономерностей в изменчивости признаков между таксонами. Данные о них фрагментарны. Но без знания рефренов заполнить по отдельности все разновидности переходов между меронами — столь же невыполнимая задача, как заполнить все склонения каждого существительного, если не знать правил склонения.
Нам представляется весьма важной также еще одна закономерность формообразования в эволюции, выделенная Мейеном и названная им транзитивным полиморфизмом (Мейен, 1978). Она состоит в том, что новый таксон рождается с тем же набором составляющих его таксономических единиц или форм, существовавших у предкового таксона, которые повторяют и соответствующие признаки (рефрен). Причем даже небольшое число уцелевших особей способны восстановить все внутренее разнообразие истребленного таксона. Иными словами, разнообразие порождает разнообразие, на каком бы уровне мы его ни рассматривали, и только что сказанное — его следствие. Существование подобной закономерности в сочетании с происходящей при смене поколений свободной комбинаторикой признаков чрезвычайно усложняет обнаружение таксонов-предков и восстановление филогении, а то и вовсе делает это занятие бессмысленным. Эволюция идет и сразу «заметает» за собой следы.
Надо полагать, что, исследуя эту закономерность, Мейен знал, что идея об эволюционном переходе внутривидовой структуры от вида к виду уже существовала (Алтухов, Рычков, 1972). Мейен только расширил ее рамки.
Ученый обратил внимание на то, что в формулировке закона Вавилова речь идет только о повторности признаков от таксона к таксону, но в ней ничего не говорится о повторности в правилах их преобразования. С точки же зрения выявления типологических закономерностей это имело бы особое значение, Гораздо важнее самих морфологических параллелизмов тот факт, что, например, в разных семействах цветковых наблюдаются одинаковые тенденции в преобразовании морфологических особенностей. Именно общность тенденции, наличие одного правила преобразования позволяют предсказывать и целенаправленно искать недостающие члены параллельных рядов.
Сергей Викторович Мейен (1935–1987).
Мейен не ограничился только упорядочением закономерностей в рядах изменчивости, установленных своими предшественниками; он идет дальше, расширяя рамки самого закона Вавилова. Он убедился, что полнота проявлений параллелизма не всегда связана с генетической общностью. Сплошь и рядом она, напротив, обратно пропорциональна систематической близости таксонов. Так, параллелизм между головоногими моллюсками и фораминиферами по спиралям раковины гораздо полнее, чем между головоногими и брюхоногими по тому же признаку; параллелизм жизненных форм кактусов и молочаев полнее, чем между кактусами и более близкими к ним Caryophyllaceae. Немало примеров параллелизма в строении цветков и соцветий, листьев и филлодиев, в биохимических и генетических характеристиках далеких форм. Еще более удивительны параллелизмы между живыми и неживыми объектами, где уже не приходится говорить о конвергенции ввиду сходных условий существования. Примеры таких параллелизмов собрал еще д’Арси Томпсон (1942), а ближе к нашему времени — Ю. А. Урманцев (1970, 1988) и А. Лима-де-Фариа (1991). Урманцев, в частности, подтвердил сходства гомологических рядов в развитии животных и растений с таковыми спиртов и углеводородов, установленные, соответственно, Э. Копом и Н. И. Вавиловым; обнаружил сходство между 9 изомерами венчика барбариса и 9 изомерами инозита, сходство генома с языком (речью), эволюционной генетики со сравнительным языкознанием и многие другие. Объяснение существованию подобного рода параллелизмов Мейен, вслед за Урманцевым, усматривает в системной природе объектов (Мейен, 1975).
Названные случаи изоморфического сходства, не сводимые ни к генетической общности, ни к подобию условий существования, привели Мейена к выводу о существовании чисто морфологических (типологических) и нестатистических законов, являющихся наиболее общими и пока еще очень слабо изученными. В свете такого взгляда закон гомологических рядов Вавилова, очевидно, становится его частным проявлением.
Следует отметить еще один новый момент в трактовке все того же закона. Обычно не учитывается, замечает Мейен, что признаки радикала тоже иногда испытывают изменчивость, которая в силу своей редкости считается тератологической. Эта изменчивость тоже следует закону Вавилова, причем часто признак, расцениваемый как уродство в одном таксоне, становится нормой в другом. Этот частный случай, описанный Н. П. Кренке (1933-1935), Мейен предложил называть правилом Кренке.
Среди ученых — экспериментаторов и теоретиков — безусловно существуют в относительно чистом виде две категории: «примирителе», склонные к компромиссу и объединению кажущихся противоположностей в высшем синтезе, и «непримиримые», производящие выбор среди противоположностей и стремящиеся подавить бракуемую. Любищев принадлежал ко второй, а Мейен — к первой. Но на путях к синтезу Мейена постигла явная неудача.
Развивая стержневую идею номогенеза, он, в отличие от Берга, не создал целостной концепции. Берга интересовали и закономерности эволюции, и ее движущие силы. Собственно, с постулата, что автономический ортогенез — главная побудительная сила всякого прогрессивного развития, и начинается изложение его концепции о направленности эволюции. Во времена оные за это Берга наградили нелестными эпитетами — считали идеалистом, автогенетиком, преформистом, виталистом… Можно ли было в конце XX в. как-то развить, усовершенствовать это ядро номогенеза? Это нелегко. Для этого нужно предложить свое видение проблемы, так как в первую очередь всех интересуют именно факторы эволюции.
Мейен принял в качестве факторов эволюции мутации и отбор в том виде, как они еще существуют в СТЭ. Более того, он считал своей главной стратегической задачей поиски путей снятия противоречий между тихогенезом (селекционизмом) и номогенезом (Мейен, 1974, 1978, 1984а) и полагал, будто она достигнута с созданием общей теории систем, в рамках которой дивергенция и параллелизм стали дополнительными понятиями.
А между тем фундаментальное и в наши дни исключительно актуальное обобщение Мейена о тропиках как «колыбели» и «музее» растительного багатства планеты (Мейен, 19846, 1986) находится в разительном противоречии с теорией селектогенеза. На огромном ископаемом материале ему удалось показать, что почти все наиболее крупные таксоны, включая семейства, возникли в фитохориях, лежащих в экваториальном поясе. И это стало возможно, констатирует Мейен, только благодаря тому, что естественный отбор здесь сильно «заторможен» и потому допускает всевозможные эксперименты природы. .
Можно только гадать, как такой высокоэрудированный специалист с острым и проницательным умом мог закрывать глаза на очевидную несовместимость СТЭ и номогенеза.
Другой убежденный последователь номогенеза — Ю. В. Чайковский, принимая и высоко оценивая вклад Мейена, избежал его непоследовательности. Обладая строго системным мышлением комби нативного типа, он не мог не воспринять экосистем ной теории эволюции, новой генетики и новых принципов индивидуального развития. Именно его труды лучше всего показывают, что старая эволюционная парадигма заслуживает не улучшения, а замены.
К познанию законов и механизмов эволюции Ю. В. Чайковский подходит как методолог и системолог (самому ему больше импонирует считать себя натурфилософом!), стремящийся вовлечь в познавательный процесс весь исторический багаж биологических знаний и достижения всех остальных естественных и многих гуманитарных наук (вплоть до лингвистики и мифологии), способных послужить нуждам эволюционной теории. Отсюда глубокое убеждение Чайковского, что данная теория может развиваться и дальше только как междисциплинарная отрасль знания (Чайковский, 1994). Значение этого методологического принципа он убедительно продемонстрировал в своей монографии об эволюционной диатропике (Чайковский, 1990).
Одной из самых продуктивных для эволюционной теории дисциплин Чайковский считает современную термодинамику неравновесных процессов с ее ключевой идеей самоорганизации и самосборки. Как известно, она была разработана в трудах И. Пригожина с соавторами (Николис, Пригожин, 1979; Пригожин, Стенгерс, 1986) и Е. Янча (Jantsch, 1980). По его мнению, именно данный раздел термодинамики демонстрирует неизбежность саморазвития таких сложных и далеких от равновесия систем, какими являются живые организмы. Термодинамика побудила к отказу от взгляда на эволюцию как последовательную цепь реакций биологических объектов на внешние воздействия и представила ее как совокупность актов самоорганизации. Междисциплинарный характер строящейся теории самоорганизации делает, по мнению Чайковского, излишним создание обособленной теории происхождения видов.
Чайковский совершенно справедливо считает логически неуязвимым современный взгляд на эволюцию как процесс преобразования систем и, следовательно, целостностей. Вслед за В. И. Вернадским, Дж. Берналом и Г. А. Заварзиным (1979, 1984) он полагает, что первичная жизнь на Земле возникла в форме экосистем, а не в виде отдельных и немногочисленных протоорганизмов, и потому единственно адекватным отображением ее первых эволюционных шагов может быть только системное описание. «Эта жизнь умеет существовать только целиком, и мы не в силах всерьез представить себе, как мог бы существовать один-единственный вид, а не то что единственная особь» (Чайковский, 1990. С. 183).
Фактор целостности выступает как направляющая сила, он един и для индивидуального развития, и для филогенеза. Некоторые философы (Мещерякова, 2001) склонны допустить идеальную природу целостности и тем воскрешают в памяти небезызвестную концепцию холизма первой половины XX в.
Наконец, как номогенетик Чайковский видит в учении о биологической эволюции часть или раздел современного глобального эволюционизма и мыслит его дальнейший прогресс в рамках их тесного взаимодействия.
Выше уже упоминалось о загадочных топологических законах развития параллелизмов, не сводимых к известным причинам. В 1970-е годы именно этот аспект существования и преобразования всего живого привлек пристальное внимание философа-системолога Ю. А. Урманцева. Изучение поли- и изоморфизмов, описанных Бергом, Копом, Медниковым и другими, а также подмеченных им лично на большом числе объектов живой природы, послужило для Урманцева отправным моментом к разработке оригинального универсального варианта общей теории систем (ОТС) (Урманцев, 1971, 1974). Эта теория должна была прежде всего дать объяснение тем случаям изоморфического сходства, которые не могут быть сведены к традиционным общепринятым причинам — родству, одинаковым условиям существования, отправлению одинаковых функций. В конечном счете ОТС была призвана дать в руки исследователей четкое указание: «что должно быть», «что может быть» и «чего быть не может» в существовании и развитии любых объектов-систем, как материальных, так и идеальных (Урманцев, 1974. С. 51). Она также должна была обладать предельно широкими возможностями в части обобщений, предсказаний, постановки новых вопросов, связей с научными теориями и принципами.
В свете ОТС интересующее нас тонкое изоморфическое сходство есть следствие системной природы самих объектов-систем. Названное Урманцевым (1988. С. 64) системной общностью, оно являет собой, по его мнению, третий основный тип подобия, не сводимого ни к одному из типов сходства, известных в естествознании.
Не вдаваясь в технические тонкости, отметим, что, согласно Урманцеву (19886, 1999), существует математический закон системных преобразований, по которому любой объект-система (или их совокупность) может переходить в другой только посредством 7 неэволюционных преобразований (количества, качества, отношений и их комбинаций) и 7 эволюционных преобразований — всего 255 способами, а в пределе — бесконечным числом способов (при неоднократном использовании их). С точки зрения этого закона все созданные до этого момента доктрины и теории (диалектика, СТЭ, номогенез, морфогенез, эволюция «эволюции» и пр.) обладают существенной «неполнотой», и их необходимо достроить «на 6/8 и 7/8» (Урманцев, 1999. С. 50). ОТС побудила Урманцева к разработке в качестве ее раздела «общей теории развития систем природы, общества, мышления» — эволюционики (19886). Наряду с уже приведенными законами системных преобразований в нем рассмотрены также изменения в самой биологической эволюции.
Позволяя выявлять сотни и тысячи новых классов изоморфизма, ОТС и эволюционика хранят, однако, полное молчание по поводу запретов, неуклонно нарастающих при переходе от нижележащих уровней организации биологических объектов к вышележащим. Совершенно очевидно, что эти запреты «работают» против полиморфизации и тем самым ограничивают полноту параллелизмов.
Если ОТС предполагает возможность прогноза и способна предсказать, «что должно… и может быть», то биологи хотели бы, скажем, знать, почему до сих пор на Земле не было крылатых амфибий и безногих птиц.
Нам думается, что, создавая ОТС и увлекшись возможностями, которые она открывает для упорядочения многообразия материальных и идеальных объектов, Урманцев в неменьшей степени, чем Лима-де-Фариа, проигнорировал специфику живого, его способность порождать единичное, уникальное и неповторимое. Поэтому мы склонны полагать, что в деле постижения номогенетических аспектов органической эволюции объем задач, стоящих перед «чистыми» биологами, вовсе не стал меньше.
* * *
Поскольку стержневой идеей номогенеза является закономерный и направленный характер изменчивости и эволюционного процесса, это течение имеет много общего с финализмом. С последним его сближают также убежденность в единстве законов индивидуального и исторического развития, допущение преформированности филогенеза и, как правило, решительное неприятие концепции естественного отбора.
Стержневая идея номогенеза роднит его и с неоламаркизмом, а представления о скачкообразности формообразования и преобладании конвергентного пути эволюции создают для него точки соприкосновения с симгенезом и сальтационизмом.
Глава 12. Эволюция при участии чужеродных генов
Есть еще одна — необычная — форма симгенеза, которая заслуживает отдельного рассмотрения. Это тоже своего рода гибридизация, но реализуется она не на организменном уровне, а на уровне ДНК.
В 1972 г. в Стэнфордском университете (США) в лаборатории П. Берга была получена первая рекомбинантная (гибридная) ДНК, сочетавшая в себе фрагменты ДНК фага лямбда и кишечной палочки с кольцевой ДНК обезьяньего вируса 40. Этот эксперимент положил начало генетической, или генной, инженерии и созданию с ее помощью новых полезных видов микроорганизмов, сортов растений и пород животных. Основу ее метода составили клонирование нужных генов и их встраивание в геном организмов преобразуемого вида.
Уже сразу после появления генетической инженерии перед учеными встал вопрос: существует ли аналог этого метода в природе? А между тем в разных областях биологии накапливались факты и делались открытия, которые невозможно было объясненить в рамках традиционных представлений о наследственной изменчивости. Открытия в начале 1950-х гг. трансдукции и лизогенной конверсии, а несколько ранее трансформации показали, что, по крайней мере, у бактерий наследственные свойства могут изменяться под влиянием интеграции фрагментов чужеродного генетического материала, переносимых умеренными бактериофагами. Осознав возможное эволюционное значение этих открытий, К. Х. Уоддингтон одним из первых высказал догадку о вероятности существования подобного пути ассимиляции генетической информации и у эукариот.
Ряд специалистов, изучавших мир эндосимбионтов высших организмов (П. Бухнер, Т. Соннеборн, Дж. Прир, В. Трэйгер), отмечали два важных момента: во-первых, существование генетического обмена между симбионтами и их хозяевами и, во-вторых, факты экзогенного заражения хозяев симбионтами, и всякий раз заново. Это относится к водорослям, бактериям, дрожжам, актиномицетам, микоплазмам и т. п. Появлялось все больше данных, подтверждавших представления, что симбионты часто просто необходимы для поддержания нормальной жизнедеятельности их хозяев, имеющих более сложную организацию.
Особой всепроникающей способностью обладают, как выяснилось, вирусы. Первоначально их расценивали исключительно как болезнетворное начало. Еще в 1940-е годы, до создания теории лизогении, Л. И. Зильбер (1968) высказал предположение, что превращение нормальных клеток организма в раковые происходит под действием генетического материала, вносимого в их геном вирусами. Впоследствии, когда были открыты онковирусы, вирусно-генетическая гипотеза рака была подтверждена. Оказалось, что эти вирусы интегрируют в состав своей ДНК ген хозяина, регулирующий клеточное деление, и таким образом начинают управлять злокачественным ростом.
Французские исследователи Ф, Жакоб и Э. Вольман пришли к выводу, что инфекция, в том числе с участием вирусов, часто оказывается первым звеном (следующее — переход к эндосимбиозу) в процессе преобразования наследственности организмов, который периодически совершается в природе (Жакоб, Вольман, 1962). К 1970-м годам было твердо установлено, что разные формы гриппа связаны с определенными группами РНК-содержаших вирусов, которых впоследствии нашли у китов, планктонных организмов и перелетных водоплавающих птиц. Вирус полиомиелита обнаружился в сточных водах (Жданов, 1990). В результате представление о присутствии вирусов в организмах практически любой систематической принадлежности во всех средах и повсюду в биосфере получило полное и окончательное подтверждение.
При этом выяснилось, что к собственной ДНК вирусы способны присоединять практически любые фрагменты чужеродной ДНК и переносить их между любыми организмами. Внутри клетки организма-хозяина вирусы могут быть как встроены в хромосому, так и находиться в свободном состоянии в цитоплазме. Вирусные последовательности были обнаружены в геномах птиц, млекопитающих и человека. Пути же и способы их миграций весьма разнообразны.
Не менее важное событие — открытие мутагенного действия вирусов. Уже в учебнике генетики И. Гершковича (1968) приводятся данные о семи вирусах, способных вызывать хромосомные перестройки. Н. Н. Воронцов полагал, что этот процесс может совершаться в природе и порождать новые виды (Воронцов, Ляпунова, 1984; Ляпунова, Ахвердян, Воронцов, 1988).
С конца 1960-х годов киевский генетик С. М. Гершензон, широко известный как первооткрыватель мутагенных свойств чужеродной ДНК, приступил к исследованию аналогичных свойств у вирусов. Подтвердив положительные свидетельства С. И. Алиханяна и ряда зарубежных авторов, Гершензон на некоторых РНК-и ДНК-содержащих вирусах показал, что вирусные взвеси, инъецированные в гемоцель молодых самцов дрозофилы, вызывали 1000-кратное увеличение частоты летальных мутаций во 2-й хромосоме и затрагивали только немногие и строго определенные локусы (Гершензон, 1992). Им было высказано предположение, что эти высокоспецифические мутации имеют инсерционную природу и связаны с активацией мобильных генетических элементов (МГЭ) генома дрозофилы. В пользу указанных механизмов в дальнейшем были получены многочисленные данные (М. Д. Голубовский, Е. С. Беляева, К. Г. Газарян с соавт. и др.).
Другой обширный класс автономных генетических элементов составляют плазмиды. Так были названы Д. Ледербергом (1952) вне-хромосомные кольцевые ДНК, способные также интегрироваться в геном клетки и часто трудноотделимые от вирусов. К плазмидам относят, в частности, вирус сигма дрозофилы, каппа-частицы парамеций, умеренные бактериофаги. Помимо известной способности придавать бактериям устойчивость к лекарственным препаратам плазмиды обладают мультифункциональностью и контролируют множество различных процессов.
Плазмиды способны нести любую генетическую информацию и осуществлять самые разнообразные преобразования генома, с которым вступают во взаимодействие. Они быстро размножаются и распространяются в популяциях. При этом поскольку, в отличие от вирусов, они не вызывают поражений и болезней, то способны в короткий срок индуцировать массовые изменения в популяциях, подобные эпидемии, но без негативных проявлений. По некоторым данным, количество плазмидной ДНК в растущей популяции может достигать в расчете на клетку 30 % от ее совокупного генетического материала.
Огромная роль плазмид в осуществлении потока генов между самыми различными организмами выяснилась в связи с исследованием механизма развития резистентности к антибиотикам и инсектицидам.
Кроме вирусов и плазмид носителями блуждающей генетической информации выступают транспозоны, инсерционные элементы и другие мобильные генетические элементы. Большинство этих векторных частиц способно к взаимным переходам и превращениям. В итоге благодаря им генетическая информация может переходить от хромосомы в вирус, от вируса на плазмиду, от одной плазмиды на другую, от плазмиды и вирусов на хромосому, от хромосомы на транспозон и т. д.
Источником чужеродного генетического материала могут служить не только его живые носители. Давно известно, что нуклеиновые кислоты присутствуют в почве, в водах морей, океанов и рек, причем их содержание в этих средах как минимум на порядок выше количества ДНК. в клетках всех микроорганизмов планеты вместе взятых.
В 1976 г. киевский генетик В. А. Кордюм, обобщив новейшие данные о переносе генов между организмами в экспериментах и в природе, высказал идею о взаимном обмене генетической информацией — без таксономических ограничений! — всего живого на Земле как важнейшем факторе эволюции. Он указал также порядка двух десятков каналов, по которым чужеродная генетическая информация достигает генома клетки. Однако эта статья, опубликованная в журнале «Успехи современной биологии», не обратила на себя особого внимания.
Зато выпущенная им несколькими годами позже книга (Кордюм, 1982), написанная эмоционально-образным языком, задела приверженцев синтетической теории за живое и вызвала с их стороны остронегативную реакцию. Они усмотрели в ней реальную угрозу главному устою дарвинизма — догмату о творческой роли естественного отбора. Показательно, что с резкой критикой новой концепции выступили три академика — Д. К. Беляев, М. С. Гиляров и Л. П. Татаринов (1985), опубликовав совместную, как раньше говорили, «установочную» рецензию в наиболее читаемом академическом журнале «Природа».
Констатируя субъективный характер настроения критиков по отношению к нетрадиционным способам переноса генетической информации, Н. Н. Воронцов справедливо заметил, что «эволюционисты до недавнего времени предпочитали не знать (выделено мной. — В. Н.) или не пытались оценить революционизирующее значение этих фактов для эволюционной теории» (1999. С, 518), В собственной рецензии Воронцов назвал книгу Кордюма яркой, а изложенную в ней концепцию — «в высшей степени интересной и стимулирующей как дальнейшее накопление экспериментального материала, так и дискуссии» (1984. С. 856). Всецело разделяя эту оценку, хотим добавить, что перед нами на редкость целостная, непротиворечивая и всеобъемлющая концепция биологической эволюции, опирающаяся на строго достоверный фактический материал. Нам неизвестна другая подобная книга ни в странах Советского Союза, ни на Западе.
В начале книги подробно описаны информационные каналы биосферы и существующие переносчики экзогенной (чужеродной) генетической информации. Сам способ такого распространения информации между организмами одного поколения независимо от их систематической принадлежности получил название горизонтального переноса — в отличие от вертикального, осуществляющегося между поколениями. Кордюм рисует картину настоящего информационного шквала, обрушивающегося на все живое, и одновременно описывает мощную «фортификационную» систему защиты от него, которой окружает себя организм на всех уровнях организации. Но эта система не дает абсолютной неуязвимости. При определенных условиях, о которых речь пойдет далее, она хотя бы частично становится проницаемой для экзогенной информации, что может в дальнейшем обернуться благом для ее реципиентов.
Развивая этот положительный аспект вторжения чужеродных генов, М. Д. Голубовский образно пишет: «Если бы существовала “Декларация прав клетки”, то один из главных ее пунктов мог бы звучать так: “Клетка каждого вида в биосфере Земли имеет право искать, получать и распространять наследственную информацию между любыми структурными компонентами генома как своего вида, так и вне его границ”». И тут же добавляет, что, «в отличие от жесткого информационно-видового барьера, что свойственно концепции селектогенеза, современная теория эволюции должна быть основана на демократических принципах “Декларации прав клетки”» (Голубовский, 2000. С. 188–189).
Коль скоро экзогенная информация все же проникает в организмы, то, по мнению Кордюма, в каждом из них, вероятно, имеется постоянно поддерживаемое депо этой информации, представленное ДНК многочисленных комменсалов и симбиотов. Все сказанное дает основание Кордюму взглянуть на эволюцию с информационных позиций и ввести понятие информационного фактора эволюции, в которое входят «вся система создания новой информации, ее преобразование и обмен между организациями биосферы» (Кордюм, 1982. С. 105). Важность такого подхода нашла отражение в самом названии предложенной теории как информационной концепции эволюции.
Отвлекаясь от содержания книги, стоит вспомнить, что попытка перевести эволюционный процесс на язык теории информации уже была ранее предпринята И. И. Шмальгаузеном (1961). Он впервые показал, что для эволюции и биологии вообще существенно не количество информации, а ее качество и ценность. В дальнейшем М. В. Волькенштейн (1975, 1976) выяснил, что ценность информации может определяться лишь последствиями се рецепции некоторой системой и зависит от уровня этой рецепции. Вместе с тем элементы информационного сообщения облазают тем большей ценностью, чем меньше его избыточность и, следовательно, больше незаменимость (Волькенштейн, 1980). Несмотря на то что Шмальгаузен оперировал классическими представлениями о наследственности, его работа продемонстрировала высокую эвристическую значимость введения информационного подхода в интерпретацию биологических явлений и процессов (см., напр.: Колчинский, 1990).
Развивая идею об информационных основах эволюции, Кордюм по аналогии с понятием о мутационном давлении вводит представление об информационном давлении, под которым подразумевает непрекращающийся поток генов, слагающийся из рассмотренных выше информационных каналов. Легко или после упорного сопротивления, рано или поздно живые организмы уступают этому давлению. Таким образом, они быстро получают ценную информацию, на приобретение которой, по традиционной схеме современных дарвинистов, ушли бы миллионы лет. Отсюда следует, что при всей своей генетической замкнутости виды — информационно открытые системы, способные к обмену со всем генофондом биосферы; они и сами в конечном счете являются его продуктом. Это и многие другие положения концепции Кордюма перекликаются с выводами Р. Б. Хесина, содержащимися в его капитальной сводке «Непостоянство генома» (1984). Посвятив последние годы жизни изучению мобильных генетических элементов, Хесин пришел к представлению о едином генофонде всех живых обитателей биосферы.
Тезис об информационном обмене в планетарном масштабе приводит Кордюма к заключению, что «следует говорить не об эволюции видов как сумме информационно замкнутых групп, а об эволюции биосферы в виде единого целого, в котором каждое конкретное проявление эволюции передает все всем и черпает все от всех…» (Кордюм, 1982. С. 202). В другом месте он называет единицей эволюции ценоз. Очевидно, выбор той или иной биологической системы в качестве единицы эволюции в условиях тотального генетического обмена зависит’от уровня рассмотрения, и данный постулат Кордюма вовсе не противоречит анализу эволюции на уровне видов как качественных отдельностей. Зато он находится в полном соответствии с номогенетическим представлением об эволюции как преобразовании систем разнообразия.
Что происходит с привносимой извне информацией в низших и высших организмах? В обоих случаях она проходит «доработку на соответствие» как новому молекулярному окружению, так и внешним условиям. Новое появляется только в результате взаимодействия привнесенного со старым. У прокариот и гаплоидных низших эукариот, генетический аппарат которых практически не несет повторов и дупликаций генов, изменения, вызванные экзогенной информацией, сразу становятся наследственными и получают фенотипическое выражение. У высших эукариотных организмов поступившая извне информация какое-то время хранится в молчащем состоянии в составе неэкспрессируемой части генома, и у организма никаких фенотипических изменений не происходит. Наблюдаются как бы разрыв, несоответствие между генетической основой и внешней морфологией. Чтобы оно исчезло, нужно, чтобы произошло “включение” новой информации.
Кордюм полагает, что управление экспрессией молчащего генетического материала экзогенного происхождения может осуществляться весьма различными путями. К нему могут быть причастны транспозоны, «бродячие» промоторы, а скорее всего — нуклеотидные последовательности, которые несет сама экзогенная информация. Если последнее предположение справедливо, то новые признаки могут появляться внезапно и в массовом масштабе, Тогда новые таксоны возникают сразу в виде готовой популяции, а не единичных особей. Это тот случай, когда изменчивость приобретает эпидемический характер: «вирусная эпидемия» влечет за собой «генетическую эпидемию» (Голубовский, 1977. С. 859). Толчком для запуска механизма экспрессии служат необычные экзогенные факторы кризисных периодов, порождающие стрессовое состояние во всей биоте.
В свете новых представлений об изменчивости интересное объяснение получает феномен молчащей генетической информации, составляющий неразрешимую проблему в рамках СТЭ. А ведь у ряда таксонов высших организмов количество нефункционирующей ДНК доходит до 90 % размера их геномов! На репликацию такого объема ДНК затрачивается много энергии, и для вида это является безусловным расточительством. Но высшие организмы отчасти потому и высшие, что в состоянии «учитывать» будущее. Сменятся условия, разразится очередная геологическая катастрофа — и долго молчавшая информация понадобится, будет включена и востребована, чтобы на ее основе могла возникнуть иная, спасительная в новых условиях генетическая организация.
А что же низшие организмы? Благоденствуя в условиях длительно стабильной среды, они стабилизировались в наиболее рациональных формах: перекрыли каналы поступления новой информации, освободились от избыточной ДНК и законсервировались в своем развитии (по словам Кордюма, все это осуществляется через отбор). Но случился кризис — и за экономию им придется платить вымиранием!
Требуют ли системы переноса информации какой-то особой организации генома и что обеспечивает сравнительную легкость управления ею? По мнению Кордюма, этому требованию должен отвечать Принцип блочности (хотя бы частичной) в организации генома. Если в хромосомах определенные участки ДНК представлены отдельными блоками, то поступление и элиминация генетического материала сводятся к замене таких блоков, а включение и выключение экзогенной информации — к их экспрессии и ингибированию. Получила распространение гипотеза, что и нуклеотидные последовательности плазмид, МГЭ, фагов и бактерий организованы в информационные модули или кластеры, которыми они обмениваются. Такое представление находит подтверждение в новейших данных по архитектонике генома (Корочкин, 1985, 1999, 2001).
В рамках концепции Кордюма простое и убедительное объяснение получает неразрешимый для СТЭ вопрос о причинах прогрессивного эволюционного развития. Эволюция просто вынуждена идти по пути усложнения организации в силу существующего механизма измеичивости, имеющего дело с поступлением большего массива экзогенной генетической информации. Кроме того, по свидетельству многих авторитетных специалистов (Бердников, 1981, 1990; Бирштейн, 1987; Голубовский, 2000, и др.), усложнение организации детерминируется автогенетическими свойствами самого генетического материала наращивать длину ДНК и увеличивать размер генома. Эти имманентные генетической системе особенности продолжают оставаться объектом пристального внимания молекулярных биологов.
При таких условиях не приходится удивляться появлению на свет организмов — носителей самых причудливых признаков, И что уж совсем шокирует приверженцев СТЭ, согласно информационной теории, новые виды с такими признаками будут вынуждены приспосабливаться не столько к среде обитания, сколько к своим новым признакам!
Селективные процессы занимают в концепции Кордюма подчиненное место, и это, пожалуй, единственный аспект эволюции, который трактуется противоречиво. Новые типы организации, по этой концепции, создаются в два этапа: сначала переносится и реализуется массив нового генетического материала, а затем, когда он получает фенотипическое проявление, новая информация дорабатывается на соответствие окружающим условиям. Доработка как раз и осуществляется естественным отбором, и, как отмечает Кордюм, это процесс длительный. Второй этап эволюции у Кордюма в известной мере совпадает с фазой типостаза О. Шиндевольфа, которой допускал на этой фазе некоторое участие в видообразовании естественного отбора и писал, что последний «пришлифовывает» новые виды к окружающим условиям.
С другой стороны, говоря о бессилии современных дарвинистов объяснить с помощью отбора мелких изменений появление несуразных и вредных структур таких монстров, как стегозавр, диплокаулюс или птеранодон (рис, 21), Кордюм нацело отвергает всякую роль отбора. Они всецело плод привнесенной чужеродной информации, при экспрессии большой порции которой «о степени совершенства кодируемых ею признаков говорить не приходится». Тогда почему же эти монстры оказались жизнеспособными, а не вымерли в первом же поколении? Почему же отбор, дорабатывающий менее несуразные формы, бездействовал в случаях этих кричащих физических неудобств организации? Слишком велика разница в пороговых величинах для начала действия отбора в том и другом случае).
Рис. 21. Скелеты Stegosaurus ungulatus Marsh (Lull, 1910) и Pleranodon ingens (колл. авторов) (внизу).
Судя по всему, Кордюм склонен видеть в естественном отборе всего лишь один и достаточно второстепенный механизм эволюции среди множества других и при случае не упускает возможности отметить его бездействие.
При этом он цитирует соответствующие фрагменты из трудов Берга и ссылается на свидетельство Дарвина (1939. С. 294, 336), зарегистрировавшего случай, когда вся масса особей вида изменялась «сходным образом» без всякого участия отбора. В свете сказанного выше необоснованной декларацией звучат следующие слова Кордюма: «…нельзя ставить вопрос так, будто существует только либо дарвинизм, либо антидарвинизм. Оба этих направления, конечно, существуют. Однако они ни в коей мере не охватывают всех эволюционных представлений. Развивается наддарвиновская эволюция, о которой можно сказать, что она включает и дарвинизм, и другие представления» (Кордюм, 1982. С. 232–233).
Эволюционным взглядам Кордюма глубоко созвучны номогенетические построения Берга и Вавилова. Последним отведена почти треть книги. Основание общности всего живого видится Кордюму в универсальности переносчиков информации — нуклеиновых кислот. Такая общность есть не только следствие, но и важнейший инструмент эволюции, благодаря которому информация может распространяться по всей биоте, В силу того что новый виток эволюции начинается с групп особей, полифилия оказывается правилом, а монофилия — исключением. В основе полифилии и параллелизма таксонов лежит одинаковая привнесенная извне информация. Кордюм сочувственно цитирует высказывания Берга о полифилии, отсутствии переходных форм, о том, что эволюция идет путем преобразования громадных масс особей в новые формы. Подобно некоторым современным номогенетикам (Мейен, 19846, 1986), Кордюм особо отмечает, что новая генетическая информация создастся во влажных тропических лесах. Таким образом, информационная концепция эволюции с участием механизма горизонтального переноса генов и номогенез взаимно дополняют друг друга.
В 1996 г. в Фоллен Лиф Лейк (США) состоялась специальная международная конференция по проблеме горизонтального переноса генов, организованная Калифорнийским университетом. В многочисленных докладах ее участников были представлены неопровержимые доказательства переноса генетической информации (в том числе многократного) разными векторами между различными группами про- и эукариот. Были обсуждены также близкие к этой теме вопросы о природе и функциях подвижных элементов генома эукариот, происхождении эукариот, об общих проблемах эволюционного параллелизма. Материалы конференции дали веские аргументы в поддержку гипотезы симбиогенеэа.
До недавнего времени эволюционисты разных направлений сходились во мнении, что даже формирование нового вида, не говоря уже о более высоких таксонах, не может быть воспроизведено в эксперименте (см.: Назаров, 1991. С. 47–48). Главной причиной такого положения считали медленность протекания эволюционных преобразований, требующих для своего осуществления такого количества времени, которое совершенно несоизмеримо с продолжительностью человеческой жизни. Некоторые биологи интуитивно сознавали также, что искусственные мутации, получаемые в лаборатории, имеют мало общего с той изменчивостью, на которой основана эволюция в природе. Кстати, эта догадка теперь полностью подтвердилась. Возникновение генетической инженерии, открытие и установление факта работы аналогичного механизма в природе обнаружили принципиальную возможность экспериментального моделирования начального этапа эволюционного процесса, связанного с экспрессией чужеродного генетического материала.
Это важнейшее завоевание молекулярной генетики внесло кардинальное изменение в методологию познания эволюционного процесса и создало реальные предпосылки для предсказания его направленности. Последнее обстоятельство представляется особенно значимым в условиях современного мира, охваченного глобальным экологическим кризисом. Было в известной мере устранено главное препятствие, стоявшее на пути опытного моделирования эволюции — необходимость необычайно длительных наблюдений. «Экспериментальная эволюция» не требует миллионов лет. Для ее осуществления на каком-либо опытном объекте достаточно располагать набором генов, методикой их введения в, геном и соответствующей технологией. О том, что это широко практикуется во многих лабораториях мира и приносит определенные плоды, мы узнаем теперь едва ли не каждый день из средств массовой информации и можем в любое время справиться об этом в Интернете.
Глава 13. Теория нейтральности
В главе по номогенезу мы видели, как далекие друг от друга организмы, жившие в разные геологические эпохи, нередко обнаруживали склонность к повторению сходных эволюционных новообразований. Тот же закон правит и в области идей. История эволюционных теорий дает тому немало примеров. Если бы Р. Гольдшмидт не назвал своих предшественников, мы, вероятно, ничего не узнали бы об английском ботанике Джоне Уиллисе, посвятившем долгие годы изучению флоры Индии и острова Цейлон.
Уиллис (Willis, 1923) пришел к заключению, что как видовые, так и родовые признаки образуются не в результате постепенной аккумуляции мелких изменений под действием отбора, а одномоментно или несколькими шагами путем крупной мутации. При этом амплитуда мутации сразу соответствует признакам видового или родового уровня. Гольдшмидт с удовлетворением цитирует абзац из работы Уиллиса, где эта идея выражена особенно четко. Менделисты, писал Уиллис, «как будто склонны думать, что если они сами не видели “большой” мутации, то она невозможна. Но такая мутация всего лишь чрезвычайно редка для того, чтобы дать миру все те виды, которые он когда-то содержал. Как я уже отмечал… одной большой и жизнеспособной мутации, встречающейся на участке поверхности Земли в несколько квадратных ярдов и, возможно, один раз в пятьдесят лет, по-видимому, будет достаточно. Шансов заметить такую мутацию практически нет…» (цит. no: Goldschmidt, 1940. Р. 211).
Но труды Уиллиса нас интересуют сейчас в другом отношении. Изучая флору покрытосеменных Цейлона и Южной Индии, Уиллис провел статистическую оценку всего их видового разнообразия, встречаемости видов и их распределения по родам и семействам.
М. Д. Голубовский (2000), подробно ознакомившийся с содержанием книги Уиллиса (Willis, 1922)’, приводит из нее следующие данные. Из 2809 видов и 1027 родов покрытосеменных, произрастающих на Цейлоне, 809 видов и 23 рода — его эндемики. При этом 17 родов содержали по одному виду, 4 рода — по 2–3 вида и только два рода — более чем 10. Изучение встречаемости видов позволило Уиллису вывести общие закономерности: виды, широко распространенные на Цейлоне и принадлежащие к обширным родам, часто встречаются и на материке, в Индии; виды, редко встречающиеся на Цейлоне, по большей части относятся к его эндемикам. Отсюда Уиллис сделал вывод, что шансов на широкое распространение гораздо больше у старых видов, раньше попавших с материка на остров, и что эндемики Цейлона представлены наиболее молодыми видами. Установленные закономерности приложимы к любому роду, содержащему более 10 видов и тем самым допускающему количественный анализ.
Общий итог, к которому пришел Уиллис (1922), гласил: «Ареал, занимаемый на данное время в данной стране какой-либо группой из родственных видов числом не менее 10, если условия относительно постоянны, зависит в основном от возраста видов этой группы в этой стране: общая картина может существенно меняться под воздействием природных барьеров: морей, рек, гор, изменений климата, влияния разных экологических факторов, включая человека, и других причин» (цит. по: Голубовский, 2000. С. 62). Его дополняло заключение Г. де Фриза (Vries, 1923), тесно сотрудничавшего с Уиллисом, согласно которому скорость распространения новых видов у всех одинакова и не зависит от особенностей их организации. Виды-эндемики в большинстве своем возникли вовсе не путем адаптации к местным условиям, они «выбирают» эти условия. Де Фриз указывал также, что систематические признаки видов не обнаруживают зависимости своего происхождения от борьбы за существование и, следовательно, опровергают теорию естественного отбора. Иными словами, признаки образующихся видов селективно нейтральны. О том, что Уиллис мыслил эволюционный механизм без участия естественного отбора, свидетельствует и подзаголовок его второй книги — «Ход эволюции. Через дифференциацию или дивергентную мутацию нежели через отбор» (Willis, 1940).
Джон Кристофер Уиллис (1868–1958).
О селективной нейтральности видовых признаков свидетельствует и закономерность, установленная Уиллисом совместно с математиком Г. Юлом. Дело касалось распределения у всей массы известных цветковых растений числа видов в роде и числа родов в семействе. Отложив по оси абсцисс логарифмы числа видов в роде, а по оси ординат — логарифмы числа соответствующих родов и построив соответствующие графики, исследователи обнаружили, что все точки оказались на правильной гиперболе (Yule, 1924). Такого же рода гиперболу дало и распределение родов в семействе. Полагая, что сделанное открытие является всеобщим законом, Уиллис проверил распределение родов в семействах низших растений, а также некоторых животных и получил тот же результат (см. подробнее: Чайковский, 1990. С. 84–87). Таким образом, система организмов оказалась именно системой, а не случайным собранием таксономических единиц.
Закон распределения, открытий Уиллисом и Юлом, явно не соответствовал теории Дарвина, по которой каждый новый вид рождается сообразно его условиям существования на основе накопления селективно полезных признаков. Он шел вразрез с этой теорией и еще по двум обстоятельствам. Предпосылкой установления закона было допущение, что новые виды образуются путем деления старого на два новых в результате видовой мутации, а роды — точно так же, но на основе родовых мутаций. Кроме того, предполагалось, что темпы возникновения новых видов независимы от их численности, а следовательно, и от частоты мутаций.
Стоит отметить, что труды Уиллиса, предвосхищая будущую теорию нейтральности, представляют собой в равной мере вклад в номогенетическое понимание эволюции. Интересно также, что они создавались в те же годы, что и закон Вавилова и «Номогенез» Берга, который в английском издании своей книги 1926 г. уже ссылался на Уиллиса. Но если труд Берга вызвал резкую реакцию отторжения, то открытие Уиллиса — Юла просто считали лишенным интереса для науки.
Через четыре года после первой книги Уиллиса появилась знаменитая работа С. С. Четверикова (1926), положившая начало популяционной генетике в Советском Союзе. В ней совершенно независимо от Уиллиса он отвечал непосредственно на интересующий нас вопрос. «Но возможны ли вообще в природе не адаптивные эволюционные процессы? — писал Четвериков. — Вот вопрос, который до сих пор остается открытым и спорным.
Систематика знает тысячи примеров, где виды различаются не адаптивными, а безразличными (в биологическом смысле) признаками, и стараться подыскать им всем адаптивное значение — работа столь же малопроизводительная, сколь и неблагодарная, где подчас не знаешь, чему больше удивляться — бесконечному ли остроумию самих авторов или их вере в неограниченную наивность читателей.
Таким образом, для защитников исключительно адаптивной эволюции остается последнее прибежище — соотносительная изменчивость, и к ней приходится прибегать каждый раз, когда пытаются строить весь процесс эволюции исключительно на основе борьбы за существование и на естественном отборе. В том, что соотносительная изменчивость существует, не может быть сомнения… Но все же объяснять все бесчисленные случаи безразличных, неадаптивных видовых отличий такого рода изменчивости, значит ничего не объяснять, а удовлетворяться каждый раз просто недоказуемой гипотезой» (там же, с. 161).
Свое положительное отношение к идее нейтрализма Четвериков повторил и в выводах:
«17. У нас нет основания отрицать возможность неадаптивной эволюции. Напротив, во многих случаях можно предполагать, что существующие адаптивные различия между близкими формами были не причиной расхождения последних, а напротив, специфический характер этих адаптивных признаков является следствием уже ранее наступившего обособления форм. Чем древнее наступившее расхождение, тем больше адаптивных черт будет отличать одни формы от других» (там же, с. 168).
Весьма любопытны представления Четверикова о соотносительной роли отбора и изоляции в эволюции, дающие ему основание высказаться об адаптивном процессе более категорично: «Адаптивная эволюция вне условий изоляции… никогда не может повести к распадению вида на два, к видообразованию… Истинным источником видообразования, истинной причиной происхождения видов является не отбор, а изоляция» (там же, с. 162). Интересно также соображение Четверикова о том, что если бы действие отбора вдруг прекратилось, то вид стал бы полиморфным и что распадение вида на разновидности — это признак его старости. Иными словами, эволюция под действием естественного отбора идет и даже приводит к образованию новых видов, но лишь путем превращения старых (возникают хроновиды, или, по Четверикову, мутации Ваагена) без их расщепления. Лишь вмешательство факторов изоляции приводит к дроблению видов и умножению их числа. Эти мысли Четверикова, существенно расходящиеся с положениями теории Дарвина, редко приводятся в работах приверженцев синтетической теории. Аналогичные представления о неадаптивном характере эволюции и нейтральности признаков даже высоких систематических групп позже развили на Западе генетик и зоолог А. Шелл (Shull, 1936) и А. Вандель (Vandel, 1963).
К примеру, А. Вандель был уверен в селективной нейтральности небольших морфологических различий между рядом полиморфных родов и семейств. Особенно показательным в этом отношении он считал строение копулятивных органов жужелиц фауны Франции, изученных Р. Жаннелем (Jeannel, 1941–1942). Как показал этот энтомолог, строение этих важнейших органов у сотен видов чаще всего варьирует в ничтожных деталях при одинаково успешном выполнении ими своего назначения. Но на земном шаре насчитываются десятки тысяч видов жужелиц, и трудно представить себе, пишет Вандаль, чтобы каждый из бесчисленных морфологических типов копулятивных органов был наделен «особой пользой», поскольку все они продолжают существовать и не элиминируются отбором.
Четвериков не изменил взглядов вплоть до конца своих дней. Здесь опять-таки стоит привести некоторые выдержки из его письма к A. Л. Тахтаджяну от 1956 г. Четвериков писал: «Пожалуй, самая большая ошибка Дарвина, которую я знаю, — это заглавие его книги: “О происхождении видов путем естественного отбора”. Ведь замечательная работа Дарвина фактически трактует не о происхождении видовых признаков и отличий, а о целесообразных приспособлениях организмов к окружающим их условиям существования, но ведь это вещи совершенно не равнозначные… Нет… эволюционный процесс не един, а многозначен, и наряду с адаптивным эволюционным процессом… существует и неадаптивная эволюция, тоже строго статистического характера и ведущая к внутривидовой дифференциации и многообразию живых форм и их видовых признаков, не имеющих селекционного значения. Тут должны сыграть большую роль так называемые генетико-автоматические (Дубинин, Ромашов) или, лучше, генетико-стохастические процессы, как я их называю. И это, конечно, далеко не все. Несомненно, известную роль в процессе видообразования играют и такие генетические явления, как отдаленная гибридизация… чисто цитологические процессы, как внутривидовая полиплоидия, и, конечно, еще ряд эволюционных явлений, очень далеких от отбора…» (Тахтаджян, 1991. С. 501; подчеркнуто мной. — В. И.).
Прежде чем перейти к современному этапу в развитии нейтралистских идей, приведших к якобы недарвиновской концепции эволюции, напомним, что ни стохастические популяционные процессы, ни внутривидовой полиморфизм всех уровней, с нашей точки зрения, прямого отношения к эволюции не имеют. Мы рассмотрим их лишь ради реконструкции логики познавательного пути, приведшего к тому, что синтетической теории пришлось поделиться частью своей «власти». Для настоящей же нейтралистской концепции было бы важно, если бы в ней рассматривались превращения комплекса видовых признаков как селективно нейтрального. В существующей теории этого нет, но ее ключевая идея вполне пригодна для понимания того, что происходит на уровне видов.
Можно сказать, что уже первые шаги генетики популяций как в СССР, так и на Западе были совершены под непосредственным влиянием идей Четверикова о существовании двух форм эволюции — адаптивной и неадаптивной (нейтральной). В результате, с одной стороны, генетические закономерности распределения генов в популяции были объединены с теорией естественного отбора, а с другой стороны, была обоснована возможность видообразования без отбора при неадаптивных, селективно нейтральных признаках родительских форм.
Это второе направление привело к разработке механизма изменения генных частот в популяции под действием случайных (стохастических) факторов, которую на Западе осуществили Р. Фишер (Fischer, 1930), С. Райт (1931) и Дж. Холдейн (Haldane, 1931, 1932), а в СССР независимо от них — Д. Д. Ромашов (1931) и Н. П. Дубинин (1931; Дубинин, Ромашов, 1932). Первые назвали новый механизм дрейфом генов, а вторые — генетико-автоматическими процессами.
В мировой литературе утвердился термин генетический дрейф, или дрейф генов. Под ним понимаются случайные колебания генных частот в популяции, вызванные случайной выборкой гамет в процессе воспроизведения популяции. Эффективность этого процесса, знаменующаяся наступлением момента, когда мутантный ген или определенная комбинация генов захватывают всю популяцию (фиксация генов), зависит от размера последней. В больших популяциях он протекает очень медленно, поскольку при большом числе скрещиваний условия для фиксации определенных аллелей неблагоприятны. Серьезных сдвигов генных частот в таких популяциях можно ожидать лишь по прошествии десятков миллионов поколений. В малых популяциях момент фиксации мутаций наступает во много раз быстрее. В первом случае согласно математической теории отбора эволюция всецело адаптивна, во втором — инадаптивна. Райт (Wright, 1932. Р. 364) полагал, что новые виды возникают именно в силу неадаптивного механизма.
Размер популяции, как известно, не является постоянной величиной и зависит от сезонных и более длительных периодических колебаний численности, а также от миграций, эпизоотий и других факторов. Естественно, что в своей основополагающей статье Ромашов (1931) связывает результаты генетико-автоматических процессов с «волнами жизни» С. С. Четверикова. По мнению Ромашова, решающее эволюционное значение может приобрести такой случай, когда в период максимальной депрессии в популяции появится какая-то редкая мутация, а затем, когда численность популяции снова вырастет, размножится в ней и достигнет высокой концентрации. Ф. Добжанский (Dobzhansky, 1970) и В. В. Бабков (1985) справедливо усматривают в этом предельном варианте случайного дрейфа явление, названное Э. Майром «принципом основателя», а также «эффект бутылочного горлышка».
В 1930-е годы стало известно, что адаптивность признаков может меняться в зависимости от внешних условий. Признак, имеющий явно приспособительное значение и обладающий селективным преимуществом при одних условиях, может становиться неадаптивным (нейтральным) и выходить из-под контроля отбора, а то и становиться вредным и подвергаться элиминации при других условиях. Во втором случае аллели, определяющие развитие неадаптивных признаков, будут распространяться в популяции или исчезать из нее под действием генетического дрейфа. Так, Н. В. Тимофеев-Ресовский экспериментально показал, что мутация eversae у Drosophila funebris становится нейтральной при температурах приблизительно 20 и 26–27°C, тогда как внутри этого температурного интервала ее жизнеспособность выше, а вне его — ниже, чем у мух дикого типа (Тимофеев-Ресовский, Воронцов, Яблоков, 1969. С. 407).
Плодотворным шагом в развитии концепции стохастического дрейфа явилось соединение Ромашовым эволюционно-генетических представлений С. С. Четверикова с математическими разработками Маркова-Колмогорова, вошедшими в науку под названием марковских цепей. Эта теория случайных процессов описывала такие системы, которые меняют свое состояние не непрерывно, а только в известные периоды. В биологии одним из примеров такой системы как раз является популяция. Ромашов, изучавший инадаптивные популяционные процессы, увидел, что идея Четверикова о возможном разделении видов по нейтральным, неадаптивным признакам хорошо согласуется с марковскими.
Плодотворным шагом в развитии концепции стохастического дрейфа явилось соединение Ромашовым эволюционно-генетических представлений С. С. Четверикова с математическими разработками Маркова-Колмогорова, вошедшими в науку под названием марковских цепей. Эта теория случайных процессов описывала такие системы, которые меняют свое состояние не непрерывно, а только в известные периоды. В биологии одним из примеров такой системы как раз является популяция. Ромашов, изучавший инадаптивные популяционные процессы, увидел, что идея Четверикова о возможном разделении видов по нейтральным, неадаптивным признакам хорошо согласуется с марковскими процессами. Таким образом, обе идеи — чисто математическая и конкретно-биологическая, — взаимно подтвердив реальность наблюдаемого феномена, способствовали укреплению представления о существовании неадаптивной эволюции.
В дальнейшем, однако, возобладала генетическая теория естественного отбора, согласно которой каждый признак формируется в процессе адаптивной эволюции. Считалось, что среди мутантов практически нет селективно нейтральных. Э. Майр (Мауг, 1963; рус. пер. — 1968) указывал на крайне малую вероятность того, чтобы какой-то ген вообще оставался адаптивно нейтральным сколько-нибудь продолжительное время, а Е. Форд утверждал, что нейтральные гены не только очень редки, но и не могут достигать значительных частот, поскольку их нейтральность утрачивается с изменением окружающей среды и генетической конституции организма. Панселекционистские представления, охватившие большую часть эволюционистов в СССР и на Западе, вытеснили теорию дрейфа генов на обочину СТЭ.
Становление современной нейтралистской концепции приходится на рубеж 1960—1970-х годов и непосредственно связано с успехами молекулярной биологии.
Японский специалист по теоретической популяционной генетике Мотоо Кимура, изучая скорости аминокислотных замещений у белков, обратил внимание на несоответствие данных, полученных им и ранее Дж. Холдейном (Haldane, 1957). У Кимуры скорость замен на геном на поколение для млекопитающих в несколько сот раз превышала известную оценку Холдейна. Получалось, что для поддержания постоянной численности популяции при одновременном сохранении отбором мутантных замен, появляющихся с такой высокой скоростью, каждый родитель должен был бы оставлять непомерно большое число потомков, с тем чтобы один из них выжил и стал размножаться.
С момента разработки метода электрофореза (Lewontin, Hubby, 1966) был обнаружен высокий полиморфизм белков. По данным ученых, для 18 случайно выбранных локусов Drosophila pseudoobscura средняя гетерозиготность, приходящаяся на локус, составила около 12 %, а доля полиморфных локусов — 30 %. В дальнейшем средний уровень полиморфизма у растений и животных пришлось увеличить до 50 % и более.
Известно, что для объяснения популяционного полиморфизма Р. Фишером была разработана модель балансирующего отбора, основанная на селективном преимуществе гетерозигот. В то же время уровень гетерозиготности большинства организмов оиенивался в среднем в 7—15 %. В популяциях же тысячи аллелей, производящих полиморфные белки. Нелепо было бы думать, что все эти аллели обладают адаптивной ценностью и сортируются отбором. Вспомним также дилемму Холдейна.
Оба эти соображения и натолкнули Кимуру на мысль, что большинство нуклеотидных замен должно быть селективно нейтрально и фиксироваться генетическим дрейфом. Соответствующие полиморфные аллели поддерживаются в популяции балансом между мутационным давлением и случайной (неизбирательной) элиминацией. Все сказанное Кимура и изложил в своей первой публикации по нейтральной эволюции (Kimura, 1968а).
Мотоо Кимура (род. в 1924).
В дальнейшем появилась целая серия статей Кимуры, в том числе в соавторстве (Kimura, 1968b, 1969, 1970 и др.; Kimura, Ohta, 1969, 1971), а также обобщающая монография (Kimura, 1983; рус. пер. — 1985). В этих трудах экспериментальные данные молекулярной биологии сочетались со строгими математическими расчетами, осуществленными самим автором на основе разработанного им математического аппарата. В книге, наряду с рассмотрением доводов в пользу новой теории, Кимура останавливается и на возможных возражениях и критике в ее адрес.
Одним из главных аргументов, свидетельствующих о справедливости теории нейтральности, является существование так называемых синонимных мутаций — изменений в составе триплетов оснований ДНК, не приводящих к изменениям в белках. Такие мутации существуют благодаря вырожденности генетического кода, проявляющейся в способности нескольких триплетов кодировать одну и ту же аминокислоту. Так, каждая из 9 аминокислот (лизин, тирозин, цистеин и др.) кодируется двумя различными триплетами, изолейцин — тремя, треонин, валин, аланин, пролин и глицин — четырьмя, а серин, лейцин и аргинин — даже шестью. Мутации ДНК, превращающие один триплет в другой в пределах одной кодовой группы, естественно, ничего не изменят в соответствующей белковой молекуле. Такие мутации должны быть нейтральными. Количество синонимных мутаций, по Кимуре, составляет примерно 24 % от общего числа возможных точковых мутаций.
Другой аргумент — относительное постоянство скорости эволюции каждого данного белка во всех филумах, определяемой числом замещений аминокислот в год. Такое постоянство трудно объяснить с позиций селекционизма хотя бы уже потому, что оно наблюдается в разных отрядах млекопитающих, условия жизни которых совершенно различны и которые, естественно, подвергаются различному давлению отбора. Согласно данным Кимуры, скорости эволюции белков определяются исключительно структурой и функциями их молекул, но отнюдь не условиями среды.
Кимура предложил способы количественного расчета скоростей эволюции белков в случаях нейтральных и полезных мутаций. В первом случае, когда мутантный аллель строго нейтрален, т. е. не изменяет адаптивную ценность особи, вероятность его фиксации и определяется по формуле:
u = 1/2Ne, (1)
где Ne — эффективная численность популяции, соответствующая ее размножающейся части.
Определим теперь скорость эволюции белка к, выраженную числом мутационных замен. Обозначим через v скорость мутирования на гамету на поколение. Поскольку в популяции из N диплоидных особей существует 2N хромосомных наборов, то в каждом поколении в популяции появляется 2Nv новых мутаций. Если процесс фиксации мутантных аллелей растягивается на длительное время, то скорость накопления мутационных замен в популяции в расчете на поколение будет равна произведению числа новых мутаций на вероятность их фиксации:
k = 2Nvu (2)
Подставив вероятность фиксации u из формулы (1) в формулу (2), получаем, что k=v. Это означает, что скорость эволюции белка не зависит от размера популяции и равна скорости мутирования в расчете на гамету (Kimura, 1968а; Кимура, 1985). Этот вывод в значительной мере справедлив и для «почти нейтральных мутаций», т. е. таких, коэффициент отбора которых намного меньше единицы, или
s < 1/2Ne (Kimura, 1968b).
В случае если мутантный аллель обладает явным селективным преимуществом, т. е. при этом
4Nes > 1,
мы имеем:
и = 2sNe/N. (3)
Подставив это выражение в формулу (2), получаем:
k = 4Nesv.
Это означает, что скорость эволюции белка зависит от эффективного размера популяции Ne, селективного преимущества мутантного аллеля s, а также от скорости v, с которой в каждом поколении возникают благоприятные мутантные гены. В таком случае скорость эволюции должна сильно зависеть от окружающей среды, будучи высокой для видов, осваивающих новые экологические условия, и низкой для видов, обитающих в стабильной среде.
В науке вовсе не редка ситуация, когда назревшую объективную потребность в прорыве к новому знанию осуществляют одновременно двое или более ученых, каждый из которых идет к нему своим путем, не подозревая о существовании «конкурента». В 1969 г., всего год спустя, после того как Кимура обнародовал свою версию теории нейтральности, в американском журнале «Science» появилась статья молекулярных биологов Дж. Кинга и Т. Джукса (King, Jukes, 1969) «Недарвиновская эволюция», в которой эти авторы независимо от Кимуры пришли к той же гипотезе. В качестве своих предшественников Кимура указывает также на Дж. Кроу и А. Робертсона (Crow, 1968; Robertson, 1967).
Вскоре Кимура в сотрудничестве с Т. Отой разработал более обоснованную теорию (Kimura, Ohta, 1971), где доказывал, что эволюционные замены аминокислот и полиморфизм — не независимые феномены, а два аспекта одного и того же явления, вызванного случайным дрейфом нейтральных или почти нейтральных аллелей в небольших популяциях. А если говорить точнее, полиморфизм белков — это одна из фаз молекулярной эволюции.
В поддержку теории свидетельствовали полученные позже данные о том, что самыми распространенными эволюционными изменениями на молекулярном уровне являются синонимические замены, а также нуклеотидные замены в некодирующих участках ДНК (Kimura, 1977; Jukes, 1978).
Все эти публикации породили на Западе острую дискуссию на страницах научных журналов и на различных форумах, в которую вступили многие крупные селекционисты. В СССР реакция на новую теорию была более сдержанной. На стороне селекционистов с объективной критикой нейтрализма выступил генетик B. C. Кирпичников (1972), а на стороне нейтралистов — биофизик М. В. Волькенштейн (1981).
Но вернемся к содержанию самой теории и коснемся двух факторов, снижающих уровень селективно нейтральных процессов.
Если скорость эволюции одного и того же белка в каких бы то ни было систематических группах примерно одинакова, то скорости эволюции разных белков сильно отличаются друг от друга. Различия связаны со структурой и функцией молекул соответствующего белка, которые налагают на темпы мутационных замен определенные функциональные ограничения. Согласно теории нейтральности вероятность того, что мутация будет селективно нейтральной (невредной), тем больше, чем в меньшей степени она сказывается на структуре и функции молекулы. Иными словами, молекулы, подверженные относительно слабым функциональным ограничениям, эволюционируют быстрее молекул, характеризующихся большими ограничениями.
К числу белков, отличающихся скоростью эволюционных замен, близкой к скорости мутирования, принадлежат, например, фибринопептиды. У фибринопептидов практически любая мутационная замена аминокислоты, которая не препятствует их отщеплению, приемлема для вида. У гемоглобинов скорость эволюции ниже, поскольку, осуществляя перенос кислорода, они выполняют определенную и весьма важную функцию. Еще ниже скорость эволюции у цитохрома с, так как при своем функционировании он взаимодействует с гораздо более крупными молекулами ферментов.
Скорость эволюции может быть неодинаковой не только для разных молекул, но и для разных участков одной и той же молекулы. Ключевую роль в функционировании гемоглобина играет та внутренняя часть молекулы, которая примыкает к гему, и происходящие здесь замены аминокислот обычно приводят к аномальным изменениям свойств этого белка. В отличие от этой части аминокислоты, располагающиеся на поверхности молекулы, обычно не играют особой функциональной роли, и их замена мутантными часто не влечет за собой клинических последствий. Скорость эволюции этих наружных участков молекулы, по данным Кимуры, в 10 раз выше, чем внутренних.
Наиболее сильными функциональными ограничениями отличаются субстратспецифические ферменты, участвующие в энергетическом обмене, и структурные белки (такие, как актин или тубулин), в частности входящие в состав мембран. На структурные белки налагаются жесткие стерические ограничения, определяющиеся их тесным взаимодействием с другими молекулами. Поэтому белки этого типа в высшей степени консервативны (инвариантны) и отличаются крайне низкими скоростями эволюции.
Скорость молекулярной эволюции хорошо коррелирует со степенью полиморфизма, в равной мере зависящего от функциональных ограничений. Зато полиморфизм почти не зависит от условий среды, в которой обитает данный вид. Этот постулат нейтрализма в корне противоречит утверждениям селекционистов, которые видят в полиморфизме главную адаптивную стратегию видов, направленную на освоение разнообразных условий существования.
Кроме функциональных ограничений частоту нейтральных мутаций, скорость молкулярной эволюции и степень полиморфизма сдерживает отрицательный отбор — та форма естественного отбора, которая устраняет менее приспособленные фенотипы. По мнению Кимуры и его единомышленников, нейтральной эволюции на молекулярном уровне сопутствует стабилизирующий (консервативный) отбор на фенотипическом уровне, активный большую часть времени существования вида в неизменной форме. Стабилизирующий отбор как раз и устраняет фенотипы, уклоняющиеся от нормы, т. е. проявляет себя как отбор отрицательный. Стало быть, эта форма отбора действует всегда, но в случае малых популяций она достаточно слаба и перекрывается генетическим дрейфом. Кимура подчеркивает, что существование отрицательного отбора не противоречит нейтралистской теории, он только уменьшает долю селективно нейтральных мутаций в их общем пуле. Напротив, селективные ограничения, налагаемые отрицательным отбором, являются очень важной частью нейтралистской трактовки некоторых особенностей молекулярной эволюции.
В заключение нашего обзора приведем самые общие соображения Кимуры, касающиеся нейтралистской теории. Кимура, безусловно, прав, утверждая, что эта теория не противоречит дарвинизму, не подменяет его, а, напротив, его дополняет. Такого же мнения придерживается Н. Н, Воронцов (1999. С. 536). С нашей точки зрения, нейтрализм, возникший в недрах селекционизма и, безусловно, отражающий реально протекающие процессы в популяциях, сузил сферу дарвинизма, но не в такой мере, как полагают его авторы. По оценке того же Н. Н. Воронцова (там же), не контролируется отбором не более 1/3 замещений нуклеотидов.
Принципиально важно признание Кимурой отсутствия какого бы то ни было соответствия между процессами, описываемыми теорией нейтральности и фенотипической (морфологической) эволюцией. Мы будем специально говорить о соотношении эволюции с преобразованиями генетической конституции организмов в главе, посвященной новой генетике. Кимура специально уточняет, что на уровне фенотипов преобладает дарвиновский естественный отбор, тогда как на молекулярном уровне происходит закрепление нейтральных или почти нейтральных аллелей с помощью чисто стохастических процессов дрейфа генов. Скорость молекулярной эволюции благодаря этому постоянна, а скорости фенотипической эволюции весьма неравномерны. Но и этим не исчерпываются все различия. Кимура считает необходимым подчеркнуть, «что законы, управляющие молекулярной эволюцией, совершенно отличаются от законов, управляющих эволюцией фенотипической» (Кимура, 1985. С. 362). Короче, он признает справедливость своей теории исключительно на молекулярном уровне.
После интенсивных обсуждений и многочисленных исследований, порожденных нейтралистской концепцией, интерес к ней в 1990-е гг. заметно упал. Это произошло не потому, что в рамках этой концепции не было создано ничего принципиально нового или она была полностью опровергнута. Скорее молекулярные биологи ее молчаливо приняли, но при этом также осознали, что сколько-нибудь значительный успех биологической эволюции по нейтралистскому сценарию потребовал бы огромных промежутков времени и непомерно больших количеств ДНК.
Здесь уместно было бы еще раз напомнить о том, что говорилось перед описанием теории. Из наших соображений следует, что современный нейтрализм является недарвиновской концепцией лишь в рамках СТЭ, но на статус самостоятельной теории биологической эволюции претендовать не может. Мы подробно рассмотрели ее только для того, чтобы развеять иллюзии, возможно порожденные ее синонимичным громким названием.
Другое дело — концепции Уиллиса и отчасти Четверикова, являющиеся более давними, но все еще обращенные в будущее.
Глава 14. Возвращение ламаркизма
По общему признанию, начало закату ламаркизма положил Август Вейсман. Его теория зародышевой плазмы убедила научный мир, что наследование приобретенных признаков (НПП) невозможно с логико-теоретической точки зрения. Но доводы доводами, а эксперимент они не заменят. И чтобы доказать отсутствие наследования по Ламарку, Вейсман рубил мышам хвосты и констатировал, что они снова отрастали у потомков. Но хотя Вейсман и был в числе тех, кто ориентировал биологию на опытную проверку научного знания, он отнюдь не считал, что спор с ламаркизмом можно решить одними лабораторными экспериментами. Подобная позиция была особенно близка французским биологам, многие из которых придерживались убеждения, что мутации, получаемые в лаборатории, не имеют ничего общего с наследственной изменчивостью в природе.
Однако биологи XX в., увлеченные успехами экспериментальной науки, все меньше верили теории и все больше полагались на экспериментальные доказательства. Среди многочисленных экспериментов, осуществленных противниками ламаркизма, решающее значение приобрели опыты американских генетиков А. Лурии и М. Дельбрюка (Luria, Delbruk, 1943; Delbruk, 1946; и позднее) на культурах кишечной палочки, подвергнутых воздействию бактериофагов. Особую весомость этим опытам придавало то обстоятельство, что данные об адаптации микроорганизмов долгое время трактовались в духе ламаркизма.
В опытах с вирулентным фагом лямбда большая часть культуры бактерии погибала, но несколько клеток кишечной палочки выжили и образовали колонию, оказавшуюся устойчивой к фагу. Авторы установили, что колония возникла путем мутаций, происходивших со скоростью 2 × 10-8 на поколение. Расположение резистентных к фагу колоний было одинаковым как в чашках с фагом, так и без него. Из этого следовало, что в обоих случаях мутации устойчивости возникают спонтанно, независимо от присутствия фага и что последний лишь после появления таких мутаций выступает в качестве селективного фактора, разрушая все немутантные клетки.
Эти опыты, казалось, наглядно продемонстрировали отсутствие направленности мутаций и существования процесса физиологической адаптации у бактерий. Было высказано предположение, что и у высокоорганизованных организмов отбор также не влечет за собой появление адаптивных наследственных изменений, но лишь осуществляет их селекцию.
Вскоре после этих знаменитых опытов стала зарождаться молекулярная биология, а вместе с ней получил широкое признание ее главный теоретический постулат, вошедший в науку под названием центральной догмы молекулярной биологии. Его общепринятая формулировка, принадлежащая Ф. Крику, сводится к утверждению, что генетическая информация может передаваться только в одном направлении — от нуклеиновой кислоты к белку. Передача информации в обратном направлении невозможна. Этот принцип выражают схемой:
ДНК → РНК → белок,
транскрипция трансляция
По существу, он формулирует на молекулярном языке тезис об отсутствии НПП и невозможности направленного воздействия на генетическую информацию, содержащуюся в ДНК. Поскольку ДНК признается единственной носительницей наследственной информации, эволюция возможна лишь на основе спонтанных изменений этой молекулы.
В 1971 г. известный эмбриолог и историк биологии Л. Я. Бляхер опубликовал универсальную сводку, специально посвященную проблеме НПП (Бляхер, 1971). В этой сводке на огромном историческом материале, касающемся дискуссий и соответствующих опытных данных, Бляхер показал отсутствие прямого (и функционального) приспособления и НПП. В 1982 г, его книга была издана в США в английском переводе (Blacher, 1982).
Казалось, после такого развития событий судьба ламаркизма была окончательно решена. Труды П. Вентребера воспринимались не иначе как запоздавший рецидив ламаркизма со стороны одного из его фанатиков. Впрочем, теперь, когда главным центром экспериментальных исследований на молекулярном уровне стали США, на французскую биологию в целом стали смотреть примерно так, как столичный житель смотрит на провинциала. Но жизнь распорядилась иначе. Как это ни парадоксально, первые сигналы к реабилитации ламаркизма стали поступать от его злейшего врага — молекулярной генетики. Поначалу они были связаны с поэтапным разрушением центральной догмы.
В 1970 г. американский биохимик и вирусолог Дэвид Балтимор и независимо от него американские генетики Говард Темин и Сатоши Мизутани сообщили об открытии у РНК-содержащих онкогенных вирусов фермента РНК-зависимая ДНК-полимераза, способного комплементарно синтезировать ДНК на матрице РНК. Оказалось, что эти вирусы встраивают в геном клетки-хозяина не РНК, а образованную на ней комплементарную двухспиральную ДНК. Вскоре новый фермент был выделен и с его помощью были синтезированы первые гены, кодирующие гемоглобин животных и человека. Фермент получил более простое и выразительное название — обратная транскриптаза, или ревертаза (Baltimore, Temin, Mizutani, 1970).
Открытие имело принципиальное значение: оно показало, что между ДНК и РНК возможна двухстороняя передача информации и тем самым была нарушена стройность центральной догмы. Сам процесс передачи информации от РНК к ДНК стали называть обратной транскрипцией, а осуществляющих его вирусов — ретровирусами. В дальнейшем, с обнаружением обратной транскрипции у самых различных животных, ее перестали считать исключительным явлением и стали рассматривать в качестве нормы.
В 1982 г. тому же Дэвиду Балтимору и биохимику Фредерику Альту было суждено стать авторами еще более сенсационного открытия. Как показала Е. А. Аронова (1997), его фактически следует отнести к иммунологии, но оно совершило революцию во всей молекулярной биологии, а через нее в значительной мере и в эволюционной теории.
Альт и Балтимор (Alt, Baltimore, 1982) заинтересовались причинами огромного разнообразия иммуноглобулинов у одного и того же организма при ограниченном числе кодирующих их генов. Им удалось установить, что на одном из этапов «подгонки» иммуноглобулина под определенный антиген в молекулу его ДНК встраивается короткий (из 8—12 пар оснований) нуклеотидный фрагмент, никакой матрицей не кодируемый. Этот процесс обеспечивала не какая-то другая ДНК, а уже известный науке фермент — так называемая терминальная дезоксинуклеотидилтрансфераза. Благодаря производимой им операции к комбинативной изменчивости исходного набора генов присоединяется новый генетический компонент с произвольной последовательностью. Он и обеспечивает то большое разнообразие антител, которое способно дать быстрый и адекватный ответ на атаку любого внешнего агента. Как мы видим, в данном случае исследователи пошли по тому же пути, по которому раньше прошел Вентребер.
В только что описанном исследовании был открыт нематричный синтез ДНК, иными словами, доказана возможность перехода информации от белка к ДНК. Как и в случае с обратной транскрипциией, процесс «белок → ДНК» вскоре обнаружили у самых разных организмов (Clark, 1988). Тем самым центральная догма молекулярной биологии оказалась ограниченной.
В 1996 г. в познании способов передачи наследственной информации была открыта новая страница. В ходе изучения так называемого коровьего бешенства у млекопитающих были обнаружены возбудители этого инфекционного заболевания (Prusiner, 19 %). Ими оказались белки-прионы (от англ. protein infections particles), отличающиеся от своих нормальных неинфекционных гомологов только вторичной и третичной структурой молекулы. Прионы либо попадают в организм извне при заражении, либо возникают в нем спонтанно. Во втором случае, многое в котором еще совершенно неясно, прионы образуются de novo на своеобразных «пространственных» матрицах нормальных белков-гомологов (!), причины трансформации которых остаются загадкой. В обоих случаях прионы навязывают свою болезненную конформацию нормальным белкам-аналогам.
Обнаруженный способ трансформации, передаваемый от белка к белку, в очередной раз нарушил центральную догму, в соответствии с которой носители трансмиссивных болезней должны содержать ДНК или РНК. Теперь в нее надо внести новую коррективу: возможность модификации, копирования и горизонтальной передачи наследуемой конформации белков.
Подводя общий итог сказанному, необходимо иметь в виду, что центральная догма не прекратила своего существования. Она продолжает отражать один из главных потоков информации, но утратила значение абсолютного правила. В ней становится все больше ограничений и поправок.
В 1988 г. американский генетик Джон Кэйрнс (Caims, 1988) повторил опыты Дури и и Дельбрюка и пришел к заключению, что условия, при которых они проводились, не давали основания для тех выводов, которые были сделаны. В них использовались слишком большие дозы вирулентного штамма вируса, который сразу убивал все бактерии, не обладавшие к нему устойчивостью, и, таким образом лишал их возможности выработать эту устойчивость. Если бы Лурия и Дельбрюк воспользовались умеренным фагом лямбда, они пришли бы к заключению, что бактерии приобретают устойчивость к фагу именно после вступления с ним в контакт. Когда Кейрнс снизил дозу вирусов до стрессовой, то доминирующими среди мутантов стали бактерии, которые обладали резистентностью и свидетельствовали о направленном приспособительном процессе. Представлению о неадаптивном, не совпадающем с направлением отбора характере мутаций был нанесен сильнейший удар. В конце статьи Кэйрнс высказал допущение, что каждая клетка может обладать механизмом для осуществления НПП.
Другая серия опытов проводилась Кэйрнсом с соавторами (Cairns, 1988; Cairns, Overbaugh, Miller, 1988) на той же кишечной палочке, но брались бактерии с мутацией в гене lacZ лактозного оперона, не способные расщеплять лактозу. Их помещали на 1–2 дня в среду с глюкозой, где клетки могли нормально делиться. Затем из общего числа бактерий удаляли всех мутантов lac* и переносили колонию в селективную среду только с одной лактозой. Первые дни мутанты отмирали, но уже спустя неделю рост колонии возобновлялся за счет вспышки реверсий именно в гене lacZ. Возникала адаптация к лактозе путем перестройки генома.
Опыты однозначно свидетельствовали о возможности отбор-зависимого направленного мутирования определенного гена под воздействием внешнего фактора. Как писали эти авторы, если клетка установила обратную связь от белка к тРНК, то «она может производить выбор, какие мутации производить» (Cairns, Overbaugh, Miller, 1988. P. 145). Подобный механизм был назван генетическим поиском (Чайковский, 1976).
Сходные результаты, но уже с использованием мутантов по генам, использования триптофана и сахара-салицина получил другой американский генетик — Барри Холл (Hall, 1988, 1990, 1992). Он же открыл адаптивные мутации у дрожжей, т. е. уже у эукариотных организмов. Ему удалось выяснить также, что массовые адаптивные мутации являются следствием транспозиции (перемещения) мобильных генетических элементов (Hall, 1988) и что в случае мутаций двух генов («двойных мутаций») их частота по сравнению с одиночными возрастает в 108 раз (Hall, 1982). Понятно, сколь важное значение имеют эти данные для новой теории эволюции.
Число подобных публикаций множилось, стали появляться первые обзорные работы (Foster, 1993; Lenski, Mittler, 1993).
Следующий важный этап в познании адаптивных реакций организмов, как указывает М. Д. Голубовский- (2000), связан с теоретическим обоснованием направленных мутаций и раскрытием механизма их возникновения ведущим американским специалистом по новой генетике Джеймсом Шапиро. По мнению Голубовского, Шапиро (Shapiro, 1995а) считает достаточным для объяснения феномена адаптивных мутаций наличие двух механизмов. Во-первых, в живой клетке содержатся биохимические комплексы или «системы естественной генетической инженерии», способные реконструировать геном. Активность этих комплексов может резко меняться в зависимости от физиологического состояния клетки. Примером может служить ответ ее генетической системы на тепловой шок, когда происходит прямое увеличение клеточной толерантности и начинают синтезироваться белки теплового шока (стрессовые белки). Во-вторых, рост мутабельности происходит не в одной какой-то клетке, а в целой клеточной популяции, где возможен межклеточный горизонтальный перенос информации с помощью вирусов, плазмид и тому подобных агентов. В ключевые моменты или во время стресса ведущую роль в увеличении частоты мутирования и перестройке генома играют, по-видимому, мобильные генетические элементы. Используя метафору одного из современных дарвинистов, Шапиро резюмирует, что было обнаружено в клетке: вместо «слепого часовщика» (образ-аналог естественного отбора, — В. Н.) «мы нашли там генетического инженера с впечатляющим набором замысловатых молекулярных инструментов для реорганизации ДНК-молекулы» (op. cit.). В другой работе он же пишет, что за последние десятилетия на уровне клетки была открыта такая «непредвиденная сфера сложности и координации, которая более совместна с компьютерной технологией, нежели с механизированным подходом, доминировавшим во время создания неодарвиновского современного синтеза» (Shapiro, 1997; обе цитаты из: Голубовский, 2000. С. 163, 164). Познание работы всей этой сферы — дело будущего.
Современная молекулярная генетика начинает реабилитировать и другую составляющую ламаркизма — тезис о наследовании приобретенных признаков. Наблюдения и эксперименты в поддержку этого тезиса, накапливавшиеся на протяжении трех последних веков, столь многочисленны, что еще в начале XX в. составляли основу эволюционных представлений доброй половины ученых-биологов. Но даже если исключить из их числа тех, которые с точки зрения классической генетики были неверно поставлены и превратно истолкованы, наберется немало и таких, в которых стойкое наследование новых особенностей организации или новых свойств, приобретенных в индивидуальной жизни, трудно было отрицать. К числу таких экспериментов и наблюдений относились, например, опыты французского генетика (!) Ф. Л’Еритье с наследованием чувствительности дрозофилы к углекислому газу (L’Heritier, 1937), опыты Г. Х. Шапошникова (1961, 1965) на тлях и П. Г. Светлова (1965) — на мышах и дрозофиле, многочисленные примеры длительных модификаций, становящихся наследственными, разнообразные случаи цитоплазматической наследственности, особенно у простейших и растений. Еще 15–20 лет назад они не привлекали внимания исследователей, не говоря уже о том, чтобы рассматривать их в руководствах по генетике и теории эволюции. Широкое обсуждение и успех открытия феномена направленных мутаций автоматически сделал актуальной и проблему НПП.
В 1991 г. вышел очередной том авторитетного ежегодника по генетике — «Annual Review of Genetics». Он открывался большой обзорной статьей Отто Ландмана, озаглавленной «Наследование приобретенных признаков» (Landman, 1991) и посвященной памяти Т. Соннеборна — выдающегося исследователя генетики свободноживущих и симбиотических простейших, обнаружившего ряд неканонических типов наследования. В статье собрано большое число фактов ламаркистского наследования, относящихся к последнему 40-летию. Порядка 10 экспериментов, подтвердивших факт такого наследования при соблюдении всех необходимых требований к проведению эксперимента, были подвергнуты детальному анализу, и для их объяснения автором публикации был указан конкретный молекулярно-генетический механизм.
Мы не будем сейчас касаться этих механизмов, поскольку их можно понять только на основе знания новой (неклассической) генетики, которой в этой книге мы посвящаем специальную главу. Там будет уместно вернуться к этим механизмам. Здесь же приведем резюме, к которому пришел Ландман в указанной выше статье: наследование приобретенных признаков вполне совместимо с современной концепцией молекулярной генетики, и менделевская, и ламаркистская наследственность могут мирно сосуществовать в лоне молекулярной биологии.
Десять лет, прошедшие после публикации этих строк, еще больше расширили зону компетенции ламаркизма, одновременно наполнив ее строго генетическим содержанием.
Глава 15. Теория прерывистого равновесия и гипотезы двойственности в организации генома
Рубеж 1960-1970-х годов — это переломный момент в развитии эволюционного учения. Начиная с этого момента оно все больше приобретает черты, характерные для наших дней. Прежде всего надо отметить, что синтетическая теория окончательно превращается в догму и ее постулаты все решительнее подвергаются острой критике. В разных биологических дисциплинах, и в первую очередь в молекулярной и биохимической генетике, возникает ряд альтернативных гипотез видообразования и макроэволюции, отвергающих постепенный кумулятивный характер формирования эволюционных гипотез, порывающих с творческой формообразующей ролью естественного отбора и адаптивным характером видообразовательного процесса. В этих гипотезах утверждается, что большую часть времени биологические виды и весь органический мир благодаря действию нормализующего отбора остаются стабильными, а наблюдающийся в редких случаях переход в качественно новое состояние осуществляется скачком. Иными словами, живая природа живет в ритме прерывистого равновесия.
В связи с возникновением новых концепций в эволюционной теории разворачивается широкая дискуссия по кардинальным проблемам, касающимся континуальности или прерывистости эволюции, природы эволюционной изменчивости, эволюционной роли организации генетического материала, характера и темпов эволюционного процесса, соотношения моно- и полифилии, дивергенции и параллелизмов, зависимости морфологической эволюции от генетических факторов и др.
Пожалуй, самая парадоксальная черта рассматриваемого момента заключается в том, что он наглядно воспроизводит спираль диалектического развития: новые эволюционные концепции строятся на идеях, еще недавно считавшихся окончательно отвергнутыми, а их творцы — раскритикованными, высмеянными и забытыми. Теперь мы снова встретимся со старыми знакомыми из предыдущих глав, но они предстают уже не «блудными сынами» науки, а ее настоящими героями-ясновидцами.
Среди недавно возникших гипотез теория прерывистого равновесия — наиболее целостная, всеобъемлющая и серьезная. К тому же, по крайней мере формально, она не полностью порывает с синтетической теорией и дарвинизмом. Во всяком случае, так хотят представить дело ее авторы.
В самом начале 1970-х годов, изучив эволюцию девонского рода трилобитов штата Нью-Йорк, американские палеонтологи Н. Элдридж и С. Гулд обнаружили отсутствие постепенности в переходах между последовательно сменявшими друг друга формами. Вид, существовавший в течение миллионов лет без каких-либо существенных изменений, в вышележащих слоях внезапно исчезал и заменялся новым с совершенно иной количественной характеристикой главного морфологического признака. Аналогичную закономерность установил Гулд на одном из подвидов наземной улитки из плейстоцена Бермудских островов, только для более короткого отрезка геологического времени. В совместной публикации (Eldredge, Gould, 1972) описанный процесс чередования стабильного состояния (стазиса) вида и его быстрой замены новым был назван прерывистым равновесием. Согласно этой новой модели эволюция происходит редкими и быстрыми толчками, она как бы пульсирует, а сами толчки составляют по времени доли процента от стазиса. Авторы отмечали, что картина «прерывистого равновесия находится в большем соответствии с процессом видообразования, как он понимается современными эволюционистами» (ibid., р. 99). Новый вид развивается не в той области, где жили его предки, а приходит со стороны.
Нильс Элдридж (род. в 1940).
Стефан Джей Гулд (1941-2002).
Новая концепция разрабатывалась всего тремя палеонтологами — Гулдом, Элдриджем и Стэнли — на протяжении 10 лет, и в ее основу легли кроме уже упомянутой пять основных публикаций (Gould, Eldredg, 1977; Stanley, 1975, 1979; Gould, 1980, 1982b). Поначалу скептически встреченная даже палеонтологами, она получила признание только ближе к концу 70-х годов, когда фактически сомкнулась с идеями молекулярных генетиков Карсона, Буша, Вилсона, цитогенетика Уайта.
Мысль о длительности стазиса и краткости скачка к новому виду, как мы могли убедиться, отнюдь не нова. Она не была чужда даже Дарвину, в первоначальной эволюционной модели которого признавалось исключительно внезапное появление новых видов посредством сальтаций (Галл, 1987). Впоследствии Дарвин перешел на позиции градуализма и в «Происхождении видов» многократно подчеркивал постепенность эволюционного процесса. При этом, однако, он счел целесообразным во всех изданиях этого труда, начиная с третьего, сохранить следующую фразу: «Периоды, в продолжение которых каждый вид подвергался изменениям, многочисленные и продолжительные, если измерять их годами, были, вероятно, непродолжительны по сравнению с теми периодами, в течение которых каждый вид оставался в неизменном состоянии» (Дарвин, 1939. С. 560). Известно, что Т. Гекели, будучи горячим приверженцем дарвинизма, упрекал Дарвина за отрицание скачков (Huxley, 1901. Р. 189).
Мы видим, однако, заслугу пунктуалистов в том, что они показали контраст между продолжительностью времени, приходящегося на стазис и видообразование, и впервые поставили вопрос о структуре эволюционного процесса. Принципиально важно установление самого факта существования стазиса, противостоящего ложной идее о непрерывной эволюционной текучести форм жизни. Пожалуй, впервые было осознано, что история любой группы организмов, по выражению геолога Д. Эйгера, подобно жизни солдата, «состоит из долгих периодов скуки и коротких периодов страха» (цит. по: Уэбб, 1986. С. 413). Существенно, что под стазисом авторы пунктуализма понимают не пассивную стабильность, отвечающую постоянству среды, а генетически активное состояние вида.
По признанию самих создателей теории прерывистого равновесия (Stanley, 1979; Гулд, 1986), отправным моментом послужили для них непосредственно работы Майра, Гольдшмидта, Симпсона, Гранта и отчасти Райта. У Майра они заимствовали аллопатическую модель географического видообразования, идущего на основе быстрого преобразования малых периферических изолятов, концепцию генетической революции и принцип основателя. Особо ценным источником послужила работа Майра (Мауг, 1954) об изменении генетической среды, где фактически была выдвинута идея прерывистости эволюции на основе быстрой реконструкции генофонда изолированной популяции и дано рациональное объяснение многочисленных пробелов в палеонтологической летописи. Однако если у Майра это был частный и редкий модус видообразования, в целом не получивший тогда признания, то пунктуалисты превратили его в универсальный и заслуживающий доверия.
Термин «генетическая революция» был понят достаточно прямолинейно — как быстрое преобразование отпочковавшейся субпопуляции на основе единичных мутаций с крупным фенотипическим эффектом (макромутаций). Такое преобразование стали чаше всего описывать как квантовое видообразование, которое и вошло в «прерывистую» модель в качестве ее важнейшей составной части.
Другим источником модели послужили практически полностью реабилитированные идеи Гольдшмидта о возникновении нового таксона от «обнадеживающих уродов» и о полном разрыве микро- и макроэволюции. Так, считая первую идею вполне приемлемой, Г. Буш (Bush, 1975а) и С. Гулд (Gould, 1977b) допускают, что основателем высшего таксона могла явиться даже одна уродливая особь. Отсюда недалеко до известного примера Шиндевольфа о первой птице, вылупившейся из яйца рептилии. По мнению Стэнли (Stanley, 1979. Р. 145), в предельном случае квантовый скачок к новому виду может совершить в течение одного или немногих поколений популяция всего из десяти особей.
Корни пунктуализма уходят и в доктрину де Фриза о кратких периодах мутаций, когда, подобно взрыву, рождается множество новых видов, чтобы затем немногие из них, выдержавшие испытание на жизнеспособность, надолго остановились в своем развитии.
Через несколько лет Гулд и Элдридж (Gould, Eldredge, 1977) опубликовали новый, существенно видоизмененный вариант гипотезы. Если в первой публикации они ограничились описанием характера процесса видообразования, то теперь расширили рамки своей концепции, включив в нее гипотезу отбора видов Стэнли (Stanley, 1975), и заявили, что в этом новом виде их концепция должна стать основой целостной теории макроэволюции.
Как неоднократно отмечали Гулд и Элдридж, внутрипопуляционные дифференцировки, описываемые классической популяционной генетикой, имеют к видообразованию и макроэволюции очень малое отношение. Глубина и быстрота морфологических преобразований, связанных с последними, зависят главным образом от изменений регуляторных систем генома. Этим положением перечеркивалась идея Симпсона о необходимости синтеза данных палеонтологии с генетикой популяций и возрождался путь к альянсу с биохимической генетикой, провозглашенный Шиндевольфом.
В статье приводился новый палеонтологический материал, относящийся к радиоляриям, аммонитам, трилобитам и отчасти гоминидам, и подчеркивалась важность изучения эволюционного стазиса, темпов эволюции, а также сопоставления данных палеонтологии с выводами наук о ныне живущих организмах.
Идея прерывистого равновесия возникла как альтернатива градуалистической модели эволюции, идеально воплощенной в теории Дарвина. В XX в, оплотом градуализма традиционно оставались классическая популяционная генетика и, соответственно, синтетическая теория. На позициях градуализма до сравнительно недавнего времени стояли и молодые палеонтологи.
Градуализм органически связан с представлением об эволюции как филетическом процессе. На первый взгляд может показаться, что подобное представление противоречит дарвиновской схеме дивергентного формообразования. Вспомним, однако, что у Дарвина промежуточные формы вымирают, а крайние сохраняются, продолжая эволюционировать в направлении однажды начавшейся изменчивости. В работах Райта 1930-х годов доказывалось математически, что наиболее благоприятные условия для успешной работы естественного отбора создаются в больших сложных популяциях, а это равнозначно утверждению, что филетическая эволюция является наиболее быстрой[30]. Надо сказать, что важной опорой градуализма была трактовка эволюции исключительно как процесса прогрессирующего адаптациогенеза: если первичные полезные изменения очень малы, значит, весь процесс видообразования складывается из последовательной аккумуляции огромного их числа.
Против этих особенностей градуалистической концепции как раз и выступили создатели «прерывистой» модели. Весь пафос их критики сосредоточился на доказательстве того, что, если бы эволюция шла исключительно путем филетического градуализма, органический мир современной эпохи, вероятно, не поднялся бы в своем развитии выше уровня палеозойских организмов. Имеющийся фактический материал свидетельствует, что филетическая эволюция реально существует, но происходит крайне медленно. Прямые наблюдения (Ehrlich, Raven, 1969; Endler, 1973, 1977; Stanley, 1979 и др.) подтверждают факт весьма слабого обмена между внутривидовыми популяциями многих ныне живущих видов и, соответственно, очень медленное распространение в них удачной комбинации генов, что и препятствует быстрой филетической эволюции. А без обмена генами объяснить такую эволюцию можно было бы только с помощью допущения, что параллельные (однонаправленные) и быстрые генетические изменения претерпевают все субпопуляции вида. Ныне показано, что в кризисные для экосистем моменты истории дело обстоит именно так, но в 70-е годы до такого понимания эволюционного преобразования наука еще не доходила.
Пунктуалисты противопоставляют филетическому градуализму модель прерывистого квантового видообразования, утверждая, что видообразовательный, или кладистический, процесс составляет большую часть содержания эволюции. Самое оригинальное в этой модели — всегда множественное видообразование, дающее целую гамму разных видов, из которых только один выживает и будет существовать в неизменном состоянии в течение миллионов лет — до нового видообразовательного события. Схематично прерывистое видообразование изображается в виде линий, ветвящихся под прямыми углами, почему гипотезу прерывистого равновесия называют еще «прямоугольной (rectangular) эволюцией» (рис. 22).
Рис. 22. Графическое изображение моделей прерывистого равновесия и градуалистического видообразования (Майр, 1982).
Полемика между сторонниками модели «экстраполяционного адаптивного филстического градуализма» и приверженцами пунктуализма (Gould, 1982а. Р. 137) в течение 10–15 лет заполняла страницы многих периодических изданий, неизменно возникала на международных научных форумах и пока еще не привела к окончательному результату. Градуализм или нунктуализм? Этот вопрос все еще дискутируется в современном эволюционном учении (Колчинский, 2002).
Для того чтобы дать более полное представление об обеих моделях, мы приводим их основные положения (табл. 2).
Таблица 2. Сравнение гипотез постепенного и прерывистого видообразования
Следует, конечно, иметь в виду, что вопрос о соотношении прерывистой (быстрой) и постепенной (медленной) эволюции прежде всего эмпирический, и попытки его решения с помощью косвенных соображений и теоретических спекуляций вряд ли можно признать правомерными. Приоритетное значение должен иметь поэтому скрупулезный анализ палеонтологического материала. Для доказательства того, что эволюция той или иной группы была прерывистой, необходимо располагать непрерывными палеонтологическими сериями за длительный отрезок геологического времени, которые позволили бы зафиксировать периоды как стазиса, так и быстрой видообразовательной эволюции. Нужно также иметь возможность точно датировать (обязательно по абсолютной шкале) короткие интервалы в пределах данной последовательности.
Все эти условия были соблюдены в подробном исследовании кайнозойских брюхоногих и двустворчатых моллюсков из мошной толщи пресноводных отложений озера Туркана (Кения), осуществленном П. Уильямсоном (Williamson, 1981). Приблизительно из ста слоев осадочных пород, прослоенных вулканическими туфами точно установленного возраста, им был добыт и биометрически изучен массовый материал (около 3700 раковин), относящийся к 13 филумам. Благодаря этому Уильямсон имел возможность достоверно документировать все переходы в изменении морфологических признаков.
В итоге оказалось, что после периода стазиса, длящегося в течение 2–3 млн лет, новые виды возникают в интервале сгг 5 до 50 тыс. лет. Для медленно эволюционирующих моллюсков это достаточно короткий срок. Уильямсон констатировал, что ни в одной из изученных линий не было отмечено постепенных переходов, В моменты стрессовых ситуаций, создававшихся периодическими пересыханиями озер, у моллюсков наблюдалась сильная морфологическая изменчивость, на базе которой быстро формировались новые виды.
Работа Уильямсона, показавшая наличие в эволюции моллюсков всех признаков пунктуализма, вошла в арсенал наиболее веских доказательств справедливости модели прерывистого равновесия. Однако интерпретация, данная Уильямсоном описанным фактам, тут же подверглась критике. В том же номере журнала, наряду с исследованием Уильямсона, была опубликована полемическая статья генетика Дж. Джонса (Jones, 1981), стремившегося показать, что видообразование у данных групп моллюсков может быть истолковано и в духе градуализма. Судя по продолжительности генерации ныне живущих родичей этих моллюсков, для зарегистрированных морфологических изменений раковин ископаемых форм потребовалось 20 тыс. поколений. По Джонсу, это эквивалентно тысячелетнему эксперименту на дрозофиле, 6000-летней селекционной работе на мышах или выведению пород домашних животных в течение 40 тыс. лет. В обычной же селекции резкие морфологические изменения достигаются иногда всего за 20–50 поколений. Иными словами, в истории с моллюсками, описанной Уильямсоном, Джонс не склонен видеть сальтационистских превращений.
К аналогичному заключению после ревизии данных Уильямсона пришел Татаринов (1983, 19856, 1987), показавший, что в ряде случаев старые и новые виды соединены полной серией переходных форм.
В числе наиболее убедительных примеров, демонстрирующих прерывистую эволюцию и квантовое видообразование, Стэнли (Stanley, 1979) упоминает цихловых рыб из геологически молодых озер Центральной Африки, возникновение видов позднетретичных млекопитающих, в том числе белого носорога (Ceratotherium) (рис. 23), полярного (белого) медведя (Ursus maritimus) и большой панды (Ailuropoda melanoeeuca) из Китая (рис. 24). Согласно пионерской работе Д. Дэвиса (Davis, 1964), эта аберрантная форма медведя, известная только с плейстоцена, возникла благодаря единичному видообразовательному акту в силу плейотропной эволюции неадаптивных признаков и заслуживает статуса отдельного подсемейства.
Рис. 23. Белый носорог (Ceratotherium simum).
Одновременно росло число публикаций, в которых обосновывалась градуалистическая модель эволюции. Здесь следует прежде всего назвать исследования американских палеонтологов: Дж. Гингерича (Gingerich, 1974, 1975, 1980, 1983) на млекопитающих эоцена, Г. Скотта (Scott, 1976) на фораминиферах, Дж. Джонсона (Johnson, 1982) и К. Эмильяни (Emiliani, 1982, 1984) — на планктонных микроорганизмах шельфа, а также француза Ж. Шалина (Chaline, 1984) — на грызунах неогена и четвертичного периода. Вновь укрепилась идея постепенности в эволюции гоминид (Cronin et at., 1981; Wolpoff, 1982; Allen, 1982).
Рис. 24. Большая панда (Ailuropoda melanoleuca).
Дискуссия между защитниками пунктуализма и сторонниками градуализма особенно обострилась после специальной конференции по проблемам макроэволюции, собравшейся в Чикаго в 1980 г., и впоследствии продолжала идти с переменным успехом для обеих сторон. На чикагской конференции тон задавали пунктуалисты, и практически все выступавшие высказались за особые механизмы макроэволюции[31].
В 1983 г. в Париже прошла конференция, посвященная проблемам прерывистого равновесия, организованная Французским национальным центром научных исследований (CNRS). Большинство участников этой конференции либо поддержали представление о преобладании в природе градуалистического видообразования, либо высказались в пользу типа эволюционных преобразований, промежуточных между градуализмом и пунктуализмом.
Надо сказать, что уже вскоре после создания «прерывистой» модели многие эволюционисты выступали против ее противопоставления градуализму. Так, X. Харпер (Harper, 1975) полагает, что оба способа эволюции представляют собой два крайних случая целого спектра возможностей. Появились компромиссные промежуточные концепции, названия которых — «полифазная эволюция» (Chaline, 1984) или «прерывистый градуализм» (Beiggren, Lohmann, Malgren, 1984) — говорят сами за себя. Добавим, что непосредственно творцы пунктуализма отнюдь не являются «экстремистами».
Какого рода данные вообще нужны для решения спора между градуализмом и пунктуализмом? Стэнли (Stanley, 1979) считает, что здесь требуется, с одной стороны, определение продолжительности существования хроновидов и степени систематического различия между крайними формами ряда, с другой — сопоставление темпов макроэволюции в группах со слабой и сильной радиацией. Подобный выбор, по нашему мнению, вполне оправдан.
Данные первой категории по большей части свидетельствуют в пользу пунктуализма. Данные второй призваны подтвердить ожидание, что скорость макроэволюции (т. е. скорость возникновения семейств и отрядов, отражающих крупные морфологические изменения) должна быть согласно градуалистической модели пропорциональна времени или числу поколений, необходимых для достижения видового разнообразия, а согласно модели прерывистого равновесия — пропорциональна степени ветвления (видообразования). Стэнли сопоставляет по этим показателям млекопитающих и двустворчатых моллюсков. Первые осуществили радиацию с образованием приблизительно 100 семейств в течение 30 млн лет, вторые дали равное число семейств в течение более чем 400 млн лет, т. е. эволюционировали в 13 раз медленнее. Отсюда Стэнли делает вывод, что темп макроэволюции непосредственно зависит от темпа видообразовательных событий. Другое подтверждение этого правила — существование живых ископаемых (шесть видов двоякодышащих рыб, два вида аллигаторов и один вид трубкозуба), незначительные эволюционные изменения которых на протяжении длительного геологического времени хорошо коррелируют со слабым видообразованием.
Подобного рода факты подтверждают модель прерывистой эволюции, но их все же нельзя считать решающими, ибо и на их достоверности сказываются субъективность подходов систематиков к разделению ископаемых таксонов и общие пределы разрешающей способности палеонтологических методов. Это означает, что характер добываемых фактических данных не позволяет рассчитывать на окончание дискуссии в ближайшее время. Не исключено также, что макроэволюция одних групп протекала в большей мере в соответствии с одной моделью, других — с другой.
Но вернемся к существу пунктуализма. Эта концепция сделала видообразование центральным событием в структуре эволюции и основным звеном в макроэволюции. Видообразование имеет всегда квантовый характер и происходит скачком: «…мы должны отвергнуть градуализм как ограничительную догму. Пунктуационное изменение с резкими скачками между стабильными состояниями характерно для большей части нашего мира», — заявляет Гулд (1986. С. 39). Его мнение разделяют большинство крупнейших генетиков: «…эпизоды видообразования включают в себя… значительные генетические скачки, так что формирование новых видов осуществляется в серии катастрофических, стохастических генетических событий» (Carson, 1975, Р. 87–88).
Продолжительность скачка может быть самой разной — от превращения вида в одном поколении до ступенчатых преобразований, растягивающихся на несколько десятков тысяч лет. Вероятно, для пунктуализма в большей мере характерно признание первичности, исходности репродуктивной изоляции, которая рассматривается не как продукт адаптации, а как стохастическое явление. В этой связи Гулд (Gould, 1980), например, считает, что традиционные понятия алло- и симпатрического видообразования утратили свое значение. Если демы оказываются разобщенными, новые виды могут возникать в любой точке ареала предкового вида. Вместе с тем очевидно, что само видообразование становится неадаптивным стохастическим процессом, практически совершающимся независимо от естественного отбора.
Масштабы видообразовательных актов и способы их реализации, допускаемые «прерывистой» концепцией, достаточно разнообразны. Внезапно возникающие новые формы могут не выходить за рамки видового статуса, и тогда, согласно Гулду, анагенез оказывается просто «аккумулированным кладогенезом» (Gould, 1982а. Р. 139). Но Стэнли (Stanley, 1979) допускает и даже считает правилом, возникновение родов и более высоких таксонов «главным образом благодаря квантовому видообразованию», и притом в течение нескольких поколений. Так, он пишет: «Чтобы возникли новые роды, подсемейства и семейства, достаточно единственного акта видообразования или краткой последовательности событий» (ibid., р. 141). Однако главный механизм макроэволюции, по Стэнли, иной, и о нем будет сказано отдельно.
Карсон (Carson, 1975, 1978) разработал оригинальную теорию («founder-flush-theory») чрезвычайно быстрого видообразования, опираясь на принцип основателя и генетический дрейф. По этой теории видовые популяции последовательно переживают состояния взрыва («flush»), когда внезапно возникает много особей, и крушения («crash»), когда большинство их гибнет. Единичные выжившие демы в предельном случае могут состоять из одного индивида-основателя, претерпевшего вынужденную генетическую реорганизацию. Это так называемый диахронный эффект бутылочного горлышка. По Карсону, он составляет сущность процесса видообразования (Carson, 1975. Р. 88) (рис. 25). Стэнли трактует этот способ как «потенциальный механизм ускорения филетической эволюции», родственный действию катастрофического отбора, и на этом основании (ввиду «чрезвычайной редкости») фактически его отвергает (Stanley, 1979. Р. 98). Действительно, при данном способе увеличения числа видов не происходит, а факты длительного существования хроновидов заставляют признать его весьма ограниченную роль в макроэволюции. Стэнли отстаивает ключевую роль в макроэволюции очень малых популяций, оказавшихся просто изолированными от нормальных популяций предшествующих видов, что и следует считать типичным для гипотезы прерывистого равновесия. Вместе с тем он положительно относится к идее возникновения нового вида (например, у брюхоногих моллюсков) от единственной гермафродитной самки, испытавшей зародышевую мутацию.
Пунктуализм полностью восстановил в правах идею Гольдшмидта о макроэволюционной роли «обнадеживающих уродов» и фактически дал ей новую жизнь (Steenis, 1969; Frazzetta, 1970; Bush, 1975; Gould, 1977в; Stanley, 1979). Теоретики пунктуализма Гулд и Стэнли лишь формально делают оговорки о «крайности» и «фантастичности» этой идеи, но принимают ее по существу. Констатируя возвращение гипотезы Гольдшмидта об «уродах», Буш резюмировал, что она «больше не является полностью неприемлемой» (Bush, 1975. Р. 357). Главное затруднение, с которым гипотеза встречалась еще в 60-х — начале 70-х годов, — проблематичность нахождения уродом пары для производства плодовитого потомства — ныне полностью преодолено. Уже тогда было установлено, например, что резко аберрантная форма способна закрепиться, если она происходит через зародышевую мутацию самки, как это было показано в упоминавшихся работах Карсона о видообразовании у дрозофил на Гавайских островах.
Рис. 25. Схема видообразования по Карсону (1975).
Пунктуализм принял и другое положение Гольдшмидта — о полном разобщении микро- и макроэволюции, которое теперь именуется разрывом Гольдшмидта (Gould, 1982а. Р. 137), или главным положением теории прерывистого равновесия (Maynard Smith, 1982. P. 126). Считается, что Гольдшмидт предугадал прерывистое видообразование и его кладистический характер.
Действительно, принцип разобщенности микро- и макроэволюции в начальном варианте «прерывистой» концепции — основной, определяющий ее структуру и само содержание. Обосновывается он, как и в свое время Гольдшмидтом, приведением в действие в случаях микро- и макроэволюции различных типов изменчивости и механизмов ее осуществления. Макроэволюционное значение внутривидовой изменчивости и полиморфизма, как правило, отрицается[32]. К природе изменчивости и генетике видообразования вообще проявляется особый интерес. Но одним фактором изменчивости дело не ограничивается. При объяснении макроэволюции не менее важен отбор, только он перенесен на другие уровни организации.
Один из веских доводов за разобщенность микро- и макроэволюции — зависимость их темпов от разных причин, подмеченная многими специалистами. Вспомним основополагающую работу Симпсона (1948). В ней ясно показано, что ни одна из причин, обычно определяющих темп микроэволюции, на скоростях макроэволюции не сказывается. Можно привести показательный пример. Род дрозофилы, появившийся в эоцене, хотя и представленный многочисленными видами (с вымершими — более двух тысяч), несмотря на быструю смену генераций и высокую насыщенность популяций мутациями, так и не дал нового рода, тогда как у хоботных, размножающихся на несколько порядков медленнее и едва ли столь насыщенных мутациями, за то же геологическое время сменилось несколько родов. Следовательно, макроэволюция у хоботных проходила в несколько раз быстрее, чем у дрозофил.
Как свидетельствуют данные палеонтологии, темпы макроэволюций зависят от таких показателей, как размер популяции, частота видообразования, изменение общей биоценотической обстановки. Отсюда закономерен вывод, что различие причин, от которых зависят темпы микро- и макроэволюции, говорит об отличии на этих уровнях движущих сил эволюции.
Основной вклад в разработку механизмов возникновения высших таксонов и макроэволюционных направлений (trends) внес Стэнли. Его эволюционная концепция, первоначально сжато изложенная в книге (Stanley, 1979), органично вошла в модель прерывистого равновесия Гулда—Элдриджа.
По мнению Стэнли, имеются три источника макроэволюции: 1) филогенетический дрейф; 2) направленное видообразование; 3) отбор видов. Филогенетический дрейф — случайный процесс, аналогичный генетическому дрейфу в популяциях. Его содержание составляют стохастические флуктуации. При нем направление видообразования также случайно. Как было показано на моделях, проверенных на компьютерах (Raup, Gould, 1974), этот тип эволюции способен создавать филогенетическую направленность только в маленьких кладах, подобно тому как генетический дрейф проявляет свою эффективность в малых популяциях..
Направленное видообразование, как и процесс мутационного давления в популяциях, — тенденция ряда последовательных событий квантового видообразования направлять эволюцию филума в одном адаптивном направлении. Одним из авторов данной макроэволюционной концепции и ее горячим приверженцем является Грант (Grant, 1963). При этом типе макроэволюции также доминирует случайность.
Но самым главным способом осуществления макроэволюции, ответственным за формирование устойчивых направлений филогенеза, Стэнли провозглашает отбор видов. Это простая, стройная и очень широкая концепция, логично достраивающая теорию Дарвина на надвидовом уровне.
Стержневая идея концепции: направления макроэволюции возникают, но не в результате филетической эволюции под действием длительно не меняющегося вектора естественного отбора, как обычно полагают, а благодаря отбору среди генеалогических линий. Они оказываются продуктом дифференциального выживания части видов из их общего числа, возникшего в краткие периоды видообразования. Сами виды выступают как сырой материал макроэволюции, и лишь отбор определяет, кому из них суждено внести лепту в непрерываюшуюся нить жизни филума. Одобряя эту концепцию, Гулд пишет, что макроэволюция «есть аккумулированный кладогенез, профильтрованный через направляющую силу отбора видов — райтовский высокого уровня аналог естественного отбора» (Gould, 1982а. Р. 139).
Воспроизведем данные, иллюстрирующие механизмы, создающие макроэволюционные направления в «прерывистой» модели и аналогичные механизмы, порождающие микроэволюционные явления (Stanley, 1979).
Макроэволюция | Микроэволюция
Филогенетический дрейф | Генетический дрейф
Направленное видообразование | Мутационное давление
Отбор видов | Естественный отбор
По Стэнли, при описании и объяснении макроэволюции можно провести полную аналогию с популяционными процессами. Механизм макроэволюции станет понятным, если особи заменить видами, события рождения и смерти — соответственно видообразованием и вымиранием, индивидуальную изменчивость (мутации и рекомбинации) — видообразованием, а естественный отбор — отбором видов. Агентами отбора видов выступают обычные ограничивающие экологические факторы — конкуренция, хищничество, изменения среды и случайные флуктуации в размерах популяций. Направляющими (неслучайными) компонентами отбора видов выступают дифференциальные темпы видообразования среди имеющихся линий, по-разному скоррелированные между собой. Сказанное Стэнли наглядно отображает следующая таблица.
Отбор видов, связанный с дифференциальными темпами видообразования и вымирания, является «доминирующим источником длительных филогенетических направлений в больших кладах» (Stanley, 1979. Р. 211).
При разработке своей концепции Стэнли опирался на известное «правило Райта» (Wright, 1967) о случайном (ненаправленном) характере морфологических особенностей вида по отношению к господствующему направлению эволюции филума. Райт утверждал, что здесь наблюдается полная аналогия со случайностью мутационной изменчивости по отношению к направлению естественного отбора. Стэнли убежден, кроме того, что Гольдшмидт со своей идеей «уродов» был предтечей и в этом вопросе. В представлении Стэнли, в понятии «уродов» «молчаливо утверждается как случайность направления видообразования, так и суровая форма межвидового отбора. Схема Гольдшмидта, — продолжает Стэнли, — доходила до ясной посылки, что вид представляет собой единицу макроэволюции и что макроэволюция отграничена от микроэволюции. Все это иллюстрирует историческое разъединение отбора на уровне видов и отбора на уровне особей» (Stanley, 1979. Р. 193–194).
В статье, посвященной 20-летию теории, Гулд и Элдридж (Gould, Eldredge, 1993) отметили, что за прошедшее время пунктуализм завоевал признание большинства эволюционистов США как «ценное прибавление к теории эволюции». В немалой степени это явилось следствием энергичной пропаганды и рекламирования этой теории ее создателями во всех средствах массовой информации. Возможно, ради ее упрочения в биологическом научном сообществе Гулд и Элдридж и пошли на те компромиссы со СТЭ, которые противоречат существу пунктуализма. Вот и в данной статье указано, что разделение микро- и макроэволюции в трудах Стэнли не означает, что микроэволюционный механизм неверен; оно только констатирует, что экстраполяция на макроэволюцию дарвиновского механизма не способна дать полного объяснения этого процесса. И это пишется после того, как 12 годами раньше Гулд (Gould, 1981) уже прокламировал смерть СТЭ!
Авторы сочли также нужным напомнить, что, несмотря на постулируемое скачкообразное видообразование, пунктуализм никогда не был сальтационной теорией, ибо согласно этой концепции новые таксоны в 90 % случаев возникают не путем филетической трансформации, а через видообразовательный процесс.
Значение книги С. Стэнли (1979)
Книга Стивена Стэнли «Макроэволюция. Структура и процесс» (Stanley, 1979) — одна из последних фундаментальных сводок по проблемам структуры, движущих сил и механизмов макроэволюции. Особое внимание уделено в ней способам видообразования, темпам видообразования и вымирания и факторам, контролирующим поддержание органического разнообразия.
Как уже говорилось, в этой книге изложена собственная концепция макроэволюции Стэнли, принятая Гулдом и Элдриджем. Но она включена здесь в общий контекст гипотезы прерывистого равновесия, изложению теоретических основ которой, собственно, и посвящена книга.
Не только тема, всесторонность анализа, обоснования и широта охвата предмета, но и многие теоретические положения, развиваемые автором, заставляют компетентного читателя этой монографии вспомнить старую книгу Симпсона «Темпы и формы эволюции». Стэнли широко пользуется идеями и методами Симпсона, в особенности при оценке скоростей макроэволюции. Он подробно развивает его модель квантового видообразования. По этим и многим другим чертам Стэнли выступает в этом труде достойным преемником Симпсона.
Стивен Митчелл Стенли (род. в 1941).
Но в то же время концептуальная стратегия Стэнли совсем иная. Этому и не приходится удивляться. Ведь с момента выхода работы Симпсона прошло 35 лет! За это время возник пунктуализм, родилась новая эволюционная молекулярная генетика. Опираясь на их данные, Стэнли делает нечто прямо противоположное Симпсону: он отделяет палеонтологию от популярной генетики, пользуясь последней лишь в качестве аналога, и отделяет макро- от микроэволюции. Наиболее подходящую основу для эволюции через прерывистое равновесие Стэнли ищет в иных формах изменчивости. Можно сказать, что он возрождает традицию синтеза, осуществленного Шиндевольфом.
Стэнли утверждает новую модель макроэволюции в полемике с градуализмом. Эта полемика становится, пожалуй, лейтмотивом книги, который неизменно звучит при анализе самых различных аспектов эволюции. Всестороннему обоснованию пунктуализма, собственно, посвящены четыре из десяти глав монографии. В числе доказательств хотелось бы выделить факт несоответствия длительности существования хроновидов (1,2 млн лет для плейстоценовых млекопитающих) степени радиации класса млекопитающих по отрядам и родам. Взрывоподобность такой радиации не может быть объяснена на основе филетического фадуализма. Единственная возможность совместить высокие скорости возникновения таксонов и их длительное выживание — это допустить кладогенез, при котором виды возникают прерывисто.
Сам автор определяет цель своей книги как попытку показать значение данных палеонтологии для эволюционной теории. Ему хотелось бы убедить своих читателей, что палеонтологическая летопись вовсе не столь неполна, как об этом привыкли думать, и что ее пробелы соответствуют реальным разрывам в эволюционной иерархии.
Еще одна не менее важная цель Стэнли — привлечь внимание эволюционистов к видообразованию как главному событию в макроэволюции и на этой основе добиться объединения усилий палеонтологов и неонтологов в разработке механизмов его осуществления. При этом он отмечает, что количество ископаемого материала и качество его анализа позволяют в настоящее время вести филогенетические исследования на видовом уровне. Изымая видообразование из сферы микроэволюции и делая его основным звеном макроэволюции, Стэнли четко проводит новую границу между этими уровнями эволюционного процесса.
Ключевым вопросом в изучении видообразования автор книги, подобно своим многочисленным единомышленникам, считает исследование его генетической базы. Обосновывая быстрое, скачкообразное возникновение новых видов и более высоких таксонов, он проявляет особую благосклонность к мысли о решающей роли в этих событиях крупных хромосомных перестроек и мутаций регуляторных генов. По Стэнли, ускоренному видообразованию способствует и половой процесс, рассмотрению которого под этим углом зрения посвящена специальная глава.
Стэнли трансформировал традиционное представление о роли отбора в эволюции, сделав отбор главным механизмом макроэволюции. Практически он устранил отбор от участия в формировании видов и объявил его подлинной ареной надвидовой уровень. Виды возникают по воле случая и формируют высшие таксоны и эволюционные направления благодаря дифференциальным темпам рождения и вымирания.
Справедливости ради надо сказать, что, проводя свою линию, Стэнли соблюдает достаточную объективность. В его книге можно встретить немало фактов и суждений, противоречащих доктрине пунктуализма. В ряде мест Стэнли, в частности, указывает, что «прерывистая» модель эволюции не предполагает особых факторов или механизмов, которых нет в синтетической теории, но лишь по-иному расставляет на них акценты. Он допускает даже, что полиморфизм может служить первым шагом к видообразованию (ibid., р. 171–172). И тем не менее именно эти суждения оказываются слабо подкрепленными фактическим материалом и воспринимаются как простая декларация. Они, вероятно, мало у кого могут вызвать уверенность в искренности автора.
В заключение разбора гипотезы прерывистого равновесия целесообразно несколько дополнить ту оценку, которую мы уже давали ей раньше.
Оригинальность гипотезы видится нам в утверждениях множественного видообразования с выживанием единственного вида, образования высших таксонов путем отбора видов, непопуляционной генетики видообразования.
Интересно, что Симпсон (Simpson, 1976), заставший возникновение пунктуализма, не увидел в нем ничего такого, что шло бы вразрез с принципами синтетической теории. На точке зрения совместимости пунктуализма с дарвинизмом стоят Грант, Стеббинс, Айала, Мейнард Смит, Паавер, Татаринов и многие другие исследователи.
Однако целый ряд специалистов (Løvtrup, 1977; Blanc, 1982; Ruse, 1985; Корочкин, 1984) полагают, что теория прерывистого равновесия создает самую серьезную альтернативу дарвинизму. Выступая на междунароном симпозиуме в Пльзене (ЧССР, 1984), Рьюз говорил, что эта теория «наносит удар прямо в сердце дарвиновскому механизму эволюции… Отрицая постепенность… Гулд и его единомышленники… делают дарвинизм одним из частных механизмов эволюции» (Ruse, 1985. Р. 148). В гл. 3 уже отмечалось, что подобная оценка имеет веские основания. Не обращать внимания на утверждения о первичности и неадаптивности репродуктивной изоляции, о том, что внутривидовая изменчивость не ведет к видообразованию и что микро- и макроэволюция не связаны друг с другом, означает не признавать очевидное. Тут уже несогласованность оценок нельзя объяснить слабой разработанностью в синтетической теории проблем структуры и динамики эволюционного процесса, как пытался представить дело Паавер (1983).
Однако выносить окончательное суждение о том, являются ли пунктуализм и синтетическая теория альтернативами, было бы преждевременным. На наш взгляд, решение этого вопроса будет всецело зависеть от установления типа изменчивости, лежащей в основе видообразования и его распространенности в природе.
С начала 70-х годов ведущее место в разработке молекулярногенетических основ видообразования и макроэволюции заняли исследователи СССР. Наиболее радикальный вклад в познание механизмов видовой и надвидовой эволюции внесли, как нам представляется, Ю. П. Алтухов и Ю. Г. Рычков (1972; Алтухов, 1974, 1983 и позднее).
Эти авторы полностью разделяли общий взгляд о двойственности в структурно-функциональной организации генома у высших организмов, но при этом распространяли принцип двойственности и на уровень структурных генов. По данным их исследований, в каждой популяции обследованных видов, наряду с полиморфными белками-маркерами соответствующих генов, всегда обнаруживаются и мономорфные, инвариантные белки. При всей необозримости наследственного полиморфизма в популяциях на долю полиморфной части генома приходится примерно одна треть всех изученных локусов. Остальные две трети не обнаруживают изменчивости, не позволяют судить о генетической дивергенции популяций и по этой причине не рассматриваются в рамках традиционных методов популяционно-генетических исследований. Эта мономорфная часть генома ответственна за видоспецифические признаки, отличающиеся высокой степенью константности.
Алтухов и Рычков (1972. С. 288) определяют генетический мономорфизм как «отсутствие изменчивости заведомо наследуемого признака на всем видовом ареале или наличие в нем качественно отличающихся вариантов с частотой, не превышающей вероятность повторного мутирования». В противоположность этому генетический полиморфизм такой специфичностью не обладает, и одни и те же аллели представлены у разных, нередко далеких видов. Таким образом, мономорфная часть генома кодирует сугубо видоспецифические белки, ответственные за развитие видовых признаков.
Благодаря мономорфизму виды по веем признакам столь же дискретны и уникальны, сколь и генотипы разных особей. Поскольку каждая особь обладает всеми инвариантными свойствами вида, виды адекватны не популяциям, а отдельным особям, причем проблема идентификации видов решается одинаково применительно к бисексуальным и однополым формам. Авторы отмечают также, что видовые признаки ведут себя как целостные генетические единицы. Когда удается сопоставить редкие межвидовые гибриды или виды гибридного происхождения с родительскими видами, то видовые признаки гибридов обнаруживают простое суммирование родительских типов либо даже отношение дом и на нтности — рецесси вности.
Исследования Алтухова и Рычкова свидетельствуют об универсальности генетического мономорфизма в природе. В этом авторы имели возможность убедиться, изучая массовый материал по многим видам рыб и просматривая многочисленные литературные данные, относящиеся к моллюскам, насекомым, амфибиям, рептилиям, птицам и млекопитающим.
Из факта двойственности в организации генома, подтвержденного в более поздних публикациях Алтухова (1983, 1985, 2000; Алтухов, Корочкин, Рычков, 1996), логично выводится и механизм видообразования. Согласно гипотезе этих авторов (Алтухов, Рычков, 1972; Алтухов, 1974), в основе происхождения видов лежат преобразования мономорфных признаков. Совершаются же эти преобразования не постепенно и не на популяционном уровне, а резким скачком в результате качественной и крупномасштабной реорганизации генома, непосредственно сопряженной с репродуктивной изоляцией.
Недавно Алтухов получил полное подтверждение своего главного вывода, сделанною с помощью электрофореза белков, и на уровне исследования самой ДНК (Алтухов, Абрамова, 2001). Он подчеркнул при этом качественное отличие собственно процесса видообразования от адаптивной внутривидовой дивергенции, лишь поддерживающей устойчивость и целостность вида в условиях нормально колеблющейся среды.
Фактически инициирующим генетическим событием выступает системная мутация, затрагивающая одновременно большое число генов и связанная с тандемными дупликациями, полиплоидией и другими изменениями. Предположение об участии в реорганизации большого числа генов находит подтверждение в том, что мономорфные белки как жизненно особо важные кодируются множественными генами. Важнейший биологический смысл резких генетических перестроек авторы видят в том, что они скачком переводят все или значительную часть генов генома в константно-гетерозиготное состояние и, следовательно, обеспечивают особям преимущество качественно иного адаптационного уровня, избавляя популяцию будущего вида от груза менее приспособленных генотипов.
В силу указанных особенностей видообразование может быть представлено лишь как единичное событие, сопряженное с репродуктивной изоляцией отдельных особей, испытывающих превращение. С этой точки зрения только так можно допустить, что пути возникновения видов, как утверждают авторы, оказываются «однозначными безотносительно к системе размножения как для растений, так и для животных» (Алтухов, Рычков, 1972. С. 297). Вместе с тем совершенно ясно, что сами генетические механизмы преобразования мономорфных признаков, лежащие в основе видообразования и макроэволюции, в разных систематических группах различны. Они вообще отличаются большим разнообразием, чего наши авторы, по-видимому, вовсе не собираются отрицать.
Важно отметить, что помимо трактовки видообразовательного акта как резкого скачка Алтухов и Рычков сближаются с пунктуализмом и в понимании характера самого эволюционного развития. От идеи двойственности в организации генетического материала они переходят к представлению о неоднородности эволюционного процесса, в котором периоды «видовой трансформации через системные реорганизации генома» чередуются с «периодами длительной стабильности видов» (там же, с. 297).
С аналогичной гипотезой видообразования, но только позднее выступил Карсон (Carson, 1975). По его взглядам, геномы организмов бисексуальных видов состоят из двух чередующихся генетических систем. Одна из них — «открытая» — построена из свободно расщепляющихся аллелей, способных заменяться под действием отбора. Эта система обеспечивает различные формы внутривидовой изменчивости и существенно не влияет на жизнеспособность особей. Другая — «закрытая» — представлена коадаптированными блоками генов (супергенами), не чувствительных к естественному отбору. Супергены[33] чрезвычайно консервативны, они не разделяются при кроссинговере и сохраняют свою целостность благодаря сильным эпистатическим взаимодействиям. От системы супергенов в столь огромной степени зависит приспособленность, что отбор не допускает ни малейшей их перестройки. Карсон считает, что процесс замены аллелей не способен затронуть закрытую систему и она может перейти к новой закрытой системе только вследствие ряда радикальных и катастрофических по масштабу генетических событий. При этом происходит «неожиданная вынужденная реорганизация эпистатических супергенов закрытой системы изменчивости» (ibid., р. 88). Ее запускает в ход демографический цикл, включающий быструю экспансию и последующее резкое сокращение популяции. «Я предполагаю, — заключает Карсон, — что этот цикл дезорганизации и реорганизации следует рассматривать как сущность процесса видообразования» (ibid.). В целом Карсон считает, как мы видели, что начало новому виду дают немногие или даже одна особь-основательница.
Гипотеза двойственности в организации генома и теория прерывистого равновесия оказались в русле тех тенденций познания в этих областях исследований, которые увенчались созданием экосистемной теории эволюции.
* * *
Прежде чем говорить о новой модели биологической эволюции, как она видится в свете новейших достижений комплекса наук о живом, кратко суммируем те неординарные идеи и гипотезы, которые родились в недрах только что рассмотренных недарвиновских течений. Эго поможет нам наглядно убедиться, что они не только не противоречат друг другу, но исключительно органично входят в качестве ключевых характеристик в новую модель эволюции и получают прочное обоснование в открытиях последних десятилетий. Благодаря этому факту нам придется также согласиться, что, наряду с экспериментом, дедукцией и умозрением, делящими между собой права на создание теории, по-прежнему остается плодотворной и научная интуиция.
Финализм прочно ассоциируется с представлением о причинах исторического развития, лежащих внутри живого, и о том, что филогенез есть развертывание предсуществующих (преформированных) программ. Многие считают, что эти программы записаны в генетической памяти, в частности в сателлитной ДНК. В основе онто- и филогенеза лежат общие закономерности, и эволюция представляет собой циклический процесс рождения, расцвета и вымирания филогенетических линий.
Эти стержневые положения финализма всецело разделяют номогенетики, которые усматривают в закономерной направленной эволюции отражение массовой и «направленной» изменчивости. Преобладание параллелизмов над дивергенцией, повторное образование в филогенезе одних и тех же или близких друг другу структур свидетельствуют о существовании внутреннего закона развития организмов. Организация крупных таксонов формируется как бы сложением структур, возникших в разных филогенетических ветвях, и часто напоминает мифических кентавров.
Заслугой сальтационизма стал широко распространившийся постулат, утверждающий, что и новые виды, и новые типы организации возникают скачкообразно, а не путем постепенной аккумуляции мелких изменений, причем скачок сразу порождает гармонично скоординированную форму. Этот постулат получил естественное подтверждение в симгенетическом модусе эволюции, в открытии горизонтального переноса генетического материала и был воспринят как номогенетиками, так и сторонниками финализма. С принятием скачка связано признание прерывистого характера эволюции.
Подтверждение идеи о существовании в организации организмов огромного числа адаптивно нейтральных признаков (к ним в первую очередь относятся признаки организационные), произошедшее под влиянием открытий в молекулярной биологии, полностью реабилитировало старое представление о кардинальном различии процессов адаптаииогенеза и эволюции.
В связи с раскрытием новых движущих сил эволюции для всех указанных течений естественный отбор как конструктивный фактор оказывается излишним.
Гипотезы этапности и сопряженной мегаэволюции, выдвинув идею периодичности крупных преобразований в геологических оболочках Земли и неизбежности их воздействия на биоту, предвосхитили современную концепцию биотических кризисов и выделение качественно неравнозначных этапов органической эволюции.
Открытие мобильных генетических элементов и возможности одномоментного переноса генетической информации вопреки таксономическим барьерам стало подлинной революцией в развитии эволюционной теории. Обнаружение реальной возможности молниеносных трансформаций в обход традиционных путей медленного преобразования состава популяций под действием естественного отбора спутало все карты селекционистов. Одновременно наборный (мозаичный) характер эволюции и приуроченность эволюционных событий к периодам биотических кризисов получили естественное и логичное объяснение.
Наконец, настойчивый поиск генетиками, биохимиками, иммунологами реального канала передачи информации от сомы в геном у все большего числа биологических объектов частично реабилитирует ламаркизм и подводит эмпирическую базу под современное представление об инициирующем эволюционном значении изменений физиологии и поведения.
Все большее понимание находит и мысль, что общепринятые генетические мутации — это фактор изменчивости в эксперименте, но не в дикой природе.
Часть V. ОСНОВЫ НОВОГО ПОНИМАНИЯ эволюции
Глава 16. Новая генетика. эпигенетика и эволюция
Только что ушедший век биологи часто называют веком генетики. И это вполне справедливо. Будучи ровесницей XX столетия, генетика с самого начала заявила о себе как наука, объясняющая сохранение устойчивости видосгтецифичности биологической организации и ее строгое воспроизведение из поколения в поколение. Она также сумела легко убедить своих современников, что индивидуальное развитие есть не что иное, как процесс осуществления наследственности, содержащейся в генах, а филогенез — результат ее изменения между поколениями. Благодаря открытию материальных носителей наследственности описывающие ее понятия обрели в сознании биологов значение раз и навсегда данных устоев, по точности мало уступающих математическим. Это относится к менделизму, мутационной теории и хромосомной теории наследственности, составившим фундамент классической генетики.
Но выигрыш в точности в одной ограниченной сфере, как это часто бывает в истории науки, оборачивается утратой полноты и правильности картины в более широкой сфере. Это произошло, в частности, с понятием мутации.
После открытия двойной спирали ДНК (1953) мутацию стали трактовать в духе моргановской хромосомной теории: в ней видели изменение в тексте ДНК — в структуре нуклеиновой кислоты в пределах локуса — или в строении хромосом. Мутации стали подразделять на генные (точковые), хромосомные и геномные. Казалось, к этим трем типам мутаций сводится всякое наследственное изменение. Благодаря такому ограничению и стала возможной разработка генетико-популяционной модели эволюции в СТЭ.
Вместе с постулатом, что единственным источником эволюции являются мутации, в СТЭ прочно утвердилось представление об однозначном соответствии мутации (гена) и признака, о том, что возникновение нового устойчивого фенотипа является автоматическим следствием проявления мутации. С этих позиций эволюция предстает как результат сортировки и накопления естественным отбором серии точковых мутаций.
Приверженцы СТЭ могут сколько угодно протестовать против соответствия гена и признака, говоря, что им специально приписывают подобные утверждения в целях дискредитации, но на данном допущении основана их математическая теория. Без этого постулата СТЭ просто перестает существовать.
Однако связь между генотипом и фенотипом оказалась гораздо сложнее: она опосредована процессами индивидуального развития, Прогресс биологии, и прежде всего самой генетики, вскоре привел к необходимости прямо противоположного вывода: однозначного соответствия между генотипом и фенотипом просто не существует. Гомологичные гены вызывают у разных видов появление различных фенотипических признаков, и, наоборот, сходные признаки могут индуцироваться разными генами, даже находящимися в разных хромосомах. И примеров такого несоответствия накопилось великое множество. К тому же стоит вспомнить, что еще Гольдшмидт (Goldschmidt, 1938) установил, что действие генов (мутаций) совершенно неспецифично и что любой признак организма определяется всем генотипом в целом. В недавнее время это правило было прочно обосновано (Wolperl, 1976; Albrech, 1982; Шишкин, 1987). Мы видели также, что Кинг, Джукс и Кимура убедительно продемонстрировали отсутствие прямой связи между генотипической и морфологической эволюцией на молекулярном уровне (см. гл. 13).
Молекулярная генетика осталась верной редукционистской сущности своей предшественницы, заменив классическую формулу «один ген — один признак» формулой «один ген — один фермент». Но и эта обновленная формула оказалась односторонним упрощением реальной картины. Обнаружились факты несоответствия не только между нуклеотидной последовательностью ДНК и аминокислотной последовательностью белка (первичной структурой), но также между первичной структурой последнего и типом его укладки (конформации, или вторичной — четвертичной структурой), от которого зависит его функция (Уоддингтон, 1970; Волькенштейн, 1981а, б). «Власть» главных молекул (ДНК, РНК) виделась далеко уже не абсолютной. Более того, оказалось, что с одного и того же сегмента ДНК могут считываться в разных тканях и на разных стадиях онтогенеза разные транскрипты и, соответственно синтезироваться разные белки (Голубовский, 1985). Вот как далека система реально синтезируемых в онтогенезе продуктов от первичной генетической основы! Где уж тут описывать эволюцию с помощью генов, мутаций и их частот!
В предыдущих главах уже говорилось, что многие исследователи отказывались видеть в мутациях, получаемых в лаборатории, материального носителя истинной изменчивости. Они ясно сознавали или интуитивно чувствовали, что такие мутации не более как поломки ДНК, акты ее калечения, только нарушающие нормальное развитие и не создающие ничего нового. Нелепо связывать с ними какие-либо эволюционные перспективы. Вспомним соответствующую позицию Филипченко, Ванделя, Гранджана, Вентребера, Далька, вспомним, что многие предпочитали термину «мутация» выражения «вариация» или «уклонение». Но и естественные мутации, накапливающиеся в природных популяциях, если они только ошибки репликации, не представлялись более обнадеживающим и.
Все чаще звучали возражения против случайности, неопределенности и равномерности возникновения мутаций. Материалы гл. 14 должны были убедить нас, что мутации могут быть и часто оказываются «направленными». Наиболее дальновидные генетики смогли заметить, что отдельные гены способны мутировать чаще и с большей частотой, чем другие гены, и оказались способными сделать вывод, что мутагенез — не беспорядочный, а вполне закономерный и упорядоченный процесс, имеющий множественные и скорее всего вполне определенные, но еще до конца не выясненные причины. В конце 50-х годов XX в. было обнаружено явление немутационной эпигенетической изменчивости (Эфрусси, 1959; Нэнни, 1960).
Открытие феномена трансдукции опрокинуло представление о наследственности как раз и навсегда данном видоспецифическом свойстве, способном меняться только мутационно или вследствие гибридизации. Агентами транспозиции генетической информации предстали сперва вирусы, а затем разные классы генетических частиц, специально для этого предназначенные (см. гл. 12).
Эти и многие другие новые открытия вступали в противоречие с постулатами классической да и молекулярной генетики и настоятельно требовали их ревизии. Была нужна новая генетика, в которой все эти новшества заняли бы достойное место.
Такая генетика начала складываться всего 20 лет назад как плод усилий многих специалистов из разных стран, и о ней еще не пишут в учебниках. Но именно эта новая генетика подвела адекватную базу под современное понимание эволюции и дала убедительное объяснение тем интуитивным эволюционным прозрениям, о которых говорилось в предыдущих главах. В числе ее основателей в России должны быть специально выделены имена Р. Б. Хесина и М. Д. Голубовского. Для нас особенно важно, что Голубовский не только выполнил пионерские исследования, приведшие к появлению совершенно неканонической области знаний, но и начиная с 1985 г. первым приступил к систематическому изложению основ новых генетических представлений. В основном благодаря его работам (Голубовский, 1978, 1985а, б, 1994, 1999, 2000) мы и можем предложить нашим читателям главу, насыщенную новейшей и абсолютно достоверной информацией.
Системность организации генотипа
Согласно системному видению принцип организации биологических систем любого уровня сложности един. Любая биологическая система (белки, нуклеопротеидные комплексы, геном, клетка, организм и т. д.) подразделена на качественно отличные компоненты, различающиеся по степени устойчивости к внешним агентам и вместе с тем связанные воедино системой бесчисленных регуляторных зависимостей. Наличие огромного числа обратных связей, обычно многократно продублированных, направлено на поддержание устойчивости, или гомеостаза, системы (Александров, 1985). Эти связи не жестко зафиксированы, но подвижны и гибки, и это позволяет живым системам реагировать на действие физиологических и повреждающих агентов как специфическим, так и неслецифическим образом. Неспецифическое реагирование основано либо на связи элементов между собой, либо на связи с тем элементом, который определяет ответ системы.
Системный подход требует не только знания структуры объекта и связей между его компонентами, но и понимания, как каждый компонент функционирует. Без этого невозможно раскрыть секрет работы всей системы. Сказанное в полной мере относится к организации генотипа.
В 60-х годах XX в. цитогенетиками было обращено внимание на ту часть генетического материала, которая не кодирует белки. Ее стали называть по-разному — сателлитная, «эгоистическая», «сорная» или «бросовая» ДНК и т. п. Эта инертная и более простая по строению часть ДНК, состоящая преимущественно из совокупности высокоповторяющихся последовательностей, объединена в блоки, называемые гетерохроматином[34]. Не участвуя в биосинтезе непосредственно, гетерохроматин способен инактивировать соседние структурные гены и тем самым контролировать время появления в клетке тех или иных генных продуктов.
М. Е. Лобашев (1967) назвал совокупность всех наследственных факторов ядра нуклеотипом, а совокупность всех ДНК и РНК носителей цитоплазмы — цитотипом. Для упорядочения целого ряда данных цитогенетики и молекулярной генетики С. Браун (Brown, 1966) разделил гетерохроматин на конститутивный и факультативный. Это деление генетической системы на два структурных компонента, приложимое к любому виду эукариотных организмов, приняли Р. Б. Хесин (1980, 1984) и М. Д. Голубовский (1985а, в). Последний разработал новое представление о структурно-функциональной организации генотипа и формах изменчивости.
Основываясь на данных современной генетики, Голубовский (1985а, б) предложил выделить в структуре генома два компонента, или две подсистемы, — облигатный (ОК) и факультативный (ФК). Они отличаются друг от друга особенностями организации, состава, а также характером протекания основных матричных процессов — репликации, транскрипции и трансляции.
С облигатным компонентом дело обстоит достаточно просто. В ядре его образует совокупность ядерных генов, локализованных в хромосомах; в цитоплазме — гены ДНК-содержащих органелл, прежде всего митохондрий и пластид. Для генов обеих систем давно построены соответствующие карты.
Факультативный компонент включает внутриядерные и цитоплазматические элементы. Первые, в свою очередь, подразделяются на внутри- и внехромосомные элементы нуклеотипа.
Внутрихромосомные элементы представлены у эукариот следующими фракциями и группами. Высокоповторяющиеся фракции сателлитной ДНК (стДНК), расположенные блоками и повторенные сотни тысяч и миллионы раз. Доля стДНК у разных видов варьирует от 1 до 80 % генома. Умеренно повторяющиеся последовательности (от 10 до 105 раз), среди которых имеются элементы ОК в виде повторов жизненно важных генов, кодирующих гистоны, рибосомные белки, транспортные РНК и т. п. Но основу умеренно повторяющейся фракции составляют элементы ФК, и прежде всего рассеянные по геному мобильные генетические элементы (МГЭ). Внутриклеточные плазмиды и вирусы — носители РНК — способны к автономной репликации. Безинтронные фрагменты генов ОК, или псевдогены, не способные к транскрипции. Внутриядерные симбионты (у инфузорий и в ряде семейств прямокрылых таковыми оказываются бактерии). Добавочные хромосомы у некоторых групп животных и растений.
ФК цитоплазмы составляют различного рода плазмиды, фрагменты чужеродной ДНК и РНК, микросимбионты и эндогенные вирусы, часто постоянно интегрированные в хромосомы хозяина и способные к синхронному воспроизведению вместе с его геномом.
Существенное отличие ФК от ОК состоит в том, что в первый входят последовательности ДНК, количество и локализация которых в нуклеотипе и цитотипе могут свободно варьировать у разных особей одного вида и даже в разных клетках одного организма. ФК очень изменчив по составу и может вообще отсутствовать.
Вслед за Хесиным (1984) Голубовский считает вполне корректным представлять структурную часть генотипа эукариот как ансамбль или своего рода «геноценоз» динамически взаимодействующих между собой информационных молекул, изучение которых должно вестись на языке и средствами популяционной генетики. Воздействия в ходе онтогенеза способны произвести внутриклеточный отбор, изменить соотношение ОК: ФК, а на уровне фенотипа — изменить наследственный признак. Вот, оказывается, где популяционная генетика может быть плодотворной!
Взаимодействие ОК—ФК и две формы наследственной изменчивости
Облигатный и факультативный компоненты генома не изолированы друг от друга. И самое интересное — это взаимодействие ОК и ФК, постоянная и относительно свободная миграция генетических элементов между ними. Как они осуществляются?
Переход ОК в ФК может происходить в процессе амплификации генов, в том числе путем их захвата ретровирусами. Примером обратного перехода ФК в ОК могут служить так называемые инсерционные мутации — продукт внедрения самых разных элементов ФК, способных к взаимопревращениям. Голубовский особенно акцентирует внимание на вирусах (ретровирусах), которые, как многие полагают, способны выступать не только в роли усилителя мутационного процесса, но также в качестве доноров и переносчиков мобильных генетических элементов, осуществляющих генетический обмен между разными видами (о горизонтальном переносе генов мы уже говорили в гл. 12).
Одним из наиболее изученных в генетическом отношении и показательных примеров взаимодействия двух наследственных систем могут служить сложные морфофизиологические наследственные изменения генотипа дрозофилы, вызванные присутствием вируса сигма. Еще в 1937 г. Ф. Л’Эритье обнаружил у дрозофилы мутацию, вызывавшую гибель мутантных мух в атмосфере углекислого газа. Тогда было с удивлением отмечено, что мутация наследуется не по закону Менделя, а через цитоплазму, причем как по материнской линии, так и через самцов. Это явление долгое время оставалось загадкой. Только спустя много лет удалось выяснить, что причиной необычного наследования оказался РНК-содержащий вирус, размножавшийся в половых и соматических клетках мутантных мух и служивший источником их чувствительности к углекислому газу (L’Héritier, 1970; см.: Brun, Plus, 1980; Landman, 1991). У этого вируса были также найдены мутации, при которых скорость его репликации заметно возрастала, и тогда он (вместе с признаком чувствительности к CO2) начинал передаваться и через самцов. Если температуру содержания мух повышали до 30°C, происходило их освобождение от вирусов и, соответственно, исчезал также признак чувствительности к СO2. Это приобретенное мухами в ходе онтогенеза свойство сохранялось (наследовалось) в ряду многих поколений. Было также установлено, что в природных популяциях носителями вируса оказывается до 20–50 % особей.
Разделение генетической системы эукариот на ОК. и ФК привело Голубовского к новым, расширенным представлениям о наследственной изменчивости. Уже в 1978 г. он высказал принципиально важное предположение, что взаимодействие ОК и ФК служит основным источником наследственных изменений в природе, В дальнейшем (Голубовский, 1985а, б) он выделил три формы наследственной изменчивости: мутационную, вариационную и динамическую. Первые две связаны с изменением структурных компонентов генома, третья — с особыми регуляторными механизмами его оперативной памяти. Все три формы изменчивости изучались автором на природных популяциях Drosophila melanogaster в течение 20 лет. Остановимся сначала на двух первых.
Изменения, прямо или косвенно затрагивающие ОК генотипа — структуру генов, их расположение в хромосоме и число хромосом, — это обычные канонические мутации, принятые в классической генетике. К ним относятся, в частности, наследственные изменения, получаемые в лаборатории, которые связывают с «поломками» ДНК. Мутации — это лишь часть существующей в природе изменчивости и далеко не самая важная.
Со структурными изменениями ФК связана специфическая форма изменчивости, которую Голубовский предложил именовать вариационной. Особенности мутаций хорошо известны: они возникают случайно, спорадически и с относительно низкой частотой. Характер вариаций совсем иной. При них часто наблюдаются массовые, упорядоченные наследственные изменения, на которые в свое время указывал Берг, а затем его последователи и единомышленники. Вариации обычно возникают при таких изменениях абиотической, биотической или генетической среды, при которых канонические мутации наблюдаются редко.
На схеме, приводимой Голубовским, представлены взаимодействия среды и двух компонентов генотипа в виде следующей триады (рис. 26). На ней толщина стрелок отражает степень влияния одного члена триады на другой.
Рис. 26. Пути возникновения наследственных изменений в природе в системе «среда-факультативные-облигатмые элементы» (из: Голубовский, 2000).
В классической генетике связь среды с ОК принималась, как правило, за единственную или доминирующую форму наследственной изменчивости. Обнаружилось, однако, что в природе существуют более мощные потоки, приводящие к генетическим изменениям: «среда → ФК» и «ФК → ОК», Именно эти потоки служат основным источником наследственных изменений вида в природной обстановке. В свете данного открытия различия между изменениями, получаемыми у лабораторных животных с помощью искусственных мутагенов, и изменениями, наблюдаемыми в естественных популяциях, получают прочное обоснование, и это весьма существенно как для генетики, так и для эволюционной теории. В этой связи вспомним новосибирского генетика Ю. Я. Керкиса (1940). В далеком 1940 г. он в числе немногих осознал это различие и высказал правильную догадку, что спонтанные наследственные изменения возникают вследствие нарушения внутриклеточного метаболизма и физиологического гомеостаза. Именно эти причины в первую очередь вызывают изменения факультативных элементов, а затем — опосредованно — и ОК.
В вариационной изменчивости особенно важны количественный состав ФК и процентное отношение его фракций к ОК, которое у разных видов нередко поддерживается на постоянном уровне. В случае генетического стресса, когда активность генов в ФК повышается, происходит магнификация генов и возрастает вероятность включения их дополнительных копий в ОК со всеми вытекающими отсюда эволюционными следствиями.
Динамическая (эпигенетическая) изменчивость
Только что рассмотренные формы изменчивости связаны с изменениями структурных компонентов генотипа, или с его структурной памятью. Но существует еще третий тип наследственной изменчивости — динамический (или эпигенетический), при котором меняется не структура генетического материала, а генная активность.
Заслуга в установлении динамического типа изменчивости принадлежит целому ряду исследователей. Голубовский указывает, что с идеей разграничения структурных и динамических способов хранения и передачи наследственной информации первым выступил специалист по генетике простейших Дэвид Нэнни в 1957 г. (см.: Нэнни, 1961). Последний обратил внимание, что желательно учитывать преемственность динамических связей между взаимодействующими в клетке молекулами. В 1961 г. Ж. Моно и Ф. Жакоб разделили все гены на структурные и регуляторные (Моно, Жакоб, 1964). Согласно их концепции первые начинают функционировать при взаимодействии с белками-регуляторами. Прототипом динамической формы хранения и передачи информации послужила предложенная Моно и Жакобом простая модель из двух оперонов, циклически связанных друг с другом таким образом, что система может работать в двух режимах. Выбор состояния зависит от активности циркулирующих по цитоплазме белков-регуляторов. При воздействии на последние извне система способна переключаться на другой режим. Подобный переключатель контролирует, например, систему размножения фага лямбда у кишечной палочки. Важно понимать, что переход от одного режима функционирования генетической системы на другой происходит не вследствие изменения структуры гена, а в силу регуляции генной активности при посредстве виехромосомных факторов.
Эпигенетика и наследственность
Термин «эпигенетика» был предложен Уоддингтоном в 1947 г. как производный от аристотелевского понятия «эпигенез». Преемственность терминов, как видим, сохранилась, но их содержание не могло не измениться. Современная эпигенетика лишь отдаленно напоминает то, что понимали под эпигенезом в XVII–XVIII вв.
Эпигенетическая теория принимает, что становление видоспецифической организации, или адаптивной нормы, определяется целостными свойствами зародышевой клетки и действием корреляционных систем онтогенеза как системного объекта, а не суммой каких-то специфических частей зиготы или зародыша. Соответственно, каждый признак организма определяется всем его генотипом. При таком широком толковании слово «эпигенетика» (от греч. «эпи» — на, над и «генез» — возникновение, развитие), как нам представляется, можно было бы перевести как «развитие на надгенетическом уровне». В более узком толковании — в контексте генетики — Уоддингтон предложил называть эпигенетикой «ветвь биологии, изучающую причинные взаимодействия между генами и их продуктами, образующими фенотип» (Уоддингтон, 1970. С. 18). Эпигенетика включает изучение с позиций генетики двух главных составляющих онтогенеза — клеточной дифференцировки и морфогенеза. Элементарными событиями дифференцировки выступают процессы репрессий и дерепрессии генов, а элементарными событиями морфогенеза — возникновение третичной структуры белков и слабых взаимодействий между ними.
Становление эпигенетики связано с трудами Шмальгаузена и Уоддингтона. Шмальгаузен (1938, 1940, 1946) разработал учение о корреляциях как основе целостности организма в онто- и филогенезе, создал концепцию стабилизирующего (консервативного, по старому названию) отбора и выявил его роль в обеспечении устойчивости развития. Эта форма отбора — одна из немногих, которая реально работает в эволюции. Уоддингтон (1964, 1970) принял идею стабилизирующего отбора и создал концепции эпигенетического ландшафта и генетической ассимиляции.
Чтобы оценить всю важность эпигенетического подхода к пониманию онто- и филогенеза и осознать всю значимость сделанных в эпигенетике открытий, необходимо прежде всего уяснить, как она трактует природу наследственности.
Мы уже определяли это фундаментальное свойство всего живого как способность к сохранению исторической преемственности организации. Биологи в массе привыкли к тому, что носителями наследственности являются специализированные молекулы, изучение которых по определению всецело находится в компетенции генетики. В рамках СТЭ наследственность есть данность, не требующая причинного объяснения; она самостоятельный фактор, не зависимый от естественного отбора.
Это одностороннее и потому неправильное понимание проблемы. Шмальгаузен (1938) в свое время дал ей совсем иное решение. Он убедительно показал, что наследственность не есть свойство генов как элементов специальной субстанции, собранных в генотипе, а представляет собой «выражение взаимозависимостей частей в корреляционных системах развивающегося организма» (Шмальгаузен, 1982. С. 174). Иными словами, это исторически обусловленная концентрированная характеристика единой системы развития, продукт эволюции. Шмальгаузен представил наследственность как способность к устойчивому развитию при его типичном осуществлении. Отсюда вытекало, что главную функциональную основу наследственности составляет фенотип, что он устойчивее своего генотипа и что нормальный фенотип может осуществляться при большом разнообразии генотипов. Значит, генотип — далеко не единственный «орган» хранения и передачи наследственной информации. Этот вывод был основан Шмальгаузеном на большом фактическом материале. Аналогичных соображений он придерживался и в отношении особенностей исторического развития, с уверенностью констатируя, что «не изменения генотипа определяют эволюцию и ее направление. Наоборот, эволюция организма определяет изменение его генотипа» (Шмальгаузен, 1940. С. 57).
Время подтвердило правильность взглядов Шмальгаузена. Несмотря на все зигзаги в развитии науки, все большему числу биологов становилось ясно, что устойчивость развития (наследственность) связана отнюдь не с генотипом. Она развилась у всех многоклеточных с появлением онтогенеза в результате стабилизации отношений между частями развивающегося организма. С прогрессом биологических знаний было установлено, что наследственная преемственность в филогенезе вообще не зависит от структуры генотипа ни в один из моментов геологической истории. Фенотипы, относящиеся к разным генеалогическим линиям или эволюционирующие в разных направлениях, могут обладать одинаковыми генотипами, и, наоборот, близкие фенотипы из параллельных линий могут иметь совершенно различные генотипы.
Что же тогда обеспечивает непосредственную преемственность между поколениями? Что представляет собой связующее звено? Ответ на этот вопрос однозначен. Связующим звеном выступают цитоплазма, архитектоника яйцеклетки и материнский геном — и только в их совокупности. Наследственная преемственность — это целостное неразложимое свойство живой системы.
Известно, что половые клетки многоклеточных животных проходят сложный путь развития, прежде чем достигнут зрелого состояния. Все это время они пребывают в изоляции от остальных тканей своих носителей и тем обеспечивают сохранность свойств своего генотипа и своей цитоплазмы.
С момента оплодотворения и вплоть до стадии от поздней бластулы до нсйрулы (у разных групп животных по-разному) генотип эмбриона у всех животных с детерминированным типом развития пребывает в неактивном состоянии, и все развитие зародыша осуществляется за счет белков, наработанных РНК генома матери. В этот период у зародыша окончательно формируется общий план строения и, в соответствии с законом Бэра, складываются самые общие основы организации — предковый фенотип. Именно этот начальный фенотип, сложившийся под влиянием материнской программы развития, и является связующим звеном между поколениями. Эта стадия развития зародыша, как и зрелый ооцит, наиболее устойчива и консервативна. Ничто не может изменить ее способности к эквифинальному развитию. Если бы она претерпела изменения (вспомним, что Дальк предложил назвать их онтомутациями), то зародыш мог бы либо погибнугь, либо у него произошли такие радикальные изменения плана строения, какие последний раз предполагались в кембрии. Подобные события, очевидно, случаются только в переломные моменты истории.
Однако при сохранении плана строения развитие эмбриона в конкретных условиях может идти несколькими путями: у него всегда имеется перспектива выбора между ограниченным числом возможных траекторий (программ). Такой выбор может осуществляться в так называемые критические периоды развития (Светлов, 1965), характеризующиеся повышенной чувствительностью морфогенеза к состоянию онтогенеза и к факторам внешней среды (в опытах Светлова — к температуре). В критические периоды воздействием простых внешних факторов можно изменить развитие того или иного не жизненно важного признака.
Таким образом, и в наши дни развитие организма в онто- и филогенезе предстает как сочетание элементов эпигенеза и преформации, и различия во взглядах сводятся к представлениям об их соотношении.
Но вернемся к эпигенетической изменчивости и генной регуляции. Преемницей модели Жакоба—Моно стала концепция о единицах динамической памяти — эпигенах, созданная Р. Н. Чураевым (1975). Он назвал эпигеном циклическую систему из двух или нескольких генов, имеющую не менее двух режимов функционирования, сохраняемых в последовательном ряду клеточных поколений. Выбор режима функционирования зависит от регуляторных молекул белков и РНК, которые челночно циркулируют между ядром и цитоплазмой и обеспечивают обратные связи.
Из концепции эпигена вытекают важные особенности наследования. Присутствие одного гена способно изменить выражение другого в ряду поколений вплоть до поглощения одного аллеля другим (такое явление регулярно наблюдается у кукурузы при так называемых парамутациях). Могут наблюдаться массовые обратимые наследственные изменения определенной направленности. Наследование может осуществляться простой передачей регуляторных молекул через цитоплазму как соматических, так и зародышевых клеток. И еще одно важное следствие. Представим, что в клетке имеется 10 эпигенов, каждый из которых может быть в двух функциональных режимах. В этом случае наследственная система может находиться в 210 = 1024 альтернативных состояниях при сохранении одних и тех же последовательностей ДНК. Каждому их этих состояний может соответствовать своя особенность в наследовании признаков.
Идеи Чураева об эпигенах и функциональной наследственной памяти получили подтверждение и развитие, в том числе у ряда зарубежных авторов (Holliday, 1987; Jorgensen, 1993). Важным моментом стал синтез эпигенов, осуществленный сначала автором (Tchuraev et at., 2000), а затем еще двумя группами исследователей (см.: Голубовский, 2000. С. 134). Альтернативные режимы их функционирования соответствовали теоретическим ожиданиям (Judd, Laub, McAdams, 2000).
Концепция эпигена позволяет понять возможный механизм таких явлений, как длительные модификации, массовые направленные изменения регуляторного характера, в том числе количественных признаков у растений при резкой смене режима питания, феномен парамутаций у кукурузы и др.
В 1997 г. в США вышла коллективная сводка по эпигенетическим механизмам генной регуляции («Epigenetic mechanisms…», 1997).
Подытожив результаты собственных исследований и опираясь на многочисленные данные других авторов, Голубовский имел полное основание утверждать, что «организация генотипа эукариотов как системы взаимодействующих между собой информационных макромолекул, деление наследственной памяти на постоянную и оперативную, воплощенную в виде ОК и ФК, наконец, динамический способ кодирования, хранения и передачи наследственной информации — все это обеспечивает такие разнообразные формы и пути наследственной изменчивости и эволюции генотипа, которые не знала или не допускала классическая генетика и основанная на ней синтетическая теория эволюции» (Голубовский, 19856. С. 337).
В гл. 14 уже говорилось о белках-прионах — источнике заболевания скота, грызунов, кошек и других млекопитающих коровьим бешенством. До их открытия считалось аксиомой, что первичная струкГура белка однозначно детерминирует характер его укладки (конформацию). С этой аксиомой был также связан постулат, что определенной последовательности аминокислот в белке должен соответствовать только один уровень ферментативной активности. Оказалось, однако, что инфекционный белок (обозначаемый как PrPSc) может каким-то образом возникать самопроизвольно путем модификации вторичной и третичной структуры его нормального клеточного гомолога (РrРС). Модификация осуществляется в системе «белок-белок» по матричному типу (Masters, Beyreuther, 1997) лишь в присутствии гена прионизации, но без его непосредственного участия (!). С подобным феноменом молекулярные биологи столкнулись впервые и пока не нашли для него подходящего объяснения (Prusiner, 1998).
Аналогичные явления были обнаружены в 1993 г. у дрожжей (Инге-Вечтомов, 2000а), у которых инфекционный белок передастся при гибридизации вместе с цитоплазмой помимо гена. Удалось однозначно показать, что за возникновение соответствующей пространственной структуры белков-прионов ответственны другие белки.
В последние годы у дрожжей было обнаружено несколько разных прионов, и дрожжи стали использоваться как более простая и удобная модель для изучения прионных заболеваний. Выявилась и близость их прионов к прионам млекопитающих. С. Г. Инге-Вечтомов, исследующий прионы уже ряд лет, пришел к выводу, что общий механизм образования этих белков и порядок их воспроизведения у потомков являются, соответственно, выражением особой формы эпигенетического контроля трансляции и одним из загадочных способов осуществления эпигенетической изменчивости и наследственности. Он склонен и к более общему заключению, указывая, что «феномен прионов… скорее частный случай общебиологического механизма, лежащего в основе эпигенетического наследования» (Инге-Вечтомов, 2000а. С. 305). Можно полагать, что разгадка тайны прионизации без посредства нуклеиновых матриц поможет пролить свег на механизмы, определяющие конформационную структуру белков и характер их регуляционной активности.
Открытие мобильных элементов и непостоянства генома
Явление нестабильности наследственного фактора первым обнаружил де Фриз (1901), когда описал мозаичность окраски цветка львиного зева. Нестабильность стала одним из подтверждений гипотезы о мутационных периодах. Разумеется, о познании ее генетической природы тогда речи идти не могло.
Приоритет в открытии мобильных генетических элементов (МГЭ) и нестабильности генома принадлежит по праву американскому генетику, специалисту по цитогенетике кукурузы Барбаре МакКлинток. Она тоже обратила внимание на мозаичность окраски зерен у этой культуры. В серии работ 1951–1965 гг. МакКлинток выдвинула гипотезу о существовании особого класса контролирующих подвижных элементов, способных перемещаться по геному, встраиваться в разные локусы (равно как и удаляться из них) и таким путем регулировать темп мутирования гена и его мутационное состояние. МакКлинток показала, что мутации при этом могут возникать с частотой, в сотни и тысячи раз превышающей обычную, и что они носят упорядоченный характер. МакКлинток совмещала в работе генетический и цитогенетический подходы и в наблюдениях под микроскопом убеждалась в правильности ожиданий, вытекавших из генетического анализа.
Из наблюдений МакКлинток следовало, что мутационное событие может быть связано не с изменением самого гена, а с неким подвижным контролирующим его элементом, способным вызывать разрывы в местах внедрения и встраиваться в разные локусы. Ею также было замечено, что разрывы хромосом обычно происходят в определенных сайтах, хотя их топография могла и изменяться.
Хотя сообщения о результатах первых исследований МакКлинток были напечатаны в самых авторитетных американских научных изданиях (McClintock, 1950, 1951)» а она сама была избрана членом Американской академии наук и пользовалась репутацией признанного специалиста, ее открытия казались какой-то абсурдной экзотикой, совершенно чуждой привычному представлению моргановской генетики о постоянной прописке генов. Их постигла та же судьба, что и открытие Менделя в XIX в. Они были восприняты и оценены лишь через 25 лет, когда для этого созрели необходимые условия.
Барбара МакКлинток (1902–1992).
Тем временем в разных областях генетики множились данные, свидетельствовавшие о реальности существования подвижных генетических элементов, призванных осуществлять регулирующую функцию в отношении «постоянных» генов. Лишь к концу 70-х годов они перестали выглядеть разрозненными фактами и соединились в единой концепции.
В 60-е годы у бактерий был обнаружен класс инсерционных мутаций, вызванных внедрением чужеродных сегментов ДНК, а затем были выделены и сами инсерционные элементы. Удалось получить доказательства инсерционной природы нестабильных мутаций и у лабораторных линий дрозофилы (Green, 1967, 1969). Американский генетик М. Грин одним их первых показал, что в природных популяциях дрозофил существуют генетические элементы, которые индуцируют инсерционный мутагенез во множестве локусов (см.: Golubovsky, Ivanov, Green, 1977).
Исследования спонтанного мутационного процесса в природных популяциях дрозофил имели для доказательства существования МГЭ особое значение. Еще в 30-х годах Р. Л. Берг наблюдала сначала резкую вспышку мутабельности гена «желтое тело», а затем, в конце 40-х годов, — восстановление нормального уровня мутирования. В 1968 г. то же наблюдалось в отношении мутации «abnormal abdomen», а в 1973 г. — для гена singed, сцепленного с полом (Berg, 1974, 1982; Голубовский и др., 1974). Аллели этого последнего гена, выделенные из различных популяций в Период вспышки, оказались нестабильными: они, в частности, мутировали к норме с необычно высокой частотой. Впервые в природных условиях наблюдалась вспышка целой серии нестабильных аллелей. Генетический анализ, проведенный Голубовским с соавт. (Golubovsky, Ivanov, Green, 1977; Golubovsky, 1980), однозначно показал, что в данном случае имел место инсерционный мутагенез.
Голубовский (2000) отмечает, что поведение нестабильных природных аллелей дрозофилы оказалось весьма сходным с поведением нестабильных генов у кукурузы.
Переломным в борьбе за признание МГЭ можно считать 1978 г. Об открытии подобных элементов у дрозофилы и млекопитающих сообщила лаборатория Г. П. Георгиева в Институте молекулярной биологии бывшей АН СССР и на дрозофиле — группа исследователей в США во главе с Г. Хогнесом (Ilyin et al., 1978; Finnegan et al., 1978). О своем приоритете напомнила МакКлинток (McClintock, 1978). Лед тронулся. Прошло еще немного времени, и признание МГЭ de facto, подтвердившее соображения о непостоянстве генома и горизонтальном переносе генов (Хесин, Кордюм), было воспринято как настоящая революция в молекулярной генетике.
Почему же пионерские работы МакКлинток столь долгое время оставались на периферии генетики? Голубовский (2000), уделивший этому вопросу большое внимание в своей книге, дает на него ясный ответ: идеи МакКлинток были для концептуального поля классической генетики и СТЭ инородным телом. Ее выводы противоречили основным постулатам хромосомной теории наследственности, таким, как постоянство положения гена в хромосоме, случайность мутаций, их низкая частота и непредсказуемость. Из работ МакКлинток, напротив, следовало, что активность генов находится под контролем регуляторных факторов, что их мутации могут возникать с большой частотой и упорядоченно, что число самих МГЭ широко варьирует.
Хочется воспроизвести фрагмент из последней печатной работы МакКлинток, в котором она дистанцируется от СТЭ и солидаризуется с Гольдшмидтом. «Не вызывает сомнения, — писала она, — что гены некоторых, если не всех организмов лабильны и что резкие их изменения могут происходить с большой частотой. Эти изменения могут вести к реорганизации генома и к изменениям в регуляции активности и времени выражения гена. Поскольку способы реорганизации генома за счет мобильных элементов разнообразны, их активация, за которой следует стабилизация, может дать начало новым видам и родам» (McClintock, 1984; цит. по: Голубовский, 2000. С. 215).
Изучение МГЭ, или, как их еще стали называть, транспозиционных элементов (TEs), продвигается быстрыми темпами. Эти элементы представляют собой частицы ФК генома, представленные эгоистической ДНК, число и топография которых уникальны для каждой особи. Они действуют как самопроизвольные мутанты и производят в основном рецессивные мутации. После всеобщего признания МГЭ выяснились их широкое распространение в природе и способность к сальтационным эволюционногенетическим перевоплощениям в ряду: простые инсерционные последовательности — транспозоны — плазмиды — вирусы. На сегодняшний день у дрозофилы известно свыше 30 семейств МГЭ. Их доля в геноме Drosophila melanogaster достигает около 15 % (Голубовский, 2000). Из числа спонтанных мутаций у этого вида 70 % связаны с инсерциями, которые дают разные результаты.
При инвазиях МГЭ наблюдаются как вспышки мутаций в популяциях, так и массовые определенные изменения. Допускается, что упорядоченные перестройки генома с участием МГЭ могут программироваться и запускаться на определенных этапах онтогенеза. Таким путем преадаптационно создается, например, аллельное разнообразие генов иммунной системы.
Активизация некоторых семейств подвижных элементов способна вызывать у насекомых и комплекс разнородных явлений, которые известны под названием гибридного дисгенеза (впервые описан Kidwell et at., 1977), ныне пристально изучаемого во многих лабораториях мира. Примером могут служить исследования лаборатории М. Б. Евгеньева в Институте молекулярной биологии, работающей с древней группой Drosophila virilis. Группе Евгеньева удалось выяснить, что за гибридный дисгенез у них ответственен элемент Penelope. Элемент обладает чрезвычайно сложной и крайне изменчивой организацией, способен передаваться как вертикально (от поколению к поколению), так и горизонтально и активировать другие транспозиционные элементы. Было также установлено, что на протяжении существования Dr. virilis Penelope вторгался в его популяции несколько раз.
В мировой литературе имеются также свидетельства, что ряд транспозиционных элементов проник в популяции Drosophila melanogaster в XX в. посредством горизонтального переноса от других видов (Kidwell, 1983; Bucheton et al., 1992; Simmons, 1992).
Сказанного здесь, а также в главе о чужеродных генах вполне достаточно, чтобы убедиться в совершенно исключительных и безграничных возможностях мобильных элементов, которые делают их в наших глазах повсеместными и всепроникающими генетическими агентами, генераторами всевозможных и поистине волшебных изменений. Универсальное значение мобильных элементов для преобразования структуры генома и расширения эволюционных потенций их обладателей делает понятным, почему современную неклассическую генетику в обиходе называют также «подвижной».
Стресс и генетический поиск
Еще в первой половине XX в. физиологи столкнулись с неспецифической адаптационной реакцией животных, развивавшейся в ответ на неблагоприятные воздействия внешней среды (холод, голод, травмы) или негативные психические состояния (страх, тревога и пр.). Реакции затрагивали сферу нейроэндокринной регуляции и были связаны с изменением режима функционирования желез внутренней секреции. Канадский патолог Ганс Селье, впервые описавший этот феномен под названием стресса (Selye, 1936), на протяжении многих десятилетий разрабатывал одноименную физиологическую концепцию (Selye; 1950, 1956; Селье, 1960, 1972, 1979), и она обросла огромной литературой.
Ганс Селье (1907–1982).
Селье определил стресс как «совокупность всех неспецифических изменений, возникающих под влиянием любых сильных воздействий и сопровождающихся перестройкой защитных систем организма» (Селье, 1972. С. 116).
Впоследствии он дал ему более общую дефиницию: «Стресс есть неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требование» (Селье, 1979. С. 27).
Главной причиной возникновения стресса, по Селье, служит отклонение любого жизненно значимого параметра внутренней или внешней среды организма от оптимального уровня, нарушающее его гомеостаз. Последователи Селье распространили понятие стресса на все живое и сочли полезным и необходимым изучать ответные реакции организма на всех уровнях его организации — вплоть до молекулярного.
Стресс — это испытание. При экстремальных значениях и большой продолжительности действия стрессорных факторов организм погибает, а популяция сокращает свою численность практически до нуля. При более умеренных параметрах воздействия стресс становится механизмом выживания, ибо стимулирует поиск полезных защитных реакций и нужных форм поведения, Как показали полевые и лабораторные исследования, целесообразные изменения в поведении в состоянии компенсировать рост энергетических затрат организма при стрессе от абиотических воздействий. Замечено также, что способностью к поддержанию более эффективного энергетического баланса в большей мере обладают гетерозиготы (Parsons, 1996; Парсонс, 2000). Хотя стресс не является приспособлением к определенному фактору среды, не вызывает сомнений, что этот синдром — одно из проявлений адаптивной нормы, возникшее в ходе эволюции и детерминируемое системой онтогенетического развития.
Наряду с физиологическим существует стресс геномный. Как показывает название, речь идет в этом случае о реакции на те же стрессорные факторы генома организма, который может испытывать быструю и существенную реорганизацию. Побуждение исследователей к изучению этой формы стресса опять-таки связано с работами МакКлинток. Последняя не только открыла МГЭ, но и убедительно показала, что эти элементы составляют часть системы, с помощью которой живая клетка способна целенаправленно перестраивать свой геном в ответ на стресс (McClintock, 1978, 1984). В нобелевской лекции (1984) МакКлинток указала также, что эта перестройка может служить основой образования новых видов.
Между физиологическим и геномным стрессами имеется не только смысловое сходство. Скорее всего обе эти формы стресса составляют единый адаптационный механизм, направленный на защиту организма от тех факторов, с которыми его вид никогда не сталкивался за свою эволюционную историю либо при которых не происходило адекватной адаптивной реакции. Обе реакции неспецифичны, но при этом строго упорядочены. По мнению Ю. И. Аршавского[35], организм сам ищет и находит нужное изменение своей физиологии, которому затем подыскивается подходящее генетическое основание.
Главной чертой геномного стресса можно считать усиление наследственной изменчивости, отмечаемое многими авторами (Parsons, 1988, 1993, 1996; Carson, 1990; Чайковский. 1998, 2001). При этом возрастает частота мутаций и рекомбинаций, увеличивается вариабельность онтогенеза и многих фенотипических признаков. Но мутируют очень немногие гены и в весьма ограниченном числе направлений.
Для обозначения генетических изменений, происходящих при стрессе, Ю. В. Чайковским был предложен удачный термин — генетический поиск. Под этим названием Чайковский понимает «тот исключительный режим работы генетической системы, в котором изготавливаются новые генетические тексты (в обычном режиме генетическая система лишь копирует и комбинирует прежние тексты)» (Чайковский, 1976. С. 156–157). Он особо отмечает при этом, что новые тексты ДНК должны создаваться и перестраиваться по каким-то достаточно жестким законам. Клетка с ее системой наследственной памяти способна ответить на вызов среды активным и упорядоченным генетическим поиском, а не пассивно «ждать» случайного возникновения адаптивной мутации. Голубовский (1999) уверен, что появление новых генов должно сопровождаться изменениями в количественном составе и внутригенной топографии разных факультативных элементов и образованием новых наследуемых эпигенетических систем регуляции.
В наши дни все чаще полагают, что главным поставщиком изменчивости являются скорее не мутации отдельных генов, а рекомбинации целых блоков генетического материала. Селекция их лучших вариантов осуществляется на клеточном уровне. Появились веские свидетельства, что важная роль в дестабилизации и перестройке генома принадлежит МГЭ (Jiinakovic et al., 1986; Anaya, Roncero, 1996; Васильева и др., 1997). Перемещения МГЭ неслучайны, а места их встраивания в хромосомы специализированны.
Если угодно, генетический поиск есть одно из выражений постулата о наследовании приобретенных признаков. Желая разобраться, как работает подобный механизм, ищущий ум более, чем где бы то ни было еще, сталкивается с ощущением недостаточности, а то и непригодности используемых механизмов познания.
В исследованиях на растениях показано (Hollick et al., 1997; Каллис, 2000), что быстрые реорганизации генома связаны с количественными изменениями повторяющейся ДНК, с ее метилированием, с инсерциями МГЭ, амплификацией или делецией генов.
Однако при определенных успехах в познании механизмов генетического поиска мы еще мало что о них знаем (Маркель, 2000).
В качестве одного из возможных сценариев генетического поиска приведем отрывок из работы Голубовского (1985а), хорошо отражающий объяснительные возможности новой генетики. Стресс, при котором, как уже говорилось, активность генов в ФК повышается, может сопровождаться их магнификацией и увеличением вероятности включения их дополнительных копий в ОК. Магнификация совершенно очевидна в случае таких жизненно важных генов, как рибосомные и гистонные. Если вызвать генетический стресс, уменьшив с помощью делеции дозу рибосомных генов на 50 %, то в соматических клетках их доза восполняется за одно поколение за счет амплификации и образования внехромосомных копий. Если число рибосомных генов сократить еще на 20 %, то число генов восстановится до нормы не только в соматических, но и в половых клетках. В этих последних процесс протекает ступенчато, за три-пять поколений. Вначале магнифицированные копии генов в половых клетках наследуются нестабильно, и, если стрессовое давление снимается, происходит быстрая реверсия к норме. Система как бы проверяет, насколько серьезны и устойчивы неблагоприятные воздействия. Но, если они действуют долго (более пяти — семи поколений), происходит стабильное включение магнифицированных копий в состав ОК. Описанный процесс носит направленный, определенный и постепенный характер, он захватывает сразу большое число особей, чем принципиально отличается от мутаций. Это тот тип наследования, который наблюдается в случае длительных модификаций.
В Советском Союзе большие формообразующие и эволюционные возможности стресса продемонстрировали многолетние работы Д. К. Беляева (1970, 1977, 1979а, б) по селекции серебристо-черных лисиц на доместикационный тип поведения. Беляев и руководимый им коллектив в Институте цитологии и генетики СО АН СССР установили, что стресс в кратчайшие сроки резко повышал наследственную изменчивость и дестабилизировал системы онтогенеза. При этом наблюдалась мобилизация резерва доселе не проявлявшихся мутаций, в стресс вовлекался весь генетический аппарат, контролирующий нейроэндокринные механизмы процессов развития, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Важнейшим из них оказалось резкое увеличение темпов формообразовательных процессов. Результаты отбора на стрессо-устойчивость (Беляев назвал его дестабилизирующим) убедили Беляева в том, что «стресс служит важнейшим модусом эволюции, ее фактором» (Беляев, 1979а. С. 45).
К достижениям новой генетики можно отнести установление принципа блочной организации хромосом эукариот. Начало было положено еще К. Дарлингтоном и К. Мазером. Швейцарский генетик В. Геринг открыл в составе регуляторных, гомеозисных генов общий сегмент — гомеобокс, способный регулировать активность целой группы структурных генов.
К настоящему времени установлено, что гены вообще чаще всего объединены в кластеры (а соответствующие белки — в домены), отделенные друг от друга промежутками. Таким способом, в частности, организовано семейство глобиновых генов человека. В хромосоме 11 в районе протяженностью 60 тыс. п. н. расположено 7 несколько отличающихся друг от друга копий бета-глобиновых генов (5 из них функционально активны на разных стадиях онтогенеза). В хромосоме 16 расположено другое семейство из пяти альфа-глобиновых генов.
Блочная организация генома обеспечивает развивающемуся организму функциональные преимущества. Разные генные блоки активны в разных тканях или на разных этапах онтогенеза, и благодаря такому объединению генов целые их семейства могут быть сразу включены или выключены.
Этот же технологический принцип используется, очевидно, и в эволюции. По представлениям Корочкина (1984, 1999), он облегчает смену программ индивидуального развития, а по Кордюму (1982) — поступление и элиминацию экзогенной генетической информации. В общем виде идею эволюции как преобразование комбинации блоков на примере совершенствования пищеварительной системы развил петербургский физиолог А. М. Уголев (1985). Уголев видит и находит функциональные блоки на всех уровнях организации — биосферном, ценотическом, популяционном, организменном, клеточном, субклеточном — и считает, что наиболее быстрый и эффективный способ эволюции состоял в смене их комбинаций (Уголев, 1994). Подобные же идеи разделяют Мейен и Чайковский (1990, 2000).
Мы рассмотрели далеко не все открытия и концепции, которые составили основу современной «подвижной» генетики, ограничившись теми, что наиболее существенны для понимания видообразования и эволюции.
В заключение главы приведем таблицу 3, в которой в тезисной форме сопоставлены представления классической и современной генетики о наследственной изменчивости.
Таблица 3. Сопоставление представлений о наследственной изменчивости в классической и современной генетике (из: Голубовский, 2000)
Глава 17. Генетика и эпигенетика видообразования и макроэволюции
Ушедший XX век подвел науку об эволюции к парадоксальной ситуации. Генетика с ее специализированными материальными носителями наследственности, к открытию которых упорно стремились многие поколения исследователей, те самые молекулы ДНК, которые еще недавно царствовали в умах биологов-эволюционистов как азбука любых перемен в живом, вдруг оказались малозначимыми для теории эволюции! У эволюции свои законы, и генетическая система у них всего лишь в подчинении. Зато эволюция, если говорить образно, шагает под руку с эпигенетикой и даже позволяет ей время от времени себя вести.
Между тем эпигенетика пользуется языком генетики и считает для себя необходимым изучать все, что происходит в геноме. Причина столь разного отношения эволюции и эпигенетики к генетике ясна: эволюция вполне «сознает», что генетический аппарат — ее порождение, но никак не причина. Тогда невольно возникает вопрос: зачем ученым-эволюционистам интересоваться генетическими изменениями, если они не первичны?
Вероятно, данный парадокс способен вызвать то же замешательство, какое может испытывать здравомыслящий гражданин, впервые увидевший уличный щит с рекламой сигарет, а под ней неброское предупреждение Минздрава о том, что курение опасно для здоровья.
В данном случае, как нам представляется, разумно опираться на следующее соображение. Претерпевая те или иные изменения и осуществляя генетический поиск, генетический аппарат создает базу для надежного воспроизведения тех удачных поведенческих и физиологических реакций, которые осуществил организм в ответ на сдвиги во внутренней или внешней среде.
Перед нашим взором прошло достаточно примеров крушения разных догм и «возвращения к истокам». Не будем удивляться и упомянутому парадоксу и воспримем его с надеждой, что в будущем наука сможет его удовлетворительно разрешить. Смиримся также с фактом, что при всех успехах генетики и селекции мы не можем похвастаться созданием сколько-нибудь значительного числа полноценных биологических видов[36]. С точки зрения наших познавательных возможностей это вызывает разочарование, но зато служит дополнительным стимулом к созданию истинной и, значит, действенной теории видообразования.
Обратимся теперь к тому, что известно из области эпигенетических и генетических событий, сопутствующих образованию видов и более высоких таксонов. Только будем помнить, что генетические изменения не диктуют организму, что ему делать, а всего лишь фиксируют в своей генетической памяти его правильные эволюционные шаги.
За последние 30 лет здесь произошла еще более радикальная революция, чем в молекулярной генетике. Прежние представления о способах видообразования, основанные на модели СТЭ, оказались совершенно несовместимыми ни с теорией прерывистого равновесия, ни с эпигенетикой, ни с новой генетикой. На смену им пришло множество альтернативных гипотез, часть из которых успели обрести статус достаточно прочно обоснованных теорий.
Все эти годы объем непредвзятых исследований по проблеме видообразования продолжал нарастать, но все попытки выяснить, какие именно генетические изменения (и в каком количестве) связаны с видообразованием, до сих пор не привели к какой-либо единой схеме. И это вполне объяснимо, ибо в связи с различиями в строении генома, в детерминации и течении процессов индивидуального развития, в способах размножения и т, п. у разных групп организмов и не может быть единого механизма видообразования. Не приходится удивляться, таким образом, что органический мир демонстрирует нам множественность путей и способов образования новых видов, с некоторыми из которых мы уже знакомы.
Разнообразие, однако, не исключает принципиальной общности. Главные способы видообразования, которые мы рассмотрим ниже, отвечают следующим характеристикам.
Новые виды образуются только сальтационно в течение одного-двух или ограниченного числа поколений в результате установления репродуктивной изоляции. При такой скорости видообразовательного акта захват популяции новым видовым комплексом признаков путем вытеснения старого на основе генетико-популяционных процессов невозможен, так как такие процессы протекают слишком медленно и обычно не имеют завершения. Поскольку популяционные процессы к видообразованию не ведут, естественный отбор оказывается без объекта своего действия. К тому же возможные эффекты отбора резко подавлялись бы системой активных реакций организма. Вид рождается сразу в большом числе особей, реже — в нескольких. Изменения, осуществляемые организмом, часто носят адаптивный и направленный характер и оказываются в разных таксонах параллельными, что свидетельствует о закономерности их возникновения и справедливости номо-генетической концепции. Если изменения носят иной характер, то равновесие со средой устанавливается преадаптационным путем.
Рис. 27. Обобщенная схема, иллюстрирующая множественность путей видообразования (ориг.)
Особо подчеркнем, что приведенная характеристика видообразования, каковой она видится в свете новой генетики, всецело соответствует теории прерывистого равновесия (см. гл. 15).
В синтетической теории считается, что видообразование — сложный и длительный процесс, не сводимый к изменчивости. Последняя служит всего лишь «сырым материалом» для отбора, который выступает единоличным творцом новых форм. Все попытки при объяснении видообразования ограничиться одной изменчивостью, проигнорировав отбор, адептами СТЭ всегда резко осуждались. Сейчас нам совершенно ясно, почему механизмы формообразования нельзя, с позиций СТЭ, свести к изменчивости: механизм естественного отбора и целесообразные действия организма — это разные и несовместимые способы эволюции. При первом способе изменчивость безлика (неопределенна), при втором — выражение целесообразных реакций.
В новых теориях и гипотезах видообразования, как правило, обходятся без отбора и действительно сводят этот процесс к наследственной изменчивости. При этом авторы теории вовсе не считают изменчивость простым процессом. Мы убедились, что ей могут соответствовать сложные генетические и эпигенетические процессы и, как считают некоторые специалисты, и она может быть результатом своеобразных внутри геномных популяционных взаимодействий. Короче, нет ничего научно порочного или методологически предосудительного, чтобы считать носителей вариационной или динамической изменчивости новыми видами, если они этого заслуживают.
Системные мутации
Наиболее фундаментальное значение для теории видообразования имело, с нашей точки зрения, открытие отечественными исследователями Ю. П. Алтуховым и Ю. Г. Рычковым (1972) мономорфной части генома, о чем уже говорилось в общеэволюционном плане в гл. 3 и 15.
Обнаружение мономорфных белков — это признание существования видовых (и более высоких категорий) признаков и еще одно свидетельство живучести идей Ламарка, который первым выделил конституционные признаки организмов по их особой зйачимости для эволюции. Это также лишнее подтверждение правильности применения к видообразованию типологического подхода.
В гл. 15 говорилось, что реорганизация вилоспецифической части генома, с точки зрения Алтухова, выражается в системной мутации и такую мутацию можно считать центральным генетическим событием. Не вызывает сомнения, что само понятие системной мутации стало одной из ведущих эволюционно-генетических идей последних десятилетий.
Гольдшмидт, Вандель, Дальк и Уоддингтон, открывшие системные мутации чисто умозрительным путем, были твердо убеждены в их реальности, но не располагали доказательствами.
Впервые мутации такого рода обнаружил и описал у малярийных комаров томский генетик В. Н. Стегний (1979), Они оказались в основном аналогичны системным мутациям, прокламированным Гольдшмидтом, и также касались архитектоники хромосомного аппарата, почему Стегний оставил за ними прежнее название, хотя, по сути, описанные им мутации ближе онтомутациям Далька.
Новый тип системных мутаций, о котором идет речь, вписывается в концепцию мономорфизма Алтухова — Рычкова. Это базовый видоспецифический признак, не обнаруживающий внутривидового (популяционного) полиморфизма и выявляемый только в геномах генеративной ткани (в трофоцитах). При данном типе мутаций не меняется ни число хромосом, ни их линейная структура, ни генный состав.
Системные мутации возникают в результате реорганизации хромосом в интерфазном ядре путем изменения хромосомно-мембранных отношений. На хромосомах и на ядерной мембране появляются (или исчезают) тяжи β-гетерохроматина, которые прикрепляют их друг к другу. Мутации связаны также с динамичным изменением хромоцентра — от локального до диффузного его размещения на периферии ядра. При всех преобразованиях этого рода происходит устойчивое и необратимое изменение функционирования видового генома и устанавливается межвидовой хиатус (Стегний, 1993, 1996).
Автор специально подчеркивает, что ни в одном из наблюдений ни на комарах, ни впоследствии на дрозофиле (Стегний, Вассерлауф, 1991а, б) не было зарегистрировано внутривидового полиморфизма (гетерозиготности) по архитектонике генома, что однозначно свидетельствует о его исключительно сальтационном преобразовании. Градуальная реорганизация описанных хромосомно-мембранных отношений принципиально невозможна.
Обнаруженные системные мутации выявили зависимость потенциальной способности видообразования от внутренней организации ядерно-хромосомного аппарата и, в частности, степени «жесткости» трехмерной структуры ядра. По этому показателю, а также по распределению гетерохроматина и инверсионного полиморфизма видовые геномы могут быть отнесены к двум категориям.
Лабильный, т. е. способный к образованию дочерних видов, геном обладает следующими чертами: наличием локализованного в центральном участке гетерохроматина (1); облигатным хромосомным мономорфизмом (2); ограниченным (лучше минимальным) числом хромосомно-мембранных связей в интерфазных ядрах клеток генеративной ткани (3). Консервативный, т. е. препятствующий видообразованию, геном имеет противоположные характеристики. Гетерохроматин у него диспергирован (1), часто имеет место инверсионный полиморфизм (2), хромосомномембранные связи многочисленны. Необратимость видообразовательных событий как раз и связана с невозможностью обратного перехода гетерохроматиновых блоков из диспергированного состояния в локализованное, а у хромосом — из состояния прикрепленности к мембране в свободное (Стегний, 1993. С, 87–88).
Предполагается, что внутренними причинами, предрасполагающими геном к системной мутации, могут быть его лабильная структурная организация и переход организмов к инбридному размножению. Решающими внешними причинами выступают экстремальные абиотические условия, и прежде всего температура. Они могут возникать как на периферии ареала, так и в его центре. В этих условиях резко снижается численность вида, а это по причинно-следственной цепочке ведет к близкородственному размножению, активизации МГЭ, стимуляции разных типов мутагенеза. Все это дестабилизирует геном.
Что происходит далее? Инбридинг приводит к тому, что системные мутации появляются кластером. Последний, по наблюдениям Стегния, в течение 1–2 поколений проходит стадию гетерозиготности и фиксируется в гомозиготном состоянии. Гетерозиготы не в состоянии надолго задержаться в популяции ввиду структурной дезинтеграции их хромосом, как это отмечается у межвидовых гибридов. Гомозиготы по системной мутации, более способные к выживанию, быстро размножаются и формируют популяцию нового вида, которая занимает освобождающуюся адаптивную зону.
Обратим внимание, что при сальтационном возникновении нового вида через преобразование мономорфной части генома (в том числе путем системных мутаций) отпадает необходимость в пространственной изоляции популяций и исчезает принципиальное различие между аллопатическим и симпатрическим способами видообразования. Выделение этих способов утрачивает смысл. Видообразование путем системных мутаций, кроме того, снимает проблему аллельных и хромосомных мутаций, возникающих с высокой частотой и сопряженно с системными мутациями. Поскольку последние не могут существовать в гетерозиготном состоянии более 1–2 поколений, все толковые мутации и хромосомные перестройки типа инверсий вынужденно переводятся в облигатно-гомозиготное состояние. Таким образом, популяция дочернего вида в момент своего рождения будет мономорфной по всем генным локусам и хромосомам. Развертывание адаптивного полиморфизма (если он свойственен родоначальному виду) станет содержанием последующего стабилизационного периода.
Сказанное выше позволяет по-иному взглянуть на старые эволюционные модели квантовой эволюции Симпсона и генетической революции Майра, происходящие в малых периферических изолятах и при реализации «принципа основателя». Указанные авторы приписывали эффект этих моделей изменениям внутренней генетической среды, которые влекут изменения селективной ценности многих генов. Кроме того, Майр связывал видообразование путем генетической революции с аллопатрической моделью, при которой географическая изоляция предшествует репродуктивной изоляции, В свете новых открытий в генетике нетрудно понять, что изменилось в генетической интерпретации данных модусов. Периферические изоляты действительно создают благоприятные условия для видообразования, но этот процесс сопряжен не столько с генными мутациями, сколь многочисленными они бы ни были, сколько с появлением системных мутаций, при которых репродуктивная изоляция первична, гомозиготизация очень быстра, а носителей мутаций много.
В трактовке системных мутаций Стегнием есть некоторые расхождения с Гольдшмидтом. Стегний считает, что системные мутации (и, соответственно, новые виды) могут вообще не иметь фенотипического (морфологического) выражения или обладать минимальными морфологическими отличиями подобно видам-двойникам. Зато возникающие на их основе новые виды всегда отличаются от исходного родительского вида физиологически. Системные мутации возникают не в виде единичной особи, как полагал Гольдшмидт, а целым пакетом (кластером), что намного увеличивает их шансы закрепления. Наконец, Стегний, в отличие от Гольдшмидта и большинства своих единомышленников, подчеркивает, что придает большое значение естественному отбору на всех стадиях видообразования, хотя в своих главных публикациях предметно этого вопроса не касается.
Для окончательного упрочения концепции видообразования с участием системных мутаций было бы неплохо получить их экспериментальным путем. К сожалению, предпринимавшиеся в этом направлении попытки пока успехом не увенчались.
Известную аналогию системным мутациям представляет уже известный нам гибридный дисгенез, вызываемый транспозиционными элементами. Он состоит в появлении аномального потомства от скрещивания самок Drosophila melanogaster, длительное время разводимых в лаборатории, с самцами диких популяций того же вида. В таком потомстве из-за нарушений в развитии зародышевых клеток обоих полов наблюдаются высокая стерильность, повышенная генная и хромосомная мутабельность, отклонения от менделевского расщепления, кроссинговер у самцов, различные хромосомные перестройки и нерасхождение хромосом. Обшей причиной этих аномалий оказывается несовместимость геномов, объединяемых в гибридном потомстве. Как показали исследования (Bregtiano et at., 1980; Rose, Doolittle, 1983; Engels, 1992), дисгенез вызывает появление поведенческой или механической репродуктивной изоляции и завершается видообразованием. Впрочем, в механизме гибридного дисгенеза еще остается много неясного.
Хромосомные перестройки
Разнообразные типы хромосомных перестроек как возможная причина образования новых видов давно привлекли к себе внимание исследователей. В Новейшее время интерес к ним значительно возрос в связи с тем, что многие генетики и эволюционисты стали видеть в них современный эквивалент системных мутаций Гольдшмидта.
В 30-е годы XX в. широкое изучение структурной изменчивости хромосом (в основном инверсий), не дающей летального эффекта ни в гомо-, ни в гетерозиготном состоянии, было предпринято на дрозофиле (Дубинин и др., 1937; Дубинин, Соколов, 1940; Sturtevant, Dobzhansky, 1936; Dobzhansky, Sturtevant, 1938). В дальнейшем, изучая полиморфизм естественных популяций Drosophila pseudoobscura и D. willistoni, Добжанский (Dobzhansky, 1943, 1947, 1951, 1970) показал, что расообразование у дрозофилы связано не с точковыми (генными) мутациями, а с хромосомными инверсиями. Связь видообразования с крупными хромосомными перестройками на обширном материале (разных группах насекомых) продемонстрировал австралийский цитогенетик М. Уайт (White, 1969, 1977).
Следуя за Г, Бушем (Bush, 1969а, b) и изучив кариотипы малоподвижных бескрылых австралийских кобылок подсем. Morabinae, Уайт (White, 1968. 1974, 1978а, b; 1979) разработал стасипатрическую модель видообразования, основанную на изолирующем эффекте структурных хромосомных перестроек (слияний, транслокаций, инверсий и др.). Принципиально важно, что согласно данной модели хромосомная перестройка возникает не после разобщения популяций, а до него и в недрах самой популяции, приобретая таким образом значение исходного изолирующего механизма.
Показательно, что сам Майр с некоторых пор стал сомневаться в универсальности аллопатривеского видообразования и согласился с возможностью симпатрического на основе хромосомных мутаций, если они происходят в периферических популяциях (Майр, 1974. С. 345–347). При этом он допустил, что в отдельных случаях эти мутации могут быть причиной репродуктивной изоляции.
В теории прерывистого равновесия хромосомные перестройки рассматриваются как возможный регулятор системных мутаций. В целом гипотезу хромосомного видообразования поддерживают многие исследователи как за рубежом (Wilson, Sarich, Maxson, 1974; Bush, Case, Wilson, Patton, 1977; Stanley, 1979; White, 1982), так и в России (Красилов, 1977; Скворцов, 1982; Воронцов, 1984, 1999; Vorontsov, Lyapunova, 1989).
В СССР выяснением вопроса о роли хромосомных перестроек в видообразовании занялся Н. Н. Воронцов. В отличие от Дубинина, работавшего с дрозофилой в лаборатории, Воронцов развернул широкую экспедиционную деятельность, собирая и исследуя данные по кариологии млекопитающих. Уже в 1960 г. он выдвинул гипотезу о существовании особого способа видообразования, основанного на изолирующем эффекте хромосомных перестроек. Его отличительные черты состоят в том, что оно происходит внезапно благодаря первичности репродуктивной изоляции, наступающей до возникновения генных и морфологических различий (Воронцов, 1960). Автор назвал этот способ, или путь видообразования, генетическим, а Уайт, как уже говорилось, стасипатрическим, выступив в печати позднее.
Николай Николаевич Воронцов (1934-2000).
Успех Воронцова в обосновании генетического видообразования связан с нахождением удачного объекта, обладателя так называемого робертсоновского веера.
Сушестует особый тип хромосомных перестроек, характеризующийся слиянием не гомологичных хромосом (робертсоновская транслокация), при котором две одноплечие (акроцентрические) хромосомы соединяются в одну двуплечую (метацентрическую) хромосому. В зависимости от числа слияний в видовых популяциях наблюдаются вариации хромосомного набора. Для обозначения такого рода хромосомной изменчивости швейцарским цитогенетиком Р. Маттеем было предложено понятие робертсоновского веера и приведен первый случай его обнаружения в одном из родов африканских мышей (Matthey, 1970).
Третий веер обнаружил Воронцов у слепушонка надвида Ellobius talpinus (рис. 28). На ббльшей части обширного ареала этой группы встречаются две кариоморфы (2n = 54, 2n = 56), но на небольшом участке в долине рек Вахш-Сурхоб (Таджикистан) был обнаружен полный робертсоновский веер кариоморф со всеми возможными вариантами хромосомных чисел от 54 до 31. Было показано, что значительная часть этого разнообразия возникла в результате поэтапной гибридизации немногих исходных вариантов, а кариотипы 34 и 32 — только одномоментно, за счет резкой скачкообразной перестройки всего кариотипа (Lyapunova, Vorontsov et al., 1980 и др.; Ляпунова, 1983). Ни у одной из форм робертсоновского веера не было обнаружено отличий ни в морфологии, ни в спектрах изозимов, т. е. темпы хромосомной эволюции опережали темпы на фенотическом и генном уровнях (Ляпунова и др., 1984). Не вызывает сомнений, что в данном случае видообразование началось с установлением репродуктивной изоляции.
Приуроченность видов — обладателей робертсоновских вееров во всех известных случаях к зонам тектонических разломов с высокой сейсмичностью, естественно, приводит к заключению о детерминирующей роли этого периодически проявляющегося экзогенного фактора. В случае среднеазиатских форм слепушонок область наибольшего разнообразия кариотипов совпадает с изолинией средней периодичности 9-балльных землетрясений в 500-1000 лет. Непосредственными причинами высокой изменчивости хромосом в сейсмических районах выступают такие агенты, как радиация, высокая концентрация радоновых вод, солей тяжелых металлов и т. п.
Рис. 28. Робертсоновский веер у слепушонок кадеидз Blobius talpinus (из: Воронцов, 1980).
Новейшие гипотезы видообразования (нередко их именуют молекулярными), в особенности создаваемые генетиками, не обходятся без привлечения МГЭ — в обиходе — прыгающих генов. Не имея возможности их специально рассматривать, ограничимся упоминанием только некоторых гипотез, предложенных российскими исследователями, которым принадлежит в этом отношении ведущая роль.
Тот же Голубовский, развивающий представление о превращении вирусов и симбиотических микроорганизмов в МГЭ и одобряющий идею горизонтального переноса генов между разными видами, отмечает, что транспозиция МГЭ происходит еще до мейоза и поэтому в потомстве отдельных особей сразу возникает пучок мутантов, что резко повышает шансы их размножения в природе и превращения в новые виды.
Соображения о спонтанном видообразовании с участием прыгающих генов получили полную поддержку и развитие в работах Р. Б. Хесина, Л. И. Корочкина, Т. И. Герасимовой и многих зарубежных исследователей.
Работами Т. И. Герасимовой с сотр. (1984а, б; Герасимова, 1985 и позднее) на дрозофиле было подтверждено, что мобильные элементы являются одним из главных источников спонтанного мутагенеза, приводящего к скачкообразным превращениям генома, названным автором транспозиционными взрывами. Лежащий в основе активации МТЭ гибридный дисгенез наблюдается в природе на границах ареалов разных популяций дрозофилы. Транспозиционные взрывы связаны с множественными перемещениями МГЭ, осуществляющимися одномоментно в одних и тех же герминативных клетках нестабильных линий. В результате взрывов возникают особи, сильно отличающиеся от своих родителей сразу по большому числу признаков и оказывающиеся репродуктивно изолированными. Поскольку транспозиции происходят на премейотической стадии, измененные организмы появляются пучками. В случае образования селективно нейтральных аллелей, а тем более обладающих селективными преимуществами эти организмы получают быстрое распространение в природных популяциях. Соображения Герасимовой, таким образом, полностью совпадают с выводами Голубовского.
Регуляторные гены и гетерохроматин
В течение двух последних десятилетий все большее число исследователей утверждались в мысли, что в морфологической эволюции и видообразовании ведущая роль принадлежит гораздо более тонким механизмам реконструкции генома, чем геномные мутации или хромосомные перестройки. Общая ситуация в современной эволюционной генетике характеризуется тем, что «мы освободились от концепции эволюции путем… постепенного замещения нуклеотидов и вынуждены искать механизмы эволюции на уровне организации генов и их экспрессии в процессе онтогенеза» (Рэфф, Кофмен, 1986. С. 74).
В 70-е годы широкую поддержку обрела идея Р. Бриттена и Э. Дэвидсона (Britten, Davidson, 1960, 1971) о зависимости макро- и всей прогрессивной эволюции от мутаций регуляторных генов в противовес микроэволюции, вызываемой изменчивостью структурных генов. Основная заслуга в экспериментальном доказательстве этого положения принадлежит А. Вилсону и М. Кингу (King, Wilson, 1975). Эти американские генетики провели сравнительное исследование 44 белков человека и шимпанзе как наиболее близкого с молекулярно-генетической точки зрения человеку животного и выявили высокий процент их сходства, сопоставимый с таковым у видов-двойников. Авторы высказали предположение, что относительно малочисленные генетические изменения, лежащие в основе разобщения этих видов, происходили в регуляторной системе яйцеклетки, т. е. выше уровня структурных генов. Работа Вилсона и Кинга видится теперь как классическая и основополагающая.
Последующие исследования опровергли прежнее представление, будто систематические различия организмов связаны с различием генов и белков; они показали, что даже самые отдаленные виды обнаруживают поразительное сходство гомологичных генов и кодируемых ими белков. Более того, небольшие различия в их структуре теперь используются как более надежный метод установления физиологических отношений между группами (Вилсон, 1985).
Независимость видообразования от структурных генов обнаружилась также благодаря созданию гипотезы молекулярных часов, согласно которой скорость возникновения точковых мутаций абсолютно равномерна, чего нельзя сказать о скорости фенотипической эволюции. Правильнее считать, что несоответствие скоростей молекулярной и фенотипической эволюции — обычное явление. Так, скорость эволюции млекопитающих на уровне организмов примерно в 10 раз выше скорости эволюции бесхвостых амфибий, тогда как скорости, с которыми в обоих группах накапливаются точковые мутации, примерно одинаковы. Молекулярные часы лягушек показывают то же время, что и гомологичные часы млекопитающих.
Из этих и подобных им фактов следует, что морфологическая эволюция эукариотных организмов не зависит от мутаций структурных генов и что исключительная роль в этом процессе принадлежит у них регуляторным генам, не кодирующим белков, но контролирующим работу структурных генов. С этим хорошо согласуется то обстоятельство, что у эукариот из регуляторных генов состоит большая часть генома.
Но каким образом эволюция регуляторной части генома может совершаться независимо от замены нуклеотидов в структурных генах? По этому поводу тот же Вилсон выдвинул гипотезу, что морфологическая эволюция происходит главным образом за счет перераспределения генов, т. е. перегруппировки последовательностей ДНК и обмена ими между членами популяции (эту позицию поддержали Dover (1980), Дулиттл (1986), Флейвелл (1986). Явление перераспределения генов складывается из многих разноообразных процессов, последовательность которых пока ускользает от исследователей. Полагают, что наблюдаемые при этом хромосомные перестройки или изменения в числе самих хромосом являются всего лишь внешним выражением таких процессов.
В Новейшее время в качестве важного регулятора формообразовательных процессов и видообразования стали рассматривать гетерохроматин. Еше в 60-е годы цитогенетиками было обращено внимание на ту часть генетического материала, которая не кодирует белки. Ее стали называть по-разному — молчащей, «эгоистической», сателлитной, «сорной» или «бросовой» ДНК. Эта инертная и более простая по строению часть ДНК, состоящая преимущественно из совокупности высокоповторяющихся последовательностей, объединена в блоки и вместе с гистонами и другими белками образует гетерохроматин — важнейший структурный элемент хромосомы. Не участвуя в биосинтезе непосредственно, гетерохроматин способен инактивировать соседние структурные гены и тем самым контролировать время появления в клетке тех или иных генных продуктов.
Уже говорилось, что на долю гетерохроматиновых участков хромосов у высших животных приходится от 20 до 80 % генома. Гетерохроматин и сателлитная ДНК, таким образом, представляют собой продукт весьма длительной эволюции, и, коль скоро их содержание столь высоко, разумно предположить, что они не являются в геноме простым балластом.
Установлено, что у самцов дрозофилы гетерохроматиновые области влияют на компенсацию дозы рДНК, экспрессию кластера генов в хромосоме 2, мейотическое поведение хромосом, рекомбинацию, супрессию эффекта положения. Более того, специфические области Y-хромосомы подавляют экспрессию Х-сцепленных генов в семенниках (Spradling, 1981; Korochkin, 1983).
Как показали Б. Джон и М. Гейбор (John, Gabor, 1979), а вслед за ними Л. И. Корочкин (см.: Полуэктова и др., 1984; Korochkin, 1983; Корочкин, 1999, 20016), именно гетерохроматину (и в первую очередь его сатсллитной ДНК) скорее всего принадлежит роль регулятора скорости клеточного деления и роста и, стало быть, временных параметров индивидуального развития.
Корочкин предполагает, что эти субстанции могут оказывать воздейстие на время экспресии генов двояким способом: путем соединения с определенным классом белков, которые влияют на структуру хроматина, и участием в организации трехмерной структуры интерфазного ядра.
Последствия изменения времени экспрессии генов хорошо известны из биологии развития. Это различного рода гетерохронии, педоморфоз и неотения и т. п., ведущие через преобразование онтогенеза к видообразованию и более масштабным макроэволюционным событиям.
«На основе измененного типа онтогенеза возникают организмы с новыми фенотипическими признаками, которые можно считать соответствующими “многообещающими монстрами” Р. Гольдшмидта. Именно такие организмы дают начало новым видам и родам» (Корочкин, 1985. С. 92).
,Сш гетерохроматин под воздействием все тех же МГЭ претерпевает перераспределение своих белков. По образному выражению Корочкина, МГЭ как бы растаскивают кусочки гетерохроматиновой ДНК по разным ячейкам генотипа и через его реорганизацию приводят к сальтационному возникновению новых видов (Korochkin, 1993). Видообразование может быть и следствием взрывов различных инверсий и транслокаций, которыми также сопровождаются перемещения МГЭ. Поскольку сайты инсерций расположены в геноме закономерно, а не беспорядочно, в происходящем видообразовании отражается определенная направленность эволюционного процесса (Корочкин, 2002).
Корочкин не исключает возможность и иного видообразовательного пути, когда при встраивании МГЭ в геном его носителю удается найти для спаривания соответствующего партнера и произвести уже знакомое нам дисгенетическое потомство.
Что касается способов возникновения видов, несущих признаки более высокого систематического ранга, то на этот счет существуют по крайней мере две точки зрения. Одни авторы (Уайт, Карсон, Стэнли, Воронцов) считают, что становление надвидовых таксонов — результат последовательного (ступенчатого) видообразования, другие (Шиндевольф, Корочкин, Голубовский, Ивановский) допускают возможность моментального скачка при достаточной амплитуде системной мутации.
Рассмотренные механизмы видообразования, связанные с изменением регуляторной системы генома, хотя и опираются на достаточно солидную экспериментальную базу, все же несут печать гипотетичности. Это объясняется в первую очередь тем, что проблема последовательных межгенных взаимодействий, контролирующих трехмерную организацию ядра, клеточную пролиферацию, дифференцировку и весь морфогенез (т. е. фактически вся сфера современной эпигенетики), остается столь же трудной и малодоступной для изучения, как и специфика самого феномена жизни. Сложный и тернистый путь от гена к признаку, связанный с преодолением многочисленных уровней регуляции и контроля, по-прежнему скрыт от наблюдателя плотной завесой тайны.
Глава 18. Эволюция при системном взгляде
Причинность: два пути осмысления
Все теории, представленные в этой книге, — дарвинистские и недарвиновские, основанные на популяционном или типологическом подходе, на идее случайности или закономерности эволюционного развития — описывали эволюцию как преобразование организации и образование новых видов. Видообразование считалось центральным и главным качественным событием в эволюции, а макро-, мегаэволюция и преобразование биот — его следствиями. Не случайно главные труды Дарвина, Добжанского и Майра включают в свое название словосочетание «происхождение видов».
В учебниках и руководствах, написанных с позиций СТЭ, изложение эволюционной теории начинается с описания элементарных эволюционных явлений. В качестве единицы наследственной изменчивости в них принята мутация. Образование новых видов и всех других групп более высокого систематического ранга объясняется аккумуляцией мутаций под действием естественного отбора. Иными словами, развертывание всей грандиозной панорамы биологической эволюции — механическое следствие ошибки в правильном воспроизведении наследственной молекулы.
Но как разрешить противоречие, когда закономерный и направленный процесс исторического развития, каким он предстал перед нами в результате поисков многих выдающихся эволюционистов и мыслителей, начинается со случайности и чисто технической поломки на молекулярном уровне? Чтобы обратить ошибку в достоинство, зачастую возводились весьма искусные гипотезы. Если прибегнуть к старой аналогии и уподобить организм сложной машине, то эволюция с помощью мутации — это все равно что создание новой машины переделкой деталей старой. Но где это видано, чтобы качественно новые машины (аналог новых видов) создавались таким способом?
Описанную направленность причины и следствия можно назвать восходящей причинностью, а соответствующий взгляд на эволюцию — «эволюцией снизу».
В предыдущих главах было показано, что мутации и вообще генетическая изменчивость — вовсе не причина эволюции, а ее результат. Они не прокладывают новые пути развития, а лишь закрепляют достигнутый результат, чтобы каждому последующему поколению не приходилось начинать все сначала. Подлинный источник эволюционных перемен скрыт в перестройке физиологии, и описание эволюции надо было бы начинать отнюдь не с генетики. Но все это выяснилось не так уж давно, а мы имели дело с историческим материалом.
Таково истинное положение с наследственной изменчивостью. Теперь мы увидим не менее удивительную вещь: описание биологической эволюции надо начинать вовсе не с видов и организмов, а совсем с другого конца.
На рубеже 60-70-х годов XX в. в биологии стал возраждаться интерес к системному подходу и тем методологическим преимуществам, которые он сулит конкретным исследованиям. Источником проникновения этого подхода служили экология — наука системная по своей природе — и уже существовавшая ОТС, которую продолжали совершенствовать. Именно благодаря усилиям экологов новый системный взгляд, хотя и медленно, стал пробиваться в эволюционную теорию, постепенно сужая сферу статистического вероятностного мышления (Вяткин, Мамзин, 1969; Хайлов, 1970; Сетров, 1971; Sperry, 1969; Campbell, 1974).
Между тем предпосылки к принятию системного взгляда на биологическую эволюцию в Советском Союзе существовали уже давно. Обсуждая вопрос происхождения жизни, В. И. Вернадский (1926 а, б, 1931 и позднее) первым высказал убеждение, что жизнь на Земле не могла появиться в форме отдельных организмов, которые существовали бы сами по себе, ибо для поддержания жизни необходим круговорот веществ. Поэтому жизнь с самого начала должна была возникнуть в виде сложных комплексов — биоценозов. Такую же позицию занял Дж. Бернал.
В наши дни Г. А. Заварзин (1999) отмечает, что теперь это уже широко распространенная точка зрения. Сообразно с ней, первоначально жизнь существовала в форме экосистемы, в составе которой лишь позже вычленились отдельные протоорганизмы. Из этого следует, что первые шаги эволюции вообще можно описывать только системно: биосфера как высшая система живого определяет возможности экосистем как своих компонентов, а те, в свою очередь, возможности входящих в них экологических групп и видов. Шмальгаузен (1968), развивая идеи саморегуляции с позиции кибернетики, также показал, что в эволюции видов контролирующая и направляющая роль принадлежит биоценозу, в который они входят.
Распространение системных представлений в науке было велением времени, которое было бы неразумно не принимать. Но единого понимания принципа системности достигнуто не было, мнения разошлись. Одни — редукционисты — склонны сводить свойства системы к свойствам ее компонентов и ищут первопричину развития в низших (мелких) компонентах. Таковы, в частности, синтетисты, полагающие, что пружина эволюции начинает раскручиваться с самого элементарного уровня — случайных генных мутаций. Другие исследователи признают существование особых системных свойств, создаваемых взаимодействием компонентов и у самих компонентов отсутствующих. Всякая система стремится к сохранению самой себя и входящих в нее подсистем, хотя бы ценой их изменений. Наиболее серьезные испытания для ее судьбы, с которыми ей труднее всего справляться, приходят, безусловно, извне, т. е. от систем более высокого уровня. Применительно к систематическим группам организмов таковыми оказываются в нисходящем порядке: система, связывающая Землю с другими небесными телами, земная биосфера, составляющие ее экосистемы.
Придерживаясь такого понимания системности, мы всецело разделяем взгляд, согласно которому импульс к эволюционному развитию, зарождающийся на самом высоком уровне и передающийся сверху вниз (от системы к ее компонентам), оказывается гораздо более могущественным, чем идущий в обратном направлении, Поэтому не приходится сомневаться, что истинные причины изменения таксонов следует искать на экосистемном уровне.
Таким образом, в соответствии с теорией систем эволюционная судьба видов как компонентов и функциональных единиц экосистемы определяется ее состоянием. Виды реагируют на сигналы системы, которой принадлежат. Такая зависимость выражает нисходящую причинность, а соответствующий взгляд на эволюцию можно назвать «эволюцией сверху». Нисходящая причинность оставляет мало места для случайности.
Легко понять, что в эволюции, как и в других сферах жизни, системная причинность — вещь не надуманная, а проявление одного из универсальных принципов бытия, только всерьез поздно осознанный. Простая логика подсказывает, что, будучи однажды по-настоящему осмыслен, этот принцип уже не может быть удален из эволюционной теории и заменен каким-то другим. Такие концептуальные приобретения остаются в науке навсегда.
В свете теории систем биологические виды перестают быть самостоятельно эволюционирующей единицей, и этот статус переходит к экосистеме (биоценозу). Из этого вытекает необходимость радикальной перестройки эволюционной теории. Ее построение следует начинать не с мутаций, как это принято сейчас в учебниках и руководствах, а с закономерностей эволюции биоценозов. Последние необходимо будет увязать с этапами развития биосферы как высшей системы, охватывающей биоту в целом. Это будет общая теория эволюции живого, в рамках которой эволюция организмов и видообразование займут надлежащее место сообразно представляемому ими уровню организации. Создание такой общей теории — сложная и весьма масштабная задача, и ее решение потребует значительного времени. Основная трудность здесь связана прежде всего с неразработанностью согласованных принципов и подходов, касающихся описания эволюции экосистем. Однако к всемерному распространению системного понимания эволюции надо стремиться уже сейчас.
Из нового, системного понимания эволюции вытекает важнейший практический вывод, к которому давно пришли экологи: чтобы сохранить жизнь и ее видовое разнообразие, надо беречь экосистемы.
Экосистемная теория эволюции (ЭТЭ)
Интуитивно к построению такой теории ученые стремились с конца XIX в. Факты смены биот, зарегистрированные палеонтологической летописью, следы геологических катаклизмов, происходивших на нашей планете на протяжении ее истории, всегда побуждали эволюционно мысливших исследователей к поиску между этими рядами событий причинной связи. В знакомых нам гипотезах сопряженной эволюции была выявлена одна из фундаментальных особенностей биологической эволюции — се периодичность, или этапность. В разных гипотезах, как мы видели, главные события в истории органического мира связывались с разными внешними причинами — от процессов горообразования до изменений в уровне солнечной и космической радиации.
Наиболее известную экосистемную гипотезу эволюции разрабатывает (с 1969 г.) в России палеобиолог В. А. Красилов[37]. Это целостная концепция эволюции, построенная с последовательно системных позиций и опирающаяся на данные современной молекулярной биологии и генетики. Но это, как отмечает сам автор, всего лишь гипотеза, поскольку единой схемы экосистемной эволюции пока не существует. Остановимся на ней подробнее.
Движущей силой изменения и эволюции биосферы выступает ее взаимодействие с геологическими оболочками Земли, периодически принимающее характер кризиса. Конечно, эволюционные преобразования в биосфере совершаются и в спокойные межкризисные периоды, но их масштабы неизмеримо скромнее. Для быстрых и радикальных перемен необходим толчок извне. Когда он возникает и оказывается воспринятым биосферой, импульсы от нее по нисходящей каузальной цепочке идут к подчиненным ей системам — биоценозам, популяциям, генофондам. Наиболее вероятен следующий порядок развертывания геологических событий (рис. 29).
В силу постоянно меняющегося взаиморасположения небесных тел Земля испытывает периодические колебания параметров орбиты, положения оси вращения и угловой скорости вращения. Благодаря инерции ротационные силы Земли порождали растрескивание земной коры, происходившие особенно легко в зоне океанов, где она была более тонкой. По образовавшимся трещинам начинались сдвиги крупных литосферных блоков, которые порождали мощные тектонические процессы, вулканизм, излияние магмы, морские трансгрессии и регрессии и изменения климата. Важно иметь в виду, что изменения ротационного режима нашей планеты в той или иной степени затрагивали все компоненты биосферы и все подчиненные ей экосистемы. Принимая такую последовательность событий, Красилов опирался не только на последние достижения геофизики, но и на гипотезу палеонтолога Личкова (1965), который, как мы знаем, первым обосновал идею об инициирующем воздействии периодических колебаний скорости вращения Земли на крупномасштабные геолого-географические события. Напомним, что он же увязал эти события с хронологически совпадающими с ними революционными преобразованиями биоты[38].
Среди упомянутых звеньев геологической цепочки для эволюционной судьбы биосферы наиболее значимо последнее — циклические изменения климата, а также тесно связанные с ними процессы горообразования. О роли последних Красилов пишет так: «Приуроченность эволюционных рубежей к тектоническим и климатическим перестройкам отражает основную закономерность эволюционного процесса… Эти перестройки не только влияли на ход эволюции (в чем все так или иначе согласны), но были ее основной движущей силой» (Красилов, 1977. С. 171). Только благодаря им возможно само «естественное членение геологической истории, причем ранг стратиграфических подразделений, очевидно, отвечает масштабу климатических циклов» (Красилов, 1973. С. 238).
Рис. 29. Схема развития кризисных событий (из: Красилов, 2001).
Климатические циклы имеют, однако, и другой источник возникновения. Это ритмы солнечной активности, в особенности крупномасштабные циклы в 30 и 180 млн лет. Они фактически совпадают с периодичностью геологических дистроф, и в их существовании теперь мало кто сомневается. Солнечная радиация — мощнейший фактор тотального воздействия на все земные процессы, и колебания ее активности, наряду с изменениями климата, способны породить в биоценозах стрессовую ситуацию.
Кроме того, изменения солнечной активности — главная причина геомагнитных бурь, влияющих на динамику магнитного поля Земли. К изменениям же этого параметра все живое особенно чувствительно. Ныне достоверно установлено, что магнитное поле становилось переменным (меняло свою полярность) как раз в кризисные периоды на рубежах соответствующих эр и периодов. Как нам представляется, Красилов несколько недооценивает значение солнечных ритмов, уделяя им мало внимания.
Геологический кризис, в отличие от процессов, совершающихся в биоценозах, развивается медленно и долгое время носит колебательный характер. За миллионы лет до того, как выйти на уровень биосферы, он зарождается где-то глубоко в недрах Земли, чтобы, окрепнув и развившись, воздвигнуть на Земле горные цепи и произвести все дальнейшие перемены.
Обратим внимание, что в современной ЭТЭ изменения климата и всех прочих физических параметров среды не выступают бодьше непосредственной причиной преобразований биоты, как это было в старых гипотезах первой половины XX в. Они рассматриваются теперь не более как пусковой механизм, даюший старт дестабилизационным процессам в экосистемах, к рассмотрению которых мы и переходим.
Все познается в сравнении. Чтобы понять, что происходит в биоценозах в условиях кризиса, необходимо иметь представление об их стабильном состоянии. Этому помогло сопоставление тенденций эволюционного развития биоценозов, наблюдаемых в тропиках и в средних широтах с их выраженной сменой сезонов. Как известно, по мере продвижения к экватору экологическая емкость (плотность заполнения видами) биоценозов возрастает, а при движении в обратном направлении — падает. Из этого факта Красилов делает вывод, что при похолодании «биоценозы оказываются перенасыщенными, а при потеплении — недонасыщенными» (Красилов, 1977. С. 236). В первом случае ввиду элиминации избыточных видов и преимущественного распространения видов, способных обеспечивать быстрый рост популяций, структура биоценозов испытывала упрощение, а шансы таксонов на перестройки мегаэволюционного плана снижались. Во втором случае за счет размножения видов, отличающихся более эффективным использованием наличных ресурсов, дробления экологических ниш и прогрессирующей специализации шло усложнение биоценозов и становление новых типов организации (типогенез, или возникновение анастроф)[39].
В спокойные периоды эволюция экосистем происходит медленно и постепенно. Их самая характерная черта — высокая стабильность, присущая всем климаксовым сообществам, завершившим экологическую сукцессию. Стабильность обеспечивают в первую очередь доминантные виды с длительными жизненными циклами и малым числом потомков. В таких сообществах развиты разнообразные механизмы ослабления конкуренции, в полной мере действует стабилизирующий отбор, высок уровень генетической разнородности популяций.
В экосистемах, не завершивших своего развития, благодаря продолжающемуся росту видового разнообразия, удлинению пищевых цепей, углублению специализации и т. п. происходит усложнение структуры. Но эти процессы небезграничны. Им кладут предел ограниченность энергетических ресурсов (Гиляров, 1973) и критическая величина популяции, уменьшение которой грозит виду вымиранием. В насыщенных сообществах эволюция теоретически прекращается.
Палеонтологическая летопись дает достаточно примеров подобных зрелых равновесных сообществ. Это прежде всего экосистемы с постоянными условиями, с круглогодичным наличием пищи. Они почти не изменяются на протяжении миллионов лет, если не считать случаев замещения одних видов другими. Такой тип эволюции, протекающей в стабильных экосистемах и сильно заторможенной системой, Красилов назвал когерентной эволюцией (от лат. «cohaerens» — находящийся в связи, в согласии) (Красилов, 1969). Для ее описания и создавались классический дарвинизм, СТЭ и другие традиционные теории.
Но существует другой тип эволюции — некогерентной (там же). Эволюция такого рода протекает в неустойчивых, нарушенных экосистемах, или, что то же самое, экосистемах, находящихся в состоянии кризиса. Современную ЭТЭ, в противоположность СТЭ, интересует в первую очередь некогерентная эволюция. Сторонники этой новой модели считают (и стремятся доказать), что самые важные эволюционные события — появление эукариотической клетки, многокпеточности, полового размножения, планов строения, цветка, теплокровности, плаценты, интеллекта — совершались в периоды кризисов, в фазе некогерентной эволюции. Какие же изменения испытывали в этих условиях экосистемы и есть ли в этих изменениях какая-то общая закономерность?
Данные изменения вполне аналогичны тем, что происходят на наших глазах в современных экосистемах, разрушаемых неразумной хозяйственной деятельностью человека. Длительное воздействие нового непривычного климатического режима (в основном изменявшегося в сторону похолодания) дестабилизирует экосистемы, выводя их из состояния гомеостатического равновесия. Это пагубно сказывется в первую очередь на узкоспециализированных формах-эдификаторах. В кризисных условиях таковыми, естественно, оказываются самые приспособленные и наиболее конкурентоспособные виды кпимаксовой стадии. Они обладают очень тонкими адаптациями ко всему комплексу средовых условий, с изменением которых эти адаптации разрушаются. Кроме того, восстановительные процессы в экосистеме, включая сукцессии, теперь оказываются прерванными. В итоге, если прежние условия не возвращаются к норме, доминантные формы вымирают.
Летопись великих кризисов всецело подтверждает это правило. Красилов приводит далеко не полный перечень господствовавших мезозойских групп организмов, которые вымерли в конце мелового периода. Это, в частности, беннетики и чекановскиевые среди растений, аммониты, иноцерамусы и рудисты — среди моллюсков, динозавры, птерозавры и часть сумчатых — среди наземных позвоночных (Красилов, 1985).
С вымиранием доминантов происходит упрощение структуры экосистем. В них развиваются энтропийные процессы, обратные тем прогрессивным тенденциям, которые характерны для спокойных бескризисных периодов. Сокращаются видовое разнообразие и число пищевых цепей, прекращается сукцессия, падают продуктивность и биомасса и растет мертвая масса (Krassilov, 1994; Красилов, 2001).
Но вымирание доминантов имеет по меньшей мере одно важное эволюционное следствие — с их исчезновением освобождаются экологические ниши. Природа, как известно, не терпит пустоты, и в освободившиеся ниши устремляются виды, доселе занимавшие скромное место в экономике экосистемы. Особо отметим, что смена «владельцев» ниш происходит не насильственным путем, не в силу конкурентной борьбы и вытеснения одного вида другим, более приспособленным, как это следовало из теории естественного отбора. Все происходит по более простой и понятной схеме.
Виды, занявшие вакантные ниши, обладают типично пионерскими свойствами. Они неприхотливы, сравнительно слабо специализированны, у них короткий жизненный цикл, высокая смертность (они — объект массовой неизбирательной элиминации), но она компенсируется высокой плодовитостью. В условиях, когда в силу упрощения структуры экосистемы конкуренция (межвидовая) резко упала и интенсивность стабилизирующего отбора снизилась, виды-пионеры в состоянии выжить именно благодаря своей высокой репродуктивной потенции. Теперь после случайных локальных катастроф эти виды благодаря своим свойствам способны взять на себя функцию быстрых регенераторов сообщества и, что еще важнее, подготовить почву для появления более конкурентоспособных видов следующей стадии.
Подведем некоторые итоги и сделаем главный вывод.
Казалось бы, периоды кризисов и фазы некогерентной эволюции характеризуются одними негативными показателями: вместо выживания наиболее приспособленных происходит их вымирание, вместо естественного развития сукцессии — ее прекращение, вместо роста продолжительности жизни — ее укорочение и высокая смертность видов-пионеров. Растет производство энтропии. Все это признаки биологического регресса.
Однако именно в эти периоды закладывается фундамент будущего прогресса. В силу ослабления стабилизирующего отбора создаются условия для генетического поиска и резкого увеличения размаха изменчивости (в том числе за счет выявления ее скрытого резерва). Когда конкуренция падает, живая природа может позволить себе эволюционное экспериментирование, и палеонтологическая летопись подтверждает, что в кризисные периоды как раз и рождаются в массе жизнеспособные монстры, появление которых в фазе когерентной эволюции гораздо менее вероятно.
Кризис — это состояние среды и живых организмов, когда невозможное становится возможным. Из генетики хорошо известна сложно организованная многоуровневая система противоинформационной защиты, существующая у всех эукариотных организмов. Своей изощренностью и степенью надежности она способна поразить воображение любого человека. Оказывается, однако, что при стрессе эта система резко снижает свою эффективность и как бы сама «попустительствует» проникновению в организм экзогенного генетического материала. Явление, аномальное и вредное для вида в привычных условиях, оборачивается в частое и благое в кризисной ситуации: благодаря активизации МГЭ чужеродные гены принимают участие в желанной реорганизации его генома. И в этом аспекте, как мы видим, ЭТЭ, разработанная Красиловым, совпадает с представлениями, уже известными нам из новой генетики.
Если геологический кризис развивается медленно, то биологическая эволюция экосистем совершается быстро, иначе быть просто не может, поскольку организмы не могут длительное время пребывать в состоянии стресса: они должны или погибнуть, или найти способ измениться. В этом поиске будут задействованы не отдельные виды, а сразу большинство видов сообщества, и в результате по выходе из кризиса его состав почти полностью обновится. Фактически это будет новая экосистема.
Красилов считает ЭТЭ противостоящей неокатастрофизму, включая астероидную гипотезу. Дело в том, что адепты неокатастрофизма принимают, например, падение на Землю гигантского небесного тела и вызываемое им сильное замутнение атмосферы за непосредственную причину уничтожения видов, тогда как в ЭТЭ геологические события — всего лишь пусковой механизм в дестабилизации экосистем. Кроме того, число данных, подтверждающих ЭТЭ, с каждым годом увеличивается. С астероидной гипотезой иная ситуация. В силу недостаточной разрешающей способности существующих стратиграфических методов подтвердить ее вообще невозможно, зато опровергнуть нетрудно. В частности, все больше свидетельств того, что обнаруженные иридиевые слои в отложениях соответствующих эпох — главный козырь гипотезы — имеют скорее магматическое, чем космическое, происхождение (см. об этом в гл. 9).
Правда, надо признать, что в плане обоснованности у ЭТЭ остаются и, возможно, навсегда останутся свои узкие места. Главное из них связано с недостаточностью доказательств хронологического соответствия между действием дестабилизирующих абиотических факторов (климата, магнитного поля и др.) в периоды геологических диастроф и биотическими революциями. О трудностях точной хронологической привязки вымираний тоже уже говорилось (см. гл. 9). В этом, в частности, состоит одна из причин, почему ЭТЭ рассматривают как гипотезу.
Периодичность биотических революций
Вопрос о периодичности смены биот встал со времен Кювье. Во второй половине XIX в. была разработана геохронологическая шкала фанерозоя, границы основных подразделений которой выделялись по сокращению разнообразия и смене самых многочисленных организмов. Хотя ее создатели не пользовались статистическими методами и полагались на научную интуицию, шкала выдержала испытание временем и оказалась практичной. Тогда же была замечена и привлекла внимание исследователей ее периодичность.
В настоящее время периодичность геологических кризисов определяется в 180 и 30 млн лет. Первая цифра соответствует галактическому году — периоду обращения Солнечной системы вокруг центра Галактики, вторая — периоду вертикальных колебаний Солнечной системы около галактической плоскости (Красилов, 1986, 1987). В работах палеобиологического содержания чаще всего приходится сталкиваться с периодичностью в 27–35 млн лет (Raup, 1985), что говорит о хорошем соответствии периодичности геологической. Что касается геохронологической шкалы, то периодичность в 180 млн лет равна продолжительности мезозойской эры и половине палеозойской, периодичность около 30 млн лет близка продолжительности пермского, триасового и мелового периодов. Для рубежей юры и мела, раннего и позднего мела, мела и палеоцена, эоцена и олигоцена получены ориентировочные даты 135–130, 100, 65 и 36 млн лет. Отсюда видно близкое совпадение с периодичностью геологических кризисов (Красилов, 1986. С. 43).
Данные о периодичности биосферных кризисов, составленные на основе хронологии вымираний, приводились в гл. 9. Здесь уместно дополнить их не менее красноречивыми данными о числе отрядов животных, появившихся на протяжении фанерозоя (табл. 4). Полученные ряды цифр составлены по результатам анализа огромного ископаемого материала с помощью общепринятого радиометрического метода.
В недавнее время хронологические привязки важнейших биотических событий кризисных периодов стали уточнять с помощью палеомагнитного метода, обладающего более высокой разрешающей способностью и дающего более надежные результаты. Полученные корректировки позволяют с большей уверенностью говорить о сопряженности геологических и биосферных событий (Gubbins, Sarson, 1994; Fiolser, Magantc, 1997).
Таблица 4. Число отрядов животных, появившихся в последовательные периоды фанерозоя (Красилов, 1977)
Красилов (1987) справедливо считает, что планетарные экосистемные события распознаются с большей объективностью по смене или вымиранию доминирующих видов в наиболее обширных сообществах. В приводимой им табл. 5 указаны геохронологические рубежи, выделенные по этому показателю и признаваемые большинством исследователей наиболее резкими.
Таковыми оказываются большей частью границы периодов и эпох, а также некоторых веков. Они соответствуют двум периодам — 23 и 35 млн лет. В литературе часто приводится период в 27 млн лет, который Красилов считает усредненной величиной.
О периодичности революционных экосистемных событий можно судить по масштабности не только вымираний (Красилов оценивает падение разнообразия на родовом уровне на рубежах пермь — триас и мел — палеоген в размере 50–75 %), но и изменениям биомассы и продуктивности. Большую часть биомассы дают доминирующие виды, поэтому их вымирание не может не сказаться на общей биомассе. Приблизительную величину продуктивности биосферы можно получить, опираясь на усредненное соотношение изотопов С13:С14 в осадочных породах. Это соотношение на всем протяжении геологической истории довольно устойчиво, но на рубежах интересующих нас биостратиграфических подразделений испытывает заметные колебания (Красилов, 1987).
Таблица 5. Периодичность геохронологических рубежей в позднем палеозое-кайнозое
В целом высоко оценивая экосистемную теорию за ее методологическую корректность и соответствие целому комплексу данных о революционных событиях в эволюции живого покрова Земли, мы считаем, что у нее есть все шансы обрести в будущем статус обоснованной теории. Нам трудно судить, насколько близка к реальности предложенная в ЭТЭ схема развертывания геологических процессов, но описание порядка биосферно-ценотических событий кризисных эпох представляется логичным и непротиворечивым. Нужно, однако, отдавать себе ясный отчет, что на сегодняшний день нам известны лишь отдельные звенья в сложном и многоуровневом процессе экосистемной эволюции. Закономерности этой эволюции тоже по большей части еще предстоит открыть.
Заключение
Изменения в наших эволюционных представлениях, описанные в этой книге, столь велики и многозначны, что позволяют говорить о фактической смене эволюционной парадигмы и подлинной интеллектуальной революции. Если попытаться ранжировать эти изменения, то на первое место хотелось бы поместить шоковое воздействие на наше мировоззрение девальвации формообразующей роли естественного отбора.
У идеи естественного отбора удивительная судьба. Родившись в биологии, она захватила умы физиков, химиков, математиков, космологов — представителей всего естествознания в целом, составив важнейший элемент научной картины мира. От естествознания она перекинулась на сферу гуманитарных наук (включая теорию познания), всюду демонстрируя свою продуктивность. В итоге идея отбора стала настолько универсальной, что обрела статус аксиоматической категории и важнейшего завоевания науки классического периода.
Но и самая плодотворная идея может не выдержать испытания временем. Накапливаются новые факты и соображения, меняются подходы и приемы познания, пока наконец вкупе они не достигают критической массы, опрокидывающей старые представления. Именно это, как мы видели, произошло в биологии с учением о естественном отборе. Впрочем, этого можно было ожидать, если вспомнить, как предпосылки данной идеи были в биологию привнесены.
Не менее радикальные изменения во взглядах на биологическую эволюцию вызвало открытие мобильных генетических элементов и их непосредственного участия в переносе генетической информации между организмами вне зависимости от степени их таксономической удаленности друг от друга. С помощью мобильных элементов могут обмениваться генами вирусы и человек, растения и животные, прокариоты и эукариоты. Оказалось, что те генетические преобразования, которые, следуя традиционным путям эволюции, требуют для своей реализации многих миллионов лет, могут осуществляться совсем другим способом и практически в одном или нескольких поколениях. Благодаря этому эволюция может резко ускоряться, а это решающее условие выживания в условиях внезапной смены обстановки. В мировоззренческом аспекте наиболее существенно, что благодаря данному эпохальному открытию биологические виды предстали как информационно открытые системы.
В любом руководстве эволюционный процесс начинают описывать с генетических изменений популяций как элементарного эволюционного явления, вызванного событиями (мутациями) на молекулярном уровне. Толчок к развертыванию эволюции на более высоких уровнях организации следует, таким образом, в направлении снизу вверх. В последней главе мы показали, что такими вышележащими системами являются естественные сообщества (биоценозы) и биосфера. Есть основания полагать, что в учебниках следующего поколения эволюцию начнут описывать именно с «верхних этажей», и тем самым станет реальностью общая теория эволюции, в которой видообразование займет подчиненное положение. Это будет вполне логично, потому что такие перемены приведут описание эволюции в соответствие с естественным ходом событий и будут отвечать требованию их системного отображения.
К сожалению, написать подобный учебник прямо сейчас не представляется возможным. Это объясняется главным образом наличием в наших знаниях о высших системах Земли и ее ближайшем окружении множества белых пятен и актуальностью споров ученых о том, что именно побуждает экосистемы эволюционно изменяться и по каким критериям оценивать эти изменения.
Из сказанного выше следует, что новая недарвиновская модель эволюции полностью устраняет роль популяционных процессов в видообразовании и, соответственно, термин «микроэволюция» утрачивает свою легитимность. Вместо него лучше говорить об ацаптациогенезе, поскольку через характерные для него процессы виды осуществляют только свою адаптивную стратегию.
Хотелось бы особо подчеркнуть, что в соответствии с данной моделью способность целесообразного реагирования клетки и всех ее компонентов признается за первичное (а не созданное эволюцией) свойство живого, за его главный атрибут, делающий его принципиально отличным от косной материи. Соответственно, граница между живым и косным становится труднопреодолимой. Продолжение попыток раскрыть этот удивительный феномен с помошью физических законов представляется нам бесперспективным.
Приметная черта науки нашего времени — осознание ключевого значения в развитии любых систем кризисных периодов. В фокусе внимания биолога-эволюциониста в последнее время оказались биотические кризисы в истории Земли. Дарвинизм и синтетическая теория ими особо не интересовались, ибо не видели в них ничего качественно специфичного. А между тем теперь уже мало кто сомневается, что именно в периоды кризисов происходили главные эволюционные события.
Не жалуя кризисы вниманием, трудно предложить и пути выхода из них. Более того, проповедуя идеи «борьбы с природой» и ее преобразования, современный дарвинизм в значительной мере способствовал развитию нынешнего кризиса.
В наши дни у человечества нет более неотложной задачи, чем поиск выхода из глобального экологического кризиса, и естественно, что ценность каждой новой стратегии или теории определяется в первую очередь ее способностью указать такой выход. Есть все основания полагать, что новая гипотеза эволюции, которая была здесь изложена, соответствует этому требованию.
В книге уже приводилась простая, но очень глубокая мысль Люсьена Ксно. Великий ученый высказал об эволюции непреходящую истину: «Конечная и высшая финальность состоит в сохранении жизни на Земле… все происходит так, как если бы жизнь имела цель — увековечить себя вопреки космическим изменениям через непрерывную смену фаун и флор». Не вытекает ли отсюда, что и высший смысл жизни человека и общества состоит в поддержании жизни во всех ее проявлениях? Ведь живая природа — первооснова нашего собственного существования.
В полном согласии с этой мыслью и данными современной экологии находится главный вывод выдвинутой концепции: подлинно верная стратегия спасения всего живого состоит в сохранении естественных сообществ организмов. Это единственно надежный способ сохранить и отдельные виды, и все биоразнообразие, существующие на нашей планете. В самом деле, могут ли выжить части, если разрушится система?
На пути реализации этой стратегии перед эволюционистами и экологами, в частности, стоит задача определить для каждого конкретного региона, какую долю от его общей территории должны составлять ненарушенные (или восстановленные после нарушения) экосистемы и каковой может быть предельно допустимая хозяйственная нагрузка на остальную плошадь. Обшая теоретическая основа для решения таких задач уже существует. Это концепция биотической регуляции.
Обратим внимание, что вся природоохранная тактика до недавнего времени, следуя методологии дарвинизма, ориентировалась, с одной стороны, на сохранение отдельных видов и резерватов, а с другой — на поддержание слабых и их ограждение от конкуренции, вразрез с этой доктриной.
Настало время осознать, что лучший способ сохранения биоты состоит в том, чтобы не препятствовать ее естественной эволюции. Для этого важно научиться отличать естественные процессы от антропогенно-деградационных. Применительно к отдельным видам это означает дифференцированное отношение к естественно вымирающим (каковыми были, например, дикий скалистый голубь или стеллерова корова) и исчезающим под воздействием человеческой деятельности. В этом случае лучше сконцентрировать силы и средства на спасении вторых.
От эволюционной теории всегда рассчитывали получить рецепт грамотного управления развитием отдельных видов и целых сообществ. Дарвинизм, отвергая направленный характер эволюции, мог предложить вероятностный прогноз. Новая недарвиновская модель при сохранении условий для продолжения естественной эволюции способна, опираясь на законы гомологических рядов, конвергенции и меронной организации разнообразия, предсказать с достаточной степенью точности не только тенденцию дальнейшею развития отдельных групп организмов, но и появление новых форм с определенными морфологическими характеристиками.
Однако беспрецедентный характер нынешнего глобального экологического кризиса крайне затрудняет, если не исключает, достоверное прогнозирование. По мнению многих авторитетных специалистов, мы имеем дело сейчас не столько с эволюцией, сколько с деградацией биосферы и ее компонентов, когда рассогласование в работе биологических систем разных уровней дошло до распада видовых генетических программ. Возможно, живая природа уже вступила в фазу необратимой деградации, когда она оказывается неспособной найти эволюционный выход их создавшегося кризиса. И действительно, кроме как в мире микробов и вирусов, мы не видим, чтобы сейчас происходило то бурное видообразованне, которое должно было бы наблюдаться согласно новой модели. Зато вымирание видов идет семимильными шагами.
Продолжая расширять сферу своего «контролирующего» воздействия на живую природу, человек все чаще сталкивается с его негативными последствиями. В целом надо сказать, что все выведенные человеком формы домашних животных и культурных растений своим существованием противоречат принципам функционирования биосферы, поскольку по сравнению со своими дикими сородичами ослабляют интенсивность биотического круговорота. Искусственно созданные агроиенозы по устойчивости, а часто и по продуктивности сильно уступают естественным. Для своего сохранения и новые формы, и агроценозы нуждаются в постоянной поддержке человека.
В то же время искусственные сообщества становятся местами массового размножения сорных трав, мышевидных грызунов, возбудителей различных заболеваний. Урбанизированные территории повсеместно обживают одни и те же синантропные виды — крысы, голуби, вороны, тараканы. Устойчивость многих видов вредных насекомых и грызунов к химическим средствам борьбы возросла в десятки и сотни раз. 8 микромире происходят опасные эволюционные сдвиги. Человечество столкнулось с возбудителями новых трудноизлечимых болезней и возрождением старых, казалось бы, уже давно побежденных. Все эти факты говорят о том, что управление природой выглядит довольно призрачным.
Пора менять стратегию, пока, возможно, еще есть время. Вернем в лоно природы часть земли, которую мы отняли у нее по собственной слепоте и самонадеянности! Будем действовать, чтобы, проснувшись однажды, не почувствовать, что у нас не осталось шансов на будущее. Тогда уже точно никакая теория не поможет.
Люди так устроены, что их коллективное сознание всегда отстает от реалий бытия. Наше поведение по отношению к живой природе отстало на целую эпоху. Автор будет считать себя удовлетворенным, если данная книга поможет сократить этот разрыв.
Литература
Эволюционная идея до Дарвина (вместо введения)
Дарвин Ч. Происхождение видов // Соч. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1939. Т. 3. С. 253–680.
Кювье Ж. Рассуждение о переворотах на поверхности земного шара. М.; Л.: Биомедгиз, 1937.
Ламарк Ж. Б. Избр. произв. М.: Изд-во АН СССР, 1955. Т. I. 1959. Т. 2.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20.
Парамонов А. А. Курс дарвинизма. М.: Сов. наука, 1945.
Пузанов И. И. Жан Батист Ламарк. М.: Учпедгиз, 1959.
Глава 1
Лил Я. М. Вьюрки Дарвина — «яблоко Ньютона»? // Природа. 1987. № 12. С. 46–56.
Галл Я. М. К истории создания «Происхождения видов» // Ч. Дарвин. Происхождение видов путем естественного отбора. СПб.: Наука, 1991. С. 457–488.
Галл Я. М. Становление эволюционной теории Чарлза Дарвина. СПб.: Наука, 1993.
Галл Я. М. О методе создания дарвиновской теории эволюции // Эволюция материи и ее структурные уровни. М., 1981. С. 97–98.
Данилевский Н. Я. Дарвинизм. Критическое исследование. СПб., Т. 1. 1885. Ч. 1, 2; Т. 2. 1889.
Дарвин Ч. Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль» // Соч. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1935. Т. 1.
Дарвин Ч. Воспоминания о развитии моего ума и характера (Автобиография). М.: Изд-во АН СССР, 1957.
Дарвин Ч. Очерк (скетч) 1842 года // Соч. 1939а. Т. 3. С. 79–112.
Дарвин Ч. Очерк 1844 года // Соч. 1939б. Т. 3. С. 113–239.
Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора // Соч. 1939 в. Т. 3. С. 253–680.
Дарвин Ч. Изменения домашних животных и культурных растений // Соч. 1951. Т. 4.
Дарвин Ч. Автобиография // Ч. Дарвин. Соч. 1959. Т. 9.
Конт О. Курс положительной философии. СПб., 1901. Т. 2.
Красилов В. А. Периодичность развития органического мира // Палеонтол. журн. 1987. № 3, С. 9—15.
Кропоткин П. А. Взаимопомощь как фактор эволюции. М., 1918.
Любищев А. А. Проблемы формы, систематики и эволюции организмов. М.: Наука, 1982.
Назаров В. И. Эволюционная теория во Франции после Дарвина. М.: Наука, 1974.
Овчинников Н. Ф. Об интеллектуальной биографии Поппера // Вопросы философии. 1995. № 12. С. 35–38.
Парамонов А. А. Дарвинизм. М.: Просвещение, 1978.
Поппер А. Логика и рост научного познания. М.; Прогресс, 1983.
Поппер К. Дарвинизм как метафизическая исследовательская программа // Вопросы философии. 1995. N?] 2. С. 39–49.
Рьюз М. Философия биологии. М.: Прогресс, 1977.
Уоллес А. Р. Дарвинизм. Изложение теории естественного отбора и некоторых из ее приложений. М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1911.
Филипченко Ю. А. Эволюционная идея в биологии. М., 1923.
Чайковский Ю. В. Перед выходом «Происхождения видов» // ВИЕТ. 1981. № 4. С. 79–86.
Чайковский Ю. В. Истоки открытия Ч. Дарвина: Опыт методологического анализа // Природа. 1982. № 6. С. 87–94.
Чайковский Ю. В. Рождение дарвинизма // Теоретические проблемы современной биологии. Пущино, 1983. С. 94—103.
Чайковский Ю. В. Элементы эволюционной диатропики. М.: Наука, 1990.
Чайковский Ю. В. К общей теории эволюции // Путь. 1993. № 4. С. 101–141.
Чайковский Ю. В. Невостребованный синтез. Об эволюционных взглядах Карла Поппера // Вопросы философии. 1995. № 12. С. 50–54.
Юдин Б. Г. Философия биологии и неопозитивизм. D. Hull. Philosophy of biological Science. 1974 (рецензия) // О специфике биологического познания. М., 1987. С. 148–152.
Яблоков А. В. Зарождение теории естественного отбора в Записных книжках Ч. Дарвина // Ч. Дарвин. Происхождение видов путем естественного отбора, СПб.: Наука, 1991. С. 448–456.
Cohen I. L. Darwin was wrong — A study in probabilities. N. Y.: New Reseach Publ., 1985.
Darwin Ch. The Red notebook // Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. (Hist. Ser.), 1980. Vol. 7. P. 31–164.
Darwin Ch. Notebooks on transmutation of species. Pages excised by Darwin // Bull. Brit. Mus. Nat. Hist, (Hist. Ser.). 1967. Vol. 3. № 5. P. 113–176.
Darwin Ch. On the origin of species. A facsimile of the first edition. Cambridge (Mass.), 1964.
Darwin Ch. Natural selection: Written from 1856 to 1858 / Ed. R. Stauffer. Cambridge, 1975.
Flourens P. Examen du livre de M. Darwin. P., 1864.
Gause G. F. The struggle for existence. Baltimore: Williams a. Wilkins, 1934.
Ghiselin М. T. The triumph of the darwinian method. Berkley a Los Angeles, Univ. California Press, 1969.
Ghiselin M. T. The intellectual path to natural selection // New Scientist. 1982. Vol. 94. № 1301. P. 156–159.
Global biodiversity status of the Earth’s living resources. World conservation monitoring cenre / Red. B. Grumbridge. L.: Chapman Hall, 1992.
Gruber H. Darwin on man: A psychological study of scientific creativity. N. Y., 1974.
Herbert S. Introduction to Red notebook of Ch. Darwin // Ch. Darwin. The Red notebook. L., 1980. P. 5–29.
Kohn D. Theories to work by: rejected theories, reproduction and Darwin’s path to natural selection // Rfud. Hist. Biol., 1980. Vol. 4. P. 67—170.
Lack D. Darwin’s finches. Cambridge, 1947.
Mayr E. Darwin and the Evolutionary theory in Biology // Evolution and Anthropology: a centennial appraisal. Washington, 1959. P. 1—10.
Mayr E. Evolution and diversity of life: Selected essays. Cambridge (Mass.). L.: Belknap press of Harvard Univ. Press, 1979. 721 p.
Mayr E. The growth of biological thought. Diversity, evolution and inheritance. Cambridge (Mass.); L.: Belknap press of Harvard Univ. Press, 1982. 974.
Mivart St. G. On the genesis of species. L., 1871.
Naudin Ch. Mémoire manuscrit couronné par l’Académie. P., 1853. P. 188, 197, 201, 216.
Oldroyd D. How did Darwin arrive at his theory? The secondary literature to 1982 // Hist. Sci. 1984. Vol. 22. Pt. 4. № 58. P. 325–374.
Ospovat O. The development of Darwin’s theory. Cambridge, 1981.
Ospovat D. God and natural selection: the Darwinian idea of design // J. Hist. Biol. 1980. Vol. 13. № 2. P. 169–194.
Popper K. Chapter VI. Natural selection and emergence of mind // Evolutionary epistemology, rationality and the sociology of knowledge. Ed. by G. Radnitzky and W. W. Bartley, III. La Salle (Illinois): Open Court, 1987. P. 139–153.
Popper K. Unended Quest. La Salle (Illinois), 1990.
Porter R. Malthus and Darwin // Hist. Sci. 1987. Vol. 25. Pt. 2. № 68. P. 215–216.
Quatrefages A. de. Les Émules de Darwin. P., 1894.
Quatrefages A. de. Ch. Darwin et ses précurseurs frangais. P., 1870.
Ruse M. The Darwinian revolution; Science red in tooth a. claw. Chicago; L.: Univ. of Chicago Press, 1979. P. 22–29.
Ruse M. Is science exist? And other problems in biomedical scieces. Dordrecht etc.: Riedel, 1981.
Schweber S. The wide British context in Darwin’s theorizing // The Darwinian heritage. Princeton Univ. Press. 1985. P. 35–70.
Wigand A. Der Darwinismus und die Naturforschung Newtons und Cuviers. 3 Bande. Braunschweig: Vieweg, 1874–1877.
Глава 2
Алтухов Ю. П. Генетика популяций рыб // Природа. 1971. № 3. С. 44–57.
Алтухов Ю. П. Популяционная генетика рыб. М.: Пищ. пром-сть, 1974.
Алтухов Ю. П. Генетические процессы в популяциях. М.: Наука, 1983.
Алтухов Ю. П. О соотношении моно- и полиморфизма гемоглобинов в микроэволюции рыб // ДАН СССР. 1969. Т, 189. № 5. С. 1115–1117.
Воронцов Н. Н. 10 постулатов СТЭ // Знание — сила. 1978. № 9. С. 21–30.
Воронцов Н. Н. Синтетическая теория эволюции: ее истоки, основные постулаты и нерешенные проблемы // Журн. Всесоюз. хим. об-ва им. Д. И. Менделеева. 1980. Т. 25. № 3. С. 291–315.
Воронцов Н. Н. Теория эволюции: истоки, постулаты, проблемы. М.: Знание, 1984.
Галл Я. М., Георгиевский А. Б. СТЭ как современный этап развития дарвинизма // Биология в школе. 1973. № 3. С. 7–15.
Галл Я. М., Георгиевский А. Б., Колчинский Э И. Дарвинизм: история и современность // Биология в школе. 1983. № 1. С. 13–21.
Галл Я. М., Конашев М. Б. О формировании синтетической теории эволюции // Вопросы развития эволюционной теории в XX веке. Л.: Наука, 1979. С. 74–84.
Гродницкий Д. Л. Две теории биологической эволюции. Красноярск, 2000.
Завадский К. М., Колчинский Э. И., Ермоленко М. Т. Главные этапы развития эволюционной теории // Развитие эволюционной теории в СССР. Л.: Наука, 1982. С. 8–43.
Кимура М. Молекулярная эволюция: теория нейтральности. М.: Мир, 1985.
Красилов В. А. Нерешенные проблемы теории эволюции. Владивосток, 1986.
Левонтин Р. Генетические основы эволюции. М.: Мир, 1978.
Любищев А. А, О постулатах современного селектогенеза // Проблемы эволюции. Т. 3. Новосибирск; Наука, 1973. С. 31–56.
Любищев А. А. Проблемы формы, систематики и эволюции организмов. М.: Наука, 1982.
Майр Э. Систематика и происхождение видов. М.: Ин. лит., 1947.
Майр Э. Зоологический вид и эволюция. М.: Мир, 1968.
Маленков Г. Г., Чайковский Ю. В. Выживание мутантного клона. Сообщение III. Катастрофический отбор. Недостаточность коэффициента отбора для оценки судьбы клона // Генетика. 1979. № 10. С. 1809–1816.
Медников Б. М. Проблема видообразования и адаптивные нормы // Журн. общ. биол. 1987. Т. 48. С. 15–26.
Мещерякова Н. А. СТЭ и номогенез: логические возможности и эволюционистские притязания // Методология биологии: новые идеи. М.: УРСС, 2001. С. 131–150.
Микитенко Д. А. Влияние генетики на формирование и развитие синтетической теории эволюции // Методологические аспекты эволюционного учения. Киев: Наукова думка, 1986. С. 122–137.
Назаров В. И. Вклад французских зоологов в экологическую генетику популяций и синтетическую теорию эволюции // Экология и синтетическая теория эволюции. Л.: Наука, 1984. С. 153–165.
Парамонов А. А. Дарвинизм. М.: Просвещение, 1978.
Рычков Ю. Г. Реакция популяций на изоляцию // Проблемы эволюции. Новосибирск: Наука, 1968. Т. I. С. 212–236.
Рычков Ю. Г. Некоторые популяционно-генетические подходы к антропологии Сибири // Вопросы антропологии. 1969. № 33. С. 16–33.
Рычков Ю. Г. Система древних изолятов человека в Северной Азии в свете проблем стабильности и эволюции популяций // Вопросы антропологии. 1973. № 44. С. 3–22.
Рьюз М. Философия биологии. М.: Прогресс, 1977.
Рэфф Р., Кофмен Т. Эмбрионы, гены и эволюция. М.: Мир, 1986.
Симпсон Дж. Г. Темпы и формы эволюции. М.: Ин. лит., 1948.
Холдейн Дж. Факторы эволюции. М.: Биомедгиз, 1936.
Четвериков С. С. О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения современной генетики // Классики советской генетики. Л.: Наука, 1968. С. 133–170.
Шварц. С. С. Принципы и методы современной экологии животных // Тр. Ин-та биологии Урал. фил. АН СССР. Вып. 21. Свердловск, 1960. С. 3–30.
Эволюция генома / Ред. Г. Доувер, Р. Флейвелл. М.: Мир, 1986.
Яблоков А. В., Юсуфов А. Г. Эволюционное учение. М: Высш. школа, 1976.
Adams М. В. La génétique des populations était-elle une génétique évolutive? // Sinthese. 1988.
De Beer G. Homology: An unsolved problem. L.: Oxford Univ. Press, 1971.
Denton M. Evolution: A theory in crisis. Bethesda (US.): Alder a Alder, 1986.
Dobrftansky Th. Genetics and the origin of species. N. Y.: Columbia Univ. Press, 1937.
Dover G. A. A role for the genome in the origin of species? // Mechanisms of speciation. N. Y.: Lis, 1982.
Fisher R. A. The genetical theory of natural selection. Oxford: Dover Publ., 1930.
Gould S. J. Evolution now. A century after Darwin. San Francisco: Freeman, 1982. P. 129–145.
Grassé P.-P. L’évolution du vivant. Matériaux pour une nouvelle théorie transformiste. P.: Michel, 1973.
Haldane J. B. S. The causes of evolution. N. Y.: Harper a. Bros, 1932.
Haldane J. B. S. The cost of natural selection // J. Genet. 1957. Vol. 55. P. 511–524.
Haldane J. B. S. A defence of beanbag genetics // Perspect. Biol. Med. 1964. Vol. 7. P. 343–359.
Huxley J. S. Evolution, the modern synthesis. L.: Allen a. Unwin, 1942.
Kimura M. Genetic variability maintained in a finite population due to mutational production of neutral and nearly neutral isoalleles // Genet. Res. Camb. 1968. Vol. 11. P. 247–269.
Lamotte M. Recherches sur la structure génétique des populations naturelles de Cepaea nemoralis (L) // Bull. biol. France et Belg. Suppl. 1951. Vol. 35. P. 1–239.
Mayr E. Systematics and the origin of species. N. Y.: Columbia Univ. Press, 1942.
Mayr E. The growth of biological thought. Diversity, evolution, and inheritance. Cambridge (Mass.); L.: Belknap Press of Harvard Univ. Press, 1982. 974 p.
Mayr E. Where are we? // Cold Spring Harbor Symp. Quant. Biol. 1959. Vol. 24. P. 1–14.
Provine W. B. The origins of theoretical population genetics. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1971.
Wright S. Evolution in the Mendelian populations // Genetics. 1931. Vol. 16. P. 97–159.
Глава 3
Алтухов Ю. П., Рычков Ю. Г. Генетический мономорфизм видов и его возможное биологическое значение // Журн. общ. биол. 1972. Т. 33. № 3. С. 281–300.
Алтухов Ю. П. Генетические процессы в популяциях. М.: Наука, 1983.
Борзенков В. Г. Философские основания теории эволюции. М.: Знание, 1987.
Борзенков В. Г., Северцов А. С. К вопросу о специфике детерминирующих факторов и закономерностей макроэволюции // Диалектика в науках о природе и человеке: Эволюция материи и ее структурные уровни. М.: Наука, 1983. С. 346–350.
Вавилов Н. И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Л.: Наука, 1967.
Воронцов Н. Н. Теория эволюции: истоки, постулаты и проблемы. М.: Знание, 1984.
Воронцов Н. Н. Виды хомяков Палеарктики (Cricetinae-Rodentia) in statu nascendi // ДАН СССР. 1960. Т. 132. № 6. С. 1448–1451.
Воронцов Н. Н. Синтетическая теория эволюции: ее истоки, основные постулаты и нерешенные проблемы // Журн. Всесоюзн. хим. об-ва им. Д. И. Менделеева. 1980. Т. 25. № 3. С. 295–314.
Воронцов Н. Н., Ляпунова Е. А. Широкая изменчивость хромосом и вспышки хромосомного видообразования в сейсмически активных районах // ДАН СССР. 1984. Т. 277. № 1. С. 214–218.
Галл Я. М. Исследования причин эволюции в трудах И. И. Шмалыаузена // Развитие эволюционной теории в СССР. Л.: Наука, 1983. С. 252–266.
Герасимова Т. Н., Малютина Л. В., Мирзохи Л. Ю. и др. Множественные транспозиционные события в отдельных герминативных клетках в нестабильных линиях Drosophila melanogaster // Генетика. 1984а. Т. 20. № 9. С. 1434–1443.
Герасимова Т. Н., Мирзохи Л. Ю., Георгиев Г. П. «Транспозиционные взрывы» в отдельных зародышевых клетках при генетической дестабилизации у Drosophila melanogaster // ДАН СССР. 19486. Т. 274. № 6. С. 1473–1476.
Голубовский М. Д. Мутационный процесс и микроэволюция // Тез. докл. XIV Междунар. генет. конгр. М.: Наука, 1978. С. 94–95.
Голубовский М. Д., Иванов Ю. Н., Захаров И. К., Берг Р. Л. Исследование синхронных и параллельных изменений генофондов в природных популяциях плодовых мух Drosophila melanogaster // Генетика. 1974. Т. 10. № 4. С. 72–83.
Голубовский М. Д. Век генетики: Эволюция идей и понятий. СПб.: Борей Арт, 2000.
Дубинин Н. П. Экспериментальное исследование интеграции наследственных систем в процессах эволюции популяций // Журн. общ. биол. 1948. Т. 9. № 3. С. 203–244.
Дубинин Н. П. Синтетическая теория эволюции // Экологическая генетика и эволюция. Кишинев: Штиинца, 1987. С. 7—49.
Завадский К. М. О причинах эволюции в сторону арогенеза // Закономерности прогрессивной эволюции. Л., 1972. С. 135–148.
Завадский К. М. К пониманию прогресса в органической природе // Проблема развития в природе и обществе. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 79–120.
Завадский К. М. Вид и видообразование. Л.: Наука, 1968.
Завадский К. М. К исследованию движущих сил арогенеза // Журн. общ. биол. 1971. Т. 32. № 5. С. 515–529.
Завадский К. М. Развитие эволюционной теории после Дарвина. Л.: Наука, 1973.
Корочкин Д. И. Генетика развития и некоторые молекулярные моменты эволюции (гипотеза) // Молекулярная генетика и биофизика. Киев: Виша шк., 1984. Вып. 9. С. 75–82.
Красилов В. А. Предисловие // Эволюционные исследования: Макроэволюция / Ред. В. А. Красилов. Владивосток, 1984а.
Красилов В. А. Теория эволюции: необходимость нового синтеза // Там же. 19846. С. 4–12.
Красилов В. А. Эволюция и биостратиграфия. М.: Наука, 1977.
Красилов В. А. Нерешенные проблемы теории эволюции. Владивосток, 1986.
Морган Т. Г. Развитие и наследственность. М.; Л.: Биомедгиз, 1937.
Назаров В. И. Финализм в современном эволюционном учении. М.: Наука, 1984.
Паавер К. Л. Проблема целостного изучения процесса эволюции // Мат. симп. «Микро- и макроэволюция». Тарту, 1980. С. 32–36.
Паавер К. Л. Изучение видообразования и новые модели процесса эволюции // Вопросы современного дарвинизма. Тарту: Тарт. ун-т, 1983. С. 115–133.
Пригожим И., Николае Ж. Биологический порядок, структура и неустойчивость // Успехи физ. наук. 1973. Т. 109. № 3. С. 517–544.
Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. М.: Прогресс, 1986. Изд. 4. М.: УРСС, 2003. Изд. 5. М.: КомКнига / URSS, 2005.
Рьюз М. Философия биологии. М.: Прогресс, 1977.
Северное А. С. Введение в теорию эволюции. М.: Изд-во МГУ, 1981.
Старобогатов Я. И. Эволюция экосистем // Методологические проблемы эволюционной теории. Тарту, 1984.
Татаринов Л. П. Очерк теории эволюции. М.: Наука, 1987.
Тахтаджян А. Л. Макроэволюционные процессы в истории растительного мира // Бот. журн. 1983. Т. 68. № 12. С. 1593–1603.
Тимофеев-Ресовский Н. В. О взаимоотношениях мнкро- и макроэволюции // Мат. симп. «Микро- и макроэволюция». Тарту, 1980. С. 51–57.
Тимофеев-Ресовский Н. В., Яблоков А. В. Микроэволюция: Элементарные явления, материал и факторы эволюционного процесса. М.: Знание, 1974.
Тимофеев-Ресовский Н. В., Воронцов Н. Н., Яблоков А. В. Краткий очерк теории эволюции. М.: Наука, 1969.
Филипченко Ю. А. Эволюционная идея в биологии. М.: Сабашниковы, 1923, 2-е изд. 1926.
Филипченко Ю. А. Эволюционная идея в биологии. 3-е изд. М.: Наука, 1977.
Филипченко Ю. А. Генетика мягких пшениц. М.; Л.: Сельхоэгиз, 1934.
Филипченко Ю. А. Изменчивость и методы ее изучения. 3-е изд. М.; Л.: Госиздат, 1927.
Фриз Г. де. Теория мутаций: Мутации и мутационные периоды в происхождении видов // Теория развития. СПб., 1904. С. 185–212.
Фриз Г. де. Филогенетическое и групповое образование видов (1918) // Г. де. Фриз. Избр. произ. М.: Медгиз, 1932.
Хесин Р. Б. Некоторые неканонические механизмы наследственности // Генетика. 1981. Т. 17. № 7. С. 1159–1172.
Хесин Р. Б. Непостоянство генома. М.: Наука, 1984.
Хесин Р. Б. Непостоянство генома // Молек. биол. 1980. Т. 14. № 6. С. 1205–1233.
Четвериков С. С. О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения современной генетики (1926) // Классики советской генетики. Л.: Наука, 1968. С. 133–170.
Чураев Р. Н. Гипотеза об эпигенс // Исследования по математической генетике. Новосибирск: Ин-т цитологии и генетики СО АН СССР, 1975. С. 77–92.
Шварц С. С. Экологические закономерности эволюции. М.: Наука, 1980.
Югай Г. А. Общая теория жизни. М.: Мысль, 1985.
Яблоков А. В., Юсуфов А. Г. Эволюционное учение. М.: Высш. шк., 1976.
Anthony R., Cuénot L. Enquête sur le problème de l’hérédité conservatrice: les collosités carpiennes du Phacochère // Rev. gén. sci. 1939. Vol. 50. N. 12. P. 313–320.
Baur E. Einführung in die experimentelle Vererbungslehre. B.: Bomtraeger, 1919.
Beurton P. Methodological aspects of the relation between micro- and macroevolution // Морфологические исследования животных / Ред. М. С. Гиляров. М.: Наука, 1985.
Britten R. J., Davidson Е. Н. Gene regulation for higer cells. A theory // Science. 1969. Vol. 165. P. 349–357.
Britten R. J., Davidson E. H. Repetitive and non-repetitive DNA sequences and a speciation on the origin of evolutionary novelty // Quart. Rev. Biol. 1971. Vol. 46. P. 111–138.
Bush G. L., Case S. М., Wilson A. C., Patton J. L. Rapid speciation and chromosomal evolution in mammals // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 1977. Vol. 74. P. 3942–3946.
Carson H. L. The genetics speciation at the diploid level // Amer. Natur. 1975. Vol. 109. P. 83–92.
Cuénot L. L’évolution des théories transformistes // Rev. gén. sci. 1901. Vol. 12. P. 264–269.
Cuénot L. L’adaptation. P.: Doin, 1925; Idem, Le mutationnisme. 4. La genèse des espèces nouvelle // Sci. modeme. 1929. P. 481–493; Idem. Finalité et invention en biologie // Mém. Soc. sci. Nancy. Sér. 6. 1936. Vol. 4. P. 27–45.
Cuénot L. La genese des espèces animales. P.: Alcan, 1921.
Dalcq A. Les ontomutations à l’origine des mammifères // Bull. Soc. zool. France. 1954. Vol. 79. P. 240–255.
Dobzhansky Th. Genetics and the Origin of species. 3d Ed. N. Y.: Columbia Univ. Press, 1951.
Dobzhansky Th. Genetics of the evolutionary process. N. Y.; L.: Columbia Univ. Press, 1970.
Eldredge N., Gould S. J. Punctuated equilibria: an alternative to phyletic gradualism // Models in paleobiology. San Francisco; Freeman a. Cooper, 1972. P. 82–115.
Goldschmidt R. The material basis of evolution. N. Y.; L.: Yale Univ. Press, 1940.
Goldschmidt R. Physiologiche Theorie der Vererbung. B.: Springer, 1927.
Goldschmidt R. Physiological genetics. N. Y.: McGraw-Hill, 1938.
Goldschmidt R. Some aspects of evolution // Science. 1933. Vol. 78. P. 539–547.
Gould S. J. The return of hopeful monsters // Natur. Hist. 1977. Vol. 86. P. 22–30.
Greenbaum J. F., Baker R. J., Ramsey P R. Chromosomal evolution and the. mode of speciation in three species of Peromyscus // Evolution. 1978. Vol. 32. P. 646–654.
Huxley J. S. Evolutionary processes and taxonomy with special reference to grades // Upsala Univ. Arsskr. 1958. N 6. P. 21–39.
Huxley J. S. Evolution, the modern synthesis. L.: Allen a. Unwin, 1942.
Johansen W. Experimentelle Grundlagen der Deszendenzlehre // Kultur t Gegenwart. 1915, Bd. 3. N 1/4.
Johansen W. Elemente der exacten Erblichkeitslehre. Jena: Fischer, 1909. 2 Aufl, 1926.
King М.-C., Wilson A. C. Evolution at two levels in Humans and chimpanzees // Science. 1975. Vol. 188. P. 107–116.
Maynard Smith J. Evolution and the theory of games. Cambridge: Cambridge univ. Press, 1982.
Mayr E. The growth of biological thought. Diversity, evolution and inher-itance. Cambridge (Mass); L.: Belknap press of Harvard Univ. Press, 1982.
Morgan Т. Н. The physical basis of heredity. Philadelphia; L.: Lippincott, 1919.
Ohno S. Evolution by gene duplication. B.; Heidelberg; N. Y.: Springer, 1970.
Olson E. C. The evolution of life. L.: Weidenfeld a. Nicolson, 1965.
Philiptschenko Y. A. Variabilitat und Variation. B.: Bomtraeger, 1927.
Powell J. R, The founder-flush speciation theory: An experimental approach // Evolution. 1978. Vol. 32. P. 465–474.
Rensch В. Neuere Probleme der Abstammungslehri. Die trasspezifische Evolution. Stuttgart: Enke, 1947. 2 Aufl. 1954.
Simpson G. G. Tempo and mode in evolution. N. Y.: Columbia Univ. Press, 1944.
Stanley S. M. Macroevolution. Pattern and process. San Francisco: Freeman, 1979.
Timofeeff-Ressovsky N. W. Experimentelle Mutatiosforschung in der Vererbungslehre. Dresden; Leipzig: Sleinkopff, 1937.
Valentine J. W., Campbell C. A. Genetic regulation and the fossil record // Amer. Sci. 1975. Vol. 63. P. 673–680.
Vries H. de. Die Mutationstheorie. In 2 Bd. Leipzig: Von Veit. Bd. I. 1901; Bd. 2. 1903.
Vries H. de. Phylogenetische und gruppenweise Artbildung // Flora. 1918. Bd. 1. N 11. P. 208–226.
Waagen W. Formenreihe des Ammonites subradiatus. Geognostisch-palaontologische Beitrage. Bd. 2. Munchen, 1869. S. 179–256.
White M. J. D. Animal cytology and evolution. 3rd ed. Cambridge: Cambr. Univ. Press, 1973.
White M. J. D. Chain processes in chromosomal speciation // Syst. Zool, 1978. Vol. 27. P. 285–298.
Wilson A. C., Sarich V. M., Maxson L. R. The importance of gene rearrangement in evolution: evidence from studies on rates of chromosomal protein and anatomical evolution // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 1974, Vol. 71. P. 3028–3030.
Wright S. Genetic and organismic selection // Evolution. 1980. Vol. 34. P. 825–843.
Глава 4
Майр. 1968. См. гл. 2.
Назаров. 1984. См. гл. 3.
Соре E. D. The origin of the fittest. Essays on evolution. G.; N. Y., 1887.
Cope E. D. The primary factors of organic evolution. Chicago: Open court publ. Co., 1896.
Глава 5
Аронова E. A. Неумирающий ламаркизм: падения и взлеты // Биология (еженедел. прилож. к газете «Первое сентября»), 1997. № 41. С. 13; № 42. С. 2–3.
Аронова Е. А. Различные теоретические подходы к описанию и объяснению явления наследственности в первой половине XX века // ИИЕТ им. С. И. Вавилова. Годич. науч. конф. М.: Янус-К, 2000б. С. 22–32.
Аронова ЕЛ. Современная иммунология: споры о ламаркизме (центральная догма молекулярной биологии и теории образования антител // ИИЕТ им. С И. Вавилова. Годич, науч. конф. М.: Янус-К, 2000а. С. 127–132.
Бергсон А. Творческая эволюция. М.; СПб., 1914.
Завадский К. М. Развитие эволюционной теории после Дарвина. Д.: Наука, 1973.
Завадский К. М., Колчинский Э. И. Эволюция эволюции. Л.: Наука, 1977.
Костантзн Ж. Растения и среда. М., 1908.
Майр Э. Зоологический вид и эволюция. М.: Мир, 1968.
Назаров В. И. Эволюционная теория во Франции после Дарвина. М.: Наука, 1974.
Спенсер Г. Недостаточность естественного отбора (1893). СПб., 1894.
Спенсер Г. Основания биологии (1864). СПб., 1870.
Стил Э. Дж., Линдли Р. А., Пламбэн Р. В. Что, если Ламарк прав? Иммуногенетика и эволюция. М.: Мир, 2002.
Филипченко Ю. А. Эволюционная идея в биологии. Исторический обзор эволюционных учений XIX века. М.: Сабашниковы, 1923.
Филипченко Ю. А. Эволюционная идея в биологии. 3-е изд. М.: Наука, 1977.
Франсэ Р. Философия естествознания. Современное положение дарвинизма. СПб., 1908.
Boivin A. Directed mutation in colon bacilli by an inducing principle of desoxyribonucleic nature: its meaning for the general biochemistry of heredity // Cold Spr. Harb. Symp. Quant. Biol. 1947. Vol. 12. P. 7–17.
Bonnier G. Cultures exptérimentales dans les Alpes et les Pyrénées // Rev. gén. Bot. 1894. T. II. P. 513; Recherches expérimentaies sur I’adaptation des plantes au climat alpin // Ann. sci. nat. Bot, 1894, Т. XX, P. 117–360; Les plantes arctiques et les plantes alpines comparées aux même especes des Alpes et des Pyrénnées // Rev. gén. Bot. 1894. Т. VI. P. 505–528.
Burnet P. M., Fenner F. Genetics and immunology // Heredity. 1948. Vol. 2. P. 289–324.
Burnet F. M. The production of antibodies. L.; N. Y.: Macmillan, 1941.
Burnet P. M., Fenner F. The production of antibodies. 2d ed. L.: Macmillan, 1949.
Cope E. D. The primary factors of organic evolution. Chicago, 1896.
Cope E. D. On the origin of genera // Proc. Acad. Nat. Sci. of Philadelphia. 1868. P. 242–300.
Cope E. D. The origin of the fittest. Essays on evolution. L.; N Y., 1887.
Coutagne G. Recherches expeérimentaies sur I’hérédite chez les versà soie // Bull. Sci. Franse et Belg. 1903. Т. XXXVII. P. 1–194.
Eimer Th. Die Entstehung der Arten auf Grund von Vererben erworbener Eigenschaften nach den Gesetzen des organischen Wachsens. Leipzig: Englmann, 1888. Idem. Aufl. 2. 1897.
Eimer Th. Orthogenesis der Schmetterlinge. Leipzig: Englmann, 1897.
Giard A. Les facteurs de l’évolution // Rev. sci. 1889. T. XLIV. № 21. P. 641–648.
Giard A. Les controverses transformistes // Rev. sci. 1874. 2e ser. P. 25–35.
Giard A. Controverses transformistes. P., 1904.
Giard A. L’évolution dans les sciences biologiques. L., 1907.
Haake W. Gestaltung ued Vererbung. Eine Entwicklungsmechanik der Organismen. Leipzig: Weigel, 1893.
Jollos V. Inherited changes produced by heat treatment in Drosophila melanogaster // Genetics. 1934. Vol. 16. P. 476–494.
Lacaze-Duthiers H. de. De Lamarck. P., 1866.
Le Dantes F. Les théories néo-lamarckiennes // Rev. philosoph. 1897. T. XLIV. P. 449–475, 561–590.
Le Dantes F. Les limites du connaissable. P., 1908.
Le Dantes F, Elements de philosophic biologique. P., 1908.
Lindegren C. C., Lindegrett G. The cytogene theory // Cold Spr. Harb. Symp. Quant. Biol. 1946. Vol. 11. P. 115–129.
Lindegren C. C. The yeast cell, its genetics and cytology. St. Louis: Educat. Publ, 1949.
Nägeli C. Mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungslehre. München, 1884.
Pierre-Jean. Theorie de la vie. La Psychologie organique. P., 1925.
Spenser H. The factors of organic evolution. L., 1896.
Steele E. J. Somatic selection and adaptive evolution — on the inheritance of acquired characters. Toronto, 1979.
Winkler H. Uber die Rolle von Kern und Protoplasma bei der Vererbung // Zeitschrift für inductive Abstammungs und Vererbunslehre. 1924. Bd. 33. S. 238–253.
Wintrebert P. Le Lamarckisme chimique // C. R. Ac. Sci. 1949. Vol. 228. № 13. P. 1079–1082.
Wintrebert P. Le vivant créateur de son éEolution. P.: Masson, 1962.
Глава 6
Аристотель. Метафизика. М.; Л.: Соцгиз, 1934. Изд. 3.M.: URSS, 2007.
Аристотель. Физика. М.: Соцгиз, 1936.
Берг Л. С. Номогенез или эволюция на основе закономерностей // Труды по теории эволюции. Л. Наука, 1977. С. 95—311.
Бергсон, 1914. См. гл. 5.
Бляхер Л. Я. История эмбриологии в России. М.: Изд-во АН СССР, 1955.
Бляхер Л. Я. Разногласия историков биологии в оценке теоретических, в частности эволюционных, воззрений Карла Бэра // Folia Baeriana, III. Tallin: Esti NSV Teaduste Akademia, 1978. C. 11–17.
Воробьева Э. И. Морфология и особенности эволюции кистеперых рыб // Тр. Палеонтол. ин-та АН СССР. 1977. Т. 163. С. 1–239.
Воробьева Э. И. Проблема происхождения наземных позвоночных. М.: Наука, 1992.
Давиташвили Л. Ш. Современное состояние эволюционного учения на Западе. М.: Наука, 1966.
Дриш Г. Витализм. Его история и система. М., 1915.
Ермоленко М. Т. Некоторые особенности современного эволюционизма во Франции // Вопросы развития эволюционной теории в XX веке. Л.: Наука, 1979. С. 85–91.
Завадский К. М., Ермоленко М. Т. К критике неономогенеза // Философские проблемы современной биологии. М.; Л.: Наука, 1966. С. 227–233.
Кирпичников B. C. Роль ненаследственной изменчивости в процессе естественного отбора // Биол. журн. 1935. № 4/5. С. 475–800.
Корочкин Л. И. Генетика развития и некоторые молекулярные моменты эволюции (гипотеза) // Молекулярная генетика и биофизика, Киев.: Виша шк., 1984. Вып. 9.С. 75–82.
Корочкин Л. И. Конкуренция преформистской и эпигенетической парадигм в эмбриологии // Философия биологии: вчера, сегодня, завтра. М.: Ин-т филос., 1996. С. 233–255.
Корочкин Л. И. Гены, онтогенез и проблемы эволюционного развития // Эволюционная биология. Т. 1. Томск: ТГУ, 20016. С. 49–72.
Корочкин Л. И. К проблемам биофилософии: некоторые общие принципы организации и функционирования биологического материала // Методология биологии: новые идеи. М.: УРСС, 2001а. С. 177–189.
Корочкин Л. И. Биология индивидуального развития (генетический аспект). М.: Изд-во Моск. унив., 2002.
Ливанов Н. А. Пути эволюции животного мира: Анализ организации главнейших типов многоклеточных животных. М.: Сов. наука, 1955.
Личков Б. Л. Геологические периоды и эволюция живого вещества // Журн. общ. биол. 1945. Т. 6. № 3. С. 157–182.
Личков Б. Л. К основам современной теории Земли. Л.: Изд-во ЛГУ, 1965.
Лукин Е. И. О параллелизме наследственной и ненаследственной изменчивости // Учен. зап. Харьк. ун-та. 1936. № 6/7. С. 199–209.
Майр, 1968. См, гл. 2.
Макаров М. Г. Категория «цель» в домарксистской философии. Л.: Наука, 1974.
Макаров М. Г. Категория «цель» в марксистской философии и критика телеологии, Л.: Наука, 1977.
Макаров М. Г. Причинность и проблема телеологии // Современный детерминизм: Законы природы. М.: Наука, 1973. С. 304–327.
Назаров В. И. Финализм в современном эволюционном учении. М.: Наука, 1984.
Парамонов А. А. Курс дарвинизма. М.: Сов. наука, 1945.
Парамонов, 1978. См. гл. 2.
Соболев Д. Н. Начала исторической биогенетики. Симферополь: Госиздат Украины, 1924. 203 с.
Соболев, 1924. См. гл. 6.
Сутт Т. Я. Проблема направленности органической эволюции. Таллин: Валгус, 1977.
Татаринов Л. П. Палеонтология и эволюционное учение. М.: Знание, 1985.
Фролов И. Т. Детерминизм и телеология // Вопросы философии. 1958. № 2. С. 35–49.
Фролов И. Т. Органический детерминизм, телеология и целевой подход в исследовании // Вопросы философии. 1970. № 10. С. 36–48.
Шмальгаузен И. И. Дарвинизм и теории направленной эволюции // Зоол. журн. 1939а. Т. 18. Вып. 4.С. 544–556.
Шмальгаузен И. И. Организм как целое в индивидуальном и историческом развитии. М; Л.: Изд-во АН СССР, 1938.
Шмальгаузен И. И. Пути и закономерности эволюционного процесса. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 19396.
Anthony R., Cuéпоt L. Enquête sur le problème de i’hérédité conservative: Les collosités carpiennes du Phacochère // Rev. gén. sci. 1939. Vol. 50. № 12. P. 313–320.
Baer K. Zum Streit über den Darwinismus. St. Petersburg Ztd, 1873.
Baer K. Reden gehalten in wissenschaftlichen VersammJungen und KJeinere Aufsatze. Bd. 2. St. Petersburg, 1876.
Beurlen K. Vom Aussteiben derTiere // Natur und Mus. 1933. Bd. 63. № I. S. 1–8; № 2. S. 55–63; № 3. S. 102–106.
Beurlen K. Urweltleben und Abstammungslehre. Stuttgart, 1949.
Cope, 1887, 1896. См. гл. 5.
Cuénot L. L’adaptation. P., 1925.
Cuénot L. Finalite et invention en biologie // Mém. soc. sci. Nancy. Ser. 6. 1936. Vol. 4. P. 27–45.
Cuénot L. Invention et finalite en biologie. P.: Ftammarion, 1941.
Cuénot L. L’évolution du point de vue posit if // Scientia. 1938. T. 63. P. 20–30.
Cuénot L. L’anti-hasard // Rev. sci. 1944. N. 3235. P. 339–346.
Cuénot L. Hasard ou finalité: L’inquiétude métaphysique. Bruxelles, 1946.
Decugis H. Le vieillissement du Monde vivant. P.: Masson et Cie, 1941.
Dobzhansky Th. Darwinian or «oriented» evolution? // Evolution. 1975. Vol. 29. № 2. P. 376–378.
Driesch H. Entwicklungsmechanische Studien: Der Wert der beiden ersten Furchungzellen in der Echinodermenentwickiung // Ztschr. wiss. Zool. 1891. Bd. 53. P. 160–185.
Driesch H. Analytische Theorie der organischen Entwicklung. Leipzig, 1894.
Driesch H. Philosophic der Organischen. Leipzig, 1909; 2ed. Bd. 1–2, 1921.
Driesch H. Wirklichkeitslehre — Ein metaphysischer Versuch. Leipzig, 1930.
Cuénot E. La vie comme invention // Centre intern, de synthèse, 9e semaine. L’invention (discussion). P., 1938. P. 175–213.
Guyénot E. La finalité en biologie // Etre et penser. Cahiers de philosophic: Le problème de la vie. Neuchatel, 1951. P. 11–36.
Haas J. Leben in Materie — Die Entstehung des Lebens im Lichte der neusten Erkenntnisse des modemen Zellenlehre. B. (West): Morus-Verl., 1956.
Haas J. An der Basis des Lebens. B. (West): Morus-Verl., 1964.
Huxley J. S., Teissier G. Terminologie et notation dans la description de la croissance relative // C. r. Soc. Biol. 1936. Vol. 121. P. 934.
Kahane E. Rapport introductif — Finalité en biologie // Cah. rational. 1965. № 233. P. 316–321.
Komchkin L. Hopeftil monsters and jumping genes // Evol. biol. 1993. Vol. 7 P. 153–172.
Lalande A. L’idée directrice de la dissolution opposée à celle de l’énvolution dans la méthode des Sciences physiques et morales. P., 1892.
Lalande A. Les illusions évolutionnistes. P.: Alcan, 1930.
Lalande A. Vocabulaire technique et critique de la philosophic. 9e éd. P.: Press univ. Franse, 1962. P. 355–358.
Lillie R. S. Physical indeterminism and vital action // Science. 1937. Vol. 66.
Lillie R. S. General biology and philosophy of organism. Chicago, 1946.
Lillie R. S. Randomness and directiveness iin the evolution and activity of organisms // Amer. Natur. 1948. Vol. 82. P. 5–25.
Lwoff A. L’évolution physiologique. Etude des pertes de fonctions chez les microorganismes. P.: Hermann, 1943 (1944).
Lwoff A. Some problems connected with spontaneous biochemical mutations in bacteria // Cold Spring Hath. Symp. Quant. Biol. 1946. Vol. II. P. 139–155.
Monod J. Le hasard et la nécessité. P.: Seuil, 1970.
Moreau J. Au carrefour de deux philisophies: Finalisme et déterminisme // Rev. gén. Sci. 1964. Vol. 62. P. 1–13.
Nägeli C. Mechanisch-physiologische. Theorie der Abstsmmungslehre. Munchen, 1884.
Rensch B. Neuere Probleme der Abstammungslehre. Stuttgart: F. Enke, 1947. 2ed., 1954.
Rostand J. Les grands courants de la biologie. P.: Gallimard, 1951.
Ruyer R. Elément de psycho-biologie. P.: Press univ. Franse, 1946.
Ruyer R. Le néo-finalisme. P.: Press univ. Franse, 1952.
Salet G., Lafont L. L’évolution régressive. P., Edit, francisc., 1943.
Simpson G. G. The history of life // Evolution after Darwin / Ed. S. Tax. Chicago, 1960. Vol. 1. P. 117–180.
Sinnott E. W. Matter, mind and man. N. Y.: Harper, 1957.
Sinnott E. W. The biological basis of communication // J. Commun. 1961. Vol. II. № 4. P. 190–195.
Vandel A. La genèse du vivant. P.: Masson, 1968.
Vandel A. Biospéléologie. P.: Gauthier-Villars, 1964.
Vandel A. Evolution et embryologie // Rev. sci. 1948. Vol. 86. P. 474–480.
Vandel A. L’orientation fondamentale d’évolution progressive // Probl. évol. 1955. P. 35–45.
Vandet A. Evolution et autorégulation // Anneé biol. 1963. Vol. 4. № 3/4. P. 179–197.
Vandel A. L’Homme et l’évolution. P.: Gallimard, 1949.
Vandel A. Une prospective de l’évolution // Anneé biol. 1965. Vol. 4. P. 367–378.
Vandel A. L’évolution considérée comme phénomène de déveioppement. Les variations de Phymatoniscus tuberculatus Racovitza (Crustacé, Isopode terrestre) // Bull. biol. France et Belg. 1954. Vol. 87. P. 414–430.
Vandel A. Le genre Porcellio (Crustaces, Isopodes, Oniscoidea): Evolution et systématique // Mém. Mus. nat. hist. nat. A. 1951. Vol. 5. P. 81–192.
Vandel A. L’origine des vertébrés // Année biol. 1961. Vol. 3. № 1/2. P. 5–41.
Vandel A. La répartition des Oniscoides (Crusacés, Isopodes terrestres) et la dérive des continens // C. r. Acad. Sci. 1972. Vol. 275. P. 2069–2072.
Vandel A. La geneèe du vivant // Année biol. 1967. Vol. 6. № 9/10. P, 579–588.
Wenzl A. Wissenschaft und Weltanschaung Natur und Geistals Probleme der Metaphysik. Leipzig: F. Meiner, 1951.
Wigand A. Der Darwinismus und die Naturforschung Newtons und Cuvier. Braunschweig, 1874. Bd. 1.
Глава 7
Алтухов Ю. П., Рычков Ю. Г. Генетический мономорфизм видов и его возможное биологическое значение // Журн. общ. биол. 1972. Т. 33. № 3. С. 281–300.
Баглай Е. Б. Формирование представлений о причинах индивидуального развития. М.: Наука, 1979.
Воронцов Н. Н. Развитие эволюционных идей в биологии. М.: Прогресс-Традиция, 1999.
Воронцов Н. Н., Ляпунова Е. А. Широкая изменчивость хромосом и вспышки хромосомного видообразования в сейсмически активных районах // ДАН СССР. 1984. Т. 277. № 1. С. 214–218.
Геринг В. И. Молекулярные основы развития // В мире науки. 1985. № 12. С. 112–121.
Гёрдон Дж. Б. Пересадка ядер и дифференцировка клеток. М.: Знание, 1971.
Голубовский М. Д. Мутационный процесс и микроэволюция // Тез. докл. XIV Межд. генет. конгр. М.: Наука, 1978. С. 94–95.
Давиташвили Л. Ш. История эволюционной палеонтологии от Дарвина до наших дней. М.: Изд-во АН СССР, 1948.
Давиташвили Л. Ш. Современное состояние эволюционного учения на Западе. М.: Наука, 1966.
Депере Ш. Превращения животного мира. Пг.: Тип. Стасюлевича, 1915.
Дэвидсон Э. Действие генов в раннем развитии. М.: Мир, 1972.
Ежиков И. И. «Протерогенез» Шиндевольфа // Усп. совр. биол. 1940. Т. 13. № 1. С. 164–167.
Ивановский А. Б. Палеонтология и теория эволюции. Новосибирск: Наука, 1976.
Колчинский Э. И. Неокатастрофизм и селекционизм. Вечная дилемма или возможность синтеза? (Историко-критические очерки.) СПб.: Наука, 2002.
Коржинский С. И. Гетерогенезис и эволюция. К теории происхождения видов // Зап. Императ. Акад. наук (СПб.). 1899. № 2. С. 1–94.
Красилов В. А. К вопросу о прогрессе в развитии органического мира // Закономерности прогрессивной эволюции. Д., 1972. С. 196–211.
Красилов В. А. Филогенез и принципы систематики современных и ископаемых кораллов // Проблемы филогении и систематики. Владивосток, 1969.
Красилов В. А. Эволюция и биостратиграфия. М.: Наука, 1977.
Лопашов Г. В. Что лежит в основе развития организма. М.: Знание, 1968.
Лопашов Г. В., Хоперская О. А. Механизмы индукции и программирование дифференцировки // Онтогенез. 1977. Т. 8. № 6. С. 563–581.
Руженцев В. Е. Принципы систематики, система и филогения палеозойских аммоноидей // Тр. Палеонт. ин-та АН СССР. 1960. Т. 83. С. I—331.
Степанов Д. Л. Неокатастрофизм в палеонтологии наших дней // Палеонтол. журн. 1959. № 4. С. 11–16.
Татаринов Л. П. Дарвинизм сегодня // Коммунист. 1988. № 13. С. 62–72.
Татаринов Л. П. Очерк теории эволюции. М.: Наука, 1987.
Тахтаджян А. Л. Вопросы эволюционной морфологии растений. Л.: Иэд-во ЛГУ, 1954.
Тахтаджян А. Л. Дарвин и современная теория эволюции // Ч. Дарвин. Происхождение видов путем естественного отбора. СПб.: Наука, 1991. С. 489–522.
Тахтаджян А. Л. Макрозволюционные процессы в истории растительного мира // Бот. журн, 1983. Т. 68. № 12. С. 1593–1603.
Тахтаджян А. Л. Морфологическая эволюция покрытосеменных. М.: МОИП, 1948.
Arms K. Cytonucleoproteins in cleaning eggs of Xenopus loevis // J. Embryol. and Exp. Morphol, 1968. Vo). 20. № 3. P. 367–374.
Beurlen K. Die stammesgeschichtlichen Grundlagen der Abstammungstechre. Jena: Fischer, 1937.
Bonavia E. Studies in the evolution of animals. L., 1895.
Brough J. Time and evolution // Studies on fossil vertebrates. L., 1958. P. 16–38.
Carter G. S. Animal evolution: A study of recent views of its causes. L.: Singwick a. Jackson, 1951.
Dalcq A. L’apport de l’embriologie causale en problème de l’évolution // Port. acta biol. 1949. Vol. jub. Prof. Goldschmidt. P. 367–400.
Dalcq A. Le problème de Involution est-il près d’être résolu? // Ann. Ste. Roy. zool. belg. 1951. Vol. 82. P. 117–138.
Dalcq A. Préformation et épigenése dans leur accept ion actuelle // C. r. Acad. Roy. Belg. Ser. 5. 1954. Vol. 39. P. 1124–1138.
Dalcq A. Les ontomutations à I’origine des mammiferes // Bull. Soc. zool. France. 1955. Vol. 79. P. 240–255.
Dalcq A. An introduction to general embiyology. Oxford: Oxford univ. Press, 1957.
Dacque E. Ocganische Morphologie und Palaontologie. B.: Bomtraeger, 1935.
Dingemans C. Formation et transformation des espèces. P.: Colin, 1956.
Dobzhansky Th. 1937. См. гл. 2.
Dobzhansky Th., Socolov D. Structure and variation of the chromosbmes in Drosophila azteca // J. Hered. 1939. Vol. 30. P. 3—19.
Goldschmidt R. In and out of the ivory tower; The autobiography of Richard B. Goldschmidt. Seattle: Washington Univ. Press, 1960.
Goldschmidt R. The material basis of evolution. N. Y.; L.: Yale Univ. Press, 1940.
Goldschmidt R. Physiological genetics. N. Y.: McGraw-Hill, 1938.
Goldschmidt Я Theoretische Genetik. B.: Acad. Verl., 1961.
Gould S. J. The return of hopeful monsters // Nature Hist. 1977. Vol. 86. P. 22–30.
Gould S. J. Is a new and general theory of evolution emerging? // Paleobiology. 1980. Vol. 6 (1). P. 119–130. Evolution now. A century after Darwin. San Francisco: Freeman, 1982. P. 129–145.
Gould S. J. Evolution now // A century after Darwin. San Francisco: Freeman, 1982. P. 129–145.
Grandjean Fr. Sur les rapports théoriques entre hearts et mutations // C. r. Acad. Sci., 1949. Vol. 228. P. 1675–1678.
Green H., Torado G. J. The mammalian cells as a differentiated microorganism // Ann. Rev. Microbiol. 1967. Vol. 21. P. 574–600.
Gurdon J. B. Intracellular communication in early animal development // Lang communication in development. N. Y.: Acad, press, 1969. P. 59–82.
Guyénot E. Le mecanisme de l’énvolution et l’expérience // M. Caullery, E. Guyénot, P. Rivet L’évolution et biologie. P., 1929. P. 35–61.
Guyénot E. Les problemes de la vie: La vie, creatrice de la forme // J. Geneve, 1935. 28 oct.
Guyénot E. Les problemes de la vie. Geneve: Les Editions du Cheval aiM. C. Bourquin, 1946.
Guyénot E. La Renaissance du transformisme // Rev. sci. 1939. № 1. P. 30–38.
Hennig E. Wesen und Wege der Paläontologie. B.: Borntraeger, 1932.
Jaekel O. Über verschiedene Wege phylogenetischer Entwicklung. Jena: Fischer, 1902.
Laskey R. A., Gurdon J. B. Genetic content of adult somatic cells tested by nuclear transplantation from cultured cells // Nature. 1970. Vol. 228. P. 1332–1334.
Matthey P. Quelques refléction sur le problème de l’évolution // Scientia. 1954. Vol. 89. № 6. P. 200–202.
Raven C. P. Morphogenesis: The analysis of molluscan development. Oxford: Pergamon press, 1966.
Raven C. P. The distribution of special cytoplasmic differentiations of the egg during early clevage in Limnaea stagnalis // Develop. Biol. 1967. Vol. 16. P. 407–437.
Raven C. P. Transmission d’information du parent à I’oeuf par les cellules folliculaires chez la limnée // Bull. Soc. zool. France. 1972. Vol. 97. P. 225–232.
Salmon J. Recherches sur les variations ontogéniques des membres chez les vertébrés. Etude des Ectroméliens. Th. D. Lille, 1908.
Schindewolf O. H. Der Zeitfactor in Geologie und Paläontologie. Stuttgart: Schweizerbart, 1950b.
Schindewolf O. H. Entwurf einer Systematik der Perisphincten // Neues Jb. Miner. Stuttgart. 1925. Bd. 52. P. 309–343.
Schindewolf O. H. Grundfragen der Paläontologie. Geologische Zeitmessung. Organische Stammesentwicklung. Biologische Systematik. Stuttgart: Schweizerbart, 1950a.
Schindewolf O. H. Palaeontologie, Entwicklungslehre und Genetik. B.: Borntrager, 1936.
Schindewolf O. H. Ontogenie und Philogenie // Palaontol. Zlschr. 1929. Bd. II. S. 54–67.
Schindewolf O. H. Grundlagen und Methoden der palaontologischen chronologie. 1. Aufl. B.: Borntraeger, 1944.
Schindewolf O. H. Evolution vom Standpunkt eines Paläontologen // Ber. Schweiz, palaontol. Ges. 1952. Bd. 45. S. 374–386.
Schindewolf O. H. Neokatastrophismus? // Ztschr. Dt. geol. Ges. Hannover. 1963. Bd. 114. S. 430–445.
Schindewolf O. H. Über die mbglichen Ursachen dergloben erdgeschichtlichen Faunenschnitte // Neues Jb. Geol. und Palaontol. 1954. Bd. 10. S. 457–465.
Simpson G. G. Concession to the improbable, an unconventional autobiography. N. Y.: Yale univ. Press, 1978.
Vandel A. Chromosome number, poliploidy and sex in the animal kingdom // Proc. Roy. Soc. London. A., 1938. Vol. 107. P. 519–541.
Vandet A. 1949, 1954, 1955. См. гл. 6.
Waddington C. H. Paradigm for an evolutionary process // Towards a theoretical biology. Edinburgh: Edinb. univ. Press, 1968–1969. Vol. 2.
Waddington C. H. The strategy of the genes. L.: Allen a. Unwin, 1957.
Walter J. Geschichte der Erde und des Lebens. Leipzig, 1908.
Wedekind R. Über Virenzperioden (Blüteperioden) // S. — Ber. Ges. Beford. Naturwiss. Marburg, 1920.
Woodward A. S. The relation of palaeontology to biology // Annu. Mag. Natur. Hist. 1906. Vol. 18. № 106. P. 312–318.
Глава 8
Амалицкий В. П. О геологическом развитии организмов и земного рельефа. Варшава, 1986.
Берг Л. С. Закономерности в образовании органических форм // Тр. прикл. бот. селекц. 1925. Т. 14. Вып. 5. С. 19–68.
Валатер О. Глобальные события и эволюция // XXVII Междунар. геол. конгр.: Доклады. Палеонтология. М.: Наука, 1984. Т. 2. С. 67–71.
Голенкин М. И. Победители в борьбе за сушествование (1927). 2-е изд. М.: Сов. наука, 1947.
Давиташвили Л. Ш. Причины вымирания организмов. М.: Наука, 1969.
Депере Ш. Превращения животного мира. Пг.: Тип. Стасюлевича, 1915.
Джоли Дж. История поверхности Земли. М.; Л.: Госиздат, 1929.
Завадский К. М., Колчинский Э. И. Эволюция эволюции. Л.: Наука, 1977.
Красилов В. А. Меловой период: Эволюция земной коры и биосферы. М.: Наука, 1985.
Красилов В. А. Нерешенные проблемы теории эволюции. Владивосток, 1986.
Кузнецов С. С. Катастрофы на Земле. М.: Атеист, 1930.
Линдберг Г. У. Островная фауна и колебания уровня Мирового океана // Бюлл. МОИ П. Отд. биол. 1973. Т. 78. № 4. С. 33–41.
Личков. 1945, 1965. См. гл. 6.
Ньюэлл Н. Д. Массовые вымирания — уникальные или повторяющиеся явления? // Катастрофы в истории Земли: Новый униформизм. М.: Мир, 1986. С. 122–132.
Симпсон Дж. Г. Темпы и формы эволюции. М.: Ин. лит., 1948.
Соболев Д. Н. Земля и жизнь: II. Эволюции и революции в истории органического мира. Киев, 1927.
Соболев Д. Н. Земля и жизнь: III. О причинах вымирания организмов. Киев, 1928.
Соболев Д. Н. Начала исторической биогенетики. Симферополь: Госиздат Украины, 1924.
Степанов. 1959. См. гл. 7.
Сушкин П. П. Эволюция наземных позвоночных и роль геологических изменений климата // Природа. 1922. № 3/5. С, 3-31.
Уэбб С. Д. О двух типах быстрых фаунистических переворотов // Катастрофы в истории Земли: Новый униформизм, М.: Мир, 1986. С. 413–434.
Яковлев Н. Н. Вымирание животных и растений и его причины по данным геологии // Изв. геол. комит. 1922. Т. 41. № 1. С. 17–31.
Cloud Р. Е. Some problems and patterns of evolution exemplified by fossil invertebrates // Evolution. 1948, Vol. 2, № 4. P. 322–350.
Fischer A. G. Climatic oscillations in the biosphere // Biotic crises in ecological and evolutionary time. N. Y.: Acad, press, 1981. P. 103–131.
George T. N. The ecology of fossil animals. I. Organism and environment // Sci. Progr. 1958. Vol. 46, № 184. P. 677–690.
Grabau A. W. The rhythm of ages. Peking: Henry Vetch, 1924.
Haug E. Traité de géologie. P.: Colin, 1921.
Heberer G. Was heisst heutte Darwinismus? Guttingcn: Musterschmidt, 1960.
Henbest L. Distribution of evolutionary explosions in geologic time // J. Paleontol. 1952. Vol. 26. P. 298–318.
House M. R. Bursts in evolution // Adv. Sci. 1963. Vol. 19. P. 499–507.
Mattew W. D. Climate and evolution // Ann. N. Y. Acad. Sci. 1915. Vol. 24. P. 171–318.
Newell N. D. Revolution in the history of life // Geol. Soc. Amer. Spec. Pap. «Uniformity and Simplicity». 1967. № 89. P. 63–89.
Newel! N. D. Crisis in the history of life // Sci.Amer., 1963, № 2. P. 76–92.
Schuchert C., Dunbar C. O. A text book of geology. N. Y.: Willey, 1933. Pt. 2: Hist. geol.
Simpson G. G. Tempo and mode in evolution. N. Y.: Columbia univ. Press, 1944.
Simpson G. G, The major features of evolution. N. Y.: Columbia univ. Press, 1953.
Simpson G. G. The meaning of evolution. N. Y.: Yale univ. Press, 1949a.
Sender A. Die erdgeschichtlichen Diastrophismen im Lichte der Kontraktionslchere // Geol. Rdsch. 1922. Bd. 13.
Stille H. Grudfragen der vergleichenden Tektonic. B.: Borntraeger, 1924.
Webb S. D. Extinction — origination equilibria in late Cenozoic land mammals of North America // Evolution. 1969. Vol. 23. P. 688–702.
Westoll T. S. Mountain revolutions and organic evolution // Evolution as a process. L.: Allen a. Unwin, 1954. P. 252–263.
Глава 9
Будыко М. И. К теории влияния климатических факторов на фотосинтез // ДАН СССР. 1964. Т. 158. № 2. С. 331–337.
Будыко М. И. О причинах вымирания некоторых животных в конце плейстоцена // Изв. АН СССР. Сер. геогр. 1967. № 2. С. 28–36.
Будыко М. И. Климат и жизнь. Л.; Гидрометеоиздат, 1971.
Будыко М. И. Эволюция биосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 1984.
Голенкин М. И. Победители в борьбе за существование. 2-е изд. М.: Сов. наука, 1947.
Давиташвили. 1969. См. гл. 8.
Завадский, Колчинский. 1977. См. гл. 8.
Иванова Е. А. К вопросу о связи этапов эволюции органического мира с этапами эволюции земной коры // ДАН СССР. 1955. Т. 105. № I. С. 154–157.
Кириллов М. Почему пропали ящеры? // Химия и жизнь. 1970. № 3. С. 98.
Космос и эволюция организмов. Материалы совещания «Космические факторы и эволюция органического мира». М., 1974.
Красилов В. Д. Периодичность развития органического мира // Палеонтол. журн. 1987. № 3. С. 9–15.
Красилов В. А. Модель биосферных кризисов // Экосистемные перестройки и эволюция биосферы. М.: Изд-е Палеонтол. ин-та, 2001. Вып. 4. С. 9–16.
Красовский В. И., Шкловский И. С. Возможное влияние вспышек сверхновых на эволюцию жизни на Земле // ДАН СССР. 1957. Т. 116. № 2, С. 197–199.
Леонов Г. П. Основы стратиграфии. М.: Изд-во МГУ, 1973. Т. I.
Назаров. 1984. См. гл. 6.
Салоп Л. И. О связи оледенений и этапов быстрых изменений органического мира с космическими явлениями // Бюлл. МОИП. Отд. геол. 1977. Т. 52. № 1. С. 5–32.
Соколов Б. С. Предисловие // Жизнь на древних континентах, ее становление и развитие. Л.: Наука, 1981. С. 5—12.
Степанов. 1959. См. гл. 7.
Татаринов Л. П. Палеонтология и теория эволюции // Вестн. АН СССР. 1983. № 12. С. 40–51.
Татаринов Л. П. Палеонтология и эволюционное учение. М.: Знание, 1985.
Татаринов Л. П. Очерк теории эволюции. М.: Наука, 1987.
Чижевский А. Л. Земное эхо солнечных бурь. 2-е изд. М.: Мысль, 1976.
Шиманский В. М., Соловьев А. Н. Рубеж мезозоя и кайнозоя в развитии органического мира. М.: Наука, 1982.
Шишкин М. А. Подотряд Strereospondyli // Основы палеонтологии: Земноводные, пресмыкающиеся, птицы. М.: Изд-во АН СССР, 1964. С. 83–122.
Шкловский И. С. Вселенная, жизнь, разум. М.: Изд-во АН СССР, 1962; 3-е изд. М.: Наука, 1973.
Alvarez L. W. et at. Current status of the impact theory for the terminal Cretaceous extinction // Geol. Soc. Amer. Spec. Pap. 1982. № 190. P. 305–315.
Beurlen K. Der Faunenschmitte an der Perm — Trias Grenze // Ztschr. Dt. Geol. Ges. 1956. Bd. 108. № 1. S. 88–99.
Boureau Ed. L’évolution de la biosphére dans les rapports avec les reductions ionisantes // Ann. Sci. univ. Besangon. Bot. 1972, № 12. P. 61–68.
Hatfild G. B., Camp M. J. Mass extinction correlated with periodic glacic events // Bull. Geol. Soc. Amer. 1970. Vol. 11. № 3. P. 911–914.
Henshaw P. S. Radiation elTects and peaceful uses of atomic energy in the animat science radiation and biologic capability // Radioecology. 1963.
Hsu K. J., He Q., McKenzie J. A. et al. Mass mortality and its enviromental and evolutionary consequences // Science. 1982. Vol. 216. P. 249–256.
Liniger H. Über das Dinosaurersterben in der Provence // Leben und Umwelt. 1961. Bd. 18. H. 2. S. 27–33.
Loeblich A. R., Tappan H. Foraminiferal facts, fallacies and frontiers // Bull. Geol. Soc. Amer. 1964. Vol. 75. P. 367–392.
Mayers J. R., Worsley T. R. Statistical recognition of late cretaceous cyclic sedimentation by meens of calcareous nannofossil population studies // Palaeogeogr., Palaeoclimato!., Palaeoecol. 1973. Vol. 13. № 2. P. 81–90.
Newell N. D. Catastrophism and the fossil record // Evolution. 1956. Vol. 10. P. 97–101.
Raup D. M., Sepkosky J. J. Mass extinctions in the marine foccil record // Science. 1982. Vol. 215, № 4539. P. 1501–1503.
Raup D. M., Sepkosky J. J. Periodity of extinctions in the geologic past // Proc. Nat. Acad. Sci. US. Biol. Ser. 1984. Vol. 81. № 3. P. 801–805.
Russel D. A. The biotic crisis at the end of the cretaceous period // Syllogeus Nat. Mus. Natur. Sci. 1977. № 12. P. 11–24.
Russel D. A. The enigma of the extinction of the dinosaurs // Annu. Rev. Earth and Planet. Sci. 1979. Vol. 7. P. 163–182.
Schindewolf O. H. 1950a, b; 1954; 1963. См. гл. 7.
Schindewolf O. H. Über die ältesten Lebenwelten der Erdgeschichte // Scientia. 1960. Bd. 95. № 2. S. 54–60; Suppl. S. 36–42.
Schinderwolf O. H. Studien zur Stammesgeschichte der Ammoniten // Acad. Wiss. und Lit. 1968. № 3. S. 735–901.
Tchijevsky A. L. Les épidémics et les perturbations électromagnétiques du milieu extérieur // Hippocrate. 1936. Vol. 4. Ns 10; 1937. Vol. 5. № 1/10.
Tchijevsky A. L. La radiation cosmique comme facteur biologique // Bull. Assoc, intern, biocosm (Toulon). 1929. № 13. P. 245–250.
Terry K. D., Tucker W. H. Biologic effects of supernovae // Science. 1968. Vol. 159. № 3813. P. 421–423.
The quest for a catastrophe // Science News. 1980. Vol. 118. № 9. P. 134.
Toon O. B. et at. Evolution of an impact — generated dust cloud and its effects on the atmosphere // Geol. Soc. Amer. Spec. Pap. 1982. № 190. p 187–200.
Tsakas 5.C. Geomagnetic reversals as a possible explanation for periods of punctionated speciation on earth // Genetics. 1984. Vol. 107. № 3. P. 108.
Tsakas S. C., David J. R. Speciation burst hypotesis: an explanation for the variation in rates of phenotypic evolution // Génét. S6lec. Evol. 1986. Vol. 18. P. 351–358.
Urey H. C. Cometary collisions geological periods // Nature. 1973. Vol. 242. P. 32–33.
Глава 10
Алтухов. 1983. См. гл. 2.
Астауров Б. Л., Острякова-Варшавер В. П. Получение полного гетероспермного андрогенезау межвидовых гибридов шелковичного червя // Изв. АН СССР. Серия биол. 1957. С. 154–175.
Астауров Б. Л. Экспериментальная полиплоидия и гипотеза непрямого (опосредованного партеногенезом) происхождения естественной полиплоидии у бисексуальных животных // Генетика. 1969. Т. 5. № 7. С. 129–149.
Боркин Л. Я., Даревский И. С. Сетчатое (гибридогенное) видообразование у позвоночных // ЖОБ. 1980. Т. 41. № 4. С. 485–506.
Васильев В. П. Эволюционная кариология рыб. М.: Наука, 1985.
Воронцов Н. Н. Синтетическая теория эволюции: ее истоки, основные постулаты и нерешенные проблемы // Журн. Всесоюз. хим. об-ва им. Д. И. Менделеева. 1980. Т. XXV. № 3. С. 291–315.
Воронцов Н. Н. Развитие эволюционных идей в биологии. М.: Прогресс-Традиция, 1999. 640 с.
Гайсинович А. Е. Зарождение и развитие генетики. М.: Наука, 1988.
Голубовский М. Д. Век генетики: эволюция идей и понятий. СПб.: Борей арт, 2000.
Грант В. Эволюция организмов. М.: Мир, 1980. 408 с.
Грант В. Эволюционный процесс. Критический обзор эволюционной теории. М.: Мир, 1991. 448 с.
Даревский И. С. Эпистандартная эволюция и гибридогенное видообразование у пресмыкающихся // ЖОБ. 1995. Т. 56. № 3. С. 310–316.
Даревский Н. С. Скальные ящерицы Кавказа. Л.: Наука, 1967.
Даревский И. С., Гречко В. В., Куприянова Л. А. Ящерицы, размножающиеся без самцов // Природа. 2000. № 9. С. 61–68.
Завадский К. М. Вид и видообразование. Л.: Наука, 1968. 404 с.
Карпеченко Г. Д. Межродовые гибриды Raphanus sativus L. х Brassica oleracea L. // Науч. — агротех. ж-л. 1924. T. I. № 5–6. С, 390–410.
Карпеченко Г. Д. Полиплоидные гибриды Raphanus sativus L, х Brassica oleracea L. // Tp. прикл. бот., генет. и селек. 1927. Т. 17. № 3. С. 305–410.
Карпеченко Г. Д. Теория отдаленной гибридизации // Теоретические основы селекции растений. М.; Л., 1935. Т. 1. С. 293–354.
Кернс Дж. Бактериальная хромосома // Молекулы и клетки / Ред. Г. М. Франк. Вып. 2. М.: Мир, 1967. С. 9—21.
Кирпичников B. C. Генетические основы селекции рыб. Л.: Наука, 1979. 392 с.
Кусакин О. Г., Дроздов А. Д. Филема органического мира. 4.1. Пролегомены к построению филемы. СПб.: Наука, 1994. 282 с.
Линней К. Философия ботаники. М.: Наука, 1989.
Маргелис Л. Роль симбиоза в эволюции клетки. М.: Мир, 1983.
Мережковский К. С. Теория двух плазм как основа симбиогенезиса, нового учения о происхождении организмов. Казань, 1909.
Мичурин И. В. Принципы и методы работы // Соч. Т. I. M. -Л.: Сель-хозгиз, 1939.
Мюнтцинг А. Некоторые фазы эволюции тритикале // Проблемы экспериментальной биологии. М.: Наука, 1977. С. 86–99.
Пахомова М. В. ДНК водорослей // Строение ДНК и положение организмов в системе. М., 1972. С. 176–195.
Она же. Неуклеиновые кислоты сине-зеленых водорослей // Актуальные проблемы сине-зеленых водорослей. М., 1974. С. 104–113.
Полянский Ю. И., Райков И. Б. Роль полиплоидии в эволюции простейших // Цитология. 1960. Т. 2. № 5. С. 509–518.
Полянский Ю. И. О своеобразных чертах прогрессивной эволюции на клеточном уровне // ЖОБ. 1971. Т. 32. № 5. С. 541–548.
Попов М. Г. Географо-морфологический метод систематики и гибридизационные процессы в природе // Тр. прикл. ботан., генет. и селек. 1927. Т. 17. № I. С. 221–290.
Попов М. Г. Гибридизационные явления в природе и значение их для эволюции // Дневник Всесоюз. съезда ботаников. Л., 1928. С. 92–93.
Попов М. Г. Система покрытосеменных растений в связи с проблемой их эволюции // Бот. журн. 1954. Т. 39. № 6. С. 867–881.
Попов М. Г. К вопросу о происхождении покрытосеменных // Бот. журн. 1956. Т. 41. № 5. С. 768–769.
Попов М. Г. Основы флорогенетики. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 134 с.
Рудин Д., Уилки Д. Биогенез митохондрий. М., 1970. 156 с.
Старобогатов Я. И. К вопросу о числе царств эукариотных организмов // Систематика простейших и их филогенетические связи с низшими эукариотами. Тр. ЗИН. Т. 144. Л., 1986. С. 4–25.
Стебиннс Дж. Л., Айала Ф. Х. Эволюция дарвинизма // В мире науки. 1985. № 9. С. 38–50.
Тахтаджян А. Д. Четыре царства органического мира // Природа. 1973. 2. С. 22–32.
Фаминцын А. С. О роли симбиоза в эволюции организмов // Зап. Импер. акад. наук. Сер. VIII. Физ. — мат. отдел. 1907а. Т. XX. N9 3. С. 1–14; Он же. О роли симбиоза в эволюции организмов // Тр. СПб. об-ва естествоиспыт. 19076. Т. 38. Вып. I. Протоколы заседания. № 4. С. 141–143; Он же. О роли симбиоза в эволюции организмов // Изв. Импер. Акад. наук. Сер. VI, 1912. № 1. С. 51–68; Т. VI. № 11. С. 707–714.
Филиппович И. И., Светайло Э. Н., Алиев К. А. Свойства и особенности основных компонентов белоксинтезируюшей системы хлоропластов // Функциональная биохимия клеточных структур. М., 1970. С. 132–142.
Хахина Л. Н. Экспериментальные истоки учения о симбиогенезе (работы А. С. Фаминцына) // История и теория эволюционного учения. Вып. I. Л.: Наука, 1973. С. 129–141; Она же. К формированию гипотезы симбиогенеза. К. С. Мережковский // История и теория эволюционного учения. Вып. 3. Л.: Наука, 1975. С. 5–28; Она же. Проблема симбиогенеза. Историко-критический очерк исследований отечественных ботаников. Л.: Наука, 1979. 156 с.
Цицин И. В. Новый вид и новые разновидности пшеницы // Бюлл. ГБС АН СССР. 1960. № 38. С. 38–41.
Anderson Е. Origin of the Angiosperms // Nature. 1934. Vol. 133. № 3360. P. 462.
Anderson E. Intregressive hybridization. N. Y., 1949.
Cavalier-Smith T. Membrane heredity, symbiogenesis, and the multiple origins of algae // Biodiversity and Evolution. Ed. Arai, Kato a. Dio. Tokyo: Nat. Sci Museut Foundation, 1995. P. 69—107.
Dobzhansky Th. Genetics and the Origin of Species. N. Y.: Columb. Univ. Press, 1951 (3d. Ed.).
Famintsin A., Baranetsky J. Zur Entwicklungsgeschichte der Gonidien and Zoosporenbildung der Flechten // Mém, Acad. Impér. Sci. St. Petersb. VII Sér. 1867. Т. XI. № 9. P. 1–6.
Gogarlen J. P. The early evolution of cellular Life // Trends Ecol. a Evol. 1995. Vol. 10. N 4. P. 147–151.
Kemer A. Das Pflanzenleben der Donaulander. Vol. (I. Innsbruck, 1863.
Lotsy J. P. La theorie de croisement // Arch. Néerland. Sci. exactes nature. Ser. III B. 1914. Vol. 2. P. (-61.
Lotsy J. P. Evolution by means of hybridization. Hague, 1916.
Lotsy J. P. Evolution considered in the light of Hybridization. 1925a.
Lotsy J. P. Evolution im Lichte der Bastardierung betrachtet // Genetica. 1925b. Vol. 7. P. 365–470.
Margulis L. Origin of Eukaryotic Cells. New Haven: Yale univ. Press, 1970.
Mereschkovsky C. Ueber Natur und Uisprung der Chromatophoren im Pflanzenreiche // Biol. Zentralbl. 1905. Bd, 25. № 18. S. 593–604.
Nass S. The significance of the structural and functional similarities of bacteria and mitochondria // International Review of Cytology. Vol. 25. N. Y.; L., 1969. P. 55–117.
Sagan L. Margulis L. On the origin of mitosing cells // J. Theor. Biol. 1967. Vol. 14. P. 225–275.
Schwendener S. Die Algentypen der Flechtengonidien. Basel, 1869.
Stebbins G. L. Variation and Evolution in Plants. N. Y.: Colum. Univ. Press, 1950.
Stebbins G. L. Flowering Plants: Evolution above the species level. Cambridge (Mass.): Harv, Univ. Press, 1974.
Stebbins G. L. Plant speciation // Mechanisms of Speciation. N. Y., 1982. P. 21–40.
Svdrdson G. Chromosome studies on Saimonidae // Med. St. undersokn. forsoksants. Sotwatterfisket. 1945. № 23.
Taylor D. L. Chioroplasts as sumbiotic organelles // Internationa) Review of Cytology. Vol. 27. N. Y.; L., 1970. P. 29–64.
Winge O. The chromosomes, their number and general importance // C. r. Trav. Lab. Carlsberg. 1917. Vol. 13. P. 131–275.
Глава 11
Берг. 1922. См. гл. 6
Берг Л. С. Законы образования органических форм // Л. С. Берг. Труды по теории эволюции. Л.: Наука, 1977. С. 312–338.
Вавилов Н. И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости, Саратов: Губполиграфотдел, 1920. То же в кн.: Классики советской генетики. Л., 1968. С. 9–50.
Заварзин А. А. Параллелизм структур как основной принцип морфологии // Изв. Биол. НИИ при Пермском ун-те. 1923. Т. 2. Вып. 4. С. 135–140.
Заварзин А. А. Труды по теории параллелизма и эволюционной динамике тканей (к 100-летию со дня рождения). Л.: Наука, 1986.
Заварзин Г. А. Пространство логических возможностей в многообразии бактерий и их филогения // Природа. 1979. № 6. С. 9–19.
Заварзин Г. А. Бактерии и состав атмосферы. М.: Наука, 1984.
Заварзин Г. А. Индивидуализм и системный анализ — два подхода к эволюции // Природа. 1999. Ns I. С. 23–34.
Корочкин Л. И. Параллелизмы в молекулярной организации генома и проблемы эволюции- // Молекулярные механизмы генетических процессов. М.: Наука, 1985. С. 132–146.
Корочкин Л. И. Проблемы эволюции и книга А. Лима-де-Фариа // А. Лима-де-Фариа. Эволюция без отбора. Автоэволюция: формы и функции. М.: Мир, 1991. С. 378–408.
Лима-де-Фариа А. Эволюция без отбора. Автоэволюция: формы и функции. М.: Мир, 1991.
Линков Б. Л. К основам современной теории Земли. Л.: Изд-во ЛГУ, 1965.
Лукина Т. А. «Номогенез» Л. С. Берга и его влияние на эволюционные идеи О. Шиндевольфа // Наука и техника. Вопросы истории и теории. Л., 1972. Вып. 7. Ч. 2. С. 81–83.
Любищев А. А. Закон гомологических рядов Н. И. Вавилова и его значение в биологии (1957) // А. А. Любищев. Проблемы формы, систематики и эволюции организмов. М.: Наука, 1982. С. 247–253.
Медников Б. М. Современное состояние и развитие закона гомологических рядов в наследственной изменчивости // Проблемы новейшей истории эволюционного учения. Л.: Наука, 1981. С. 127–135.
Медников Б. М. Гомологическая изменчивость и ее эволюционное значение // Развитие эволюционной теории в СССР. Л.: Наука, 1983. С. 129–138.
Медников Б. М. Закон гомологической изменчивости. М, Знание, 1980.
Мейен С. В. Основные аспекты типологии организмов // ЖОБ. 1978. Т. 39. № 4. С. 495–508.
Мейен С. В. Проблема направленности эволюции // Зоология позвоночных. Т. 7. Проблемы теории эволюции. М.: ВИНИТИ, 1975. С. 66—117.
Мейен С. В. О соотношении номогенетического и тихогенетического аспектов эволюции // ЖОБ. 1974. Т. 35. № 3. С. 353–364.
Мейен С. В. Будущее эволюционной теории — продолжение синтеза // Методологические проблемы эволюционной теории. Тарту: АН ЭССР, 1984а. С. 173–175.
Мейен С. В. Флорогенез и эволюция растений // Природа. 1986. № 11. С. 47–57.
Мейен С. В. Основы палеоботаники. М.: Недра, 1987а.
Мейен С. В. Логико-методологические и теоретические стереотипы в биологии // О специфике биологического познания. М., 19876. С. 34–37.
Мейен С. В. Происхождение главных групп высших растений // Актуальные проблемы биологической науки. М., 19846. С. 128–164.
Мейен С. В., Чайковский Ю. В. О работах А. А. Любищева по общим проблемам биологии // А. Л. Любищев. Проблемы формы, систематики и эволюции организмов. М.: Наука, 1982. С. 5–23.
Мещерякова Н. А. СТЭ и номогенез: логические возможности и эволюционистские притязания // Методология биологии: новые идеи. М.: УРСС, 2001. С. 131–150.
Николае Г., Пригожим И. Самоорганизация в неравновесных системах. М.: Прогресс, 1979.
Оно С. Генетические механизмы прогрессивной эволюции. М.: Мир, 1973. 228 с.
Пригожим И., Стенгсрс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. М.: Прогресс, 1986. Изд. 4. М.: УРСС, 2003. Изд. 4. М.: URSS, 2005.
Светлов П. Г. Параллелизм как принцип эволюционной морфологии // Наука и техника. Вопросы истории и теории. Л., 1972. Вып. 7. Ч. 2. С. 84–88.
Соболев Д. Н. Земля и жизнь: II. Эволюции и революции в истории органического мира. Киев, 1927. 40 с.
Соболев Д. Н. Наброски по филогении гониатитов // Изв. Варшав. политехнич. ин-та императора Николая П. Вып. 1. Варшава, 1913. С. 1—191.
Тринчер К. С. Биология и информация. Элементы биологической термодинамики. М.: Наука, 1965.
Урманцев Ю. А. Опыт аксиоматического построения общей теории систем // Системные исследования. М.: Наука, 1971 (1972). С. 128–152.
Урманцев Ю. А. Симметрия природы и природа симметрии. М.: Мысль, 1974. Изд.2. М.: КомКнига/URSS, 2006.
Урманцев Ю. А. Начала общей теории систем // Системный анализ и научное познание. М.: Наука, 1978. С. 7–41.
Урманцев Ю. А. Система. Симметрия. Гармония. М.: Мысль, 1988а.
Урманцев Ю. А. Эволюционика, или Общая теория развития систем природы, общества и мышления. Лушино, 19886.
Урманцев Ю. А. Системная философия (пять этюдов) // Вестник Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. 1999. № 5. С. 41–69.
Филиппенко Ю. А. О параллелизме в живой природе // Успехи совр. биол. 1925. Т. 3. Вып. 3–4. С. 242–258.
Чайковский Ю. В. Проблема наследования и генетический поиск // Теоретическая и экспериментальная биофизика. Вып. 6. Калининград, 1976. С. 148–164.
Чайковский Ю. В. Рождение дарвинизма // Теоретические проблемы современной биологии. Пущино, 1983. С. 94–103.
Чайковский Ю. В. Разнообразие и случайность // Методы научного познания и физика. М.: Наука, 1985. С. 149–168.
Чайковский Ю. В. О формировании концепции Ч. Дарвина // Науки в их взаимосвязи. М.: Наука, 1988а, С. 95–115.
Чайковский Ю. В. Человек эволюционирует // Химия и жизнь. 19886. № 12. С. 34–35.
Чайковский Ю. В. Наука о разнообразии // Химия и жизнь. 1989. № 1. С. 40–48.
Чайковский Ю. В. Часть 6. Эволюция: с чем входим в новый век? // Биология в школе. 2001. № 1. С. 9—14.
Чайковский Ю. В. Элементы эволюционной диатропики. М.: Наука, 1990.
Чайковский Ю. В. Междисциплинарность современного эволюционизма // Концепция самоорганизации в исторической ретроспективе. М.: Наука, 1994. С. 198–237.
Чайковский Ю. В. От статистического эволюционизма к системному // О современном статусе идеи глобального эволюционизма. М., 1986. С. 115–126.
Чайковский Ю. В. С. В. Мейен и теория биологической эволюции // Матсимпоз., посвященный памяти С. В. Мейена (1935–1987). М.: ГЕОС, 2001. С. 51–70.
Cannon Graham Н. An essay on evolution and modern genetics // J. Linn. Soc. zool. 1956. T. 43.
Heikertinger F. Das Rätsel der Mimikry und seine Losung. Jena: G. Fischer, 1954. 208 s.
Jantsch E. The seef-oiganizing Universe. Scientific and human implications of emerging paradigm of evolution. Oxford; N. Y.: Peigamon Press, 1980.
Meyen S. V. Plant morphology in its nomothetical aspects // Bot. Rev. 1973. Vol. 39. N 3. P. 205–260.
Monod J. Hasard et la Nécessité. P.: Ed. Du Seuil, 1970. 197 p.
Ohno S. The roll of gene duplication in vertebrate evolution // The biological basis of medicine / Ed. E. D, Bittar, N. Britar. L.: Acad. Press, 1969. Vol. 4. P. 109–132.
Osborn H. F. Darvin and paleontology // Fifty years of Darwinism. N. Y., 1909. P. 209–250.
Riedl R. Order in Livind Organism. N. Y.: Viley a Sons, 1978.
Taylor G. R. The great Evolution Mystery. L.: Seeker a. Warburg, 1983.
Vandel A. Evolution et embryologie // Rev. sci. 1948. V. 86. P. 474–480.
Vandel A. L’Homme et l’évolution. P.: Gallimard, 1949.
Vandei A. Evolution et autorégulation // Ann. Boil. 1963. V. 4. № 3/4. P. 179–197.
Vandei A. La genese du vivant. P.: Masson, 1968.
Vavihv N. I. The law of homologous series in variation // J. Genetics. 1922. Vol. 12. № 1. P. 37–89.
Whyte L. L. Internal factors in Evolution. L.: Tavistock, 1965.
Wood Jones F. Trends of Life. L., 1953.
Глава 12
Беляев Д. К., Гиляров М. С., Татаринов Л. П. По поводу книги В. А. Кордюма «Эволюция и биосфера» // Природа. 1985. № I. С. 120–122.
Бердников В. А. Молекулярные аспекты видообразования // Методологические и философские проблемы биологии. Новосибирск: Наука, 1981. С. 123–137.
Бердников В. А. Основные факторы макроэволюции. Новосибирск: Наука, 1990.
Бирштеин В. Л. Цитогенетические и молекулярные механизмы эволюции позвоночных. М.: Наука, 1987.
Волькштейн М. В. О количестве и ценности информации в биологии // Журн. общ. биол. 1976. Т. 37. № 4. С. 483–492.
Волькштейн М. В., Чернаеский Д. С. Физические аспекты применения теории информации в биологии // Изв. АН СССР. Сер. биол. 1979. № 4. С. 531–547.
Волькштейн М. В. Физика и биология. М.: Наука, 1980.
Воронцов Н. Н., Ляпунова Е. А. Широкая изменчивость хромосом и вспышки хромосомного видообразования в сейсмически активных районах // Докл. АН СССР. 1984. Т. 277. № 1. С. 214–218.
Воронцов Н. Н. В. А. Кордюм. Эволюция и биосфера (рец.) // Молек. биол. 1984. Т. 18. Вып. 3. С. 855–857.
Гершензон С. М. Тропою генетики. К.: Наукова думка, 1992.
Гершкович И. Генетика. М.: Наука, 1968.
Голубовский М. Д. Нестабильность локуса singed у Drosophila melanogaster: Мутантные и нормальные аллели, ревертирующие по принципу «все или ничего» // Генетика. 1977. Т. 13. № 5. С. 847–861.
Голубовский М. Д. Век генетики: эволюция идей и понятий. СПб.: Борей Арт, 2000.
Голубовский М. Д., Беляева Е. С. Вспышки мутаций в природе и мобильные генетические элементы: Изучение серии аллелей в локусе singed // Генетика. 1985. Т. 21. № 10. С. 1662–1670.
Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора // Соч. Т. 3. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1939.
Жакоб Ф., Вольман Э. Пол и генетика бактерий. М.: Мир, 1962.
Жданов В. М., Тихоненко Т. Н. Вирусы и генетический обмен в биосфере (вирусы как фактор эволюции) // Методологические проблемы вирусологии. М., 1975. С. 155–168.
Зильбер Л. А. Вирусно-генетическая теория возникновения опухолей. М: Наука, 1968.
Колчинский Э. И. Эволюция биосферы (историко-критические очерки исследований в СССР). Л.: Наука, 1990.
Кордюм В. А. Перенос информации в биосфере и возможное эволюционное значение этого процесса // Успехи совр. биол. 1976. Т. 81. Вып. 1. С. 51–67.
Кордюм В. А. Эволюция и биосфера. К.: Наукова думка, 1982. 262 с.
Корочкин Л. И. Параллелизмы в молекулярной организации генома и проблемы эволюции // Молекулярные механизмы генетических процессов. М.: Наука, 1985, С. 132–146.
Корочкин Л. И. Введение в генетику развития. М.: Наука, 1999. 253 с.
Корочкин Л. И. К проблемам биофилософии: некоторые общие принципы организации и функционирования биологического материала // Методология биологии: новые идеи. М.: УРСС, 2001. С. 177–189.
Ляпунова Е. А., Ахвердян М. Р., Воронцов Н. Н. Робертсоновский веер изменчивости хромосом у субальпийских полевок Кавказа (Pitymys, Microtinae, Rodentia) // Докл. АН СССР. 1988. Т. 298. № 2. С. 480–483.
Назаров В. И. Учение о макроэволюции. На путях к новому синтезу. М.: Наука, 1991.
Хесин Р. Б. Непостоянство генома. М.: Наука, 1984. 472 с.
Глава 13
Бабков В. В. Московская школа эволюционной генетики. М.: Наука, 1985.
Волькенштейн М. В. Физический смысл нейтральной теории эволюции // Журн. общей биологии. 1981. Т. 42. N? 5. С. 680–686.
Воронцов Н. Н. Развитие эволюционных идей в биологии. М.: Прогресс-Традиция, 1999.
Голубовский. 2000. См. гл. 3.
Дубинин Н. П. Генетико-автоматические процессы и их значение для механизма органической эволюции // Журн. эксперим. биол. 1931. Т, 7. Вып. 5–6. С. 463–479.
Дубинин Н. П., Ромашов Д. Д. Генетическое строение вида и его эволюция // Биол. журн. 1932. Т. I. Вып. 1–6. С. 52–95.
Кимура М. Молекулярная эволюция: теория нейтральности. М.: Мир, 1985.
Кирпичников B. C. Биохимический полиморфизм и проблема так называемой недарвиновской эволюции // Усп. совр. биол. 1972. Т. 74, Вып. 2 (5). С. 231–246.
Ромашов Д. Д. Об условиях «равновесия» в популяции // Журн. эксперим. биол. Сер. А. 1931. Т. 7. Вып. 4. С. 442–454.
Тахтаджян А. Д. Дарвин и современная теория эволюции // Ч. Дарвин. Происхождение видов путем естественного отбора. СПб.: Наука, 1991, С. 489–522.
Тимофеев-Ресовский И. В., Воронцов Н. Н., Яблоков А. В. Краткий очерк теории эволюции. М.: Наука, 1969.
Чайковский Ю. В. Элементы эволюционной диатропики. М.: Наука, 1990.
Четвериков С. С. О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения современной генетики (1926) // Классики советской генетики. М.: Наука, 1968. С. 133–170.
Crow J. F. The cost of evolution and genetic loads // Haldane and Modem Biology. Baltimore: J. Hopkins Press, 1968. P. 165–178.
Dobzhansky Th. Genetics of the evolutionary process. N. Y.: Columbia Univ. Press, 1970.
Fischer R. A. The genetical theory of natural selection. Oxford: Clarendon Press, 1930.
Ford E. B. Ecological Genetics. L.: Chapman a. Hall, 1964.
Goldschmidt. 1940. См. гл. 7.
Haldane J. B. S. The cost of natural selection // Journ. Genet. 1957. Vol. 55. P. 511–524.
Haldane J. B. S. A mathematical theory of natural selection. Part VJFJ. Metastable populations // Proc. Camb. Phil. Soc. 1931. Vol. 27, P. 137–142.
Haldane J. B. S. The causes of Evolution. N. Y.: Harper a. Row, 1932 (pyc. пер.: Дж. Холдейн. Факторы эволюции. М.; Л.: Биомедгиз, 1935).
JeanneI R. Coléoptères carabiques. P. Vol. I. 1941. 571 p.; Vol. 2. 1942. 602 p.
Jukes Т. Н., King J. L. Deleterious mutations and neutral substitutions // Nature. L., 1971. Vol. 231. P. 114–115.
Kimura M. Evolutionary rate at the molecular level // Nature. L. 1968a. Vol. 217. P. 624–626.
Kimura M. Genetic variability maintained in a finite population due to mutational production of neutral and nearly neutral isoalleles // Genet. Res. Camb. 1968b. Vol. 11. X® 3. P. 247–269.
Kimura M. The rate of molecular evolution considered from the standpoint of population genetics // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 1969. Vol. 69. P. 1181–1188.
Kimura M. The length of time required for a selectively neutral mutant to reach fixation through random-frequency drift in a finite population // Genet. Res. Camb. 1970. Vol. 15. P. 131–133.
Kimura М., Ohta T. The everage number of generations until fixation of a mutant gene in a finite population // Genetics. 1969. Vol. 61. P. 763–771.
Kimura М., Ohta T. Protein polymorphism as a phase of molecular evolution // Nature. London. 1971. Vol. 229. P. 467–469.
King J . L., Jukes Т. Н. Non-Darwinian evolution // Science. 1969. Vol. 164. P. 788–798.
Muller H. J. Variation due to change in the individual gene // Amer. Natur. 1922. Vol. 56. P. 32–50.
Muller H. J. The gene as the basis of life // Proc. Int. Congr. Plant Sci. 1929. Vol. I. P. 897–921.
Robertson A. The nature of quantative genetic variation // Heritage from Mendel. University of Wisconsin Press. 1967. P. 265–280.
Shull A. F. Evolution. N. Y.; L., 1936.
Vandel A. Evolution et autorégulation // Ann. boil. 1963. Vol. 4. № 3/4. P. 179–197.
Willis J. C. The origin of species by large, rather than by gradual chande and Guppy’s method of differentiation // Ann, Bot. 1923. Vol. 37. P. 605–628.
Willis J. C. Age and area. A study in geographical distribution and origin of species. Cambridge, 1922. 259 p.
Willis J. C. The coures of evolution. By differentiation or divergent mutation rather than by selection. Cambridge Univ. Press, 1940. 205 p.
Wright S. Evolution in the Mendelian populations // Genetics. 1931. Vol. 16. P. 97–159.
Vries H. Age and area // J. Heredity. 1923. Vol. 14. № 4. P. 165–171.
Yule G. U. A mathematical theory of evolution based on the conclusion of Dr. J. C. Willis, FRS // Thilos. Trans. Roy. Soc. London. Ser. B. 1924. Vol. 213. P. 21–87.
Глава 14
Аронова E. A. Неумирающий ламаркизм: падения и взлеты // Биология (приложение к газете «Первое сентября»), 1997. № 42. С. 2–3.
Бляхер Л. Я. Пролема наследования приобретенных признаков. История априорных и эмпирических попыток ее решения. М.: Наука, 1971.
Голубовский М. Д. Век генетики: эволюция идей и понятий. СПб.: Борей Арт, 2000.
Светлов П. Г. Роль внешних воздействий при реализации наследственных признаков в онтогенезе // Проблемы медицинской генетики. Л.: Медицина, 1965. С. 106–136.
Чайковский Ю. В. Проблема наследования и генетический поиск (описание проблемы и простейший пример поиска) // Теоретическая и экспериментальная биофизика. Вып. 6. Калининград, 1976. С. 148–164.
Шапошников Г. Х. Специфичность и возникновение адаптаций к новым хозяевам у тлей (Homoptera, Aphidoidea) в процессе естественного отбора (экспериментальные исследования) // Энтомол. обозр. 1961. Т. 40. № 4. С. 739–762; Он же. Морфологическая дивергенция и конвергенция в эксперименте с тлями (Homoptera, Aphidoidea) // Энтомол. обозр. 1965. Т. 44. № I. С. 3–25.
Alt F. W., Baltimore D. Joining of immunoglobulin heavy chain gene segments // Proc. Nat. Acad. Sci. US. 1982. Vol.79. № 13. P. 4118–4122.
Baltimore D., Temin H. M., Mizutani S. Viral RNA-dependent DNA polymerase // Nature. 1970. Vol. 226. 27 June. P. 1209–1213.
Blacher L. The problem of the inheritance of acquired characters: A history of a priori and empirical methods used to find a solution. New Delhi, 1982.
Clark J. M. Novel non-templated nucleotide addition-reactions catalized by procariotic and eucariotic DNA-polymerases // Nucl. Acids Res. 1988. Vol. 16. № 20.
Cairns J. J., Overbaugh J., Miller S. The origin of mutants // Nature. 1988. Vol. 335. P. 142–145.
Cairns J. J. The origin of mutations disputed // Nature. 1988. Vol. 336. P. 527–528.
Detbruk M. Experiments with bacterial viruses (bacteriophages) // Harvey Lect. 1945–1946. Vol. 41. P. 161.
Foster L. P. Adaptive mutation: the uses of adversity // Ann. Rev. Microbiol. 1993. Vol. 47. P. 467–504.
Hail B. C. Evolution on a petri dish // Evol. Biol. 1982. Vol. 15. P. 85–150.
Hall B. G. Adaptive Evolution that requires multiple spontaneous mutation. I. Mutations involving an insertion sequence // Genetics. 1988. Vol. 120. № 4. P. 887–897.
Hall B. G. Spontaneous point mutations that occur more often when advantageous than when neutral // Genetics. 1990. Vol. 126. P. 5–16.
Hall B. G. Adaptive Evolution that requires multiple spontaneous mutations: Mutations involving base substitutions // Proc. Nat. Acad. Sci. US. 1991. Vol. 88. P. 5882–5886.
Hall B. G. Selection included mutations occur in yeast // Proc. Nat. Acad. Sci. US. 1992. Vol. 89. P. 4300–4303.
Landman O. E. The inheritance of acquired characteristics // Ann. Rev. Genet. 1991. Vol. 25. P. 1–20.
Lenski R. E., Mittler J. E. The directed mutation controversy and neo-darvinism // Science. 1993. Vol. 259. P. 188–194.
Luria S. E., Delburk M. Mutations of bacteria from virus sensivity to virus resistance // Genetics. 1943. Vol. 28. P. 491–511.
Prusiner S. B. Molecular biology and pathogenesis of prior desease // TIBS. 1996. 21 December. P. 482–487.
Rosenberg S. M. In pursuit of molecular mechanism for adaptive mutants // Genome. 1994. Vol. 37. P. 893–899.
Rosenberg S. M., Longerich S., Gee P., Harris R. S. Adaptive mutation by deletion in small mononucleotide repeats // Science. 1994. Vol. 265. P. 405–407.
Shapiro J. A. Natural genetic engineering in evolution // Genetica. 1992. Vol. 86. P. 99–111.
Shapiro J. A. Adaptive mutation: who’s really in the garden? // Science, 1995a. Vol. 268. P. 373–374.
Shapiro J. A. A third way // Boston Review. 1997.
Shapiro J. A. «Adaptive mutation». The debate goes on (response) // Science 1995b. Vol. 269. P. 286–288.
Temin H. M., Mizutani S. RNA-dependent DNA-polymerase in varions of Rous sarcoma virus // Nature. 1970. Vol. 226.
Глава 15
Алтухов Ю. П. Популяционная генетика рыб. М.: Пищевая пром., 1974.
Алтухов Ю. П. 1983. См. гл. 2.
Алтухов Ю. П., Рычков Ю. Г. 1972. См. гл. 3.
Алтухов Ю. П., Абрамова А. Б. Мономорфная вилоспецифическая ДНК, выявляемая в полимерной цепной реакции со случайными параметрами // ДАН. 2001. Т. 376. № 2. С. 274–278.
Гам. 1987. См. гл. 1.
Грант. 1980. См. гл. 10.
Гулд С. Дж. В защиту концепции прерывистого изменения // Катастрофы и история Земли: новый униформизм. М.: Мир, 1986. С. 13–41.
Дарвин. 1939. См. гл. 1.
Колчинский. 2002. См. гл. 7.
Корочкин. 1984. См. гл. 6.
Красилов. 1977. См. гл. 7.
Назаров. 1984. См. гл. 6.
Паавер К. Л. Изучение видообразования и новые модели процесса эволюции // Вопросы современного дарвинизма. Тарту: Тарт. ун-т, 1983. С. 115–133.
Симпсон. 1948. См. гл. 2.
Татаринов. 1983. См. гл. 9.
Татаринов. 1985. См. гл. 6.
Татаринов. 1987. См. гл. 3.
Уэбб. 1986. См. гл. 8.
Allen L. L. Stasis vs evolutionary change in Homo erectus // Amer. J. Phys. Anthropol. 1982. Vol. 57. № 2. P. 166.
Berggren V. A., Lohmann G. P., Malmgren B. A. Species formation through punctuated gradualism in pianctonic Foraminifera // Science. 1984. Vol. 225. P. 317–319.
Blanc M. Les théories de l’évolution aujourd’hui // Recherche. 1982. Vol. 13. № 129. P. 26–40.
Bush G. L. Modes of animal speciation // Annu. Rev. Ecol. Syst. 1975. Vol. 6. P. 339–364.
Carson H. L. The genetics of speciation at the diploid level // Amer. Natur. 1975. Vol. 109. P. 83–92.
Carson H. L. Chromosomes and species formation // Evolution. 1978. Vol. 32. P. 925–927.
Chaline J. Le concept d’évolution polyphasée et ses implications // Geobios. 1984. Vol. 17. № 6. P. 783–795.
Cronin J. E., Baaz N. T., Stringer C. B., Rak Y. Tempo and mode in hominid Evolution // Nature. 1981. Vol. 292. P. 113–122.
Davis D. D. The giant panda: a morphological study of evolutionary mechanism // Fieldiana Mem. Zool. 1964. Vol. 3. P. 1—339.
Ehriich P. R., Raven P. H. Differentiation of populations // Science. 1969. Vol. 165. P. 1228–1232.
Eldredge, Gould. 1972. См. гл. 3.
Emiliani C. Extinctive evolution: Extinctive and competitive evolution combine into a unified model evolution // J. Theor. Biol. 1982. Vol. 97. № 1. P. 13–33.
Emiliani C. The process of evolution // Тез. докл. XXVII Межд. геол. конгр. 1984. Т. 9. Ч. 1. С. 205–207.
Endler J. A. Gene flow and population differentiation // Science. 1973. Vol. 179. P. 243–250.
Endier J. A. Geographic variation, speciacion, and clines. Princeton; N. Y.: Princeton Univ. Press, 1977.
Frozetta J. H. From hopeful monster to bolyrine snakes? // Amer. Natur. 1970. Vol. 104. P. 55–72.
Gingerkh P. O. Stratigrafic record of early Eocene Hyopsodus and geometry of mammalian phylogeny // Nature. 1974. Vol. 248. P. 107–109.
Gingerich P. D. Paleontology and phylogeny: Patterns of evolution at the species level in early Tertiary mammals // Amer. J. Sci. 1976.Vol. 276. P. 1–28.
Gingerich P. D. Paleontology, phylogeny and classification: an exemple from the mammalian fossil record // Syst. Zool. 1980. Vol. 28. N9 5. P. 451–464.
Gingerich P. D. Origin and evolution of species: evidence from the fossil record // Colloq. Intern. CNRS. 1983. № 330. P. 125–130.
Gould S. J. The return of hopeful monsters // Natur. Hist. 1977. Vol. 86. P. 22–30.
Gould S. J. Is a new and general theory of evolution emerging? // Paleobiology. 1980. Vol. 6 (1). P. 119–130.
Gould S. J. Op. cit. // Evolution now. A century after Darwin. San Francisco: Freeman, 1982a. P. 129–145.
Gould S. J. Darwinism and the expansion of evolutionary theory // Science. 1982b. Vol. 216. P. 380–387.
Gould S. J., Eldredge N. Punctuated equilibria comes of age // Nature. 1993. Vol. 366. P. 223–227.
Grant V. The origin of adaptations. N. Y.: Columbia Univ. Press, 1963.
Harper C. W. Origin of species in geological time: Alternatives to the Eldredge — Gould model // Science. 1975. Vol. 190. P. 47–48.
Huxley L. The life and letters ofThomas H. Huxley. N. Y.: Appleton, 1901, Vol. 1. 539 p.
Johnson J. C. Occurrence of phyletic gradualism and punctuated equilibria through geological time // J. Paleontol. 1982. Vol. 56. № 11. P. 1329–1331.
Jones J. S. An uncensorcd page of fissil history // Nature. 1981. Vol. 293. P. 427–428.
Lewin R. Evolutionary theory under fire // Science. 1980. Vol. 210. P. 883–887.
Lovtrup S. La crise du Darwinisme // Recherche. 1977. Vol. 8. № 80. P. 642–649.
Maynard Smith. J. Evolution and the theory of games. Cambridge: Cambr. Univ. Press. 1982.
Maynard Smith. J. Macroevolution // Nature. 1981. Vol. 289. P. 13–14.
Mayr E. Change of genetic environment and evolution // Evolution as a process. L.: Allen a Unwin, 1954. P. 157–180.
Raup D. M., Gould S. J. Stochastic simulation and evolution of morphology — towards a nomothetic paleontology // Syst. Zool. 1974. Vol. 23. P. 305–322.
Ruse M. Darwinism defended // Evolution and morphogenesis: Proc. I. Intern. Symp. (Pl2en, 1984). Prague, 1985. P. 139–152.
Simpson G. G. The compleat paleontologist // Ann. Rev. Earth Sci. 1976. Vol. 4. P. 1–13.
Stanley S. M. A story of evolution above the species level // Proc. Nat. Acad. Sci. 1975. Vol. 72. P. 646–650.
Stanley S. M, Macroevolution. Pattern and process. San Francisco: Freeman, 1979.
Williamson P. G. Paleontological documentation of speciation in Cenozoic mollusks from Turkana basin // Nature. 1981. Vol. 293. P. 437–443.
Wolpoff M. H. Transition and continuity in Pleistocene hominid evolution // Amer. J. Phys. Anthropol. 1982. Vol. 57. № 2. P. 241–242.
Wright S. Comments on the preliminary working papers of Edem and Waddington // Mathematical challenges to the Neodarwinian interpretation of evolution. Philadelphia: Wistar Inst. Press, 1967. Vol. 5. P. 117–121.
Глава 16
Александров В. Я. Реактивность клеток и белков. Л.; Наука, 1985.
Беляев Д. К. Биологические аспекты доместикации животных // Генетика и селекция новых пород сельскохозяйственных животных / Ред. Ф. М. Мухамедгалиев. Алма-Ата: Наука, 1970. С. 30–44.
Беляев Д. К. Генетические аспекты доместикации животных // Проблемы доместикации животных и растений / Ред. Б. С. Матвеев. М.: Наука, 1972. С. 39–45.
Беляев Д. К, К проблеме дестабилизирующего отбора // Фундаментальные исследования. Биологические науки / Ред. А. Б. Жуков. Новосибирск: Наука, 1977. С. 117–120.
Беляев Д. К. Дестабилизирующий отбор как фактор изменчивости при доместикации животных // Природа. 1979а. № I. С. 36–45.
Беляев Д. К. Некоторые генетико-эволюционные проблемы стресса и стрессируемости // Вест. Акад. мед. наук СССР. 19796. № 7. С. 9–14.
Васильева Л. А., Ратнер В. А., Бубенщикова Е. В. Стрессовая индукция транспозиций ретротранспозонов дрозофилы: реальность явления, характерные особенности и возможная роль в быстрой эволюции // Генетика. 1997. Т. 33. С. 1083–1093.
Волькенштейн. 1981а. См. гл. 13.
Волькенштейн. 1981б. См. гл. 13.
Голубовский М. Д. Мутационный процесс и микроэволюция // Тез. докл. XIV Междунар. генетич. конгр. М.: Наука, (978, С. 94–95.
Голубовский М. Д. Некоторые аспекты взаимодействия генетики и теории эволюции // Методологические и философские проблемы биологии. Новосибирск: Наука, 1981. С. 69–92.
Голубовский М. Д. Организация генотипа и формы наследственной изменчивости эукариот // Методологические проблемы медицины и биологии. Новосибирск: Наука, 1985а. С. 135–152.
Голубовский М. Д. Организация генотипа и формы наследственной изменчивости эукариотов // Успехи совр. биол. 19856. Т. 100. Вып. 3 (6). С. 323–339.
Голубовский М. Д. Классическая и современная генетика: эволюция взглядов на наследственную изменчивость // Тр СПб. общества естествоиспытателей. 1994. Т. 90. Вып. 1. Эволюционная биология. С. 37–48.
Голубовский М. Д. Эволюция представлений о наследственности: старые и новые дискуссии // Эволюционная биология: история и теория. СПб., 1999. С. 13–27.
Голубовский М. Д. Век генетики: эволюция идей и понятий. СПб.: Борей Арт, 2000.
Голубовский М. Д., Чураев Р. Н. Динамическая наследственность и эпигены // Природа. 1997. № 4. С. 16–25.
Голубовский М. Д., Иванов Ю. Н., Захаров И. К., Берг Р. Л. Исследование синхронных и параллельных изменений в генофонде природных популяций плодовых мух Drosophila melanogaster // Генетика. 1974. Т. 10. № 4. С. 72–82.
Дубинин Н. П. Синтетическая теория эволюции // Экологическая генетика и эволюция. Кишинев: Штиинца, 1987. С. 7–49.
Евгеньев М. Б., Ениколопов Е. Н., Пеунова Н. И. Транспозиция мобильных диспергированных генетических элементов у дрозофилы // ДАН СССР. 1982. Т. 64. № 6. С. 145.
Инге-Вечтомов С. Г. Прионы дрожжей и центральная догма молекулярной биологии // Вестник РАН. 2000а. Т. 70. № 4. С. 299–306.
Инге-Вечтомов С. Г. Эпигенетический контроль трансляции и «бешеные» коровы // Современные концепции эволюционной генетики. Новосибирск, 2000б. С. 193–201.
Каллис Х. А. Среда как генератор адаптивных изменений // Современные концепции эволюционной генетики. Новосибирск, 2000. С. 168–174.
Керкис Ю. Я. Физиологические изменения в клетке как причина мутационного процесса // Успехи совр. биол. 1940. Т. 12. С. 143–155.
Кордюм. 1982. См. гл. 12.
Корочкин. 1984, 1999. См. гл. 7.
Лобашев М. Е. Генетика. Л.: ЛГУ, 1967.
Маркель А. Л. Стресс и эволюция: концепция Д. К. Беляева и ее развитие // Современные концепции эволюционной генетики, Новосибирск, 2000. С. 103–114.
Мыльников С. В., Инге-Вечтомов С. Г. Проблема мутаций и другие реорганизации генома в эволюции // Эволюционная биология: история и теория. СПб., 1999. С. 59–69.
Нэнни Д. Роль цитоплазмы в наследственности // Химические основы наследственности. М.: Иностранная литература, 1960. С. 112–133.
Парсонс П. А. Повеление, стресс и возможности адаптации // Современные концепции эволюционной генетики. Новосибирск, 2000. С. 95–102.
Светлов П. Г. Роль внешних воздействий при реализации наследственных признаков в онтогенезе // Проблемы медицинской генетики. Л.: Медицина, 1965. С. 106–136.
Селье Г. Очерки об адаптивном синдроме. М.: Медгиз. 1960.
Селье Г. На уровне целого организма. М.: Наука, 1972.
Селье Г. Стресс без дистресса. М.: Прогресс, 1979.
УголевА. М. Эволюция пищеварения и принципы эволюции функций. Элементы современного функционализма. Л.: Наука, 1985.
Уголев А. М. Концепция универсальных функциональных блоков. Эволюционные аспекты // Эволюционная биология. Труды СПб общества естествоиспытателей. 1994. Т. 90. Вып. 1. С. 97–106.
Уоддингтон К. Х. Зависит ли эволюция от случайного поиска? // На пути к теоретической биологии. 1. Пролегомены. М.: Мир, 1970. С. 108–115.
Хесин Р. Б. Непостоянство генома // Молек. биол. 1980. Т. 14. № 6. С. 1205–1233.
Хесин Р. Б. Непостоянство генома. М.: Наука, 1984.
Холлидей Р. Эпигенетическая наследственность // В мире науки. 1989. № 8. С. 30–38.
Чайковский Ю. В. Проблема наследования и генетический поиск (описание проблемы и простейший пример поиска) // Теоретическая и экспериментальная биофизика. Межвузовский сборник. Вып. б. Калининград, 1976. С. 148–164.
Чайковский Ю. В. Эволюция. Ч. 6. Коэволюция и единая схема эволюции // биология (еженедел. прилож. к газете «Первое сентября»). 1998. № 28. С. 5–12.
Чайковский Ю. В. 2001. См. гл. II.
Чураев Р. Н. Гипотеза об эпигене // Исследования по математической генетике. Новосибирск: Наука, 1975. С. 77–94.
Шмальгаузен И. И. Организм как целое в индивидуальном и историческом развитии. М.; Л., 1938. 3-е изд.: М.: Наука, 1982.
Шмальгаузен И. И. Стабилизирующий отбор и его место среди факторов эволюции // Журн. общ. биол. 1941. Т. 2. № 3. С. 331–354.
Шмальгаузен И. И. Пути и закономерности эволюционного процесса. М.; Л.: Иэд-во АН СССР, 1940. 2-е изд.: М.: Наука, 1983.
Шмальгаузен И. И. Факторы эволюции. М.: Иэд-во АН СССР, 1946. 2-е изд.: Факторы эволюции. Теория стабилизирующего отбора. М.: Наука, 1968.
Шишкин М. А. Индивидуальное развитие и эволюционная теория // Эволюция и биоцёнотические кризисы. М.: Наука, 1987. С. 76–124.
Эфрусси Б. С. О ядерной и цитоплазматической наследственности // Известия АН СССР. Сер. биол. 1959. № 3. С. 359–367.
Alberch P. Ontogenesis and morphological diversification // Amer. Zool. 1980. Vol. 20. P. 653–667.
Anaya N., Roncero M. l.G. Sress-induced rearrangement of Fusarium retro-transposon sequences // Molec. Gen. Genet. 1996. Vo). 253. P. 89–94.
Berg R. L. A simultaneous mutability raise at the singed locus in two out three Drosophila melanogaster populations studied in 1973 // Drosophila Inform. Serv. 1974. Vol. 51. P. 100.
Berg R. L. Mutability changes in Drosophila melanogaster populations of Europe, Asia and North America and probable mutability changes in human populations in the USSR // Jap. J. — Genet. 1982. Vol. 57. P. 171–183.
Brown S. W. Heterochromatin // Science. 1966. Vol. 151. № 3709. P. 417–425.
Bran G., Plus N. The viruses of Drosophila // The genetics and biology of Drosophila / M. Shburner, T. R. E. Wrigt. Vol. 2. № 2. N. Y.; L.: 1980. P. 624–702.
Bucheton A., Vaury C., Chaboissier MC. et al. 1 element and the Drosophila genome // Genetica. 1992. Vol. 86. P. 175–190.
Carson H. L. Increased genetic variance after a population bottle neck // Tends in Ecol. a Evol. 1990. Vol. 5. P. 228–230.
Charlesworth В., Langley CM., Sniegowski P. O. Transposable element distribution in Drosophila // Genetics. 1997. Vol. 147. P. 1993–1995.
Epigenetic mechanisms of gene regulation. Cold Spring Harbour Lab. Press, 1997.
Evgen’ev M. B., Zelenisova H., Shostak N. et al. Penelope, a new family of transposable elements and its possible role in hybrid dysgenesis in Drosophila virilis // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 1997. Vol. 94. P. 196–201.
Evgen’ev M. B., Zelentsova H., Mnjoian L. et al. Invasion of Drosophila virilis by the Penelope transposable element // Chromosoma. 2000. Vol. 109. P. 350–357.
Finnegan D. J., Rubin G. M., Young М. V., Hogness D. S. Repeated gene families in Drosophila melanogaster // Cold Spring Harb. Symp. Quant. Biol. 1978. Vol. 42. P. 1053–1063.
Goldschmidt R. Physiological Genetics. N. Y., L.: McGraw Hill Book Co., 1938.
Golubovsky M. D., Ivanov J. N., Green M. M. Genetic instability in Drosophila melanogaster: Putative multiple insertion mutants of the singed bristle locus // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 1977. Vol. 74. P. 2973–2977.
Golubovsky M. D. Mutational process and microevolution // Genetica. 1980. Vol. 52/53. P. 139–149.
Golubovsky M. D., Kaidanov L. Z. Investigation of genetic variability in Drosophila populations. // Genetics of Natural populations. N. Y.: Columbia Univ. Press, 1995. P. 188–198.
Green M. M. The genetics of mutable at the white locus // Genetics. 1967. Vol. 56. P. 467–468.
Green M. M. Controlling element mediated transposition of the white gene in Drosophila melanogaster // Genetics. 1969. Vol. 61. Pi 429–441.
Hollick J. B., Donveiler J. E., Chandler V. L. Paramutation and related allelic interactions // Trends in Genet. 1997. Vol. 13. P. 302–307.
Holliday R. Mechanisms for the control of gene activity during development // Biol. Rev. 1990. Vol. 65. P. 431–470.
Holliday R. The inheritance of epigenetic defects // Science. 1987. Vol. 238. P. 163–170.
Ilyin Y. V., Tchurikov N. A., Ananiev E. T. et al. Studies on the DNA fragments of mammals and Drosophila containing structural genes and adjacent sequences // Cold Spring Harb. Symp. Quant. Biol. 1978. Vol. 42. P. 959–969.
Jorgensen R. The terminal inheritance of epigenetic information in plants // Phil. Trans. Roy. Soc. L. B. 1993. Vol. 339. P. 173–181.
Judd E. M., Laub M. T., McAdams H. H. Toggles and oscillations: new genetic circuits desigens // Bioessays. 2002. Vol. 22. P. 507–509.
Junakovic N., Di Franco C., Barsanti P., Palumbo G. Transpositions of copia-like elements can be induced by heat-schock // J. Molec. Evol. 1986. Vol. 20, P. 89–93.
Kidwell M. G. Lateral transfer in natural populations of eukaryotes // Ann. Rev. Genet, 1993. Vol. 27. P. 235–256.
Kidwell M. G. Evolution of hybrid dysgenesis determinations in Drosophila melanogaster // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 1983. Vol. 80. P. 1655–1659.
Kidwell M. G., Kidwell J. F., Sved J. A. Hybrid dysgenesis in Drosophila melanogaster: a sydrome of abberant traits including mutation, sterility and male recombination // Genetics, 1977. Vol. 36. P. 813–833.
Landman O. E. The inheritance of acquired characters // Ann. Rev. Genet. 1991. Vol. 25. P. 1–20.
Lyosin G. T., Makarova K. S., Velikodmvskaya V. V. eta!. The structure and evolution of Penelope in the viritis species group of Drosophila: an ancient lineage of retroelements // J. Molec. Evol. 2001. Vol. 52. P. 445–456.
Masters C. L., Beyreuther K. Tracking turncoat prion proteins // Nature. 1997. Vol. 388. P. 228–229.
McClintock B. Mechanisms that rapidly reorganize genome // Stadler Symp. 1978. Vol. 10. P. 25–48.
McClintock B. The significance of responses of the genome to challenge // Science. 1984. Vol. 226. P. 792–801.
McClintock B. The origin and behavior of mutable loci in maize // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 1850. Vol. 36. P. 344–355.
McClintock B. Chromosome organization and genic expression // Cold Spring Harb. Symp. Quant. Biol. 1956. Vol. 16. P. 13–47.
McClintock B. Controlling elements and the gene // Cold Spring Harb. Symp. Quant. Biol. 1956. Vol. 21. P. 197–216.
McClintock B. The control of gene action in maize // Brookhaven Symp. Biol. 1965. Vol. 18. P. 162–184.
Parsons P. A. Stress, recources, energy balances and evolutionary changes // Evol. Bio. 1996. Vol. 29. P. 39–72.
Parsons P. A. Behavior, stress and variability // Behav. Genet. 1988. Vol. 18. P. 293–308.
Parsons P. A. Introduction: The stressful scenario // Amer. Nat. 1993. Vol. 142. Suppl. P. 5–20.
Prusiner S. B. Prions // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 1998. Vol. 95. P. 13363-13383.
Setye H. A syndrome produced by diverse nocuous agents // Nature. 1936. Vol. 138. P. 32.
Selye И. Srtess. Montreal: Acta Inc., 1950.
Setye H. The stress oflife. N. Y.: Me Graw Hill, 1956.
Shapiro J. A. Genome organization, natural genetic engineering and adaptive mutation // Trends in Genet. 1997. Vol. 13. P. 98—104.
Simmons G. M. Horisontal transfer of Hobo transposable elements within the Drosophila melanogaster species complex: evidence from DNA sequencing // Molec. Biol. Evol. 1992. Vol. 9. P. I050rl060.
Tchuraev R. N., Stupak I. K., Tropynina T. S., Stupak E. Epigenes: design and construction of new hereditary units // FEBS Letters. 15 December 2000.
Wotpert L. Mechanism of limb development and malformation // Brit. Med. Bull. 1976. Vol. 32. № I. P. 65–70.
Zelentsova H., Poluectova H., Mnjoian L. et at. Dustribution and evolution of mobile elements in the viril species group of Drosophila // Chromosoma. 1999. Vol. 108. P. 443–456.
Глава 17
Алтухов, Рычков. 1972. См. гл. 3.
Алтухов Ю. П. Вид и видообразование // Энциклопедия «Современное естествознание». Т. 2. Общая биология. М.: Магистр-Пресс, 2000. С. 39–47.
Алтухов Ю. П., Корочкин Л. И., Рычков Ю. Г. Наследственное биохимическое разнообразие в процессах эволюции и индивидуального развития // Генетика. 1996. Т. 32. № 11. С. 1450–1473.
Вилсон А. К. Молекулярные основы эволюции // В мире науки. 1985. № 12. С. 122–132.
Воронцов. 1984, 1999. См. гл. 2.
Воронцов Н. Н. Виды хомяков Палеарктики (Cricetinae-Rodentia) in statu nascendi // ДАН СССР. 1960. Т. 132. № 6. С. 1448–1451.
Герасимова Т. Н. «Транспозиционные взрывы» при дестабилизации генома у Drosophila melanogaster // Молекулярные механизмы генетических процессов. М.: Наука, 1985. С. 13–20.
Герасимова Т. Н., Малютина Л. В., Мирзохи Л. Ю. и др. Множественные транспозиционные события в отдельных герминативных клетках в нестабильных линиях Drosophila melanogaster // Генетика. 1984а. Т. 20. № 9. С. 1434–1443.
Герасимова Т. Н., Мирзохи Л. Ю., Георгиев Г. П. «Транспозиционные взрывы» в отдельных зародышевых клетках при генетической дестабилизации у Drosophila melanogaster // ДАН СССР. 19846. Т. 274. № 6. С. 1473–1476.
Дубинин Н. Л., Соколов Н. Н., Тиняков Г. Г. Внутривидовая хромосомная изменчивость // Биол. журн. 1937. Т. 6. № 5/6. С. 1007–1054.
Дубинин Н. П., Соколов Н. Н. Хромосомные мутации и система вида // Журн. общ. биол. 1940. Т. 1. № 4. С. 543–564.
Дулиттл У. Ф. Четырнадцать месяцев концепции «эгоистической» ДНК // Эволюция генома. М.: Мир, 1986. С. 13–39.
Корочкин Л. И. К вопросу о направленности молекулярных и формообразовательных событий в онто- и филогенезе // Молекулярная генетика и биофизика. Киев: Вища шк., 1985. Вып. 10. С. 82–96.
Корочкин Л. И. Введение в генетику развития. М.: Наука, 1999.
Корочкин, 2001б, См. гл. 6.
Корочкин. 2002. См. гл. 6.
Красилов В. А. Эволюция и биостратиграфия. М.: Наука, 1977.
Ляпунова Е. А. Гибридизация разнохромосомных форм млекопитающих в природе и эксперименте: эволюционные аспекты // Чтения памяти Н. В. Тимофеева-Ресовского. Ереван, 1983. С. 115–132.
Ляпунова Е. А., Ивницкий С. Б., Кораблев В. П., Янина И. Ю. Полный робертсоновский веер хромосомных форм слепушонок Ellobius talpinus // ДАН СССР. 1984. Т. 274. № 5. С. 1209–1213.
Майр Э. Популяции, виды и эволюция. М.: Мир, 1974.
Полуэктова Е. В., Митрофанов В. Г., Корочкин Л. И., Купер Е. Ю. Полиморфизм кариотипа Drosophila imeretensis Socolov и влияние его на жизнеспособность особей // Генетика. 1984, Т, 20. № 4. С. 564–569.
Рэфф Р., Кофмен Т. Эмбрионы, гены и эволюция. М.: Мир, 1986.
Скворцов А. К. Микроэволюция и пути видообразования. М.: Знание, 1982.
Стегний В. Н. Реорганизация структуры интерфазных ядер в онто- и филогенезе малярийных комаров // ДАН СССР. 1979. Т. 249. № 5. C. 1231–1234.
Стегний В. Н. Архитектоника генома, системные мутации и эволюция. Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1993.
Стегний В. Н. Проблема системных мутаций // Генетика. 1996. Т. 32. № 1. С. 14–22.
Стегний В. Н., Вассерлауф И. Э. Особенности взаимного расположения политенных хромосом в генеративной ткани у Drosophila melanogaster // Генетика. 1991а. Т. 27. № 7. С. 1163–1168.
Стегний В. Н., Вассерлауф И. Э. Межвидовые отличия коориентации первично политенных хромосом трофоцитов у Drosophila melanogaster, D. simulans и D. mauritiana // Генетика. 19916. Т. 27. № 7. С. 1169–1174.
Флейеелл Р. Амплификация, делеция и перегруппировка последовательностей: основные источники изменчивости в процессе дивергенции видов // Эволюция генома. М.: Мир, 1986. С. 291–312.
Britten R. J., Davidson Е. Н. Gene regulation for higher cells, A Theory // Science. 1969. Vol. 165. P. 349–357.
Bregliano J. C., Picard G., Bucheton A. et al. Hybrid dysgenesis in Drosophila melanogaster // Scince. 1980, Vol. 207. № 4431. P. 606–611.
Britten R. J… Davidson E. H. Repetitive and non-repetitive DNA sequences and a speciation on the origin of evolutionary novelty // Quart. Rev. Biol. 1971. Vol. 46. P. 111–138.
Bush G. L. Sympatric host race formation and speciation in frugivorous flies of the genus Rhagoletis (Diptera: Tephritidae) // Evolution. 1969a. Vol. 23. P. 237–251.
Bush G. L. Mating behaviour, host specificity and the ecological significance of sibling species in frugivorous flies of the genus Rhagoletis (Diptera-Tephritidae) // Amer. Natur. 1969b. Vol. 103. P. 669–672.
Bush G. L, Case S. M., Wilson A. C., Patton J. L. Rapid speciation and chromosome evolution in mammals // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 1977. Vol. 74. P. 3942–3946.
Dobzhansky Th. Genetics of natural populations. IX. Temporal changes in the composition of populations of Drosophila pseudoobscura // Genetics. 1943. Vol. 28. P. 162–186.
Dobzhansky Th. A directional change in the genetic constitution of a natural population of Drosophila pseudoobscura // Heredity. 1947. Vol. 1. P. 53–64.
Dobzhansky Th. Experiments on sexual isolation in Drosophila. X. Reproductive isolation between Drosophila pseudoobscura and Drosophila persimilis under natural and under laboratory conditions // Proc. Nat. Ac. Sci. USA. 1951. Vol. 37. P. 792–796.
Dobzhansky Th. Genetics of the evolutionary process. N. Y.; L.: Columbian Univ. Press, 1970.
Dobzhansky Th., Sturtevant A. H. Inversions in the chromosomes of Drosophila pseudoobscura // Genetics. 1938. Vol. 23. P. 28–64.
Dover G. A. Ignorant DNA? // Nature. 1980. Vol. 285. P. 618–620.
John B., Gabor M. G. Functional aspect of satellite DNA and heterochromatin // Int. Rew. Cytol. 1979. Vol. 58. P. 1–114.
King M. C., Wilson A. C. Evolution at two levels in Humans and Chimpanzees // Science. 1975. Vol. 188. P. 107–116.
Korochkin L. I. Evolutionary significance of mobile elements, hypothesis // Cytol. a. Genet. 1983. Vol. 17. № 4. P. 66–75.
Korochkin. 1993. См. гл. 6.
Lyapunova E. A., Vorontsov N. N., Korobytsina K. V. et al. Robertsonian fan in Ellobius talpinus // Genetica. 1980. Vol. 52/43. P. 239–247.
Matthey R. Eventual robertsonian fan chez les Mus (Leggada) africans du groupe minutoides-muscuioides // Rev. Suisse Zool. 1970. Vol. 77. Fasc. 5. P. 625–629.
Rose M. R., Doolittle W. F. Molecular biological mechanism of speciation // Science. 1983. Vol. 220. № 8. P. 157–162.
Spradling A., Rubin G. Drosophila genome organization: conserved and dynamic aspects // Annu. Rev. Genet. 1981. Vol. 15. P. 219–264.
Stanley S. M. Macroevolution. Pattern and process. San Francisco: Freeman, 1979.
Sturtevant A. H., Dobzhansky Th. Geographical distribution and cytologie of «sex-ratio» in Drosophila pseudoobscura and related species // Genetics. 1936. Vol. 21. P. 473–490.
Vorontsov N. N., Lyapunova E. A. Two ways of speciation // Evolutionary biology of transient unstable populations / Ed. A. Fontdeviia. B.; Heidelberg; N. Y.: Springer, 1989. P. 221–245.
White M. J. D. Modes of speciation // Science. 1986. Vol. 159. P. 1065–1070.
White M. J. D. Chromosomal rearrangements and speciation in animals // Annu. Rev. Genet. 1969. Vol. 3. P. 75–98.
White M. J. D. Speciation in the Australien Morabine Grasshoppers. The cytogenetic evidance // Genetic mechanisms of speciation in insects. Sydney: Austr. and N. Z. Book. 1974. P. 57–68.
White M. J. D. Models of speciation. San Francisco: Freeman, 1978a.
White M. J. D. Chain processes in chromosomal speciation // Syst. Zool. 1978b. Vol. 27. P. 285–298.
White M. J. D. Speciation: is it a real problem? // Scientia. 1979. Vol. 114. № 5/8. P. 453–480.
White M. J. D. Rectangularity, speciation and chromosomal architecture // Mechanisms of Speciation. N. Y., 1982. P. 75–104.
Wilson A. C., Sarich V. M., Maxson L. R. The importance of gene rearrangement in evolution: evidence from studies on rates of chromosomal, protein, and anatomical evolution // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 1974. Vol. 71. P. 3028–3030.
Глава 18
Вернадский В. И. Биосфера. Л., 1926а.
Вернадский В. И. Определение геохимической энергии (величины Δ, ν, s) некоторых групп насекомых. Л., 1926б.
Вернадский В. И. Об условиях появления жизни на Земле // Изв. АН СССР. Сер. 7. 1931. № 3. С. 403–437; № 5. С. 633–653.
Вяткин Ю. С., Мамзин А. С. Соотношение структурно-функционального и исторического подхода в изучении живых систем // Вопросы философии. 1969. № И. С. 46–56.
Гиляров М. С. Некоторые основные положения экологии // Современные проблемы экологии (доклады). М., 1973. С. 32–51.
Заварзин Г. А. Индивидуализм и системный анализ — два подхода к эволюции // Природа. 1999. № 1. С. 26–34.
Красилов В. А. Филогенез и принципы систематики современных и ископаемых кораллов // Проблемы филогении и систематики. Владивосток, 1969. С. 12–30.
Красилов В. А. Этапность эволюции и ее причины // Журн. общ. биол. 1973. Т. 34. № 2. С. 227–240.
Красилов В. А. Эволюция и биостратиграфия. М.: Наука, 1977.
Красилов В. А. Эволюция флоры в меловом периоде и нужен ли кайнофит? // Палеонтол. журн. 1983. № 3. С. 93–96.
Красилов В. А. Теория эволюции: необходимость нового синтеза // Эволюционные исследования. Макроэволюция. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1984. С. 4–12.
Красилов В. А. Меловой период. Эволюция земной коры и биосферы. М.: Наука, 1985.
Красилов В. А. Нерешенные проблемы теории эволюции. Владивосток: ДВО АН СССР, 1986.
Красилов В. А. Периодичность развития органического мира // Палеонтол. журн. 1987. № 3. С. 9–15.
Красилов В. А. Эволюция биосферы и биосферизм // Вест. ДВО АН СССР. 1990. № 1 (34). С. 87–99.
Красилов В. А. Глобальные климатические изменения как фактор эволюции биосферы // Экосистемные перестройки и эволюция биосферы. М.: Недра, 1994. Вып. 1. С. 285–294.
Красилов В. А. Модель биосферных кризисов // Экосистемные перестройки и эволюция биосферы. Вып. 4. М.: Изд-е Палеонтол. ин-та, 2001. С. 9–16.
Личков. 1965. См. гл. 8.
Одум Ю. Основы экологии. М.: Мир, 1975.
Раутиан А. С., Жерихтин В. В. Модели филоценогенеза и уроки экологических кризисов геологического прошлого // Журн. общ. биол. 1997. № 4. С. 20–47.
Сетров М. И. Организация биосистем. Л.: Наука, 1971.
Старобогатов Я. И., Левченко В. Ф. Эксцентрическая концепция макроэволюции // Журн. общ. биол. 1993. Т. 54. № 4. С. 389–407.
Стэнли С. С. Массовые вымирания в океане // В мире науки. 1984. № 8. С. 26–35.
Уэбб С. Д. О двух типах быстрых фаунистических переворотов // Катастрофы и история Земли: Новый униформизм. М.: Мир, 1986. С. 413–434.
Фишер А. Два суперцикла фанерозоя // Катастрофы и история Земли: Новый униформизм. М.: Мир, 1986. С. 133–155.
Хайлов К. М. Системы и систематизация в биологии // Проблемы методологии системного исследования. М., 1970. С. 127–145.
Чернов Ю. И. Проблема эволюции на биоценотическом уровне организации жизни // Развитие эволюционной теории в СССР. Л.: Наука, 1983. С. 464–479.
Шмальгаузен И. И. Кибернетические вопросы биологии. Новосибирск: Наука, 1968.
Campbell D. Т. «Downward causation» in hierarchically organized biological systems // Studies in the philosophy of biology. L.: Macmillan, 1974. P. 179–186.
Fiolser W. T., Magantc M. Cretaceous / Tertiary and Permian / Triassic boundary events compared // Geochem. Cosmochem. Acta. 1997. Vol. 56. P. 3297–3309.
Gubbins D., Sarson G. Geomagnetic field morphologies from a kinematic dynamo model // Nature. 1994. Vol. 318. P. 51–55.
Kmssilov V. A. Directional evolution: a new hypothesis // Evol. theory. 1980. V. 4. P. 203–220.
Krassilov V. A. Ecosystem theory of evolution // Rivista di Biologia — Biology Forum. 1992. Vol. 85 (2). P. 243–245.
Krassilov V. A. Ecosystem theory of evolution and social ethics // Rivista di Biologia — Biology Forum. 1994. Vol. 87 (1). P. 87–104.
Lag Т., Williams Q. . Gamero E. S. The corc-mantle boundary layer and deep Earth dynamics // Nature. 1998. Vol. 392, P. 461–468.
Levinton J. S, Simon CM. A critique of the punctuated equilibria model and implications for the detection of speciation in the fossil record // Syst. Zoo J. 1980, Vol. 29. P. 130–142.
Rampino M. R., Strothers R. B. Terrestrial mass extinctions, cometary impacts and the Sun’s motion perpendicular to the galactic plane // Nature. 1984. Vol. 308. P. 709–711.
Roup D. M. Rise and fall of periodicity // Nature. 1985. Vol. 316. № 6036. P. 384–385.
Rensch B. Neuere Probleme der Abstammungslehre. Die transspezifische Evolution. Stuttgart: Enke, 1954.
Sperry R. W. A modified concept of consciousness // Psycol. rev. 1969. Vol. 76. P. 532–536.
Visscher H., Brinkhuis H., Dilcher D. L. el al. The terminat Paleozoic fungal event: Evidence of terrestrial ecosystem destabilization and collapse // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 1996. Vol. 93. P. 2155–2158.
Предметный указатель
Автогенез
Авторегуляция
Автоэволюция
Адаптивная зона
Адаптивная радиация
Адаптациогенез
Актуализм
Аллели
— доминантные
— рецессивные
Аллоизмы
Аллометрический рост
Алломорфоз
Аллополиплоиды
Амплификация генов
Анагенез
Анастрофа
Антидарвинизм
Антислучайность
Антитела
Антропоцентризм
Арогенез
Ароморфоз
Архаллаксис
Архетип
Ассортативное скрещивание
Астероидная гипотеза
Батмизм
Биогенетический закон
Биоразнообразие
Биота
Биотические революции
Биотип
Биоценоз
Блоки ДНК
Борьба за существование внутривидовая
«Бутылочного горлышка» эффект
Верификация
Виды
— агамные
— биологические
— бисексуальные
— двойники
— жорданоны (элементарные)
— линнеоны
— мономорфные
— полиморфные
— политипические
Видообразование
— аллопатрическое
— внезапное (взрывное)
— генетическое
— гибридогенное
— дивиргентное
— квантовое
— кладистическое
— направленное
— полиплоидное
— симпатрическое
— стасипатрическое
— филетическое
— хромосомное
Витализм
«Волны жизни»
Вырожденность генетического вида
Гаузе принцип (закон)
Генетика
— видообразования
— классическая
— молекулярная
— «подвижная»
— популяции
— эволюционная
Гены
— гомеозисные
— депрессивные
— дупликация
— замещения
— молчащие
— множественность
— репрессивные
— регуляторные
— структурные
Генетическая ассимиляция
Генетическая инженерия
Генетическая революция
Генетический антидарвинизм
Генетический дрейф
Генетический поиск
Генетическое расстояние
Геном
Генофонд
Генэпистаз
Гетерогенез
Гетерохроматин
Гибридизация
— «вегетативная»
— отдаленная
Гибридный дисгенез
Гибридогенез
Гипотетикодедуктивный метод
Гомеобокс
Гомеостаз
— генетический
— физиологический
Гомология
Гомологических рядов в наследственной изменчивости закон
Горизонтальный перенос генетической информации
Градация
Градуализм
— «прерывистый»
— филетический
Грады
Дарвинизм
Дедукция
Делеция генов
Диастрофа
Диатропика
Диплодность
Дивиргенция
ДНК
— повторная
— сателлитная
— цитоплазматическая
— ядерная
Доместикация
Доминанты
Зародышевая изобретательность
Зародышевая плазма
Идеоадаптация
Идеоплазма
Изменчивость
— вариационная
— внутривидовая
— генетическая
— динамическая (эпигенетическая)
— индивидуальная
— модификационная
— мутационная
— направленная
— наследственная
— неопределенная
— определенная
— соотносительная (коррелятивная)
— тератологическая («прапвило Кренке»)
— фенотиличская
— хромосомная
Изозимы
Изоляция
— геологиеская
— поведенческая
— пространственная
— репродуктивная
— физиологическая
Изоморфизм
Иммуногенез
Инбридинг
Индетерминизм органический
Индуктивный метод
Индукция
Инсерция
Информационное давление
Информационная концепция эволюции
Кариотип
Катаморфоз
Катастрофам
Катасрофы
Кладогенез
Клональноселекционная теория
Коадаптация
Конвергенция
Конкуренция внутривидовая
Корреляция
Креационизм
Ламаркизм
Ламаркизм химический
Ламаркодарвинизм
Логический эмпиризм
Локус
Магнификация генов
Макромутации
Макромутанионизм
Макрофилогенез
Макроэволюция
Мегаэволюция
Мейоз
Менделизм
Мероны
Меренимия
Механизм эволюции
Механоламаркизм
Микроэволюция
Мимикрия
Мнемизм
Мобильные генетические элементы (МГЭ)
Модификации длительные
Мозаичность
Мономорфизм
Монофилетическое происхождение
Монофилия политопная
Монстры («многообещающие уроды», «обнадеживающие уроды»)
Морфогенез
Морфофизиологический прогресс
Мутагенез
— лавинообразный
— инсерционный
— искусственный (направленный)
— радиационный
— химический
Мутации
— биологические
— Ваагена
— генные (точковые)
— геномные
— гипермутации
— гомологические
— двойные
— инсерционные
— направленные
— регрессивные
— рецессивные
— синонимные
— трансмутации
— системные
— хромосомные
Мутационизм
Мутационная теория эволюции
Наследование приобретенных признаков
Наследственность
— менделевская
— неменделевская
— цитоплазматическая
Нейтрализм
Неодарвинизм
Неоламаркизм
Неотения
Неофинализм
Номогенез
Нуклеотип
Общая теория систем (ОТС) (см. Системная теория)
Онтогенез
Онтогенетичкские перестройки
Онтомутация
Опероны
Организмизм
Органицизм
Ортогенез
Ортогенетические фазы
Отбор
— балансовый
— бессознательный
— ведущий
— видов
— внутренний
— дестабилизирующий
— естественный
— искусственный
— катастрофический
— консервативный (стабилизирующий)
— «органический»
— отрицательный
— половой
— совпадающий
Протерогенез
Панмиксия
Панпсихизм
Параллелизм
Партеногенез
Педоморфоз
Плазмаген
Плазмон
Плазмиды
Позитивизм
Позитивная философия
Позитивная теория эволюции
Полиплодия
Полифилия
Полиморфизм
Популяции эрогенные
— большие
— изолированные (изоляты)
— малые
— панмиктические
— элементарные (локальные)
Популяционизм
Популяционное мышление
Преадаптации теория
Прерывистого равновесия теория
Признаки
— адаптивные (приспособительные)
— видовые
— высших таксонов ]
— морфологические
— нейтрапльные
— организационные (конституционные)
— родовые
— фенотипические
Причинность эволюции
— «восходящая»
— «нисходящая»
— целевая
Протерогенез
Психовитализм
Психоламаркизм
Пунктуализм см. Прерывистого равновесия теория
Радиация
— космическая
— солнечная
Радиоактивность
Регресс
— биохимический
— физиологический
Редукционизм
«Робертсоновский веер»
Сальтация
Сальтационизм
Селекционизм
Селекция
Симбиогенез
Симбиоз
Симгенез
Синтезогенез
Синтез нематричный
Синтетическая теория эволюции (СТЭ)
Системная теория (см. ОТС)
Системный подход (см. ОТС)
Скорость молекулярной эволюции
Спорты
Стазис
Стаей генез
Стресс
— геномый
— физиологический
— экологический
Стрессоры
Субпопуляция
Субституция
Сцепление
Теология
— имманентная (внутренняя)
— трансцедентная (внешняя)
Теленомия
Телломорфоз
Теллурические гипотезы
Гипогенез
Типолиз
Типологизм
Типологический подход
Типостаз
Типострофизма теория
Тихогенез (селекционизм)
Трансдукция
Транскриптация обратная
Транспозитивные взрывы
Транспозиционные элементы см. Мобильные генетические элементы
Транспозиция
Транспозоны
Трансформизм
Триплеты
Трофоплазма
Униформизм
Фиксизм
Филогенез
Филогенетический дрейф
Филогенетическое ускорение
Филогеронтия
Филэмбриогенез
Финализм
Финалистический взгляд
Финальность
Функциональные блоки
Харди-Вайнберга закон
Холдейна дилемма
Холизм
Хромосомные перестройки инверсия слияние
Хроновиды
Центральная догма молекулярной биологии
Цикличности развития филогенетических линий учение
Цитотип
Эволюционизм
Эволюционика
— адаптивная
— арогенкая (ароморфная)
— дивиргентная
— «квантовая»
— кладистатическая (видообразовательная)
— когерентная
— молекулярная
— монофилетическая
— некогерентная
— нейтральная
— надвидовая
— парафилетическая
— циклическая
— полифазная
— прогрессивная
— регрессивная
— сопряженная
— физиологическая
— филетическая
— экспозивная
Эквивалентность
Экологическая ниша
Экосистема
Экосистемная теория эволюции (ЭТС)
Эктогенез
Элиминация неизбирательная
Эмпиризм
Эндосимбиоз
Энтелехия
Эпигенез
Эпигенетика
Эпигенетический ландшафт
Эпигены
Эссенциализм
Эукариоты
Именной указатель
Anaya N.
Baker R.
Beyreuther
Boureau Ed.
Bregliano
Brun G.
Bucheton A.
Camp
Campbell
Carson H. L.
Chiselin M. T.
Comte
David
Davidson E.
Decugis
Dover G. A.
Ehrlich P. R.
Endler J. A.
Frazzetta
Gase
Gubbins D.
Greenbaum
Hatfield G. B.
Henbest
Henshaw P. S.
Herbert
Hollic
House M. B.
Judd E. M.
Jukes
Junakovic N.
Kidwell M. G.
Kohn D.
Lafont
Laskey Laub
Liniger H.
Loeblich A. R.
Magane
Masters C. L.
Matthey W. D.
Maxson
McAdams
Miller
Moyers J. B.
Ohta
Oldroyd D.
Ospovat D.
Plus
Ramsey P. R.
Raven
Rensch
Riedl R.
Roncero
Ruse
Salet G.
Sarich
Sarson
Schweber S.
Spradiing A.
Stanley S. M.
Steenis
Sturtevant
Tappan
Taylor G. R.
Teissier
Terry K. D.
Tucker
Valentine
Whyte V. J. D.
Wiedmann
Worsley
Абель
Абрамова
Агассис Л.
Адамс М. В. (Adams)
Айала
Александров В. Я.
Алиханян С. И.
Алтухов Ю. П.
Альварес Л. У. (Alvarez)
Альт Ф. У. (Alt F. V.)
Амалицкий В. П.
Андерсон Э. (Anderson)
Антони R. (Anthonj R.)
Аристотель
Армс (Arms)
Аронов Е. А.
Астауров Е. Л.
Ахвердян М.
Балтимор A. (Baltimore)
Бараневский О. В.
Баррел Дж.
Баер К. (Baer K.)
Беклемишев В. Н.
Беляев Д. К.
Беляева Е. С.
Беннетт А.
Берг Л. С.
Берг П.
Берг Р. Л. (Berg R. L.)
Бергер Л. (Berger)
Бергеон A. (Bergson)
Берджере Дж.
Бердников В. А.
Вернет Ф. М. (Burnet)
Бернал Дж.
Берталафни
Бетсон У.
Бир де (De Beer)
Бирштейн
Бланк М. (Blanc)
Бляхер Л. Я.
Бовери
Бойрлен К (Beuflen)
Болдуин Дж
Болотов А. Т.
Бонавиа Э. (Benevia)
Бонне Ш.
Бонье Б (Bonnier)
Борзенко В. Е.
Боркин Л. Я
Бриттен Э.
Броу Дж. (Brough)
Броун-Секара Ш.
Буавэн A. (Botvin)
Будыко М. И.
Буль
Бухнер П.
Буш Г. Л. (Bush G. L.)
Бэквелл
Бэкон Ф.
Бэр К.
Бэр Л. (Baer)
Бюффон Ж. Л.
Вааген В.
Вавилов Н. И.
Вагаер В. А.
Вален ван (Valen van)
Вализер О.
Вальтер И. (Wаlter)
Вандель A. (Vandel)
Васильева В. П.
Ведекинд Р. (Wedekind)
Вейсман А.
Вентребер П. (Wintreber)
Вернадский В. И.
Веттштейн
Виганд A. (Wigand)
Вилсон А. С. (Wilson А. С.)
Винге О. (Winge)
Винклер Г.
Виноградов И. С.
Венцль А. (Wenzl)
Вите (White)
Волькенштейн М.
Вольман Э.
Вольф
Воробьева Э. И.
Воронцов Н. И.
Вудвард А. С. (Woodward)
Вуджер
Гааке (Haake)
Газарян К. Г.
Гайетт А.
Гайсинович А. Е.
Галет
Галл Я. М.
Гарстанг
Гаузе Г. Ф. (Gause)
Геер О.
Гейбор М.
Гейзенберг В.
Гёйкертингер Ф. (Heikertinger)
Геккель Э.
Гекели Т.
Генкель П. А.
Георгиевский А. Б.
Герасимов Т. И.
Герасимова Т. И.
Гёрдон Дж. Б. (Gurdon)
Гериберт-Нильсон Н.
Геринг В. И.
Геринг Дж.
Геринг Э.
Гершель Дж.
Гершеизон С. М.
Гершкович И.
Ги Ш.-Э.
Гизелин
Гийено Э. (Guydnot)
Гиляров М. С.
Гоббс Т.
Гобло
Годри А.
Голенкин М. И.
Голубовский М. Д.
Гольдшмидт P. (Goldschmidt)
Гордон (Gordon J. B.)
Грабау A. (Grabau) S
Гранджан Ф. (Grandjean Fr.)
Грант В.
Грассе П.-П. (Grassé)
Гречко
Грин М. (Green М.)
Гулд С. Дж. (Gould S. J.)
Гюйгенс
Д’Орбиньи
Давиташвили Л. Ш.
Дакке (Dacque)
Дальк A. (Dalcq)
Дальтон
Данбар (Dunbar)
Данилевский Н. Я.
Дарвин Ч. (Darwin)
Дарвин Э.
Даревский И. С.
Дарест К.
Дарлигтон К (Darlington)
Декандоль
Делаубендфельс М.
Дельбрюк М. (Delbruk)
Денжеман Г. (Dingemans)
Дентон М. (Denton)
Депере
Джексон А.
Дженкин Ф.
Джоли Дж.
Джон Б. (John В.)
Джонс Дж. (Jons J. S.)
Добжанский Т. Ф. (Dobzhansky)
Догель В. А.
Додерлейн
Дриш П. (Driesch)
Дроздов А. Л.
Дубинин Н. Л.
Дувийе
Дулитл У. Ф. (Doolittle)
Дэвис Д. (Davis D. D.)
Дюшен А.
Ежиков И. И.
Ермоленко М. Т.
Жандель
Жданов В. М.
Жиар A. (Giard)
Жоффруа Сент-Илер Э.
Завадский К. М.
Заварзин А. А.
Заварзин Г. А.
Земпер
Зильбер Л. И.
Зондер A. (Sonder)
Зюсс Э.
Иванов
Иванова Е.
Ивановский А. Б.
Иекель О. (Jaekel)
Ильин М. М.
Инге-Вечтомов С. Г.
Иогансен В. (Johannsen)
Йоллос В.
Йоргенсен (Jorgensen)
Камшилов М. М.
Кант Э.
Карел А.
Карпеченко Г. Д.
Карсон X. (Carson H. L.)
Катрфаж А. де (Quatrefages)
Кедо де Кервиль
Кейн
Келликер А.
Кельрейтер И.
Кено Л. (Cuenot)
Керкис Ю. Я.
Керкут
Кернер А. (Kerner)
Кернс Дж. (Cairns J. J.)
Кимура М. (Kimura)
Кинг М. (King М. С.)
Кирпичников B. C.
Клауд П. Е. (Cloud)
Кокен
Коллинз
Колчинский Э. И.
Комаров В. Л.
Конашев М. Б.
Конклин
Конт О.
Коп Э. Д. (Соре)
Коперник
Кордюм В. А.
Коржинский С. И.
Короткова
Корочкин Л. И.
Корренс К.
Костантзи
Кофмен Т.
Красилов В. А.
Красовский В. И.
Кренке Н. А.
Криштофович А. Н.
Кропоткин П. А.
Кузнецов
Куприянова
Кусакин О. Г.
Кутань Г. (Coutagne)
Кэйрнс Дж. (Cairns)
Кэннон
Кювье Ж.
Л’Эритье Ф. (L’Heritier)
Лайель
Лаказ-Дютье Г. де (Lacaze-Duthiers)
Лаланд A. (Lalande)
Лалл Р.
Ламарк Ж. В.
Ламерти де
Ламотт М. (Lamotte)
Ландман О. Е. (Landman)
Ланессан
Лаплас П.
Ларусс (Larusse)
Леб
Левис (Lewis)
Левонтин Р.
Ле Дантек Ф. (Le Dantec)
Ледерберг Д.
Лейбниц
Леконт дю Ноюи П.
Лекутер
Леман
Леонов Г. П.
Лесгафт П. Ф.
Лестр
Ливанов Н. А.
Лилли Е. С. (Lillie)
Лима-де-Фария А.
Линдберг
Линдгрен К. К. (Lindegren)
Линней К.
Личков Б. Л.
Лобашев М. Е.
Лопашов Г. В.
Лотси Я. (Lotsy)
Лукин Е. И.
Лундстрем А.
Лурия A. (Luria)
Лысенко Т. Д.
Львов A (Lwoff)
Лэк Д.
Любищев А. А.
Ляпунов
Ляпунова Е. А.
Майварт Дж.
Майр Э. (Mayr)
Макаров М. Г.
Мак-Дуголл
Мак-Клинток Б. (McClintock)
Мальтус Т.
Маргулис (Саган) Л. (Margulis Sagan)
Маркс К.
Мартэн
Медников Б. М.
Мейн С. В.
Мейнард-Смит Дж (Maynard-Smith)
Мейстер Г. К.
Мендель Г.
Мережковский К. С.
Мизутани С.
Микитенко
Миллер Е.
Милль С. (Mill)
Мичурин И. В.
Моно Ж. (Monod)
Мопертюи Л.
Морган Л.
Морган Т. Г. (Morgan)
Моро Ж.
Мэтью У.
Мюнтцинг А.
Мюррей Дж.
Назаров В. И.
Насс М. (Nass М.)
Негели К. (Nageli)
Ненни Д.
Николис Г
Ноден Ш. (Naudin)
Нодэн Ш.
Ньютон И.
Ньюэлл Н. (Newell)
Овербах (Ovtrbough)
Ог Э. (Haug)
Одум Э.
Олсон (Olson Е. С.)
Оно С. (Ohno)
Осборн (Osborn H. F)
Острякова-Варшавер
Паавер К. Л.
Павлов А. П.
Паккард А.
Парамонов А. А.
Паро (Parrot)
Парсонс П. A. (Parsons P. А.)
Паули А.
Пауэлл Дж. Р. (Powell)
Петр Великий
Петрункевич
Пивто (Piveteau)
Платон
Полянский Ю. И.
Попов М. Г.
Поппер К. (Popper)
Пригожин И.
Прир Дж.
Пузанов И. И.
Пушкин А. С.
Пьер-Жан (Pierre-Jeane)
Рабо Э. (Rabaud)
Равен К. (Raven)
Райт С. (Wright)
Рассел Д. A. (Russsel)
Рауп Д. М. (Raup D. M.)
Ремане
Ренш Б. (Rensch В.)
Рефф
Робинс
Роза Д.
Ромашов Д. Д.
Ростанд
Ру В.
Руженцев В. Е.
Рулье К. Ф.
Рыбин В. А.
Рычков Ю. Г.
Рьюз М. (Ruse)
Рэфф Р.
Рюйе Р. (Ruyer)
Саган-Маргулис Л. (Sagan Margulis)
Салоп Л. И.
Свердсон Г.
Светлов П. Г
Себрайт
Северцов А. С.
Седжвик
Селье Г.
Соннеборн Т.
Сепкоский Дж. (Sepkosky)
Симонс (Simmons)
Симпсон Г. Г. (Simpson)
Синнот Э. (Sinnott E. N.)
Скотт Г. (Scott)
Смит А.
Соболев Д. Н.
Соколов Б. С.
Соловьев
Соннеборн Т.
Спенсер Г. (Spencer)
Старобогатов Я. И.
Стеббинс Д. Л. (Stebbins)
Стегний В. Н.
Стенгерс
Стенли С. С. (Stenley)
Степанов Д. Л.
Стилл Э. (Steele E. J.)
Страхов Н. Н
Сушкин П. П.
Татаринов Л. П.
Тахтаджян А. Л.
Тейар П. де Шардэн
Темин (Temin Н. М.)
Тимофеев-Ресовский Н. В.
Тинтан
Тиняков
Томсон У.
Тоне (Toon O. V)
Тонин
Трейгер В.
Тсакас С. (Tsakas S. C.)
Тун О. (Toon)
Тэкерей А.
Уайт М. Дж. Д. (White)
Уайтмор Д.
Уайтхед
Уголев А. М.
Уиллис Дж. (Willis J. C.)
Уильямсон П. (Williamson R. G.)
Уоддингтон К. Х. (Waddington)
Уоллес А. Р
Урманцев Ю. А.
Уссе Ф.
Уэбб С. Д. (Webb S. D.)
Уэвелл У.
Уэстол Т. С. (Westoll S.)
Фаминцын А. С.
Фарадей
Филипченко Ю. А.
Финнер Ф. (Finner)
Фишер Р. А. (Fisher)
Фишер Э.
Флуранс П. (Flourens)
Форд Е.
Форе-Фремье
Франсэ Р
Фриз Г. де (Vrise)
Фролов
Хаас И. (Haas)
Хаксли Дж. С. (Huxley)
Хахина Л. H.
Хенниг (Hennig Е.)
Херш
Хесин Р. Б.
Холдейн Дж. Б. С. (Haldane J. B. S.)
Холл (Hall B. G.)
Хоперская
Хохлов С. С.
Хук (Haug E.)
Хюне
Циммерман
Чайковский Ю. В.
Чернов Ю. И.
Четвериков С. С.
Чижевский А. Л.
Чураев P. H.
Шалин Ж. (Chaline J.)
Шапиро Дж. (Shapiro J. A.)
Шапошников Г. Х.
Шварц С. С.
Швенденер С. (Schwendener)
Шелл A. (Shull А. Е.)
Шеллинг
Шиманский В. Н.
Шиндевольф (Schindewolf O. H.)
Шишкин М. А.
Шкловский И. С.
Шмальгаузен И. И.
Шманкевич В. Н.
Шопенгауэр
Штандфус М.
Штейнман Г
Штерн
Штилле Г.
Шухерт Ч. (Schuchert)
Эддингтон А.
Эймер Т. (Eimer)
Элдридж Н. (Eldridge)
Эмильяни К. (Emiliani С.)
Энгельс Ф. (Engels)
Эфрусси Б. (Efrussi)
Юатт
Югай Г. А.
Юл Г. (Yule G. U.)
Юм Д. Юнее
Юри Г. (Urey Н. С.)
Юсуфов А. Г.
Яблоков А. В.
Яковлев Н. Н.
Янч Е. (Jantsch)
Словарь терминов
Автополиплоидия — кратное увеличение числа наборов хромосом одного вида.
Агамные формы — размножающиеся бесполым путем.
Актуализм — принцип в естествознании, согласно которому в геологическом прошлом действовали те же факторы, которые действуют ныне.
Алломорфоз — по И. И. Шмальгаузену, прогрессивная специализация благодаря развитию частных приспособлений при известной дифференциации функций и усовершенствовании организации.
Аллополиплоидия — кратное увеличение (обычно одно- или многократное удвоение) числа хромосом у гибрида, в результате которого он становится плодовитым.
Амфидиплоиды — гибриды с удвоенным числом хромосом.
Анагенез — морфофизиологический прогресс (усовершенствование) филогенетической ветви (филума). То же, что ароморфоз и арогенез.
Анастрофа — по В. Вальтеру, быстрая трансформация органического типа, ведущая к становлению нового плана организации. То же, что типогенез, по О. Шиндевольфу.
Арогерез — то же, что анагенез.
Архаллаксис — эволюционное изменение структуры, совершающееся на ранних стадиях морфогенеза.
Бутылочного горлышка эффект — возникновение популяции с генетическим строением, определяемым случайностью сохранения немногих особей с тем или иным генотипом, уцелевших после резкого сокращения численности родительской популяции. Данный механизм составляет содержание принципа основателя Э. Майра.
Видообразование:
— аллопатрическое — в СТЭ — образование новых видов за счет популяций, пространственно изолированных друг от друга.
— квантовое — быстрое преврашение одного вида в другой на основе единичной макромутации.
— кпадистическое — образование многих видов в результате расщепления филогенетической ветви или исходной популяции.
— политопное — одновременное возникновение нового вида в разных, нередко географически удаленных друг от друга популяциях.
— ретикулярное — то же, что видообразование через гибридизацию.
— сетчатое — то же, что ретикулярное.
— стасипатрическое — так М. Дж. Д. Уайт назвал видообразование, совершающееся на основе хромосомных перестроек в отсутствие пространственной изоляции.
— генетическое — по Н. Н. Воронцову, внезапное видообразование на основе хромосомных мутаций, сразу порождающих репродуктивную изоляцию.
Генетико-автоматические процессы — изменение частоты генов в популяции под действием случайных факторов, ведущих к резкому сокращению численности популяции. Характерны для «принципа основателя» и эффекта бутылочного горлышка. Синоним — дрейф генов.
Генетическая революция — по Э, Майру, быстрое преобразование генофонда популяции.
Генетический поиск — гипотетический механизм, лежащий в основе направленной мутации отдельных клеточных генов, происходящей в стрессовых условиях, способный обеспечить выживание организма.
Гибридный дисгенез — появление аномального по ряду генетических признаков потомства от скрещивания особей с несовместимыми генами. Явление вызывается массовыми перемещениями (транспозициями) мобильных генетических элементов.
Гипертелня — переразвитие структур и органов организмов, приводящее к их непропорционально большой величине. Общеизвестные примеры: рога у вымершего ирландского оленя, клыки у вымершего саблезубого тигра. В СТЭ — синоним сверхспециализации.
Градуализм — представление о непрерывности и постепенности эволюционных преобразований.
Дем — элементарная часть популяции, в которой в течение одного поколения совершается обмен генами. Синоним локальной популяции.
Денудация (геол.) — процесс переноса в низменные места продуктов выветривания горных пород, ведущий к выравниванию рельефа.
Дрейф генов, или генетический дрейф — то же, что генетико-автоматические процессы.
Дивергенция — в теории Дарвина прогрессирующее расхождение признаков организмов в ходе эволюции филетических линий, беруших начало от общего предка. Является результатом внутривидовой конкуренции и естественного отбора.
Катаморфоз — регрессивные преобразования морфофизиологической организации организмов, выражающиеся в упрощении или исчезновении отдельных органов в ходе эволюции.
Макромутация — крупная мутация, связанная с резким изменением какого-либо из наблюдаемых (фенотипических) признаков организма или их совокупности.
Макрофилогенез — скачкообразное возникновение высших таксонов.
Мегаэволюция — процесс образования высших таксонов (классов, типов).
Мерой — так С. В. Мейен предложил называть любой морфологический, физиологический или экологический признак, общий для изучаемого таксона, в случае сравнения последнего с другим параллельным таксоном.
Мерономия — так С. В. Мейен назвал раздел таксономии, который изучает признаки.
Монофилия — происхождение группы организмов от общего предка или от одного таксона более низкого ранга. Графически отображается в виде родословного древа.
Мутации Ваагена — морфологически отличные формы животных одного вида, сменявшие друг друга в последовательных слоях земной коры. В XX в. их стали рассматривать в качестве этапов образования хроновидов.
Мутации синонимкые — изменения в составе триплетов оснований ДНК, приводящие к его превращению в другой триплет, но в пределах той же кодовой группы. Такие мутации не меняют состава кодируемого белка и оказываются, таким образом, нейтральными.
Неодарвинизм — другое название синтетической теории эволюции (СТЭ).
Неокатастрофкзм — одно из современных направлений в сальтационизме, считающее исходной причиной перестройки таксонов и биоты внезапные и внешние по отношению к биоте события.
Неономогенез — совокупность номогенетических концепций, появившихся во второй половине XX в.
Неотения — выпадение из онтогенеза дефинитивной (взрослой) стадии развития и приобретение организмом способности размножения на личиночной стадии.
Номогенез — учение о внутренней запрограммированности, предопределенности эволюционного процесса, его подчиненности строгим закономерностям. Имеет отправным моментом изначальную целесообразность всего живого.
Онтомугация — согласно А. Дальку, резкие преобразования в архитектонике цитоплазмы и ядерной системе ооиита, ведущие к радикальным макроэволюционным событиям.
Организмизм — эволюционное направление, описывающее эволюцию с точки зрения единства и целостности биологических объектов, не поддающихся редукционистскому анализу и разложению на части.
Органицизм — доктрина, согласно которой причины и движущие силы эволюции заключены в самих организмах (автогенез), а не во внешних по отношению к ним факторах. Термин распространен преимущественно в романских странах.
Ортогенез — направленное прямолинейное филогенетическое развитие по одному или немногим путям, не зависящее от селективных процессов.
Панмиксня — свободное, без каких-либо ограничений скрещивание разнополых организмов в пределах видовых популяций.
Педоморфоз — способ эволюционных изменений групп организмов, отличающийся полной утратой взрослой стадии развития и приобретением способности размножения на личиночной стадии. Ряд специалистов считают педоморфоз синонимом неотении.
Полиморфизм:
— инверсионный — полиморфизм по инверсиям.
— транзитивный — развертывание внутривидовой структуры при видообразовании, аналогичной таковой предшествующего вида.
Принцип основателя — возникновение ограниченной популяции, несущей случайную выборку видового генофонда.
Протерогенез — по представлениям О. Шиндевольфа, рекапитуляция в эволюции отдельных (или комплекса) новых признаков раннеонтогенетического происхождения на конечных стадиях развития вплоть до их полного исчезновения.
Психонитализм — течение в биологии, полагающее, что жизненными явлениями и биологической эволюцией управляют нематериальные факторы психической природы.
Робертсоновский веер — существование в пределах видовой популяции нескольких форм (кариоморф), различающихся хромосомным набором. Они образуются в результате внезапной перестройки кариотипа (геномная мутация) или путем последовательной гибридизации за счет слияния двух одноплечих негомологичных хромосом в одну двуплечую.
Сальтационизм — течение эволюционной мысли, постулирующее скачкообразный характер изменчивости, внезапное образование новых форм и любых таксонов, а также резкую смену биот в геологической истории. Синонимами являются макрогенез и макромутаиионизм.
Симбиогенез — гипотеза о происхождении путем симбиоза — соединения двух или нескольких обычно систематически далеких видов в один новый, доказанная применительно к лишайникам. В настоящее время используется для объяснения происхождения эукариотической клетки.
Симгенез — так назван Н. Н. Воронцовым процесс формообразования путем соединения (слияния) геномов разных видов. Осуществляется путем гибридизации или симбиогенеэа. Противоположен дивергентному видообразованию.
Спиритуализм — философская и эволюционная доктрина, рассматривающая дух как первооснову бытия и эволюции живого. Получил распространение в романских странах.
Стаснгенез — пребывание таксона в неизменном состоянии на протяжении многих тысяч или миллионов лет благодаря давлению стабилизирующего отбора. Примерами могут служить «живые ископаемые»: лингула, латимерия, гаттерия, гинкго и др.
Теломорфоз — по И. И. Шмальгаузену, эволюция в сторону узкой специализации и существованию в узкой адаптивной зоне.
Типологизм — философское учение, утверждающее существование самостоятельных независимых типов, выражающих качественно различные сущности. Восходит к Платону и Аристотелю, считавших, что между типами не может быть переходных форм.
Типология — научная классификация, строящаяся на изучении возможности расчленения систем объектов и их группировки в соответствии с обобщенной моделью или типом. Опирается на сравнительное изучение существенных признаков.
Транслокация робертсоновская — ведущая к изменению кариотипа, т. е. уменьшению или увеличению набора хромосом.
Трансформизм — учение о превращении одних форм в другие или их историческом развитии в пределах систематических групп определенного ранга. Это учение еще не доросло до целостной системы взглядов, обосновывающих генеалогическую непрерывность эволюционного процесса от простого к сложному (или в обратном направлении) без таксономических ограничений.
Укиформизм — метод в геологии, согласно которому на всем протяжении геологической истории действовали одни и те же агенты и с равной интенсивностью.
Фанерозой — этап геологической истории, охватывающий палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эры и длившийся 570 млн лет.
Филогенетический дрейф — возникновение разнонаправленных видов в силу случайных эволюционных флуктуаций. Аналогичен генетическому дрейфу в популяциях.
Филогенетическое ускорение — появление у организма или таксона признаков, характерных для организмов или таксонов с более высокой организацией. Наблюдается в историческом развитии разных групп и выглядит как «предварение филогении онтогенией».
Филогероитизм — представление о старении филогенетических линий в рамках учения о цикличности их развития.
Филогеронтия — старение филогенетических линий.
Финализм — компонент многих эволюционных концепций, постулирующий строго запрограммированный характер органической эволюции, идущей к определенной цели (финалу). Включает в себя телеологию.
Фннальность — свойство стремиться к какой-либо цели или реализации определенной программы независимо от каузальных связей с действующими внешними факторами.
— имманентная — реализуемая в случае локализации цели внутри развивающейся системы.
— трансцендентная — реализуется в случае, когда цель находится вне развивающейся системы, как это имеет место в психовиталистических и спиритуалистических гипотезах.
Фитохория — область географического распространения растительных сообществ.
Эволюция:
— ароморфная — эволюция прогрессивная, идущая по пути усложнения морфофизиологической организации. То же, что эрогенная.
— когерентная — медленная, протекающая в стабильных климаксовых экосистемах при высоком давлении стабилизирующего отбора.
— некогерентная — быстрая, протекающая в нарушенных, находящихся в состоянии кризиса экосистемах, испытывающих сокращение видового состава и глубокие изменения внутренней структуры.
— тератологическая — концепция, разработанная некоторыми французскими учеными, согласно которой новые формы возникают на основе макромутаций. Поскольку любое связанное с ними изменение организации выглядит как уродство по сравнению с нормой, эволюция слагается из серии последовательных «уродов».
— филетическая — последовательный ряд преобразований, испытываемых одной и той же филогенетической ветвью без ее расщепления. В ходе филетического процесса число видов в таксоне не увеличивается.
Эквифинальность — способность развивающейся системы достигать конечного состояния любыми возможными путями и при разных начальных условиях.
Эпиген — по Р. Н. Чураеву, единица динамической памяти, состоящая из двух или нескольких оперонов, имеющих не менее двух режимов функционирования, и определяющая разнообразие в способах наследования.
Эпигенетика — ветвь современной биологии, изучающая клеточную дифференцировку и морфогенез во взаимодействии с генами и генными продуктами.
Эпигенетическая наследственность — связана не с преемственностью структурных генов, а с сохранением уровня генной активности, поддерживаемой белками-регуляторами. То же, что динамическая наследственность.
Эссенциализм — то же, что типологизм.
Об авторе:
Вадим Иванович Назаров
Окончил в 1957 г. биолого-почвенный факультет МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «зоология»; в 1969 г. — заочную аспирантуру МГУ. С 24 июня 1968 г. работает в Институте истории естествознания и техники. В 1969 г. защитил кандидатскую, а в 1990 г. — докторскую диссертации. В 2000 г. избран на должность главного научного сотрудника.
Основные труды, в том числе четыре книги, посвящены исследованию истории эволюционной мысли недарвиновской ориентации XX века, а также истории биологии XX века в целом. По мнению научной общественности, монография «Учение о макрозволюции. На путях к новому синтезу» (1991) внесла весомый вклад в эволюционную теорию. Книга широко цитируется и широко используется в педагогической практике высшей школы России и стран ближнего зарубежья. Она включена в список рекомендованной литературы, приводимой в ряде учебников.
Соискатели, поступающие в аспирантуру ИИЕТ, вот уже без малого 30 лет широко пользуются коллективной монографией «История биологии. С начала XX века до наших дней» (1975), материал который собран и отредактирован автором.
В период с 1970 по 1989 гг. В. И. Назаров был ответственным секретарем серии «Историко-биологические исследования». До 2001 г. в течение 22 лет был бессменным секретарем диссертационного совета КООЗ. 11.01. За этот период успешно защитили кандидатские диссертации порядка 45 соискателей и несколько соискателей на степень доктора.
В течение 5 лет (до 2001 г.) руководил проблемной группой социальной истории биологии.
Примечания
1
В Северной Америке Дарвин не был и при знакомстве с ее фауной пользовался печатными материалами и музейными экспонатами.
(обратно)2
Галапагосские острова с 1936 г. объявлены национальным парком.
(обратно)3
Впрочем, Дарвин опроверг Мальтуса, показав, что номинально растения и животные, служащие для нас источником пиши и одежды, способны, как и люди, размножаться в геометрической прогрессии. Но если это так, то только от человеческой мудрости зависит поддержание разумного соотношения темпов репродукции тех и других.
(обратно)4
Этой стороне жизни вида и ее роли в эволюции посвящена интересная книга князя П. А. Кропоткина (1918).
(обратно)5
Как вес дореволюционные авторы, Данилевский переводит английское слово selection как «подбор», и мы сохраняем его терминологию.
(обратно)6
Подобные элементарные популяции были выделены в 40-х годах XX в. Н. В. Лебедевым.
(обратно)7
Стабильность аллельных частот в одном случае и лабильность в другом определяются разными генетическими маркерами.
(обратно)8
В одном из последних выступлений Тимофеев-Ресовский (1890) несколько смягчил свою позицию, высказавшись в пользу известной специфичности закономерностей макроэволюции. Его тезису о единстве механизмов макро- и микроэволюции противоречило признание значения «межвидовой конкуренции», возникающей на надвидовом уровне эволюции. Этот факт неизменно отмечался в работах Тимофеева-Ресовского на протяжении длительного времени.
(обратно)9
Свою сальтационистскую концепцию Тахтаджян (1983) считает всего лишь дополнительной к СТЭ и в большей мере приложимой к эволюции растений.
(обратно)10
Представления Т. Моргана о взаимодействии ядра и протоплазмы в развитии вплоть до конца 1960-х годов оставались всего лишь гипотезой (см, Морган Т. Развитие и наследственность. М.; Л, Биомедгиз. 1937).
(обратно)11
Формируя искусственные популяции D. pseudoobscura на базе особей, взятых из четырех географически различных местообитаний, Пауэлл за 30 поколений получил три популяции, особи которых приобрели поведенческую репродуктивную изоляцию.
(обратно)12
Первая жизнеспособная гомозиготная особь, образовавшаяся от соединения двух гетерозигот по редкой хромосомной мутации, есть представитель нового вида (Алтухов, 1983. С. 191–192).
(обратно)13
Ортоламаркизм по сравнению с механоламаркизмом никаких новых факторов эволюции не вводит. Он лишь акцентирует внимание на одной из ее характеристик, а именно на направленности. Поэтому логически правильнее было бы рассматривать данное течение не в качестве самостоятельного, а как особую форму механоламаркизма.
(обратно)14
Материалы по цитоплазматической генетике и иммунологии любезно предоставлены Е. А. Ароновой.
(обратно)15
Было бы неправильно умалчивать о том, что Бэр отрицательно относился к попыткам приписывать природе какие бы то ни было цели (Ваег, 1876. Bd. 2. S. 180). В своих поздних работах при описании направленных процессов развития он предлагал пользоваться двумя различными немецкими терминами — Ziel и Zweck. Первый можно перевести как «направление» или «финал». Им Бэр обозначал движение к финалу в силу принудительной необходимости без участия разумного начала. Второй переводят как «цель», осуществляемую сознательными действиями (человека). В представлении ученого, применительно к явлениям развития живой природы следует пользоваться термином Ziel.
Однако сам Бэр пользовался указанными терминами непоследовательно, соскальзывая с одного на другой и облекая свои рассуждения в идеалистическую (деистическую) форму. Этим он дал изрядную пищу многим комментаторам-антидарвинистам для отрицания рационального зерна своей доктрины о развитии. На указанные особенности поздних трудов Бэра обращали внимание советские историки биологии (Бляхер, 1955, 1978; Сутт, 1977).
(обратно)16
Позднее Р. Станиер показал, что выводы Львова справедливы лишь в отношении паразитических форм простейших и бактерий, а сам Львов (1951) признал, что информативна только морфологическая эволюция.
(обратно)17
Гольдшмидт полагал, что хромосома представляет собой очень длинную белковую молекулу, составленную из остатков аминокислот.
(обратно)18
Здесь Гольдшмидт оставляет за этим принципом в качестве сферы его действия микроэволюцию.
(обратно)19
В ходе ооплазматической сегрегации, причины которой неизвестны, в ооците складывается определенная структура цитоплазмы с точным распределением информационных молекул по ее участкам. Если эту структуру разрушить (например, центрифугированием), зародыш погибает.
(обратно)20
Впервые Дальк изложил свою концепцию на двух симпозиумах Международной академии философии наук (Брюссель, 1947; Париж, 1949).
(обратно)21
Когда данная книга уже была завершена, по неокатастрофизму вышла капитальная монография Э. И. Колчинского (2002), где это течение трактуется с позиции СТЭ.
(обратно)22
А. Л. Чижевский был убежден в глобальном воздействии солнечной и космической радиации на весь органический мир. Он, в частности, писал: «Жизнь… в значительно большей степени есть явление космическое, чем земное… Начиная с круговорота атмосферы… многолетней периодичности в физико-химической жизни Земли и кончая сопутствующими этим процессам изменениями в органическом мире, мы всюду находили циклические процессы, являющиеся результатом воздействия космических сил.
Если бы мы продолжали наш анализ далее, то увидели бы, что максимумы и минимумы космических и географических явлений согласно совпадают с максимумами и минимумами тех или иных явлений в органическом мире» (Tchijevsky. 1936–1937; цит. по: Чижевский, 1976. С. 33–34).
(обратно)23
Большинством палеонтологов эта гипотеза была встречена весьма скептически, а сейчас и вовсе не вызывает интереса.
(обратно)24
Названы в честь французского ботаника Алексиса Жорлана, впервые установившего, что линнеевский вид есть совокупность многих наследственно различных чистых форм.
(обратно)25
Как будет показано в гл. II «Номогенез», уже Д. Н. Соболев (1913) пользовался термином «сеть скрещивания» для отображения соответствующих генеалогических сетей.
(обратно)26
В 1879 г. немецкий микологА. ле Бари назвал симбиозом разные формы сожительства или совместного объединения разнородных организмов.
(обратно)27
С мутациями генетическими они ничего общего не имеют.
(обратно)28
Соболев отмечает, что заимствовал этот термин у Ламарка.
(обратно)29
Исключение составили труды В. Вуда Джонса (Wood Jones, 1953) и Г. Кеннона Грэхема (Cannon Graham.)956), исходивших из чисто ламарковских принципов, а также К. С. Тринчера, связывавшего жесткую программированность эволюционного процесса с теорией информации и термодинамикой.
(обратно)30
Систематические выступления Майра (с 1954 г.) против этого положения и его высказывания в пользу обильного видообразования до конца 1970-х голов не имели решающего успеха.
(обратно)31
Однако оценки итогов конференции не были однозначными, в чем легко убедиться, сравнив два отчета (Lewin, 1980; Maynard Smith, 1981).
(обратно)32
Исключение составляет точка зрения Стэнли, частично допускающего видообразование через полиморфизм и точковые мутации (Stanley, 1979. Р. 172–178).
(обратно)33
Супергены были описаны в начале 1950-х годов К. Дарлингтоном и К. Мазером.
(обратно)34
У высших организмов количество сателлитной ДНК во много раз превышает долю ее активно функционирующей части, Так, в геноме человека на структурные гены приходится всего 3 % общего содержания ДНК (Дубинин, 1987).
(обратно)35
Устное сообщение Ю. И. Аршавского.
(обратно)36
Несмотря на все возможности генетической инженерии человек раслолага ет реальной возможностью создавать виды только с помошъю полиплоидии.
(обратно)37
Гипотеза Красилова изложена в многочисленных публикациях, часто повторяющих содержание друг друга. Мы ссылаемся лишь на некоторые из них, которые представляются нам наиболее информативными (Красилов, 1973, 1977, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1990, 1994, 2001; Krassilov. 1980, 1994).
(обратно)38
Красилов назвал их сингенетическими революциями (Красилов, 1977).
(обратно)39
Термин «анастрофа», предложенный для обозначения образования высших таксонов В. Вальтером, введен в обиход Б. Реншем (Rensch, 1954).
(обратно)

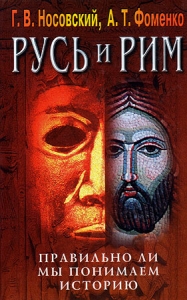

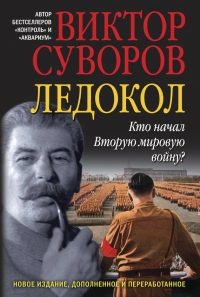






Комментарии к книге «Эволюция не по Дарвину», Вадим Иванович Назаров
Всего 0 комментариев