Евгения Кайдалова Забудь меня такой
… где сокровище ваше,
там будет и сердце ваше.
Евангелие от Матфея, 6:21I
На груди у старухи был старинный кулон – четыре оправленных в золото граната, – и это украшение мешало Майе спокойно на нее смотреть. Кулон располагался чуть ниже подключичной ямки, на той выпуклой части грудной клетки, где кожа редко бывает морщинистой и обвисшей даже у стариков. Словно один-единственный участок молодости на старом теле… Впрочем, возраст сказывался и здесь: вместо упругой гладкости – сухая натянутость, вместо здоровой свежести – бледная обесцвеченность. Но гранаты… Четыре камня удивительного оранжевого цвета, сложенные в виде цветка, были огранены и оправлены так, что ярко горели на свету, и располагались на теле там, куда свет падал практически всегда. И Майя не могла оторвать глаз от их противоречащего старости и близкой смерти сияния.
Затем она все-таки поднимала взгляд – над ней возвышалась старуха. Красивая женщина всегда будет возвышаться над той, у которой внешность непримечательна, и рост не имеет к этому никакого отношения. В свои девяносто лет Глафира Дмитриевна была красавицей, и Майя страшилась даже представить себе, как хороша была старуха в девятнадцать, когда ее пытался похитить и обесчестить вор-кошевочник. На крошечных и очень легких санях-кошевках с медвежьим пологом эти сибирские разбойники имели обыкновение неожиданно подлетать к намеченной жертве, кидать ее в сани, мгновенно освобождать от увесистых портмоне и драгоценностей и выбрасывать обратно на дорогу. А разбойная кошевка мгновенно исчезала за метелью и сугробами, словно была не чем иным, как порождением морозной ночи. В одну из таких ночей Глафиру Дмитриевну и умыкнули прямо со ступеней красноярского Дома культуры, где она весь вечер перед тем танцевала с рослым, статным парнем, по его словам, комсоргом на своем заводе. Незадолго до конца вечера этот завидный партнер неожиданно исчез, отойдя за лимонадом к буфету, и, так его и не дождавшись, юная Глаша осознала, что сейчас побредет домой в постыдном одиночестве позади подружек, мило щебечущих с кавалерами. Дабы избежать позора, она первая, раньше всей своей компании, выскочила на крыльцо, и едва успела сбежать по ступеням, запахивая шубу, как ее подхватили и швырнули в сани, затолкав под медвежью шкуру. Лошадь рванула с места… но Глаша была не из робкого десятка и принялась отчаянно бороться с тем, кто не давал ей возможности и головы высунуть из-под полога. В пылу борьбы она наконец-то увидела лицо своего похитителя и обомлела – тот самый «комсорг на заводе». Тогда, по словам Глафиры Дмитриевны, Глаша стала молча смотреть на бандита и смотрела до тех пор, пока тот не отвел взгляд и не крикнул кучеру остановиться. Едва лошадь встала, как Глаша стремительно выскочила из кошевки, ни слова не говоря и не повернув даже головы в сторону дерзкого вора. Но он-таки успел схватить ее за руку и сдернуть варежку и золотое кольцо с гранатом, которое шло в комплекте с блистающим на груди кулоном. Потянулся было и к серьгам, но Глаша оттолкнула его руку, сама раскрепила замок и швырнула золото в снег. Обернувшись через некоторое время, девушка увидела, как «первый парень» сегодняшнего вечера ползает на коленях, откапывая серьги.
– Так у меня один кулон и остался! – горько, но гордо заключила Глафира Дмитриевна.
И, глядя в полные восхищения Майины глаза, между прочим добавила:
– Уж я-то мужчинам нравилась будь здоров!
Старуха отлично знала, как уколоть в больное место (недаром в прошлом она была врачом!), и пользовалась этим часто и умело. Сопротивляться Майя не могла: во-первых, у нее действительно не было личной жизни (не считая ребенка), а во-вторых, старуха завещала ей квартиру. Не просто так, разумеется, а за пожизненный уход за собой.
Сжавшись от укола, Майя отводила глаза и бормотала что-то насчет того, что пойдет поставит чайник.
– Поставь, – соглашалась старуха и, когда Майя поворачивалась к ней спиной, выпускала новую стрелу:
– Волосенки у тебя, конечно, не подарок. Сзади посмотреть – так вообще обдриськи какие-то. Вот у меня когда-то локоны были…
– Мне химию неудачно сделали, – оправдываясь, бормотала Майя, – пережгли в парикмахерской.
Старуха отмахивалась, точно не принимала такие объяснения всерьез.
– В наше время никаких химий и в помине не было, а кудри накручивали лучше, чем сейчас. Я вот простой карандаш брала: прядь намотаю покрепче, вытягиваю – и они уже вьются. А ты… тратишь деньги, тратишь, а вида все равно никакого. Тут по телевизору шампунь один рекламируют – восстанавливающий. Я запишу название и тебе скажу. Может, получшеешь…
Как правило, Майя выходила от старухи с трясущимися от возмущения руками, а в голове у нее попеременно сменялись истории о том, какова была участь брюзгливых стариков в предшествующие века. Если верить Джеку Лондону, индейцы оставляли своих немощных дедов и бабок одних в лесу возле догорающего костра, чтобы тех прикончили волки или мороз. У вестготов существовала «скала предков», с которой последние в буквальном смысле слова делали шаг в объятия смерти. В Японии в голодные годы с лишними ртами преклонного возраста тоже не церемонились. Недаром гора Обясутэяма в переводе означает «гора, где оставляют бабушек». Словом, существовали надежные механизмы, охраняющие интересы молодых членов общества! И не обязательно жестокие: уйти в монастырь – чем не вариант? Тем более что на Руси аж до XVII века пожилые мужья и жены могли при этом не разлучаться, а доживать свой век в пределах одних монастырских стен, каждый в своей келейке. Петр I со свойственной ему нетерпимостью запретил эти идеальные дома престарелых, и отныне старикам-родителям приходилось до могилы висеть на шее у своих детей, и без того надрывающихся от оброка и барщины. Теснота, маета, перебранки, семеро по лавкам… Однако царям несвойственно вникать в проблемы и потребности народа: их-то не гнетет ни финансовый, ни квартирный вопрос.
А вот Майю этот вопрос угнетал по полной программе, и потому она готова была терпеть любой гнет от Глафиры Дмитриевны – единственной собственницы приватизированной двухкомнатной квартиры на Речном вокзале. Мысли о бренности всего земного поддерживали Майю и заставляли смиряться с издевательской судьбой, которая ставит молодых в зависимость от стариков, а не наоборот, как это всегда было принято в истории. Но полного смирения так и не наступало: подумать только, старухе уже девяносто, а смерти – ни в одном глазу! Более того, в свои неполные сто лет Глафира Дмитриевна была покрепче многих Майиных знакомых. И это при том, что курила старуха по пачке в день, обожала дешевую жирную колбасу и супчик из бумажного стаканчика, а фрукты и овощи презрительно именовала «травой». Если же она и соглашалась откушать половинку помидора или огурца, то заливала их таким озером майонеза, что Майе делалось дурно от одного взгляда на это количество калорий. А негативных последствий – ноль! Старуха с ее суховатой фигурой не прибавляла ни грамма в весе, а количество холестерина в ее крови было таким низким, точно Глафира Дмитриевна всю жизнь занималась сыроедением.
– Ты со мной еще не один годок помучаешься! – удовлетворенно заявляла Глафира Дмитриевна, читая свой анализ крови, только что доставленный Майей из поликлиники. – Скоро не отделаешься, не надейся!
Майе только и оставалось, что мрачно восторгаться сибирскими генами, которые не перешибешь никаким неправильным образом жизни.
Говорят, что долголетию способствует позитивный настрой, но большего мизантропа и пессимиста, чем Глафира Дмитриевна, было еще поискать. Ни один из людей, ни одно из событий, о которых двум женщинам случалось заговорить, не вызвали еще у старухи положительного отклика. Свадьба Майиной двоюродной сестры? Вот погоди, намучается, дурочка! Синоптики обещали потепление? Значит, жди холодов – народная примета! Майин сын окончил первый класс? Ну что, теперь ты убедилась, что «маленькие детки – маленькие бедки»?
В ответ у Майи уже давным-давно язык чесался спросить: где же собственные детки столь многоопытной в темной стороне действительности Глафиры Дмитриевны? Ведь у старухи, по ее собственным словам, произнесенным у нотариуса, не имелось наследников ни первой, ни второй очереди. Ни супруга, ни детей, ни внуков, ни братьев, ни сестер. Ну, братья и сестры случаются не у каждого, а вот как такая красавица сибирячка ухитрилась остаться без мужа? Военное поколение, конечно, но все-таки? Тем более что по отдельным обрывочным репликам Майя сделала вывод, что какой-то мужчина в жизни Глафиры Дмитриевны присутствовал. И присутствовал довольно основательно.
– Ленька-то мой… – однажды напрямую обмолвилась старуха и осеклась, быстро заворчав о чем-то другом.
Вопрос с детьми оставался еще более неясным. Сама будучи матерью, Майя каким-то десятым чутьем ощущала, что материнство не обошло Глафиру Дмитриевну стороной. Но… ни единого намека, ни единой фотографии, случайно выпавшей из старого альбома. Ни единого вздоха, ни единого горького, устремленного в никуда взгляда. Словно неприступный каменный вал был возведен старухой между прошлым и настоящим, и если мыслям о муже еще позволено было порой просочиться среди камней, то воспоминаниям о детях категорически запрещалось тревожить мать.
– Рискуешь ты, конечно, – предупреждала Майю ее более осведомленная в квартирных делах подруга, – завещание – это так ненадежно! Сейчас она одинокая, а после смерти объявится сицилийский клан. И попробуй отсуди у них что потом!
– А что же делать? – терялась Майя.
– Оформляйте договор купли-продажи. С пожизненным проживанием.
Но такой вариант категорически не устраивал Глафиру Дмитриевну:
– Я тебе квартиру продам, а ты меня сразу и пристукнешь. Старуха помрет – кто разбираться будет?
– Почему вы обо мне так плохо думаете?! – чуть не со слезами воскликнула тогда Майя, еще не привыкшая к беспардонным выпадам старухи.
– Потому что я жизнь прожила, – объяснила Глафира Дмитриевна. – К нам, старикам, даже «скорая» не ездит; от нас если что кому и надо, так это нашей смерти.
– Неправда!
Старуха усмехнулась:
– А ты ко мне, милая, за чем ходишь? Не за этим?
«А что мне еще остается делать?! – могла бы в отчаянье крикнуть Майя, если бы не боялась проявить слабость на глазах своей мучительницы. – Что мне еще остается делать, если даже кошка может найти в этом городе нору своему детенышу, а я не могу!»
– О квартире надо думать до того, как рожаешь, – удовлетворенная выражением Майиного лица, добавила старуха, – а после соглашайся на то, что дают. Да еще спасибо скажи.
Каким наслаждением было бы порвать завещание, швырнуть ей в морщины и хлопнуть дверью! Но с дергающимся от возмущения лицом, почти не владея губами, Майя сумела проговорить:
– Я вам сегодня больше не нужна?
– Пол на кухне помой, – живо откликнулась старуха. – Да не шваброй, а руками! А то жалеют себя…
II
Когда вспоминают о преступлениях, совершенных нашей страной против нашего же народа, за кадром почему-то всегда остается то из них, что продолжается и по сей день, – квартирный вопрос. Уже в далеком прошлом и ГУЛАГ, и психушки для диссидентов; уже истлели у Кремлевской стены все, кому следует выставить за это счет, а квадратные метры, как неумолимые наследники жестокой советской эпохи, продолжают ломать судьбы. Уже и население в стране активно сокращается, и стройки раздирают столицу по швам, а жилья как не было, так и нет. И по-прежнему квартирный вопрос имеет тенденцию решаться трупами!
При слове «трупами» ее собеседник понимающе кивнул головой.
– Я не об этом, – смешалась Майя. – То есть преступность, конечно, никто не отменял, но я имею в виду, что, пока не умрет какой-нибудь старый человек, у молодого нет шансов перебраться в человеческие условия.
– Это, должно быть, очень тяжело – ждать чьей-нибудь смерти, – задумчиво сказал Карим.
– Да уж… – неопределенно пробормотала Майя. На самом деле ей хотелось ответить: «А еще тяжелее – так и не дождаться», – но она боялась произвести на своего спутника отталкивающее впечатление.
Майя вообще всегда следила за тем, чтобы у людей оставалось о ней правильное впечатление, но сейчас нервы были так подорваны и измотаны, что женщина плохо себя контролировала и позволяла себе быть откровенной, не взвешивая каждое слово перед тем, как отправить его в разговор. Хотя обычно во время сколь-нибудь значимой встречи с мужчиной она мысленно затягивалась в корсет, заранее отсекая темы, которых касаться не желала. Это не делало ее молчаливой, отнюдь – человек, работающий на телевидении, в состоянии поддержать какой угодно разговор и даже наболтать много занятного для собеседника, но подобные продуманные разговоры никогда не велись о ней самой, а потому при всей их поверхностной увлекательности никогда не представляли для мужчин настоящего интереса. Но Майя об этом не догадывалась. Лишь потом печально констатировала тот факт, что у нее в очередной раз «не срослось».
– Хотите еще чаю? – спросил Карим, снимая кружку с закипевшей водой с газовой горелки.
– Я хочу остаться здесь, – отрешенно ответила Майя, глядя на близкие вершины гор, затянутые вечерней синевой, и обрамленный цветущими деревьями край обрыва.
– Прямо в палатке? – улыбнулся Карим.
– Да, – откликнулась Майя, – хотя можно и без палатки.
Она чувствовала, что говорит ему лишнее о себе, переставая строго следовать своему внутреннему этикету, но – черт возьми! – она же не на свидании. Ее судьба будет связана с судьбой Карима ровным счетом три дня, в течение которых он взялся быть ее проводником по Крымским горам.
После одуряюще жаркого дня холод наступил на удивление быстро – стоило солнцу скрыться за горой. Однако, дрожа и кутаясь во все захваченные с собою теплые вещи, Майя не переставала наслаждаться тем облаком запахов, среди которых они поставили палатку. Вокруг теснились кудрявые от желтых соцветий кусты барбариса, а там и тут между ними выступали усыпанные белизной дикие груши. Кое-где под деревьями, куда в течение дня не добирался зной, еще виднелись кроваво-красные капли диких пионов с игольчатыми листьями и четырьмя образующими чашу лепестками, а чуть дальше по плоскогорью на полностью открытых солнцу местах в изобилии стояли белые хвостики асфоделий. Майя чрезвычайно удивилась, когда Карим сообщил ей название этих похожих на пушистую метелку цветов: она и не подозревала, что растение, согласно легенде украшающее поля в царстве мертвых, существует на самом деле. И выглядит ничуть не траурно – наоборот, забавно, словно Господь Бог сперва увидел его на детском рисунке, а затем решил насадить на земле.
При мысли о мертвых и вечности Майя неизбежно вспомнила о старухе, и светлое настроение, поднявшееся было в ней от разговора с Каримом, разом исчезло, точно солнце за горой. Ее вновь затрясла дрожь, как это было во время последнего разговора с Глафирой.
– Вам плохо? – заметил ее состояние Карим.
– Да. Нет. Не знаю. Горная болезнь, наверное, – с принужденным смехом поспешила объяснить она.
Карим покачал головой:
– Слишком маленькая высота.
Чтобы скрыть свою нервозность, Майя поднялась и прошлась вдоль края обрыва. Унимая дрожь, она крепко обхватила себя руками, но ее все равно трясло. Женщина чувствовала, что Карим внимательно наблюдает за нею, но сделать то, чего ей сейчас хотелось больше всего на свете – выговориться – она не могла. Рассказать ему о том, как она ждет, точнее, ждала, старухиной смерти, было бы еще полбеды – в конце концов, Карим, рожденный и выросший в СССР и живущий в бывшей союзной республике, с квартирным вопросом знаком не понаслышке – он должен ее понять. Но стоит поведать ему о том, что отколола старуха в преддверии своей смерти – и ее проводник наверняка сочтет (хоть виду и не подаст), что Майя не в своем уме. И скорее всего завтра вместо похода по Большому крымскому каньону под любым предлогом отвезет ее домой, чтобы не иметь дела с душевнобольной туристкой.
III
Изощренная прихотливость, свойственная Глафире Дмитриевне, проявлялась так часто и активно, что Майя порой недоумевала: и как старуха пережила дефицитные советские времена (не говоря уже о войне!) с таким привередливым подходом ко всему на свете? Она велела Майе купить ей новый комплект постельного белья и наотрез отказалась им пользоваться – Майя приобрела цветное, а, оказывается, подразумевалось чисто-белое. В ответ на уверения в том, что чисто-белого давно уже нет в продаже, Майя была объявлена бессовестной лентяйкой, которая нагло игнорирует просьбы старого человека. Теперь у нее, Глафиры Дмитриевны, непременно отпечатаются на спине все эти лютики-цветочки, украшающие простыни! И старуха принималась отирать слезы.
Эти мгновенные перескоки из позиции обвинителя в позицию жертвы раздражали Майю до последней степени. Мало того что старуха несправедливо выливала на нее обвинения, так потом еще и несправедливо прикидывалась обиженной. «Прочитай-ка мне телепрограмму… да не так, а помедленней! Ты что, нарочно так читаешь, чтобы я ничего не поняла? Издеваешься над старым человеком? Ну, издевайся, издевайся – квартира все равно твоя!» И снова слезы.
Порой у Майи сдавали нервы, и она выскакивала из старухиной квартиры, хлопнув дверью. Но неизменно возвращалась, потому что через день-другой Глафира Дмитриевна звонила и как ни в чем не бывало интересовалась: что это Майя давно не заходит? Забежала бы, чайку попила… А за чаем, который Майя, вся дрожа, едва вливала в себя маленькими глотками, Глафира Дмитриевна вдруг начинала расспрашивать ее о сыне и неожиданно давала дельный медицинский совет. Совет срабатывал, и раз за разом медицинские познания старухи приводили Майю во все большее восхищение.
К примеру, однажды, когда Никиту мучил тяжелый, непроходящий кашель, Глафира Дмитриевна велела давать ему лекарство, которое, согласно аннотации, снимало отеки тканей. Пребывая в полном недоумении от такого назначения, Майя тем не менее не посмела ослушаться. И кашель заметно ослаб уже к вечеру, а на следующий день от него и вовсе осталось одно воспоминание. Видимо, загадочное средство сняло отек в горле, вызывающий все новое и новое раздражение гортани. Майя была полна самой горячей признательности, однако на все восторженные «спасибо» старуха отвечала до обидного сухо и надменно. А затем высказывала очередную претензию: купленный недавно Майей кусок копченой курицы оказался склизким на ощупь. Очевидно, залежался на прилавке. Но разве молодежь дает себе труда по-настоящему заботиться о старом человеке? Так, хватает что ни попадя, лишь бы отвязаться…
Делать старухе подарки было и вовсе невыносимо. Майя была приучена поздравлять родных и близких женщин на Новый год, Восьмое марта и день рождения (последний она подсмотрела в паспорте у Глафиры Дмитриевны, когда оформляли завещание). И как правило, ее подарки всегда имели успех. Ну, по крайней мере родные и близкие всегда делали вид, что получили именно то, что хотели. Однако кто-кто, а Глафира Дмитриевна была в этом смысле крепким орешком. Ее не радовали ни цветы («день простоят – потом выбрасывай»), ни конфеты («небось самой подарили – так не знаешь, куда девать»), ни мелкие приятности, вроде чашек и наборов кухонных прихваток. С разнообразными едкими комментариями все это сразу и демонстративно убиралось в дальний угол и не извлекалось на свет никогда. А одно из неудачных подношений и вовсе повергло Майю в транс. Глафира Дмитриевна периодически жаловалась на то, что ей совершенно не в чем пойти посидеть на лавочке у подъезда, и к очередному поводу Майя решилась преподнести старухе блузку. Шел второй год их знакомства, и женщина уже имела представление о старухином строжайшем вкусе, не допускавшем в ее гардероб никакой мало-мальски цветной одежды. Мышино-серое, черное, палевое, ну, может быть, тонкий белый кант – вот и вся палитра. Даже синие домашние тапочки (еще одна неудачная попытка подарка) были немедленно убраны с глаз долой – «сама поносишь после моей смерти». Итак, Майя, вся трепеща, отыскала на рынке предельно строгий черный блузон с белыми пуговицами и белой отделкой на воротнике и смиренно преподнесла своей мучительнице. К полной ее неожиданности, старуха пришла в восторг. Она засеменила к шкафу и достала оттуда объемистый пакет непонятного содержания.
– Моя смертная справа, – пояснила она, роясь в пакете и изымая оттуда невзрачную серую кофточку, чтобы уложить на ее место блузон. – Где мне теперь красоваться-то, как не в гробу?
Итак, выбранный с таким трудом и искренним желанием угодить подарок отправится прямиком под крышку гроба… Майя почувствовала такую горечь и унижение, как если бы злополучным блузоном прямо при ней вытерли грязную лужу на полу. Старуха не заметила. В лучших традициях своей безжалостной и не до конца еще ушедшей эпохи она не воспринимала такое понятие, как моральный ущерб.
Порой Майе казалось, и не без оснований, что когда-нибудь она сойдет с ума от сложности своих взаимоотношений со старухой. Та, как опытный охотник, подманивала жертву поближе своими медицинскими благодеяниями, а потом, едва человек раскрывался ей навстречу, неизменно била в самое сердце. И знала при этом, что злополучная дичь никуда не исчезнет, а вновь, истекая кровью, приползет к ней на брюхе – сорок семь метров общей площади и двадцать девять жилой способны вдохнуть второе дыхание в кого угодно!
Вопрос о детях в жизни Глафиры Дмитриевны по-прежнему оставался для Майи загадкой, но благодаря стечению обстоятельств тайна однажды приоткрылась. Возникла какая-то неразбериха с коммунальными платежами, и хозяйка квадратных метров велела Майе разыскать квитанции об оплате. Оказалось, что абонентские книжки лежат в маленьком пакете в большой коробке с документами в третьем ящике снизу в платяном шкафу. Майя впервые получила доступ в святая святых. До сих пор старуха сама выдавала ей бланки для заполнения и оплаты, но в этот раз Глафира Дмитриевна лежала в постели с кружащейся от пониженного давления головой, а решить проблему требовалось немедленно – грозило отключение телефона.
Открывая коробку с документами, Майя и не думала о том, что ей предстоит прояснить что-либо из старухиного прошлого, но неожиданно наткнулась на два свидетельства о рождении. Одно – на имя Синицина Петра Леонидовича, другое – Синициной Анны Леонидовны. В графе «мать» значилась Рыкова Глафира Дмитриевна – старуха.
Не в силах преодолеть искушение, Майя торопливо порылась в коробке. Ей попался школьный аттестат золотого медалиста Петра Синицина и несколько похвальных грамот. Одна из них была выдана Петру за работу вожатым и отличное проведение военной игры «Зарница» в пионерском лагере. Что касается дочери, то о ней больше не было никаких упоминаний.
– Ну, что ты там возишься? – раздался из комнаты слабый, но раздраженный окрик старухи, и Майя немедленно бросилась к ней с телефонными бланками. Но теперь по-настоящему разбуженное любопытство разъедало ей душу. И требовалось каким угодно образом это любопытство удовлетворить. Хотя бы потому, что над квартирой нависла угроза наследников.
На работе у Майи знали о присутствии в ее жизни старухи, но относились к этому неоднозначно. Втайне – Майя чувствовала – завидовали. Вслух обычно звучали смешки. Майе предлагали решить квартирный вопрос в духе Родиона Раскольникова; с газетой в руках обсуждали среднюю продолжительность жизни в стране… Короче, проявляли здоровый человеческий цинизм. Майя держалась соответственно – так, что никому из завистников-насмешников и в голову не могло бы прийти, что она испытывает к старухе… болезненную привязанность.
Это было сродни тому чувству, что в итоге примиряет тебя с постоянно глумящейся над тобой родиной – чувство горькой слитности в единое целое. И деться некуда, и что-то она тебе в общем-то дает, и жалко ее, в конце концов! Чего она только не испытала на своем веку! Родилась в революцию, детства не знала, молодость оборвала война и не дала продолжить разруха. Зрелость же была задавлена теснотой жилища, дефицитом, очередями, хамски пригибающим к земле давлением общественного устройства. На старости лет – реформы, инфляция, крушение прежнего мира, потеря того немногого, что за все тяжелые годы удалось отложить… С какой стороны ни смотри, старуха всю жизнь не жила, а выживала, а потому не видела человеческой жизни.
Любого человека, знакомого с историей нашей страны, такая судьба не удивит, более того, покажется типичной, не заслуживающей отдельного рассказа. Но Глафира Дмитриевна любила повествовать о пройденном ею пути, и делала это так, что Майя поневоле проникалась состраданием. И едва проходила боль от очередных старухиных выпадов, как она начинала жалеть старуху. А жалость распахивала сердце, и Майя отваживалась расспросить о том, можно ли все-таки давать ребенку парацетамол, если температура не превышает тридцати восьми, а Глафира Дмитриевна дельно и внятно высказывалась по этому поводу… И под конец признательность и сострадание опутывали сердце так, что эти путы, не сдаваясь, выдерживали очередные язвительные тычки. Более того, в стотысячный раз выслушивая нарекания от старухи, Майя порой всерьез начинала ощущать свою вину. Вину за то, что у нее самой большая часть жизни еще впереди и, возможно, она будет радостней предыдущей, а столь много пережившую Глафиру Дмитриевну не ждет впереди ничего светлого, кроме пламени крематория.
Оранжевые гранаты на груди, красота, не покоренная морщинами, мизантропство и ядовитые уколы, бездны медицинских познаний, рожденные, но исчезнувшие дети – старуха умела загадывать загадки! Особенно изумляла она Майю своей эрудицией. В тех редких случаях, когда Глафира Дмитриевна воздерживалась от оскорблений, беседа с ней доставляла истинное интеллектуальное удовольствие. Включая телевизор, Глафира Дмитриевна проявляла равнодушие к сериалам, но старалась просматривать хоть мало-мальски познавательные программы, на худой конец – новости. И посему, выкладывая на стол купленные для старухи продукты или развешивая на балконе белье, Майя частенько выслушивала рассказы о научном корпусе Наполеона или расшифровке крито-микенского линейного письма первого типа. Где находился легендарный Армагеддон, кто стоял за убийством Столыпина, как сложилась судьба внебрачного сына Екатерины Второй – вся эта животрепещущая информация обрушивалась на главного, если не единственного слушателя – Майю, и порою женщина со стыдом сознавала, что вечная замотанность и существование в рамках «работа – ребенок» сужают ее кругозор до микроскопически малых величин. Именно эта хроническая пристыженность перед старухой и заставила ее совершить шаг, имевший далеко идущие последствия.
Как-то весной (в тот период, когда старуха сдерживала язык, подпуская жертву на близкое расстояние) Майя поведала Глафире Дмитриевне о своих летних планах. Ничего оригинального, но вполне приятно: поездка в Турцию в начале июня, когда зной еще не силен, а море уже прогрелось. Услышав об этом, старуха с грустной полуулыбкой вздохнула:
– Ну что ж… сфотографируйся там на развалинах Трои! Съездить не могу – так хоть посмотрю.
Майя забормотала, что Троя (кстати, разве она не в Греции?) как-то не входила в ее планы – они с сыном собирались в Сиде.
– А-а… – разочарованно протянула старуха. – А почему не в Трою? Она ведь тоже стоит на море. Был бы тебе и отдых, и культура.
Майя была пристыжена: сама-то она мечтала исключительно об отдыхе, не заморачиваясь насчет культуры. Но сила старухиного влияния была такова, что женщина немедленно обратилась к турагенту с вопросом: как там насчет Трои? Существует ли какой-нибудь all inclusive под крепостными стенами?
Однако выяснилось, что информация от Глафиры Дмитриевны устарела на много веков: со времен Гомера море отступило от воспетого им города километров на десять. Курортной зоны поблизости нет. Но если хотите, можете отправиться в экскурсионный тур по бывшим греческим городам на территории Турции. Начало июня – самое подходящее время: на руинах колышутся маки, трава еще не сгорела от зноя…
И Майя, заручившись согласием сына, сказала «да». Не могла же она в тот момент вообразить, чем обернется ее невинная познавательная поездка!
IV
– И как вам Троя? – поинтересовался Карим, раздув притихшее было пламя в каменном костровище.
– Троя? В общем, занятно, но только если помнить о том, что это Троя. А так… несколько стен, пара колонн, а в основном – трава да маки. К тому же я только сейчас поняла, насколько бледное впечатление получаешь в групповом туре. Вот если бы пройти по тому же маршруту неторопливо, вдвоем, вот так, как мы сейчас…
Она осеклась. Лишь бы он только правильно понял ее слова! Лишь бы не принял их за попытку заигрывания! Одни, ночью, на этом плато… Она должна оставаться для него исключительно экскурсанткой, а он – исключительно экскурсоводом.
Майя опасалась отнюдь не того, что Карим воспользуется первой же возможностью, чтобы нарушить заранее оговоренные условия и намекнуть ей на прелести ночевки вдвоем. Нет, с самого начала их знакомства интуиция заверила ее в том, что рядом с этим человеком она находится в безопасности. Но не придет ли ему в голову, что она чисто по-женски дает ему повод за собой поухаживать? Майя внутренне сжалась: она уже давно отвыкла от роли женщины, которая готова принимать ухаживания.
– Когда по-настоящему живешь только в отпуске, – торопливо начала пояснять она, – то, естественно, ценишь каждый отпускной день. И хочется, чтобы он прошел именно так, как было задумано.
– Вы так сильно устаете на работе? – спросил Карим.
Устает? О нет! Она уже устала, и давным-давно! Измучена и вымотана настолько, что сбежала от собственной жизни невесть куда, совершив кощунство и не взяв с собою ребенка. Устала от постоянной борьбы за выживание, в которую неизбежно превращается жизнь одинокой матери, от безысходности, от тоскливой невозможности даже мечтать о счастье. Устала раз за разом убеждаться в жестокой формуле: жизнь становится терпимой лишь тогда, когда ставишь на чувствах крест. Любя, слабеешь, ненавидя и надеясь, слабеешь еще больше, а значит, и то, и другое, и третье следует гнать из сердца поганой метлой. Душевные силы – для сына, физические – для работы; и если раньше жизнь еще была озарена надеждой на квартиру и смерть старухи, то сейчас не осталось и этого. Осталась только горькая реальность, от которой она скрылась лишь на время, чтобы, вернувшись, вновь согнуться под невыносимым бременем жизни.
– Мне казалось, что на телевидении скучно не бывает, – вновь подал голос Карим. – Вы ведь там работаете, да?
Его взгляд казался ей удивительно внимательным, словно ее ночному собеседнику была и впрямь небезразлична ее судьба. Раньше Майя никогда не отдавала себе отчета, насколько глубоким и вдумчивым кажется взгляд темных глаз, насколько располагают к откровенности мягкие черты лица. Внешность Карима, в которой проступала и русская, и татарская кровь, смотрелась бы экзотически в кругу людей, среди которых Майя работала и уставала от жизни, но на этом диком плоскогорье, озаренное пламенем костра, его лицо казалось органичной частью окружающего пейзажа. Перед этим человеком хотелось выговориться, как хочется порой излить душу наедине с полем или лесом.
– Да, когда размещаешь рекламу на ТВ, скучно не бывает! – горько усмехнулась Майя. – Постоянные сдвиги программ по сетке – попробуй уследи, чтобы ролики выходили именно в то время, которое проплачено! Целый день я что-то улаживаю то с клиентами, то с руководством канала. Но иногда действительно бывает забавно: когда подашь заявку на рекламу, а ее сочтут неполиткорректной.
– Это не только в Америке бывает?
– Нет, и у нас – сколько хотите! Например, запретили ролик, в котором мальчик ворует у дедушки с вилки сосиску – так, мол, она ему понравилась! Сказали: неправильная модель отношений между поколениями. Зато когда парень бросается на девушку и насильно раздевает, чтобы выхватить из-под одежды ту же самую сосиску, это не вызывает никаких нареканий. Идеальная, видимо, модель взаимоотношений!
Карим рассмеялся. Майя не могла не улыбнуться в ответ на его заразительный смех, но в душе по-прежнему свербело. Мечтая излить душу, она опять ушла от единственной по-настоящему волновавшей ее темы. Ушла от темы, ушла от возможности сближения… Словно весь день послушно шагая вверх по горам вслед за этим человеком, теперь, на вершине, она пыталась от него сбежать.
Майя поймала себя на том, что вновь взволнованно ходит взад и вперед вдоль края обрыва. Нервы! Старуха! Это они расшатали ее душу, неизвестно зачем заставили умчаться вон из Москвы, загнали на эту гору и вот сейчас не дают остановиться в этой непрестанной ходьбе. Надо хоть что-то с собой делать! Что-нибудь – хоть выпить воды.
Майя взялась за пластиковую бутылку, где хранился их запас, но выяснилось, что та пуста. Обидно! Источник, близ которого они разбили лагерь, находился в лесу, в пяти – семи минутах ходьбы, но сейчас, с заходом солнца, идти до него пришлось бы в полной темноте. Правда, имелся фонарик, но это не прибавляло Майе ни капли смелости.
– Хотите пить? – осведомился Карим с явным намерением решить ее проблему.
Майя махнула рукой:
– Ничего, съем яблоко.
Несмотря на свои слова, за яблоко она так и не взялась. Хотелось не влаги во рту – хотелось успокоиться, а последнее было в компетенции воды, отнюдь не фруктовой мякоти. Попросить Карима, тем более что он готов предложить свои услуги? Но Майя предпочитала никого ни о чем не просить. Любая просьба – это шаг к близости, а близость ей не нужна.
Вскоре они с Каримом затушили костер и запаковали на ночь остатки продуктов. Майе предстояла ночь в палатке, а Кариму – в спальном мешке, поверх которого будет натянут полиэтиленовый полог на случай дождя. Какое-то время, сама не зная зачем, Майя наблюдала за тем, как умело и обстоятельно Карим готовит себе ночлег, растягивая тент на ветвях дикой груши, а затем, уже лежа в спальном мешке, слышала, как он заботливо набрасывает и укрепляет такой же водонепроницаемый полог на ее палатке. Видела, слышала и старалась обуздать ту невесть откуда взявшуюся теплоту, что поднималась в душе. Он – экскурсовод, она – его клиентка, и встреча их – на три дня, не более того.
Она уже додумывала последние мысли перед сном, когда услышала, как снаружи расстегивают молнию на ее палатке. Майя испуганно вскинулась и увидела, как в образовавшееся отверстие просунулась рука Карима. В руке была бутылка с водой. Он тихо положил ее у ног женщины и снова наглухо застегнул палатку.
V
Несмотря на то что Троя действительно не оправдала Майиных ожиданий, в целом она осталась весьма довольна своим турецким вояжем. Ее по-настоящему поразил Пергам – увенчанный руинами колоннады высокий холм, взойдя на который легко представить себя в кругу небожителей. Ее воображение было покорено подземным водохранилищем в Стамбуле, чьи огни и мраморные опоры, отражаясь в воде, уходили словно в подземное царство. Никита прыгал от восторга, когда вспугнутые им на берегу пруда черепахи прыгали в воду, точно лягушки средней полосы, и разгоревшимися глазами всматривался в темную гладь: там на дне проступали очертания разрушенного и затянутого тиной античного храма. И (Майю слегка раздражало это обстоятельство) всюду упорно пытался отыскать древние монеты. Мать устало доказывала, что все более или менее ценное, что можно было обнаружить в этих краях, раскопали и подобрали давным-давно, но Никиту это не обескураживало. И в подтверждение своей идеи фикс мальчик то и дело находил у придорожных кафе, где они останавливались перекусить, купюры в одну, а то и целых пять турецких лир.
За неполных девять лет Никитиной жизни Майя успела свыкнуться со странным хобби своего сына – искать и находить материальные ценности, – но понять, а тем более разделить его пристрастие к кладоискательству так и не смогла. Порой ее даже выводило из себя, когда на воскресной прогулке сын, вместо того чтобы носиться и пинать банки из-под пива, как положено нормальному мальчишке, шел, сосредоточенно глядя себе под ноги и едва отвечая на ее расспросы. Мало-помалу Майя чувствовала, что закипает, но едва ее раздражение готово было выплеснуться наружу, как Никита нагибался и с удовлетворенным видом преподносил матери кем-то утерянные часы. Или симпатичное серебряное кольцо. Или даже непарную, но золотую серьгу. Не говоря уже о веренице мелких монет, которых за неделю набиралось рублей на десять.
Несмотря на прибыль в доме, Майя никогда не отзывалась об увлечении сына со знаком плюс. Ну нормально ли это, когда мальчишка, вместо того чтобы гонять мяч в компании других пацанов, бродит по улицам один как сыч, а возвращается под звон мелочи в карманах? Чувствуя материнское неодобрение, Никита повел себя как опытный конспиратор: выпросил на день рождения фотоаппарат и отныне стал уходить из дома под благовидным предлогом. Но с тех пор прошло уже более полугода, а мальчик ни разу не попросил у матери зарядить новую пленку; при этом счетчик кадров замер между отметками «два» и «четыре». Зато Никитина коробочка, где он хранил свое благосостояние, пополнилась купюрами в пятьсот рублей и двадцать долларов.
– Тебе чего-то не хватает? – неоднократно спрашивала Майя.
В ответ – опущенные глаза и невразумительное переминание с ноги на ногу. В итоге Майя была вынуждена махнуть рукой. Однако в Турции проблема вспыхнула с новой силой. Теперь Никите всюду мерещились древние клады, а в Трое, после рассказа о золоте Шлимана, мальчик замучил мать предположениями, что знаменитый археолог-дилетант наверняка оставил какую-то часть сокровищ в земле. В конце концов Майя довольно резко велела ему успокоиться и слушать экскурсовода, но по глазам мальчика она видела: сын не здесь и не сейчас, а в тот момент, когда в земле у крепостной стены что-то тускло блеснуло под лопатой, впервые за много веков отражая солнечный свет.
Руины античного курорта Хиераполиса близ теплых источников Памуккале, точнее, его прекрасно сохранившийся некрополь, еще больше подстегнули воображение мальчика. Захоронения! Именно в них-то, как правило, и находят клады. Однако слова экскурсовода о том, что древние греки не отправляли с мертвецами в мир иной ничего, кроме мелкой монеты за транспортировку души, заставили его приуныть. Зато Никита отвел душу в «Бассейне Клеопатры» – чудесной естественной ванне с теплой минеральной водой. На дно ее туристы в изобилии бросали монеты, и Никита то и дело торжествующе выныривал перед матерью с целой пригоршней евроцентов. Майя поджимала губы, но воздерживалась от комментариев, чтобы не портить ему настроение.
После купания, расчесывая перед зеркалом мокрые волосы, Майя вдруг отметила в своем лице какую-то новую черту и вгляделась попристальней. Губы! За два с лишним года знакомства со старухой губы почти исчезли с ее лица от постоянной необходимости поджимать их, вместо того чтобы открыто выплеснуть свой гнев. Рот у Майи и так-то был невелик, а сейчас, когда нижняя губа практически втянулась внутрь, он едва обозначался на лице. Глаза глядели слишком пристально, гораздо пристальнее, чем должны взирать на мир ласковые женские глаза, а во всем облике так и сквозила нервозность и издерганность. Волосы, вместо того чтобы пышно обрамлять ее резковатые черты, висели слабыми, истонченными прядями, а нос точно нацелился кого-то клюнуть. Кожа возле крыльев носа была, несмотря на кремы, стянутой и высохшей; собирались морщинки и на подбородке. «Старуха!» – в ужасе крикнул внутренний голос.
Майя поспешила отступить от зеркала, выпростала нижнюю губу из-под верхней и сказала себе, что все не так плохо, но женщине слабо удавался как обман, так и самообман. Да, возраст берет свое… А что поделаешь? Майя отлично знала беспроигрышные рецепты молодости для женщин за тридцать: долгий сон, отсутствие нервотрепки, теплые и прочные отношения с мужчиной – но ни единого ингредиента из этого списка не было в ее жизни. Будут ли? Иногда Майя осмеливалась помечтать о том, как они с Никитой поселятся в старухиной квартире вместо того, чтобы отдавать львиную долю заработка за съем их теперешней однушки. Возможно, тогда она вспомнит о том, что женщина в ее возрасте может не только пахать на работе, но и расслабляться; не только жить интересами ребенка, но иногда и ставить на первое место свои собственные. Впервые став полноправной хозяйкой жилья, она с наслаждением будет выбирать обои и мебель, плитку и линолеум, светильники и бытовую технику и неминуемо расцветет от стольких положительных эмоций. Тогда можно будет подумать и о том, что их с ребенком многолетнему дуэту пора бы разрастись до трио. Тогда можно будет и снять душу с тормозов. Но пока что ее, словно паранджа, накрывала мысль о том, что еще не время. Не время открываться для какого бы то ни было чувства! Да и не место. Группа большей частью состоит из образованных и культурных женщин в возрасте, есть несколько семейных пар, а свободного мужчины ни одного. Не считая их гида, вполне симпатичного турка, который при каждом удобном случае подчеркивает, что не женат. Это неизменно собирает вокруг него немногочисленных в их автобусе молодых туристок, но Майя с самого начала поездки взяла себе четкую внутреннюю установку: сама она едет исключительно в компании сына. Помимо Никиты, ей не требуется ровным счетом никакого мужского общества, а мальчика хватает в избытке!
Каппадокия – край вулканических гор в самом сердце Турции – произвела на Майю впечатление чего-то абсолютно нереального. Нет, пейзаж никак не может быть настолько фантастичен! В разное время произошедшие здесь извержения вулкана породили на свет удивительную горную породу – точь-в-точь четко граничащие друг с другом пласты разноцветного желе. Молочно-белые, терракотовые и – совершенно невероятно! – розовые. А ветра придали этому мягкому пористому камню геометрически правильную конусообразную форму. Впрочем, не везде: там, где верхняя часть породы была потверже, конусы невысоких гор были увенчаны очаровательными каменными шапочками.
Майя едва успевала делать снимки. Одна долина, по которой они проезжали, сменялась другой, с еще более сказочным ландшафтом. Где-то горы напоминали многогорбых верблюдов, где-то – улиток, где-то – полянку белых грибов. Поистине природа здесь сделала все, чтобы человек забыл, в каком мире он находится, и поверил в возможность чудес.
Однако наиболее поразительная часть Каппадокии скрывалась под землей. В ходе истории этот край многократно переходил из рук в руки, и жители сказочных долин вынуждены были не один раз выдерживать натиск врага. Мягкая порода позволила им выдолбить в склонах гор уходящие глубоко под землю цепи пещер. Майя с сыном спускались все глубже и глубже, а подземному городу все не было конца.
– Мама, как ты думаешь, – прошептал впечатленный всем увиденным Никита, – где тут могут быть спрятаны сокровища?
Боже, опять!
– Здесь нет сокровищ, – отрезала Майя, не желая вступать в дискуссию.
– Откуда ты знаешь?
– Мне сказал экскурсовод.
– А он откуда знает? Вот сюда он разве спускался?
Майя заглянула в отверстие, к которому подтаскивал ее Никита, и тут же отпрянула. Вертикально вниз, в темноту, уходила узкая шахта, из которой веяло холодом. В одной из ее стен были выдолблены углубления для ног. Судя по тому, как свободно гулял в этой шахте воздух, можно было предположить, что она служила для вентиляции.
– Да сюда ни один нормальный человек не спустится, – заявила Майя, отступая назад.
– А если с веревкой?
– Знаешь что? Не трепи мне нервы!
Уже поднимаясь наверх, она была вынуждена выслушивать бормотание сына за спиной:
– Но ведь это же замечательное место для клада! Если все боятся сюда слезать, значит, здесь и должны были спрятать! Вот если упереться спиной в одну стенку, а ногами идти по ямкам в другой стене, да еще чтобы кто-то держал тебя на веревке…
Майе хотелось заткнуть уши.
Впрочем, наверху, когда их отвезли в очередную горную долину и выпустили из автобуса погулять, Никита, казалось, забыл про свои кладоискательские интересы и возбужденно бегал среди розовых гор. В какой-то момент Майя, разомлев на солнце, потеряла его из виду. А когда автобус призывно загудел, сзывая туристов в свое нутро, мальчика в поле зрения не оказалось.
Испуганно крикнув водителю, чтобы тот повременил с отъездом, Майя бросилась на поиски. Просто невероятно, куда мальчишка мог запропаститься за такое короткое время! Майя сперва кричала, оглашая словом «Никита» каппадокийские долины, а затем, когда это не принесло результата, побежала почти наугад туда, куда, как ей казалось, могло завести ее сына любопытство.
Она угадала. Никита был обнаружен карабкающимся по конусообразному склону горы, стоящей в тени, на отшибе, которую почти заслоняла другая гора. Майя представить себе не могла, что привлекло мальчика в столь уединенном и не бросающемся в глаза месте.
– Мама, подожди! – крикнул он, не оборачиваясь, в ответ на ее вопли об отъезжающем автобусе. – Я почти добрался!
Мать подбежала к нему вплотную. И ахнула, увидев, куда карабкается сын. На высоте около трех метров от земли была выдолблена пещера. Собственно говоря, в этом не было ничего необычного для этих мест – горы то там, то здесь пестрели пещерами, – но эта была на удивление низкой и вытянутой по горизонтали. Кроме того, она находилась в полном одиночестве: рядом нельзя было заметить никаких других следов присутствия человека. Майе тут же пришло в голову, что здесь, вдали от жилья, вполне могли устроить могилу.
– Слезай сейчас же! – завопила она. – Там… там змеи!
Это возымело действие: Никита испуганно скатился вниз, и мать, схватив его за руку, потащила в автобус. Всю дорогу до отеля мальчик выглядел расстроенным, а под конец обратился к матери с предложением: что, если отправиться в это же место на следующий день рано утром до отъезда в другой город? Ведь можно взять такси! А змей, перед тем как исследовать необычную пещеру, распугать камнями…
– Но как же мы ее найдем? – втайне радуясь тому, что может на «законном» основании дать отказ, возразила Майя. – Карты у нас нет, да я и забыла уже, где останавливался автобус. К тому же с утра я хотела прикупить сувениров; помнишь, тебе они тоже понравились? Такие тарелочки в национальном стиле с арабскими письменами…
Сколько бы очаровательных сувениров Майя ни приобрела в этой поездке (и талисманы-обереги в виде голубого глаза, и платки, расшитые монетами, и целую стопку тарелок), ее, не отступая, сверлила мысль, что старуха так и останется без подарка. Ведь ровным счетом ни одна из тех вещиц, которыми сама Майя любовалась в турецких лавках, не пришлась бы Глафире Дмитриевне ко двору. А привезти ей хоть что-то все равно необходимо, как бы ни надругалась старуха над подарком впоследствии… Гениальное решение нашлось неожиданно. Одно из тех мест, куда завозил Никиту и Майю туристический автобус, считалось домом Богородицы, где та провела последние годы жизни, опекаемая любимым учеником Христа, Иоанном. Майя не стала задаваться вопросом, чего в истории этого дома больше – истины или легенды, покоренная его тихим очарованием, серебром склонившихся к нему олив, живым огнем теснящихся внутри него свечей. Под низкими сводами этого маленького уединенного жилища ею овладела удивительная благость всех чувств и мыслей, никогда не посещавшая ее прежде; она прикрыла глаза и словно в дреме вдруг увидела перед собой чье-то радостное лицо. Губы распахнулись в веселой улыбке, глаза светятся счастьем, от лица так и веет беспечальной молодостью, и оно ей смутно знакомо, хоть женщина и не могла установить с ним в памяти четкую связь. Затем она услышала приглушенные разговоры других туристов за спиной, и видение исчезло, на весь оставшийся день подарив Майе ощущение беспричинной радости и светлой надежды.
Возле дома Богородицы било несколько ключей, и Майе захотелось набрать из них воды. Как им шутливо объяснил экскурсовод, вода первого источника дает здоровье, второго – счастье, третьего – молодость. Майя, улыбаясь этим заверениям в волшебных свойствах воды, решила подставить бутылку под струи здоровья и счастья, но вдруг ее осенило. Молодость! Вот что она привезет в подарок старухе! И вряд ли Глафира Дмитриевна откажется от бутылки чистой, чуть сладковатой на вкус воды. Посмеется над ней, конечно, возможно, укольнет за веру в чудо, но все же выпьет. А значит, впервые подарок из Майиных рук будет принят.
Все произошло именно так, как она и рассчитывала: старуха отпустила пару комментариев о «поповских бреднях», но бутылку приняла. Придирчиво оглядела Майин загар и сообщила, что рак груди напрямую связан с количеством солнечной радиации: установлено точно, так говорили во вчерашней передаче. А Майя про себя отметила, что старуха стала сдавать. За время Майиного отсутствия, пусть и непродолжительного, Глафира Дмитриевна как-то высохла, хоть Майя и оставляла в холодильнике огромный запас продуктов. Ходила она теперь ссутулившись и по-старчески шаркала, чего Майя никогда не замечала за нею прежде. Она как будто стала хуже видеть и явно путала цвета – назвала Майину желтую блузку розовой, а голубые брюки зелеными, да еще и поставила женщине на вид, что надевать зеленое с розовым дурной тон. Кроме того, у старухи поминутно прыгало давление, и под конец Майиного совсем непродолжительного визита Глафира Дмитриевна улеглась в постель – ее замучили головокружения.
Трудно передать, в каком приподнятом настроении уходила Майя от Глафиры Дмитриевны в тот день. Она не сомневалась, что конец железной старухи уже недалек, и радовалась тому, что расстается с ней по-человечески: наконец-то сделав подарок! Теперь дело за временем, а время неминуемо сделает свое дело.
VI
Утром она умывалась в горном ручье, усыпанном лепестками дикой яблони. Сотни лет стремясь по каменному руслу, вода образовала в нем крохотные ванночки, где течение было не столь быстрым; там-то на поверхности и кружились лепестки. И Майя со смехом плескала себе в лицо «яблоневой» водой.
Вернувшись к палатке сквозь облако ароматов на прогретых солнцем полянках, она застала Карима за приготовлением завтрака. Не разводя костер, он кипятил кофе в кружке на газовой горелке. При виде него на Майю напало смущение.
– Я вам так признательна за воду, – начала она.
– Не за что.
Майя опустилась на землю рядом с ним.
– Вы меня очень тронули, – еще тише и еще смущеннее продолжала она.
– Такой-то ерундой?
– Это не ерунда! – запротестовала Майя. – Это так редко встречается в жизни, когда кто-то кому-то делает добро.
– Вы серьезно так думаете? – удивился Карим. Его обычно спокойные глаза округлились, и во взгляде мелькнуло что-то детское.
Майя не ответила, иначе ей пришлось бы слишком долго высказываться на эту тему.
Во время завтрака, наблюдая за Каримом, она пыталась определить его возраст. А ведь он моложе ее самой, это как пить дать! И моложе лет на семь, если не на десять. Значит, ему около двадцати пяти, вряд ли больше. Майя судила не столько по отсутствию морщин и крепкой гладкости кожи сочного орехового цвета, сколько по выражению глаз. Глаза у Карима были веселые. В них не чувствовалось никакой затаенной грустинки, а улыбка, если уж появлялась на лице, то сияла от всей души. (Поначалу это даже приводило ее в замешательство: слишком уж она привыкла к наигранно-официальному растягиванию губ на работе.) При этом Карим не казался смешливым; на протяжении всего их путешествия он проявлял себя внимательным и вдумчивым слушателем, надежным проводником и в целом мужчиной, всегда ведущим себя по-мужски.
– Сейчас, как я вам и обещал, – сообщил Карим, раскладывая перед ней карту, – мы пойдем по краю Большого каньона и спустимся к Ванне молодости. Сверху будут отличные виды – готовьте фотоаппарат, а в Ванне молодости можно искупаться.
Молодость! Старуха! Майю передернуло.
– Насколько же я помолодею? – с вымученным смешком осведомилась она.
– А на сколько вы хотите? – улыбнулся Карим.
Майя махнула рукой, как бы прощаясь с начатой шуткой:
– У среднего возраста есть свои преимущества, правда? Хотя, что я вас спрашиваю – вам еще далеко до среднего возраста.
Она осталась довольна тем, что произнесла эту фразу. Давно следовало вслух обозначить возрастную дистанцию между ними, чтобы не возникало соблазна думать о Кариме больше, чем о временном провожатом в походе.
– А сколько, вы считаете, мне лет? – с любопытством спросил Карим.
– Двадцать пять?
– Мне сорок.
Майя была поражена. Да, истинный возраст человека удается определить не всегда, но промахнуться на пятнадцать лет!.. Она ошеломленно вглядывалась в черты Карима, пытаясь отыскать в них подтверждение его словам – усталость под глазами, гармошку мелких морщинок возле ушей, ноздреватые поры… Но нет, все молодо, свежо и гладко.
– Вы меня разыгрываете? – спросила она.
– Нет.
– Но в это невозможно поверить!
Карим пожал плечами:
– Вернемся – я покажу вам свой паспорт.
– Но, но… но как же?..
– Я ведь столько раз окунался в Ванну молодости! – поддразнил ее Карим.
Майей вдруг овладело полное бессилие. Она была бы счастлива к чему-нибудь прислониться, но за спиной не было ничего, кроме воздуха, и женщина сгорбилась, уронив руки перед собой. Ну как, как, скажите на милость, как они все молодеют?! Сначала Глафира, теперь этот парень… Неужто в названиях всех этих ванн, источников и струй молодости есть хоть капля правды?
Слезы хлынули дружно и бурно. Майя плакала навзрыд, не стесняясь Карима и не боясь создать о себе неправильное впечатление. Ей было все равно; она хотела хоть немного облегчить ту боль, что испытывала весь последний год. Самую страшную боль – от крушения надежд.
Она почувствовала, как Карим, присев возле нее на корточки, пытается взять ее судорожно прижатые к глазам руки в свои, услышала, как он шепчет что-то успокоительное, но в ответ рванулась, чтобы освободиться от него.
– Не трогайте меня! – закричала она. – Мне тридцать пять – я уже старуха! Зачем я вам нужна? Вы молоды, вы лжете, я никогда не поверю, что вы старше меня!
Но ему уже удалось обхватить ее и прижать к себе, не уставая успокоительно поглаживать и что-то нашептывать. И Майя сдалась – привалилась головой к его плечу и принялась беспомощно всхлипывать. И между приступами затихающего плача услышала, как Карим говорит:
– Не переживайте так сильно! Хотите стать молодой – станете. Вот сейчас вы успокоитесь, и я вам расскажу, как это сделать.
VII
Подарив старухе воду из источника молодости, Майя предполагала, что не увидит ее раньше чем через неделю. Но уже на следующий день у нее в доме раздался звонок, и звонок непонятный. Голос в телефоне вроде бы принадлежал старухе, но тем не менее чем-то от него и отличался. Майе показалось, что Глафира Дмитриевна стала говорить гораздо тверже и звонче. Голос в обычных безапелляционных выражениях велел Майе немедленно приехать, потому что надо «обсудить кое-что серьезное».
Открыв дверь, Майя замерла на месте. Напротив нее, выйдя на звук поворачивающегося в двери ключа, стояла… да, несомненно, внучка Глафиры Дмитриевны. Вряд ли дочка – незнакомая женщина приходилась Майе ровесницей. Майя не видела смысла спрашивать, кто же такая незнакомка, потому что черты ее лица говорили сами за себя. Внучка была настолько точной копией бабушки, что Майю охватил священный трепет: до чего же хороша была старуха в юности! Какая отточенность и вместе с тем искусительная смягченность черт! Серые глаза напоминали дымчатые агаты, а брови – драгоценные собольи меха. Высокий изящный лоб, слегка проступающие под кожей скулы и нежные овалы щек, переходящие в округлый, но твердый подбородок, были точно вырезаны вдохновенным мастером из моржовой кости – так глубока была их белизна. На груди у внучки победно горел кулон из оранжевых гранатов, словно заявляя о том, что после смерти Глафиры Дмитриевны именно эта женщина станет ее наследницей.
– Вот, посмотри, что ты со мной сделала! – сказала женщина с кулоном на груди.
Майя оторопела.
– Что я с вами сделала? – дергающимися губами выговорила она. – Да я вас первый раз вижу! Вы – внучка Глафиры Дмитриевны, да? А сама она где? Она лежит? Она здорова? Она жива? У меня завещание на квартиру, учтите! Я вам без суда эту площадь не отдам – я уже три года за ней ухаживаю! Поздновато вспомнили о бабушке!
– Майя, это я, – сказала сибирская красавица.
Вся дрожа от напряжения, Майя уставилась на женщину. Неужели они знакомы? Но при Майе к старухе никто и никогда не заходил. Круг общения Глафиры Дмитриевны ограничивался другими бабушками на лавочке у подъезда, а их Майя знала наперечет. Кто же это может быть? И вдруг она, к полному своему недоумению, заметила, что незнакомая ей молодая женщина одета в старушечьи кофту и юбку, причем те, которые носила в стенах квартиры сама Глафира Дмитриевна. На стройных и крепких ногах красовались дешевые, плохого качества, колготки, а обута красавица была в давно годящиеся на помойку тапки.
– Я это, я, не узнаешь, что ли? – повторила Глафира Дмитриевна.
Майя чувствовала, что не может сглотнуть слюну – горло стало сухим, как терка.
– Напоила меня своей турецкой водой – вот и получай! – подвела итог бывшая старуха.
Прислонившись к двери, от которой она так и не успела отойти, Майя сползла по ней на пол. Прямо на коврик для вытирания ног. Осознание страшной истины наконец-то шарахнуло по организму – ее скрутила тошнота, в глазах стали, мелькая, сливаться черные пятна. Оценив ее состояние, Глафира Дмитриевна плеснула ей в лицо водой из пластиковой бутылки. Видимо, остатками той самой.
– Вставай, потолкуем, – насмешливо бросила она и четким, твердым шагом направилась на кухню.
Как все было? Да настолько буднично и просто, что нечего и рассказывать. Сперва она решила полить из бутылки с турецкой водой цветы, но как раз в этот момент у нее в очередной раз закружилась голова, и Глафира Дмитриевна вынуждена была прилечь. Потом захотелось пить, а подниматься она опасалась… Отхлебнув воды из бутылки, Глафира Дмитриевна заснула, точнее, провалилась в ту обессиленную дремоту, что всегда бывает следствием пониженного давления; проснулась же она с удивительно ясным сознанием. Она легко поднялась, принялась готовить себе кофе и, выполняя привычные манипуляции с чашкой, подивилась тому, какими тонкими и стройными стали вдруг ее пальцы. Да и морщинистая сухость куда-то исчезла… Не конкретизируя свою дальнейшую реакцию, Глафира Дмитриевна просто махнула рукой.
– И что же теперь? – придушенным голосом вопросила Майя.
– Теперь? – оживленно откликнулась Глафира Дмитриевна. – Теперь одеться надо как-нибудь по-современному.
Уже по дороге на рынок Майя волей-неволей отмечала, что, даже облаченная в свою смертную справу (самое приличное, что нашлось в доме для выхода в свет), Глафира Дмитриевна без конца притягивает мужские взгляды. А уж после того, как они покинули рынок, доведя до нервного истощения продавщиц, оборачиваться вслед стал чуть ли не каждый встречный мужчина. Стройная и статная, натуральная блондинка, с лицом, в котором ни единая линия не отклонялась от совершенства, сибирячка была облачена в стильные кремовые брюки и бежевую блузку, словно идеальный рыцарь в идеальные доспехи. Она казалась бизнес-леди, покинувшей офис со строгим дресс-кодом. Майя чувствовала: стоит Глафире (так, без отчества, теперь она мысленно называла старуху) остаться одной, без провожатой, как за нею вырастет целый хвост мужского пола, вдохновленный ее безупречным внешним видом. О том, как смотрится она сама рядом с такой впечатляющей дамой, Майя предпочитала не задумываться.
– Зайдем-ка сюда, – велела Глафира, останавливаясь перед дверью весьма недешевого на вид кафе, вставшего у них на пути. – Надо же посмотреть, как оно теперь все – по-новому.
За столиком, сделав заказ с таким горделивым достоинством, точно ее никогда в прошлом не унижали работники общепита, Глафира по-хозяйски обратилась к Майе:
– Что будешь пить? Здесь крымские вина есть? Вот это я люблю! Возьмем по двести грамм Бастардо?
– Мне все равно, – убито откликнулась Майя. Она так и не смогла ни поверить в свершившееся чудо, ни смириться с ним.
– Все равно ей! – усмехнулась Глафира. – Все равно должно быть нам, старикам, а ты меня втрое моложе. Что, не оправдала я твоих ожиданий, воскресла? Так и скажи, не сиди как в воду опущенная. А то она и смерти моей ждет, и хорошую из себя корчит! Так, милая, не годится! Или кулаком об стол, но своего добейся, или тишком-молчком, да в праведники. Не вызывала бы ты ко мне зимой «скорую» – твоя была бы квартира еще тогда, а вызвала – получай!
– Неужели нельзя по-хорошему добиться своего? – горько спросила Майя, сраженная Глафириной философией.
– Нельзя, – не задумываясь, отвечала Глафира. – Или ты людей прижимаешь, или они тебя. Я вот тебя саму как давила! Ты у меня пикнуть не могла – все по-моему делала. А так разобраться, какие у меня силы? Старуха! А ты, молодая, сильная, так терпела, что даже противно становилось.
– А что мне еще оставалось делать?! – яростно прошипела Майя. – У нас не запад, у нас кредиты на квартиры дают тем, кто и так в деньгах не нуждается.
– Что ж ты мужика-то себе с деньгами не нашла? – беспардонно ткнула ее Глафира. – Вон в киосках сплошняком книжки про то, как стервой стать да олигарха себе отхватить. Сходила бы в клуб, приоделась бы… А то в Трою ездишь со старухами.
Последний укол окончательно вывел Майю из остатков равновесия.
– Вы же мне сами советовали ехать в Трою! – со слезами выкрикнула она.
Глафира усмехнулась:
– А если я тебе завтра повеситься посоветую, ты меня тоже послушаешь? Ты зачем со старухой связалась? Зачем старушечьей жизнью живешь? Ты же молодая еще – должна с мужиками гулять да аборты делать, а ты, как монашка, меня обихаживаешь. А я тебя, видишь как подвела, – не скрывая гордости, добавила Глафира, – все труды – псу под хвост! Теперь ты в мою квартиру въедешь лет через восемьдесят. Если сама, конечно, Богу душу не отдашь.
Майя молчала. Сказать, что она была убита, означало ничего не сказать.
– А хотя, – вновь заговорила Глафира, – пожалею-ка я тебя, что ли! Въезжай прямо сейчас. Ты со своим Никитой – в одной комнате, я – в другой. Вместе будем хозяйство вести, вместе гостей принимать – мы же теперь как сестры!
Она рассмеялась, и смех этот вопреки молодому голосу показался Майе дребезжащим, старушечьим. Жестокий смех, взявший верх над всеми ее слабыми слезами и приведший все ее чаянья и надежды к бесславному концу. Вновь над ней возвышалась старуха, и оранжевые гранаты у нее на груди горели яростным бесовским пламенем.
Первое время Майя пыталась дать происшедшему хоть сколько-нибудь реалистичное объяснение, но у нее ничего не выходило. Стволовые клетки? Но откуда на это деньги у старухи? Да и не омолаживают они настолько, улучшают внешний вид, не более того. Внучка-наследница, ловко выдающая себя за умершую Глафиру Дмитриевну и собирающаяся через полгода вступить в наследство? Но молодая женщина знала такие подробности их взаимоотношений со старухой, которые невозможно было во всей полноте пересказать кому-либо другому. К тому же язык, которым она говорила! Он отставал от современного лет на пятьдесят, если не больше. Да и манера держаться… Что же все-таки произошло? И Майе все чаще и чаще приходило в голову одно-единственное слово: «чудо».
Как ни кошмарна казалась ей поначалу подобная мысль, Майя в итоге воспользовалась старухиным приглашением и переехала к ней. На волне несусветного роста цен на недвижимость хозяйка той однокомнатной квартиры, которую она снимала, все выше и выше поднимала аренду, и наконец Майя не выдержала. Она, разумеется, понимала, чем вызвано приглашение Глафиры: та быстро смекнула, что новая молодая жизнь потребует расходов, а с пенсии не разгуляешься; вот тут-то ей и потребуется Майя с ее зарплатой. Но, трезво это сознавая, Майя все-таки полагала, что расходы на Глафиру будут меньше, чем расходы на квартиру, а потому к началу нового учебного года они с сыном переселились на Речной вокзал. Майе заранее делалось дурно от перспектив жизни с Глафирой под одной крышей, но выхода не было. К тому же у нее уже сложилась стойкая привычка терпеть старуху.
Однако против ожиданий Глафира Молодая оказалась не худшей из соседок. Во-первых, обретение молодости позволило ей самостоятельно делать покупки в полном соответствии со своим изощренным вкусом, вследствие чего поводы для обвинений существенно сократились. Во-вторых, Глафира была теперь слишком занята изменением собственной жизни, чтобы тратить много времени на издевки. Она требовала от Майи информации о модных прическах и фасонах, без конца таскала за компанию с собой по магазинам, но вскоре убедилась, что в этом смысле от ее компаньонки мало толка. Майя имела лишь самое общее представление о модных тенденциях, одевалась в неопознанном стиле и ни разу за всю жизнь не наращивала ногти. Стриглась она принципиально так, чтобы укладывать волосы одним торопливым взмахом расчески, а на вопрос о хорошей педикюрше отвечала беспомощным взглядом. Впрочем, и без подсказок экспертов бывшая старуха шла вперед семимильными шагами. К сентябрю она буквально сразила Майю своим ухоженным видом, а когда-то отложенных на похороны денег оказалось вполне достаточно, чтобы собрать небольшой, но тщательно продуманный гардероб. Ни одна вещь, ни один аксессуар в нем не были случайны, Глафире было что надеть и в театр, и для поездки на шашлыки. Все предметы одежды отлично гармонировали между собой и подчеркивали безупречную стать сибирячки, а недостатки скрывать и не требовалось.
На Никиту Глафира произвела прекрасное впечатление, а Майя после первой их встречи лишь скрипнула зубами: сын признался, что тетя Глаша такая красивая! К слову сказать, «тетя Глаша» мгновенно нашла с ребенком общий язык и быстро стала его доверенным лицом. Ей поверялось даже то, что скрывалось от матери, поскольку не замордованная бытом и работой Глафира выгодно отличалась от срывающейся порой на крик Майи. Прекрасная, полная достоинства, невозмутимая, она неизменно мудро и взвешенно объясняла ребенку, что к чему. Майя боялась, что бывшая старуха станет для сына ужасным примером в смысле курения, но неожиданно выяснилось, что преображенная Глафира не курит. Вообще! И, тщательно следя за своим здоровьем, отдает предпочтение низкокалорийной пище. Отныне салат, заправленный обычным, а не легким майонезом, был не меньшим поводом для конфликта, чем некогда недостаточно жирная колбаса. Вдруг обнаружилось, что Глафира превосходно готовит и малоежка Никита не может оторваться от ее борщей. А заодно и от ее рассказов о прошлом своей страны.
Нельзя сказать, чтобы вся эта череда перемен каждый раз повергала Майю в транс. Нет, женщина попросту не выходила из перманентного потрясения; так и жила, оглушенная и пришибленная чудом. И никак не могла взять в толк, почему Глафира Немилосердная так непредсказуемо обратилась в Глафиру Достойную Подражания. Она смутно ощущала, что разгадка этому есть, но пока что ей не удавалось нащупать нить истины.
Переезжая к Глафире, Майя попросила разрешения провести в ее квартиру выделенную линию Интернета – она любила перед сном посидеть в чатах и конференциях. Совершенно неожиданно этим новшеством воспользовалась и сама Глафира. От Никиты она услышала, что через Всемирную паутину можно найти работу, и решила перестать быть пенсионеркой. Не по возрасту уже как-то! Только вот в какой бы области себя применить? Практиковать в качестве медика Глафира, увы, уже не могла: слишком далека она была от современной медицины. К тому же любой главврач умер бы от изумления при виде ее диплома, выданного в 1941 году. Однако пренебрегать своими медицинскими познаниями было бы тоже обидно, и Глафира придумала оптимальный вариант: она займется массажем. Тут ей, знающей физиологию, все карты в руки! Ведь неправильное обращение с зоной холки, как она объясняла Майе, может вызвать у человека гипертонический криз. А грамотное разминание человеческого тела не только бодрит, но и лечит. Сейчас модно сгонять жир? Значит, будем сгонять жир!
На деньги Майи («Свои-то у меня откуда?») был приобретен массажный стол. Глафира выбирала его придирчиво: она позаботилась и о валике, и о прорези для лица – все для удобства потенциальных клиентов! Майя, присутствовавшая при этом, с болью наблюдала, как печется Глафира о благе каких-то незнакомых людей, в то время как сама она, столько сделавшая для старухи, не удостаивалась ничего, кроме нареканий. Майя ни разу не была на массаже, и, когда стол был привезен домой, втайне надеялась, что Глафира великодушно предложит ей размять усталую от поездки по магазинам спину. Но, кардинально изменившись внешне, внутри старуха осталась верна себе – Майя не услышала даже простой благодарности.
Никита, ориентировавшийся в Интернете гораздо лучше, чем в собственном школьном рюкзаке, разместил в Сети Глафирино объявление, и вскоре потянулись первые посетители. Глафира быстро обросла клиентурой: по словам восторженных женщин, покидавших квартиру, у массажистки были не только золотые руки, но и золотое сердце. К каждому-то она умела найти подход, выслушать проблему, дать совет… А от проблем и советов медицинских был лишь один маленький шажок до проблем и советов личных. Сама о том не подозревая, Глафира успешно совмещала массаж с психотерапией, и подсаженные на крючок внимания к себе люди уже не могли покинуть гостеприимный дом, где к ним отнеслись с таким участием. Послушно являлись сами, приводили своих знакомых, и по выходным Майя неизменно просыпалась от того, что самые ранние желающие вылечить душу и тело звонили в дверь.
Часом позже, наблюдая их просветленные после сеанса лица, Майя неизменно задавалась вопросом: почему изо всех людей, с которыми Глафира имела дело, лишь одна она подвергалась бесконечным унижениям? Именно ее, кормилицу и помощницу, мучили и попрекали. Именно она, безропотно выполнявшая любые поручения, была обречена на грубость и бестактность. Лишь у нее исходило сердце болью при виде бывшей старухи; все остальные пребывали в бесконечном восторге от Глафиры. ПОЧЕМУ?
– Знаешь что, Майя, – со всей серьезностью предупредила ее Глафира через месяц после начала своей практики, – ты к моим клиентам не выходи, я сама им буду дверь открывать. А то тебя с утра без косметики лучше людям не показывать.
И, делая вид, что шутит, молодая женщина засмеялась безжалостным старушечьим смехом.
VIII
– Я смотрю, для вас возраст – больная тема, – сделал вывод Карим, когда Майя после плача отпаивала себя водой.
– Понимаете, – горько призналась женщина, – дело в том, что одна моя приятельница недавно очень сильно помолодела. Вы даже не представляете насколько! Вот и вы тоже… И когда я думаю о себе…
– Но вы нормально выглядите.
– Бросьте! Не надо меня успокаивать!
При этих словах Карим от души рассмеялся:
– А что же с вами делать, как не успокаивать? Может, говорить вам, что вы старуха и ничего уже с этим не поделаешь?
– Скажите мне правду!
Карим пристально всмотрелся в ее лицо, словно по-новому оценивая свою спутницу.
– А правды тут быть не может, – заговорил он через некоторое время. – Нет ведь эталона, чтобы вас с ним сравнивать. На лице всегда будет столько же лет, сколько в душе.
– Очень свежая истина!
Карим пожал плечами:
– Зато верная!
– И сколько же мне лет в душе? – не успокаивалась Майя.
– В душе вы устали от жизни, – перестав ходить вокруг да около, констатировал Карим.
Майя отвела глаза. Краем глаза она поймала еще дымящиеся угли в костровище.
– Так, – проговорила она, едва смогла восстановить дыхание, – так, понятно. Ну что ж… Что теперь с этим поделаешь…
Она подняла глаза и по одному взгляду Карима поняла, насколько он возмущен таким подходом.
– Что с этим поделаешь? – переспросил он. – Да вам осталось только в гроб лечь и крышкой накрыться! А пожить не хочется? Порадоваться?
– «Порадоваться»! – горько передразнила Майя. – Да чему я должна радоваться? Тому, что у меня нет своего жилья? Или тому, что я должна пахать как лошадь, чтобы обеспечить ребенка?
– Нет, – с искренним недоумением ответил Карим, – всему остальному!
Майя махнула рукой. Опустив голову, она крепко обхватила колени, превращаясь в жесткий треугольник.
– А эта ваша подруга, – спросил Карим какое-то время спустя, – ну та, которая помолодела, она, может быть, влюбилась?
Майя болезненно рассмеялась:
– Влюбилась! Да она сроду никого не любила, мучила только!
– Тогда почему она вдруг?..
– А вы мне не поверите, если расскажу! Я была в Турции и привезла ей в подарок воду из источника, про который экскурсовод сказал, что это источник молодости. Я думала, это шутка, а она выпила и помолодела.
– Сильно?
Майя молча кивнула. Она боялась раскрывать последнюю страшную правду – насколько сильно помолодела старуха.
– А почему же вы сами не выпили этой воды? – продолжал расспросы Карим. – Почему отдали подруге?
– Я же вам говорю, – воскликнула Майя, – я не воспринимала это всерьез!
– Но ведь вы же зачем-то привезли эту воду, так? Значит, на самом деле верили, что она волшебная.
– Да ни во что я не верила! – вскакивая на ноги, закричала Майя. – Что, я ненормальная, чтобы верить в такие вещи?! Я сама не понимаю, как такое могло случиться.
Она измученно закрыла лицо руками.
Карим поднялся и встал рядом с ней. Майя почувствовала слабость и желание прислониться к стоящему так близко человеку, но последним усилием воли поборола свой порыв.
– Вы думаете, что я сошла с ума? – жалким голосом спросила она.
– Нет, – ответил Карим совершенно спокойно, – я вам верю. Собственно говоря, в этом нет ничего такого уж необычного.
Майя отступила назад с широко раскрытыми глазами.
– Ничего необычного в том, что человек помолодел лет на шестьдесят?
Вот она и выдала свою тайну! Но Карим этого как будто не заметил.
– Помолодеть не так уж и сложно. Если вы этого по-настоящему хотите, конечно.
Майя смотрела на него в упор с тихим ужасом: может быть, с ума сошла не она?
– Вы подумайте, пока мы не вышли на маршрут, – продолжал Карим, – хотите вы этого или нет. Потому что, если захотите, то мы пойдем другой дорогой.
Как ни в чем не бывало он повернулся и, подойдя к палатке, стал выдергивать из земли укреплявшие ее колышки.
Майя как на поводу пошла за ним.
– И какой же дорогой мы пойдем, если я хочу? – спросила она.
– Хотите чего?
– Ну… помолодеть.
Карим распрямился:
– Вы уже начали верить в то, что это возможно?
– Да не знаю я! – со слезами выкрикнула Майя. – Я не верю, конечно, но должно же быть какое-то объяснение! Я свою подругу имею в виду…
Карим покачал головой:
– Нет, мы пойдем к Ванне молодости только в том случае, если вы поверите и захотите. Я имею в виду: по-настоящему поверите и захотите.
– К Ванне молодости? – разочарованно переспросила Майя. – Но мы же с самого начала собирались к Ванне молодости. В чем же разница?
Несколько мгновений Карим вглядывался в ее лицо, словно что-то выискивая в глазах, затем молча взял ее за руку и вывел на край обрыва.
– Смотрите! – сказал он, указывая далеко на северо-запад. – Вон там, в самом конце каньона, – Ванна молодости. К ней обычно и водят туристов на всех экскурсиях. Они проходят километр вдоль горной речки, любуются видами, затем окунаются в глубокую природную ванну с ледяной водой, едят шашлыки и, довольные, едут обратно. С вами я планировал подойти к Ванне с противоположной стороны – с юго-востока. Но по ощущениям разницы никакой: прошлись бы вдоль обрыва, полюбовались видами, не напрягаясь, спустились, искупались – и по шашлычку! Но дело в том, что настоящего каньона туристы так и не видят – он начинается сразу за Ванной, а туда им не подняться в своих босоножках и с курортным настроением. И вы бы каньона не увидели: взглянули бы на него сверху, и все. Для туристки этого и достаточно, но если вы хотите чего-то большего, то купаться в Ванне, не пройдя каньон, не имеет смысла.
– Не подействует? – захваченная его рассказом, тихо спросила Майя.
Карим на это ответил неопределенным движением бровей, которое следовало истолковать как: «Ну сами посудите!»
– А долго идти по этому каньону? – спросила она.
– Сейчас май, вода высоко – значит, часов пять. Это до Ванны молодости. А потом еще час до того места, где мы оставили машину.
– А у нас вся еда закончилась! – вспомнила Майя.
– Да, – невозмутимо подтвердил Карим, – закончилась. Я же не рассчитывал на то, что придется вас омолаживать. Я планировал после завтрака часа за два добраться до машины.
Майя помолчала.
– Это трудно? – спросила она затем.
Карим кивнул.
– Очень?
– Если будете совсем падать, я понесу ваш рюкзак.
Веселенькая перспектива!
– А вы уверены, что это не будет напрасно? – все еще не расставаясь с сомнениями, спросила Майя. – Если бы все было так просто…
– Я вам только что рассказал, как это «просто».
– Но все равно! Если бы это действительно было возможно, сюда бы началось настоящее паломничество.
– Об этом очень мало кто знает, – ответил Карим. – Даже из нас, профессиональных проводников. Когда по-настоящему проходишь каньон, замерзаешь настолько, что ни на какую Ванну сил уже нет. Я вот в первый раз туда случайно соскользнул. А потом у меня такая традиция стала, что ли.
– И сколько же раз вы проходили каньон с таким купанием?
– Три.
Три купания… А она обманулась в его возрасте на пятнадцать лет. Получается, что одно погружение в Ванну молодости равносильно пяти сброшенным годам? Нет, не может быть, бред какой-то!
Майя покачала головой.
– Дело ваше, – услышала она. – Но ведь если не попробовать, вы точно моложе не станете.
Майя молчала, опустив глаза.
Немного подождав, но так и не услышав от нее решения, Карим продолжил сборы. Вскоре палатка и спальные мешки были уложены в рюкзак, а Майя упаковала свои вещи. Она избегала смотреть на Карима, чувствуя, что не оправдала его ожиданий, но позволить себе еще раз разбить душу о несбывшуюся мечту она тоже не могла.
Вскоре они уже были готовы двинуться по первоначально запланированному маршруту. Перед тем как окончательно распрощаться со стоянкой, Карим решил повязать на голову платок: солнце стояло уже высоко и немилосердно припекало его черную шевелюру. Волосы у Карима росли вольно и густо и были настолько длинны, что прикрывали уши, но сейчас, когда он откинул их назад, чтобы соединить концы повязки, Майя заметила у него в ухе серьгу. Это был изящно ограненный, немного продолговатый камушек оранжевого цвета. Удивительно знакомый на вид, хоть Майя и привыкла созерцать четыре таких камня, собранными в кулоне.
– Что это за камень? – взволнованно спросила она.
– Это вы про серьгу? – Карим сперва не понял о чем речь. – Кажется, гранат. Это мне мать подарила. Говорит, фамильная драгоценность, а пара к ней потерялась – вот я и ношу.
– Давайте спустимся в каньон! – с неожиданной решимостью заявила Майя, а когда Карим посмотрел на нее с бездной удивления в глазах, добавила: – Я передумала. Теперь я хочу попробовать.
IX
Глафирин массажный бизнес процветал все больше и больше, что отнюдь не увеличивало ее взносов в общий бюджет. Зато расцветала сама Глафира, впервые в жизни обладая и телом, полным сил, и кошельком, полным возможностей. Среди клиенток у нее довольно быстро завелось несколько приятельниц, и теперь массажистка регулярно выходила «в свет» в их компании. Она пересмотрела все вызывающие интерес театральные и киноновинки и со знанием дела рассуждала о выставках и концертах. Особой любовью у Глафиры пользовались рестораны (возможно, потому что именно там она могла в полной мере проявить свою прихотливость), и Майя всерьез полагала, что «Ресторанный гид Москвы» просто отдыхает по сравнению с тем кладезем знаний, которыми располагала ныне бывшая старуха. Единственное, с чем у Глафиры не сразу сложились отношения, так это с клубами, поскольку, не умея танцевать по-современному, она не решалась там появляться. Однако мало-помалу Майя все чаще заставала Глафиру прихорашивающейся поздним вечером и бессильно завидовала тому, насколько блестяще та смотрится в тусовочной одежде.
Майя дорого бы дала за то, чтобы увидеть, как зажигает по ночам бывшая старуха, но она никогда не участвовала в Глафириных развлечениях. По той простой причине, что ее не приглашали. Однажды она не выдержала и обиженно намекнула, что тоже не прочь раз в жизни куда-нибудь сходить. Но Глафира была в своем репертуаре:
– Ты же усталая вечно – в клубе точно заснешь. Нет, тебя еще раньше фейс-контроль не пропустит – тебе же туда надеть нечего.
Давясь от обиды, Майя решила провести ревизию своей выходной одежды. К ее полному расстройству, Глафирины слова подтвердились: Майин гардероб подходил лишь усталым от жизни людям. В нем были вещи, позволяющие выглядеть достойно, но никак не предназначенные для веселья.
Отдельной статьей для огорчений являлись отношения Глафиры с Никитой. Нет, они по-прежнему были хорошими, беда только в том, что слишком хорошими. Отныне у мальчика не было нужды оставаться на продленке: по приходе домой его встречали не голые стены, а красавица тетя Глаша, внимательная и рассудительная, не повышающая голоса, всегда в хорошем расположении духа. Именно она становилась слушательницей мальчишкиных школьных новостей и мудрой его советчицей. На долю Майи перепадали теперь лишь жалкие ошметки информации о жизни сына, а на родительских собраниях она с изумлением выясняла, что безнадежно отстает от этой жизни. Оценки и экскурсии, ссоры и перемирия, робкие влюбленности и горькие обиды – все теперь проходило мимо нее. Монополия на эти события принадлежала Глафире.
Особенно ранило Майю то, что исключительно с Глафирой мальчик теперь делился своими планами по обнаружению сокровищ. Глафире же он посетовал и на то, что они с матерью уехали из Каппадокии, так и не исследовав загадочную пещеру. И вопреки всем железным постулатам педагогики Глафира поддержала мальчика и осудила Майю. Не воздержалась от комментариев, не ограничилась чем-то нейтральным вроде: «Ну, может быть, вы туда еще и вернетесь», а открытым текстом заявила: «Да, мама у тебя приключений боится!»
– Какое вы имеете право подрывать мой авторитет?! – задыхаясь от возмущения, высказала ей Майя, когда они остались наедине.
– Да ты сама его себе подорвала, – безапелляционно заявила Глафира. – Почему не дала ребенку отыскать клад?
– Какой клад?! Ну что вы бредите?!
– А почем ты знаешь, что клада там не было?
Майя в отчаянии сжала виски:
– Нас ждал автобус, я не могла задерживать группу.
Глафира насмешливо махнула рукой:
– Вот я о том и говорю, что ты труслива. Автобус она задерживать не могла! А про то, что победителей не судят, слышала?
– Если б знать, что победишь!
– Смешно мне с тобой и противно, – подвела итог сибирячка. – Не живешь, а тени своей боишься. Как ребенка-то не побоялась завести? Или аборт было страшно делать?
После этого Майя не разговаривала с Глафирой два дня. Но на третий у Никиты случилось расстройство желудка, а Глафира, как всегда, приняла деятельное участие в его лечении, и все вернулось на круги своя.
Глафирино предположение так сильно оскорбило Майю еще и потому, что оно было чистой правдой: ребенок в ее жизни появился случайно. Однако появился – и слава Богу! С его появлением Майя была избавлена от волнующей необходимости устраивать личную жизнь. Вся любовь – ребенку! Все время, силы и возможности – тоже. И найдется ли хоть кто-то, способный бросить за это камень в мать-одиночку?
Подавляющее большинство Глафириной клиентуры составляли женщины, но отдельные мужские особи также встречались на ее массажном столе. Ни один из них не вызывал у Майи интереса, пока однажды она с колоссальным удивлением не узнала в покидающем их квартиру человеке ведущего ток-шоу с ее канала.
Арсений принадлежал к тому типу мужчин, которые заставляют представительниц противоположного пола восторженно и безнадежно вздыхать. Мальчишеский задор в глазах, моложавость, возведенная в культ, профессионально-галантное обхождение, умение сделать комплимент любой дурнушке… В присутствии такого мужчины расцветаешь, была ты к этому готова или нет. Майя знала это по себе, чувствуя стремительный взлет души каждый раз, когда они случайно пересекались и раскланивались в коридорах студии.
После изумленно-приветственных реплик и неизбежных комментариев о том, как тесен мир, Арсений заверил Майю в том, что теперь они будут встречаться чаще, чем на работе, – ведь он «уже не в силах покинуть Глашины золотые руки». Майя изобразила улыбку. Глафира, стоя на заднем плане, глядела победоносно.
Вскоре обещание Арсения подтвердилось: стало очевидно, что он увлекся массажем не на шутку. Не в силах побороть любопытство, Майя выяснила у Никиты, что новый Глафирин клиент регулярно наведывается к ней в течение недели и даже, к восторгу мальчика, подарил ему книгу о знаменитых кладах и кладоискателях. А какое-то время спустя Майя и сама, возвращаясь домой, стала регулярно заставать там медиаперсону. Причем отнюдь не на массажном столе. А однажды в пятницу вечером, мучительно мечтая добраться до постели и не выбираться из нее ближайшие двенадцать часов, Майя обнаружила в своей комнате целую компанию. Арсений, сидя за компьютером, учил Никиту обрабатывать снимки в Photoshop, а Глафира, стоя у них за спиной, отпускала заинтересованные комментарии. В этот момент Майю впервые посетило такое чувство, будто бывшая старуха за ее счет создала себе полноценную жизнь и полноценную семью, оставив ту, кому она была обязана своим процветанием, в роли четвертой лишней.
Формально упрекнуть ей Глафиру было не в чем, однако, однако… Однако каждый раз, когда сибирячка выезжала с Арсением на природу (наступила весна, и Никита маялся по выходным в Москве), у Майи сжималось сердце: мальчик упрашивал «тетю Глашу и дядю Сеню» взять его с собой. Было очевидно, что соседка по квартире и ее бойфренд олицетворяют для мальчика ту полноценную семью, которой он не знал никогда, но подсознательно мечтал обрести. До поры до времени Никитины просьбы деликатно отклонялись, и Майя вздыхала с облегчением, но однажды стечение обстоятельств оказалось для нее роковым. Как-то раз Никита вернулся с прогулки, ликуя: возле киоска он углядел кем-то оброненную тысячерублевую купюру. Не успела Майя взволнованно охнуть и озвучить давно заготовленную фразу: «Для таких, как ты, мошенники и подбрасывают «куклы» с деньгами», как Никита от всей души протянул деньги Глафире.
– Тетя Глаша, держите, это вам! Купите себе что-нибудь!
Впервые на памяти Майи Глафира была тронута; она даже поцеловала мальчика. А вот Майю Никитин широкий жест попросту сровнял с землей: до сих пор ее сын не раздаривал ничего из своих сокровищ – и вот он нашел первую достойную кандидатуру… Кусая губы и соображая, как бы с честью выпутаться из этой ситуации, Майя услышала звонок в дверь – появился Арсений. Да не просто так, а с интересным предложением к своей пассии: отправиться на фестиваль фейерверков, который этим вечером устраивали на набережной Москвы-реки.
Услышав слово «фейерверк», Никита подался вперед, как гончая на поводке, и Глафира не выдержала. Отведя Арсения в сторону, она произнесла пару неслышных фраз, и мужчина согласно кивнул, а Никита просиял. Пять минут спустя вся компания покинула квартиру.
Майя осталась в одиночестве и в полной прострации. Ни двум взрослым, ни ребенку, исчезнувшим за дверью, и в голову не пришло ни пригласить ее с собой, ни спросить ее разрешения. У нее забрали сына, только и всего! А сын этому и рад. Ну что ж… ну что ж…
Сквозь рыдания Майя вспоминала о том, как маленький Никита всерьез уверял ее в том, что во время салюта в небо взлетают не огни, а драгоценные камни, которые потом обязательно нужно отыскивать на земле. И как утром десятого мая они ехали на набережную Воробьевых гор, где предыдущим вечером палили ближайшие к ним пушки, и мальчик бросался к каждому кусту в надежде разглядеть под ним изумруды, рубины, бриллианты… А теперь она лишена того маленького, но неисчерпаемого клада, которым все эти годы был для нее сын. Лишена и надежды на личную жизнь по причине отсутствия квартиры. Лишена и самой квартиры. А все она, она, она!
* * *
– А я-то тут при чем? – искренне удивилась Глафира на следующий день. – Ты что, не хочешь, чтобы твой ребенок хорошо проводил время? Он и так ничего в жизни не видит, кроме школы и двора. И не увидел бы, если бы не я, – добавила она с нескрываемой гордостью.
– Ты не имеешь права его у меня забирать! – выкрикнула Майя.
До сих пор она по инерции говорила Глафире «вы», но в пылу ссоры было не до этикета.
– Да ты сама мне его отдала, – не тушуясь, парировала Глафира. – У тебя же вечно ни сил, ни времени – думаешь, он тебя такую любить будет только потому, что мать? Нет, погоди, еще лет пять – семь – и ты ему со своим «не могу – устала» уже вообще не будешь нужна. Мать какая должна быть? Спокойная, довольная жизнью и, понятное дело, с отцом. А теперь на себя посмотри!
Майя онемела от этих оскорблений и от того, что возразить ей было ровным счетом нечего. Глафира, видимо, сочла разговор оконченным с привычным ей счетом 1:0, но тут у Майи вырвалось:
– А где твои собственные дети? Почему они не с тобой, раз ты у нас такая образцово-показательная?
Глафира замерла на месте возле кухонного стола, мимо которого собиралась пройти. Она зачем-то взяла в руки чашку, оттерла пятнышко чая на внешней ее стороне, поставила на место.
– Они умерли, – сказала она, не глядя на Майю, – у меня все умерли – и муж, и дети. Все потеряла, что было. Еще вопросы есть?
– Ты все потеряла, – с горечью повторила Майя, – так не отнимай у меня мое! У меня же ничего теперь нет по твоей милости.
– Ах, несчастная! – злорадно всплеснула руками Глафира. – Ничего у нее нет – ни ребенка, ни мужа, ни квартиры, а все из-за одной зловредной старухи! А кто тебе мешал, чтобы все это у тебя было? Кто мешал такого вот Арсения к рукам прибрать? Ты же с ним раньше меня знакома была! Кто мешал такую работу найти, чтобы и денег хватало, и пахать не без продыха? Кто мешал устроить все так, чтобы и на ребенка силы оставались? Может быть, я?
Майя молчала.
– Я тебе только в одном подкузьмила, – продолжала бывшая старуха, – в том, что не померла. Ну, уж извини! Придется тебе другую смертницу искать. Или другую жизнь.
Майя медленно опустилась на стул, поставила локти на стол, уткнула лицо в поднятые ладони.
– Я из-за тебя из болячек не вылезаю, – глухо сказала она. – Голова разламывается без конца, уже не помню, когда спала без таблеток. У меня карта в поликлинике толще, чем «Война и мир».
– А ты как хотела? – невозмутимо откликнулась Глафира. – Что, не знала, что все болезни от нервов? Да ты еще немного со мной поживешь – и совсем скопытишься.
Майя не могла произнести ни слова. Она понимала, что бывшая старуха говорит правду, но не видела ни единого способа избежать предначертанной ей судьбы. У нее не было жилья, не было надежды на жилье, не было даже иллюзии в виде ипотечного кредита: одна знакомая финансистка популярно объяснила Майе, почему ей не светит расплатиться с банком вплоть до пенсии, и то при отказе от всех удовольствий дороже «Макдоналдса».
– Уехать бы тебе куда-нибудь, – по-медицински сухо констатировала Глафира, глядя на свою поверженную компаньонку. – А за Никиткой я тут присмотрю.
Майя издала не то смешок, не то всхлип: она и не сомневалась, что Глафира использует ее отъезд, чтобы окончательно отбить у нее ребенка. Но ею вдруг овладело то безразличие, которое бывает у тяжело больного человека – безразличие ко всему, кроме того, останется она в живых или нет.
Глафира на некоторое время вышла из кухни, а вернулась с бумагой и ручкой.
– Вот, – сказала она, написав на листке какой-то адрес и имя, – это одна моя старая знакомая. Лет сорок не виделись, наверное. Да не бойся, она на меня не похожа, вы с ней поладите.
– А ты уверена, что за эти сорок лет она не переехала? – спросила Майя, вытирая слезы и читая адрес. – У нее телефон вообще есть?
– Сорок лет назад не было, а сейчас, должно быть, есть, только я его не знаю. Но если она переехала, ты просто снимешь комнату у кого-нибудь другого. Там, понятное дело, многие сдают.
Майя продолжала скептически смотреть на адрес:
– Город-то не курортный, там при Союзе военная база была.
– Что у моря – все курорт, – резонно рассудила Глафира. – Да и дешевле небось, чем в Сочах каких-нибудь. А военная база там вряд ли осталась: Союза уже нет, ничего, что было, нет, значит, и базы нет.
Майя подняла голову: у Глафиры был прежний голос. Оплакивающий прошлое, несчастный старушечий голос. На какой-то момент в ней по привычке проснулось сострадание, но при виде холеной молодой женщины с холодным взглядом Майя стиснула зубы.
– Я подумаю, ехать мне туда или нет, – с достоинством ответила она, пряча адрес в карман.
– Подумай, – бросила Глафира, поворачиваясь к ней спиной. – Подумай и поезжай.
И Майя осознала, что и на сей раз она не посмеет ослушаться старуху.
X
– Вот отсюда берет истоки река, образовавшая Большой каньон, – сказал Карим.
– Просто не верится, что когда-то она была полноводной, – откликнулась Майя, переводя взгляд с упругого, но тонкого ручья на трехсотметровые утесы.
Она представила себе это гигантское ущелье, до предела заполненное бурлящей водой, и содрогнулась.
– Она и сейчас полноводная, – засмеялся Карим, – пересохнет она к осени; тогда по руслу можно будет просто гулять. А пока что…
Майя уже понимала, что ей предстоит отнюдь не прогулка и даже не поход, а настоящее приключение. И, продвигаясь за Каримом вперед, все больше и больше в этом убеждалась. Пока что их путь был осложнен лишь постоянной необходимостью удерживать равновесие, перебираясь с камня на камень, но впереди, по словам Карима, ждала теснина, где придется либо брести вброд по ледяной воде, либо карабкаться по отвесной стене каньона. Ни того ни другого Майя никогда не проделывала прежде.
– Скажите, – отважилась она на вопрос, – а если я почувствую, что мне не дойти до конца, будет ли какая-нибудь возможность свернуть, обогнуть этот каньон, что ли?
– Нет, – ответил Карим.
– Неужели совсем никакой?
– Слушайте, – он обернулся к ней, – вы зачем сюда спустились? Чтобы теперь увиливать? Я же вам сразу предлагал: хотите прогулку – будет прогулка; хотите результата – надо терпеть.
– Я готова терпеть, но если…
– Сворачивать некуда, – отрезал Карим.
Майя покорно замолчала и какое-то время, безмолвно преодолевая препятствия, разглядывала то удивительное творение природы, внутри которого очутилась. Вершины ущелья сияли на солнце, и сейчас, в полдень, плоскогорья над их головой наверняка раскалялись от зноя, но внизу, возле мерно струящейся воды, царили прохлада и сонное забытье. Словно по берегам реки подземного царства.
Однако предаться дремотной расслабленности не представлялось возможным – слишком много внимания и сосредоточенности требовала дорога. Да и оранжевый камень на винте в ухе Карима, отныне полностью открытый взгляду, не давал Майе покоя. Форма, цвет и огранка его были точно такими же, как и в кулоне у старухи, и все три совпадения представлялись невероятными для простой случайности. Старуха лишилась серег, идущих в комплекте с кулоном, еще в далекой юности, в Сибири, и, кто знает, вдруг ее проводник – потомок того самого вора-кошевочника, когда-то швырнувшего в свои сани юную Глашу?
– Карим, скажите, вы родом не из Сибири?
– Можно считать, что да. – Карим удивленно обернулся, но не стал расспрашивать, откуда Майе может быть об этом известно. – У меня дед и бабка – сибиряки. Дед был военным, его носило по всей стране; вот и занесло в Севастополь. А мама родилась уже здесь, да и я тоже.
Майя не смела поверить в то, что ее предположение оправдывается, но факты были налицо: судьба не дает ей увернуться от старухи. Каким угодно путем заставляет помнить, переживать, не знать покоя. И почему эта невероятная женщина никак не может отпустить ее, дать забыться хоть на минуту?
Резкий холод и сырость в кроссовке стали немедленной расплатой за то, что Майя ушла в свои мысли. Она соскользнула с камня, и Карим не успел ее поддержать.
– Высохнет на ноге, – ободрил он женщину, печально выливающую из обуви воду и отжимающую носок. – Радуйтесь, что не поранились.
Ежась в мокрой резине, Майя молча вскинула на плечи рюкзак и покорно побрела вперед. И чему она должна радоваться? Тому, что через такие тернии тащится неизвестно куда, соблазненная явно ложной надеждой? И в свете ее новых знаний следует ли вообще доверять этому потомку сибирского бандита? Неужели она могла всерьез предположить, что ему небезразлична ее судьба, ее жалкая надежда на молодость? Кто его знает, что на самом деле стоит за этим спуском в каньон?
– Сейчас начнется теснина, так что сделаем привал, – объявил Карим.
Они уселись на ближайшие удобные камни, и Карим достал из рюкзака два крупных яблока. Майя и не подозревала, что у них еще оставались припасы. Однако, несмотря на то что яблоки были чрезвычайно вкусны, ела она с неохотой.
– Вы чем-то огорчены? – спросил Карим.
– Мне кажется, мы занимаемся какой-то глупостью, – призналась Майя. – Ну, скажите честно: ведь все эти ванны молодости, водопады молодости, источники молодости – это ведь байки для туристов, да?
– Да, – спокойно подтвердил Карим, – для туристов – байки. Но вы ведь теперь не туристка.
– А кто же я?
– Вы верите в то, что это возможно.
– И что с того, что я верю? – воскликнула Майя. – Неужели это обязательно должно исполниться?
– Если верите, то да.
Майя махнула рукой:
– Если бы все, во что веришь, сбывалось! Я вот когда-то так мечтала о квартире…
– Стоп! – перебил Карим. – Мечтать и верить – это разные вещи. Хотите расслабиться – мечтайте, хотите результата – верьте!
– Я не чувствую разницы, – покачала головой Майя.
– Смотрите, – начал Карим, – допустим, существует город, в который вам очень хотелось бы попасть. И вот вы выходите на дорогу и мечтаете: «Хорошо бы мне оказаться в этом городе!» Мечтаете-мечтаете, идете-идете, а города все нет и нет.
– Так оно всегда и бывает, – печально подтвердила Майя.
– Потому что это мечты, – объяснил Карим. – Если бы у вас была вера, вы бы знали, что этот город обязательно должен находиться где-то впереди, и делали бы все, чтобы его достичь. Вы купили бы карту, расспрашивали бы каждого встречного, ловили бы попутки, короче, вы стремились бы туда. И рано или поздно попали бы.
Майя вспомнила свои мытарства с квартирой. Но ведь она честно делала все, чтобы достичь результата!
– Если делаешь все, что надо, но в глубине души не уверен, – пояснил Карим, – тоже не добьешься своего. Вы подсознательно выберете не ту карту, расспросите не того прохожего, сядете к водителю, который завезет вас невесть куда. Вот и ваша старуха взяла да помолодела – значит, выбрали не ту старуху.
– В следующий раз устрою конкурс, – пообещала Майя. И, испытующе глядя на Карима, спросила: – А вы правда верите тому, что я говорю?
– Верю, – просто ответил Карим. – Знаете, бывают необыкновенные люди, которые одной силой воли горы сворачивают. Взять вот Жанну Д’Арк: ну кем она была сама по себе? Ни опыта, ни знаний; по возрасту совсем еще девчонка. А верила, что освободит Орлеан – и освободила.
– Она плохо кончила, – мрачно напомнила Майя. Ей не хотелось признавать правоту своего собеседника.
– Плохо? – удивился Карим. – Да она ведь причислена к лику святых!
Майя молчала. Жанна Д’Арк была чересчур далека от нее, чтобы стать путеводной звездой в этом походе.
– Мне рассказывали, что бабка моя, – продолжал Карим задумчиво, – такая же железная женщина была – все по-своему поворачивала. И пикнуть никто не смел, даже чиновники ей квартирный вопрос решали как миленькие. Это в нашей-то стране!
– Она жива? – напряженно спросила Майя.
Карим пожал плечами:
– Не знаю. Я ее ни разу не видел, а мама никогда с ней не общалась – у них там давно, еще до моего рождения, ссора вышла очень крупная. Она и сама никогда нам не писала, хотя адрес был.
– Так она жила не с вами в Севастополе?
– Нет, в Москве.
Майя вдруг похолодела – она поняла. Все в этот момент точно замерло вместе с ней, и в полном безмолвии женщина отчетливо услышала журчание воды.
– Синицина, – прикрывая губы рукой, точно в испуге, произнесла она. – Синицина Анна Леонидовна. Это ведь ваша мама?
Карим недоуменно свел брови:
– Да, это ее девичья фамилия. Откуда вы знаете?
Майя пыталась глубоко вдохнуть, но у нее ничего не выходило.
– Значит, не все дети умерли, – пробормотала она. – И серьги не все отобрал тот вор. Значит, она так и хотела, чтобы мы с вами встретились. Господи! Что же это за человек?!
XI
– Здравствуйте, это Анна Леонидовна? Я к вам от Глафиры Дмитриевны, из Москвы, она мне дала ваш адрес.
По ту сторону домофонной панели ничего не ответили, однако щелчок, оповещающий о том, что дверь открыта, прозвучал, и Майя поспешила втянуть свой чемодан на колесиках в подъезд. На лестничной площадке прямо перед ней стояла женщина, по возрасту годящаяся ей в матери. О лице ее Майя поначалу не могла сказать ничего, поскольку лицо это было до предела напряженным.
– Она жива? – в упор спросила женщина на площадке.
– Кто? Глафира Дмитриевна? Да, жива, здорова. Она говорила, что вы сдаете комнаты отдыхающим…
– Комнаты?! А-а, вы, должно быть, на море приехали… Ну, проходите, что-нибудь придумаем.
Чувствуя себя до крайности неловко, Майя втянула свой чемодан в квартиру.
– Если вы не сдаете, я могу поискать другое жилье, – неуверенно предложила она.
– Да нет, не надо, – последовал ответ, – вот эта комната вас устроит? Здесь живет наш сын, когда бывает в городе, но летом его, как правило, нет. Так что располагайтесь.
Приняв душ и передохнув с дороги, Майя уже через час сидела на кухне с хозяйкой, и та разливала по кружкам холодный компот. Чай в такую жару был просто неуместен. На сей раз Майя имела возможность рассмотреть Анну Леонидовну, не упуская деталей, и женщина производила на нее все более и более приятное впечатление. Статная, с горделивой осанкой и спокойным достоинством в движениях; про нее язык не поворачивался сказать: «хорошо сохранилась», потому что Анна Леонидовна была сама жизнь, а не когда-то прошедшая и законсервированная молодость. Легкая полнота гладко натягивала кожу на лице, а густые светло-русые волосы хоть и были уложены на затылке в продолговатый валик, но, выбиваясь из него, слегка вились у висков, придавая ее облику мягкость и нежность. Черты лица, как сразу отметила Майя, были очень правильные, но не резкие, а как бы смягченные, что делало лицо особенно милым.
– И как же поживает Глафира Дмитриевна? – спросила хозяйка квартиры со странными нотками в голосе. Она словно бы и хотела, и опасалась услышать ответ.
– У Глафиры Дмитриевны все очень хорошо, – несмело начала Майя. – Она поздоровела, помолодела даже, можно сказать. Прекрасно себя чувствует.
Явно под впечатлением от услышанного, Анна Леонидовна покачала головой.
– А живет она по-прежнему одна?
– Э-э-э… – Майя напряженно пыталась вырулить на скользкую дорожку между правдой и ложью, – она встречается сейчас с одним человеком, возможно, они будут жить вместе.
– Встречается?! – потрясенно переспросила Анна Леонидовна. – В ее возрасте? Впрочем, от нее чего угодно можно ожидать… И что, хороший человек?
– Неплохой, – дипломатично отозвалась Майя.
– У него небось дети и внуки, а она им всем как добрая бабушка, так? – В голосе Анны Леонидовны ощутимо чувствовалась боль.
– Нет-нет, – поспешила заверить ее Майя, – он тоже одинокий.
– Простите, а вы Глафиру Дмитриевну откуда знаете?
И вновь эта скользкая дорожка!
– Я у нее лечусь.
– Не может быть! Она до сих пор практикует?
– Не то чтобы лечусь, – поспешила выкрутиться Майя, – консультируюсь иногда по поводу себя и сына. Знаете, Глафира Дмитриевна потрясающе ставит диагнозы!
– Да уж, – проговорила ее собеседница со странным блеском в глазах, – с чем, с чем, а с диагнозами у нее полный порядок!
Некоторое время обе женщины молча отпивали из своих чашек и доставали ложечками фрукты.
– Она ничего не просила мне передать? – с напряжением в голосе спросила Анна Леонидовна.
– Кажется, нет.
– Неужели совсем ничего?
Майя покачала головой.
– Вот удивительно! – сказала Анна Леонидовна, зачем-то резко отодвигая от себя чашку. – Просто фантастика какая-то! Мы же с ней… мы же были знакомы столько лет, и ничего не передать – ни письма, ни на словах!
Теперь Майя кляла себя за то, что не придумала для этой женщины никакой весточки от старухи.
– Я сейчас вспоминаю, – начала она, – Глафира Дмитриевна, кажется, хотела, чтобы вы ей написали.
Анна Леонидовна улыбнулась Майе – тепло и горько.
– Спасибо вам, вы добрая женщина, – только и сказала она.
Ближе к вечеру появился муж Анны Леонидовны – офицер российских ВМС. Против ожиданий Майя увидела под форменной фуражкой характерную татарскую внешность, и на нее так и повеяло историей, привольным кочевьем и степью с травами по грудь коню. Рядом со смуглым поджарым Фархадом Мазгутовичем его жена, степенная и дородная, воплощала настолько классический тип русской женщины, насколько его вообще можно было себе представить. И все же эта пара смотрелась на удивление гармонично – как если бы два народа, чьи судьбы издревле драматически скрещивались, наконец-то слились в мире и согласии.
За стаканом домашнего вина, сменившего компот, Майя прослушала целую лекцию о том, как приходит в упадок опорный пункт российского флота на Черном море, о том, что Балаклава – ранее сверхсекретная база подлодок близ Севастополя – превращена в яхт-клуб для олигархов; о том, что цены в городе – московские, квартплата – европейская, а зарплаты, словно в насмешку, соответствуют уровню стран третьего мира. К этому невеселому перечню Анна Леонидовна добавила, что в Крыму уже практически не осталось заповедных уголков, не облепленных торговцами и не перегороженных на подходе для взимания платы. Их сын, добавила она, как раз работает частным экскурсоводом, и уж кто-кто, а он глубоко переживает превращение своей полной чудес родины в туристический ширпотреб.
При слове «частный экскурсовод» Майя оживилась: ведь она приехала в Севастополь слишком рано, чтобы Черное море как следует прогрелось, и за невозможностью купаться, экскурсии были бы для нее настоящим спасением. Однако Анна Леонидовна понятия не имела, когда теперь их Карим объявится в родных стенах – он как раз ушел на яхте вдоль побережья с каким-то олигархом местного значения – не то чиновником, не то депутатом.
Перед сном Майя вышла из дома немного погулять по набережной, однако привычной курортной расслабленности она при этом не испытывала. Мысли лезли в голову, перебивая друг друга. Как там Никита? Что вытворяет Глафира в ее отсутствие? Как она только могла поддаться на провокацию и сбежать, оставив мальчика в руках соперницы? Зачем ей этот город, где даже пляжа нормального нет, а вода не позволяет в себя зайти глубже чем по щиколотку? И курортной атмосферы еще никакой – конец мая здесь пока что не сезон. Кем, интересно, приходится Глафире эта милейшая Анна Леонидовна, и почему старуха так безобразно обошлась со старой знакомой – не передав ни слова весточки? Уж явно Анна Леонидовна такого не заслужила, как не заслужила всех предшествующих издевательств и сама Майя! Чем бы ей заняться в ближайшую неделю? Да ничем, разве это не очевидно! Будет уныло сидеть у воды и слушать болтовню соседок по пляжу, если таковые найдутся. Стоило ехать за полторы тысячи километров!
Создав себе этими мыслями самое мрачное настроение, на которое только была способна, Майя вернулась домой и застала там неожиданное оживление. Частый смех, перебивающие друг друга вопросы… Она решила, что у хозяев гости, и, чтобы никому не мешать, собралась тихонько проскользнуть в свою комнату. Однако Анна Леонидовна услышала звук открывающейся двери и вышла ей навстречу.
– Майя, вы подумайте, какое удачное совпадение! – воскликнула она. – Карим вернулся. Пойдемте – вы познакомитесь, обговорите маршрут.
И Майе ничего не оставалось, как сделать первый шаг к Ванне молодости.
XII
– Держитесь же! – крикнул Карим, всем телом прижимаясь к выпуклому склону горы и протягивая ей руку.
– Я держусь! – простонала Майя.
– Да не так! За запястье хватайтесь, иначе ладонь соскользнет.
Она с трудом переместила пальцы вверх по руке Карима, туда, где были видны напряженные жилы, и он тут же стиснул в ответ ее запястье, так что их руки оказались словно в замке.
– А теперь прыгайте!
В здравом уме и твердой памяти Майя никогда бы не отважилась на этот прыжок, но ни о каком здравом уме речи не шло с самого утра. К тому же другого способа преодолеть очередной участок Каньона просто не существовало: вода в реке здесь стояла почти в человеческий рост, а брести по ней, держа рюкзак на поднятых руках, не представлялось возможным – на дне был сплошной слой полуистлевших веток и листьев, крайне скользких, если на них ступить. Оставалось лишь подняться по каменной стене, образовавшей эту теснину, и пару десятков метров двигаться вдоль нее поверх русла.
– Я крепко держусь, не бойтесь, – подбодрил ее Карим.
И за что он там ухватился второй рукой? Проступивший между камнями корень? Трещина, куда удалось протиснуться пальцам? В любом случае все это так шатко, так ненадежно! Но Майя поверила в то, что Карим ее удержит, и прыгнула. И, обретая равновесие, ухватилась за него обеими руками.
– Теперь будет легче – снова спустимся к воде, – сообщил Карим.
Майя с ужасом посмотрела на гладкую отвесную стену у них под ногами. Ни единой выбоины – как, интересно, он намерен спускаться?
Карим открепил от рюкзака веревку и перекинул ее через ствол склонившегося над водой дерева. Дал Майе в руки оба конца, и, упираясь ногами в стену, она спустилась к прибрежным камням. Бросила концы веревки Кариму, и он последовал за ней. А затем сдернул веревку со ствола.
Майя обессиленно сидела на том самом камне, к которому сползла по стене. Ноги ей больше не принадлежали. Спина, отягощенная рюкзаком, болезненно застыла. Она твердо знала, что больше ей не сделать ни шагу.
– Осталась примерно половина пути, – «обрадовал» ее Карим.
Майя лишь покачала головой – откликнуться она была уже не в состоянии.
– Я возьму ваш рюкзак, – предложил Карим.
– Зачем? – удрученно отозвалась Майя. – Если смысл в том, чтобы побольше намучиться перед этой Ванной, то надо тащить все на себе.
Карим пристально посмотрел на нее.
– Смысл в том, чтобы почувствовать себя другой, – сказал он с некоторой суровостью в голосе, – чтобы в силу свою поверить. Чтобы вы знали: уж если прошли через Каньон, то способны на все – даже молодость вернуть. А без конца жалеть себя, несчастную, – это старость ваша. Та, что у вас внутри сидит.
Майя лишь усмехнулась.
– Наверное, вы все правильно говорите, – не без иронии ответила она, – только моя старуха жалела-жалела себя несчастную – да помолодела. А я терпела-терпела, думала: сильная, выдержу – и сами видите, чем все это кончилось.
– А не надо было терпеть! – резко возразил Карим. – Бороться надо было! Пока вы терпите да ждете, жизнь от вас действительно ничего не оставит. Вы думаете, почему ваша старуха помолодела? Не надо, не от турецкой воды, а оттого, что из вас все силы высосала. Она вас мучила – вы прогибались – у кого сил оставалось меньше? А у кого больше?
– Но ведь так же не может быть! – потрясенная, подняла голову Майя. – Это что же, вампир, получается?
– А вы думали, вампиры только в кино бывают? – усмехнулся в ответ Карим.
Майя оглушенно молчала. Теперь, когда страшная истина была названа своими словами, она пребывала в еще большей растерянности. Вампир… Но разве это не так? Какой измученной и обессиленной чувствовала она себя каждый раз после встреч со старухой, как катастрофически бедна радостью была ее жизнь, словно женщина существовала на последнем издыхании. Нет сил, нет желаний, и лишь квартира – средоточие всех чаяний и надежд. Но как она могла проявить малодушие и сбежать от этой ведьмы, оставив в ее руках ребенка? Один Бог знает, во что он превратится, получив Глафиру взамен матери. Срочно – в Москву! Она должна бороться если не за свое будущее, то хотя бы за будущее сына!
Но в тот момент, когда Майя уже готова была вскочить и помчаться вперед по Каньону, обгоняя Карима, старуха словно дотянулась до нее своей иссохшей рукой и оставила сидеть на месте. Ну-ну, беги, и далеко ты убежишь? На новую съемную квартиру, за которую будешь отдавать половину зарплаты? К новой рабочей круговерти, от которой не останется сил ни на что, кроме сна? И что будет видеть в жизни твой сын, у которого сейчас есть хотя бы суррогат нормальной полной семьи? Или ты надеешься на то, что еще найдешь себе мужчину? Не смеши меня – в твои-то тридцать пять!
– Хорошо еще, что мама успела от нее сбежать, – задумчиво сказал Карим, – а то эта вампирша и ее бы ухайдакала.
– Не сгущайте краски, – тихо посоветовала Майя, – не убийца же она, в конце концов!
– Да почему же? – возразил Карим. – Из-за нее погиб мой дядя.
… Дедушка Карима, ее муж и мой отец, тоже погиб из-за нее, хотя формально человека, менее причастного к его гибели трудно себе представить. Лучше бы Майе услышать эту историю от меня, хотя даже после по-мужски сдержанного рассказа моего сына она встанет и двинется вперед по Каньону с крепкой как никогда верой в то, что должна увидеть себя другой. Настолько сильной, чтобы старуха потеряла над нею всякую власть.
Леонид Петрович, мой отец, был военным, и после окончания войны судьба забросила его с семьей в Севастополь – восстанавливать до основания разрушенный немцами город. Однако прежде чем начать вновь отстраивать базу для Черноморского флота, требовалось разминировать Севастопольскую бухту, обильно усеянную минами. На это дело брали только добровольцев, и вот почему: советскому камикадзе требовалось промчаться мимо мины на катере, задев волной ее взрыватель, но пролетев вперед настолько быстро, чтобы взрыв раздался за спиной. Изуверская хитрость командования, посылавшего людей на мины, заключалась в том, что у подобного сапера все же оставался шанс уцелеть, а уцелевшие заслуженно считались героями. Мой отец – вы не поверите! – обезвредил подобным образом не один десяток мин, и каждый раз смерть не успевала его зацепить. За это папа получил орден Героя Советского Союза и два инфаркта. Они пришли к нему запоздалым отголоском тех страшных подвигов – уже в пятидесятые.
При чем здесь мама? Да, на первый, и на второй, и даже на третий взгляд – ни при чем. Но весь ужас этой «непричастности» в том, что любящий человек (а папа любил!) легко внушаем, а маме очень хотелось стать женой героя. Зачем еще нужен мужчина, как не для того, чтобы возвысить свою жену? Дальнейшее – на вашу фантазию – вы же видели, как моя мама умеет внушать.
Потом, когда папа лежал с инфарктами, матери было не до него. Козыряя его геройством и надвигающейся инвалидностью, она ходила по инстанциям, требуя перевода отца в Москву. Ему, выздоравливающему, хотелось любви и тепла, но мама занималась сборами в столицу – нам выделили двухкомнатную квартиру. Папа оставлял город, который столько для него значил и для которого столько значил он сам; оставлял любимое море, южное небо, южное цветение и южные ароматы. Промучившись двое суток в душном вагоне, он вместо домика, увитого виноградом, очутился в клетушке многоквартирной коробки с гордым названием «жилплощадь в столице». И вот за подвиги награда… Третий инфаркт он получил прямо в рабочем кабинете в первый же день выхода на новую штабную службу.
Мама была немногим старше Майи, когда осталась вдовой. Вдовой Героя Советского Союза с прекрасной по тем временам квартирой и солидной пенсией. Но муж был выпит ею до дна, и мужу требовалась замена. А Петя, мой старший брат, был очень привязан к матери…
Он пытался пойти по стопам отца, даже, пробуя свои силы, проводил военную игру «Зарница» в пионерских лагерях. Сейчас я понимаю, что задатки у брата были отличные, но мать сумела поставить на них крест: сын-военный вдали от дома никак не входил в ее планы. Ей удалось разлучить брата с его призванием, и папина преждевременная смерть ей в этом весьма способствовала. Ведь едва ли у любящего сына найдутся силы противостоять материнским слезам, а уж если это слезы несчастной вдовы… Для Пети был выбран какой-то технический вуз, а также перспектива быть верной опорой (как моральной, так и материальной) своей обездоленной матери. Мне же отводилась роль бессловесного преданного существа, внимающего материнским наставлениям. Должно быть, потому у меня так долго, все те годы, что я прожила вместе с мамой, не было ни влюбленностей, ни романов. Ведь мне внушалось, что мама и любит, и понимает, и оберегает в три тысячи раз лучше, чем любое существо противоположного пола.
До поры до времени мы радовали маму, не желая от жизни ничего для себя – все для нее одной! – но первым спутал ей карты Петя. Он женился, очень быстро и очень неожиданно, на иногородней девушке-сокурснице, которая была от него беременна. Мама узнала обо всем уже после официальной регистрации, но отнеслась к произошедшему на удивление доброжелательно; настолько, что даже подарила невестке кольцо с оранжевым гранатом – старинную фамильную драгоценность. Говорите, не может быть? Ах да, вы, наверное, слышали, что кольцо когда-то сорвал с нее вор-кошевочник. Но это не так. Маму когда-либо пытался похитить только один человек – мой отец. Тогда зимой, познакомившись с нею в Доме культуры, он действительно нанял кошевку и изобразил из себя налетчика, чтобы прямо в санях объясниться маме в любви. Кольцо, разумеется, так и осталось тогда у нее на пальце, а серьги – в ушах. А легенду про похищение мама придумала уже позже, чтобы не объяснять, куда же на самом деле пропали все ее драгоценности.
Итак, Петя и его беременная жена стали жить вместе с нами. На первых месяцах Нину, как это часто бывает, мучил токсикоз, и она то и дело пропускала занятия, отлеживаясь дома. Я в то время заканчивала выпускной класс и, когда возвращалась домой из школы, мама регулярно высказывалась за обедом о том, что единственная цель девушек-немосквичек, приехавших в столицу, – найти себе здесь дурачка, который будет их содержать. Сначала их самих, а потом и их многочисленную родню, которая непременно потянется в стольный град по их следам. Формально все это сообщалось не для Нины – та лежала со своей тошнотой в соседней комнате, – но девушка не могла не слышать оскорблений. Иногда она в слезах выходила на кухню и пыталась оправдаться: мол, она так же, как и Петя, учится и получает стипендию, а затем, отдав ребенка в ясли, собирается работать. Так что ни о каком нахлебничестве не может быть и речи.
– А я разве с тобой разговариваю? – удивленно приподнимала брови мама. – Или у вас в Тмутаракани принято подслушивать? Ну, иди-иди, рыдай! Надо достойно себя вести, тогда и рыдать не придется!
Почему я тогда не вмешалась? Ведь я была уже достаточно взрослой… Но образ прекрасной, всегда держащейся с достоинством матери не допускал в сознание ни единой мысли о том, что такая женщина может быть не права. А если мне и было временами жаль Нину, то, значит, я просто забывала, насколько та плоха и насколько испортила жизнь моему брату. Я опускала голову и с тяжестью на сердце ждала, пока закончится экзекуция над беременной женщиной.
По праздникам мама была само радушие и щедрость. Она с радостью принимала Петиных однокурсников, по-матерински расспрашивала их об учебе или делах семейных, и – удивительно! – молодые люди не стеснялись с ней откровенничать, видимо, настолько сильное сходство с любящей матерью она вызывала. А когда за полночь гости расходились, беременная Нина перемывала за ними всю посуду и до трех часов ночи наводила порядок на кухне. Попросить о помощи Петю она не могла – настолько глубоко сидело внутри сознание того, что мужа-благодетеля нельзя беспокоить по мелочам. А сам Петя предложить помощь не догадывался – ведь все по дому за него всегда делали мы с мамой.
По выходным, едва Нина, умывшись, выходила из ванной, мама встречала ее суровым вопросом: «Ты уже подумала, чем будешь кормить Петю в обед?» И молодая женщина с опухшими на шестом месяце ногами целое утро кашеварила на всю семью, а остаток дня отлеживалась в постели.
– Ну что, весело тебе с молодой женой? – спрашивала мама у Пети, который, не зная, чем заняться дома, выходил на прогулку с мамой и со мной. Как в старые добрые времена, когда мы были детьми.
Петя немедленно становился мрачен. Собственно говоря, мрачен он был практически с самого начала своей семейной жизни. Ведь вместо мира в доме он получил змеиный клубок проблем, вместо подруги – кухарку, вместо вольного воздуха радости – удушливое грозовое затишье. Да затишье ли? Сейчас мне кажется, что все те месяцы, что Нина провела в нашем доме, слезы у нее на глазах не пересыхали. Вот только гром никак не решался грянуть.
Если бы у Нины был бойцовский характер! Но она, не будучи крещеной, по убеждениям была истинной христианкой – милой и тихой, любящей хозяйничать и почитающей мужа. Она была идеальной жертвой, не хуже, чем первые христиане, безропотно ожидавшие смерти на римских аренах. Сейчас я вспоминаю еще одну страшную деталь: будучи врачом, мама даже не попыталась по своим каналам найти для Нины квалифицированного гинеколога, обеспечить ее наилучшей медицинской помощью. Или хотя бы дать совет. Она словно бы не замечала состояния невестки, а если и замечала, то с неизбежным комментарием о том, как ребенка посадят ей на шею после рождения. Под этим предлогом мама и начала брать себе все больше и больше дежурств, чтобы «хоть немного подкопить на внука». Пете же она категорически запрещала обременять себя подработками – он должен был учиться, «пока ему еще окончательно жизнь не засрали».
Почему он слушался? Но Петя тоже не мог допустить и мысли, что мама, эта величественная вдова Героя Советского Союза, может быть не права.
Итак, мама постоянно была на дежурствах, Петя – в библиотеке, и так случилось, что именно я оказалась возле Нины, когда гром все же грянул. Вернувшись из школы и проходя в свою комнату, я мельком увидела, что Нина стоит на коленях возле кровати и, закидывая голову, пытается глотнуть воздуха. Сначала я хотела пройти мимо (разве плохое самочувствие – не ее личное дело?), но затем все же подошла.
– Тебе плохо?
– Я рожаю, – прохрипела она.
– Ведь рано еще!
В ответ Нина повалилась на пол и начала прерывисто подвывать, как больное животное. Я в ужасе бросилась вызывать «скорую» и с не меньшим ужасом наблюдала, как Нину поднимают на носилки и выносят из дома. Проводить ее мне даже в голову не пришло, как не пришло в голову ни спросить номер больницы, куда ее увозят, ни сбегать за Петей – стараниями мамы Нина не существовала для меня как человек, достойный тепла и сострадания. Лишь вечером Петя узнал, что его жены давно уже нет дома. Он тут же кинулся обзванивать больницы, но мама спокойно сказала, что это лишняя трата сил и времени, теперь врачи нам сами позвонят. А что касается Нининого срока, то ничего, выхаживают и семимесячных, даже в неполные семь месяцев.
Но телефон в тот день не зазвучал, и мы узнали, что случилось с Ниной, не раньше чем через два дня, когда она вернулась из больницы.
«Посмотри, до чего ты довела мужа! – такими словами встретила ее мама. – Он тут с ума сходит, а она позвонить не может! Мертворожденный? А почему? Резус-конфликт? Ну, матушка, знать надо, что ты отрицательная! И семью предупреждать, чтобы мы тут не переживали по твоей вине. А вообще что-то странное: при первой беременности даже резус-отрицательные нормально вынашивают. Если они, конечно, абортов перед этим не делали».
В этот момент Нина могла бы кинуться на свекровь и попытаться задушить ее – тогда Петя бросился бы их разнимать и остался жив. Нина могла бы хлопнуть дверью своей комнаты, собрать сумку и тут же уйти из ненавидящего ее дома – в этом случае Петя бросился бы вслед за ней и тоже остался бы жив. Но Нина молча опустилась на стульчик для надевания обуви в прихожей, вцепилась в него руками, как если бы теперь это была ее единственная опора, и, раскачиваясь из стороны в сторону (на слезы уже не было сил), принялась тихо повторять: «Вы не человек! Нет, вы не человек!»
Вот тут-то Петя и бросился вон из дома. Когда любимая мать уничтожает любимую жену, мужчина, увы, не может противостоять, он может только уйти. Петя бросился к метро, чтобы быть как можно дальше от места этого уничтожения, уехал в центр, а там… Петя практически не употреблял алкоголя, и опорожненная им в одиночку бутылка «Кагора» буквально свалила его с ног. Пете стало плохо и – кому, кроме вдребезги пьяного, придет такое в голову? – в поисках облегчения он решил окунуться в Москву-реку, благо этот май выдался жарким. Петя окунулся раз и другой, но лучше ему не становилось, тогда он решил не вылезать из воды, пока не полегчает. Пьяные не чувствуют переохлаждения, а такие пьяные, как Петя, еще и не контролируют происходящее, и брат стал засыпать прямо в воде. И не почувствовал, как сон тихо увел его под воду.
Я даже не помню, когда именно из нашей жизни исчезла Нина – до похорон или после, отчетливо вспоминается лишь тот момент, когда мы с матерью в одиночестве сидели за столом после поминок.
– Вот мы и остались с тобой вдвоем, – произнесла она странным, в тишине прозвучавшим как знамение голосом.
И тогда… нет тогда я еще не осознала, по каким кругам ада мать гоняла семью все это время, осознание, стыд и боль пришли гораздо позже, когда я сама стала матерью, а в тот момент я почувствовала лишь то, что не могу больше находиться в этом доме. Я сказала матери, что летом хочу съездить в Севастополь – город моего детства, который сейчас, за вуалью времени и расстояния, казался мне раем на земле, – но не упомянула, что беру с собой аттестат, чтобы продолжить образование именно там. Мать отнеслась к моей идее благосклонно и даже дала мне с собой пару сережек с оранжевыми гранатами: «Сходишь там в Дом офицеров на танцы. Жаль вот, кольца уже нет». (Кольцо было некогда подарено Нине и исчезло из нашей семьи вместе с ней.) Я приняла подарок и помчалась за билетами. И, вы не поверите, будучи столько лет так накрепко привязана к матери, я бросалась от нее в неизвестность за полторы тысячи километров, задыхаясь от счастья. И возможно, именно потому какие бы трудности ни выпадали мне впоследствии в новой жизни, я преодолевала их с радостным подъемом в душе. Что такое трудности по сравнению с тем, что ты свободен от зла, сгущенного в самом воздухе нашей квартиры? Зла, которого не выдержали ни отец, ни брат, ни жена брата, ни их ребенок, так и не решившийся шагнуть в эту зараженную атмосферу.
Из Севастополя я написала матери, что поступила в местное медицинское училище и поселилась в общежитии. Мать всегда презирала медсестер, считая их низшей кастой по сравнению со своей врачебной элитой, и, предвидя ее возмущение, я не ждала скорого ответа. Но ответ не пришел вообще. Опасаясь, что письмо затерялось на почте, я послала второе. Ответа не было и на этот раз. Лишь в августе после третьей попытки я получила от нее конверт. На вложенном листке бумаги было нацарапано одно-единственное слово: «Дрянь!» Это было последнее слово, которое мне сказала моя мать.
Что было дальше? Поступив на работу в больницу, я познакомилась с молоденьким мичманом. Мы поженились на удивление быстро, но будущее сложилось на удивление хорошо. Он был татарин, чья семья, как и многие в те годы, продолжала втайне исповедовать свою веру, и, став частью его семьи, я впервые осознала, что в мире может присутствовать Бог. И мало-помалу страшный опыт детства и юности, когда я каждый божий день, сама того не сознавая, проводила под опекой дьявола, стал выветриваться из души. Моя новая семья научила меня любить, а новая профессия – терпеть и сострадать, и когда сейчас я задумываюсь о своей жизни, то начинаю отсчитывать ее с того момента, как села в поезд, идущий на юг.
Серьги, подаренные матерью, я не надела ни разу. Одну из них я продала ювелиру, когда в девяностых годах стало совсем плохо с деньгами. Продала как лом, почему-то не решаясь расстаться с обеими серьгами сразу. А затем положение выправилось, Россия начала достойно платить своим офицерам, оказавшимся фактически в чужой стране, и продавать на лом вторую серьгу уже не имело смысла. Я подарила ее сыну – для него-то она не несла никаких воспоминаний, а у мужчин как раз вошло в моду протыкать себе уши. Кариму она идет, и, глядя на сына, я никогда не вспоминаю, откуда взялся этот оранжевый камень. Порой даже кажется, что мой мальчик сам отыскал его в своих бесконечных странствиях по Крыму.
Возможно, это прозвучит чудовищно, но вплоть до самого приезда этой женщины из Москвы, в душе я считала себя сиротой. Моя мать навсегда осталась не просто в другом городе, но за некой незримой чертой, которую я даже в мыслях страшилась переступить. Любое воспоминание вызывало боль. Так пропади они пропадом, эти воспоминания! Уже сорок три года, как я родилась заново – с душой, готовой любить, и прошлое не имеет надо мною никакой власти.
Итак, мне всего сорок три вместо тех шестидесяти, что, хочешь – не хочешь, значатся в паспорте. И выходит, что бегство от матери принесло мне молодость. Интересно, насколько близка с убийцей моего отца и брата эта измученная гостья из Москвы? Увы, похоже, что близка, и, похоже, выпили ее почти до дна. Иначе откуда эта старческая, усталая горечь у нее в глазах? Горечь, которую вряд ли смоет даже река в Большом каньоне, что бы там ни говорил мой верящий в чудо сын.
XIII
Чем дальше они продвигались по Каньону, тем более диким казался Майе путь к Ванне молодости. Пару месяцев назад здесь прошел ураган, и вывороченные деревья перегораживали русло реки во многих местах. Их корни так до конца и не распрощались с землей, и кроны были еще зелеными; ступая по их поверженным стволам, с трудом верилось, что эти еще живые обитатели леса никогда больше не поднимутся во весь рост. Несколько раз они натыкались на скелеты животных, сорвавшихся с отвесного берега во время бегства от хищника и посмертно угодивших ему в зубы. Судя по черепам и копытам, это были кабаны и олени. Скелеты были еще довольно свежими, и Майя хоть и содрогалась от подобного зрелища, не могла не впиваться в них взглядом: она пыталась представить себе, какие драмы разыгрывались ночью в этой теснине.
И она, и Карим молчали. Майя была потрясена услышанным настолько, что не могла даже думать; лишь сгибала и разгибала ноги, взбираясь по камням, или, закусив губу, брела по пояс в ледяной воде. Она чувствовала себя опустошенной, выпотрошенной; тот участок души, что по-хозяйски занимала когда-то старуха, был вырезан подчистую, и края раны еще не успели сомкнуться. Глафиры как человека, с которым были связаны боль и благодарность, зависть и восхищение, надежды и крушение надежд, в сердце больше не существовало, зияла лишь дыра из плоти и крови, которую требовалось, как в русских сказках, сперва залить мертвой водой забвения и лишь затем живой водой нового чувства.
Неожиданно река под ногами исчезла, и Майя обнаружила, что стоит в сухом русле. Пораженная, она взглянула на Карима.
– Здесь река уходит под землю, – объяснил он, – а затем появляется снова. Почти перед самой Ванной молодости. Так что нам остался самый легкий участок пути.
Легкий? Да ведь ноги уже подгибаются, с трудом перенося ее с камня на камень. Майя не жаловалась больше на усталость, но Карим без лишних слов подошел и забрал у нее рюкзак. Женщина не смогла его даже толком поблагодарить, лишь изнеможенно шевельнула губами и кивнула головой. Теперь, уже не пошатываясь при каждом шаге, она была в состоянии замечать, насколько беззащитно выглядят речные пороги без бурлящей на них воды, как противоестественно сухи камни, образующие русло, как неловко теснятся стены ущелья, когда им не приходится сжимать стремительный поток.
За очередным порогом река, еще более неожиданно, чем прежде исчезла, возникла вновь. И здесь она была особенно полноводна и причудлива. Майя с изумлением разглядывала торчавшие из воды валуны: один из них в точности напоминал кита, высунувшего наружу морду, другой – крокодила; даже спина «рептилии» была зеленого цвета от покрывавших ее водорослей. А в той стене ущелья, на которую они сейчас карабкались, было что-то от громадной окаменевшей ящерицы. У Майи возникло ощущение, что время двинулось вспять и привело их в тот период истории земли, когда на месте горного Крыма высился тропический лес со всеми населявшими его доисторическими тварями. Сделав еще несколько шагов, женщина обессиленно опустилась на камень. От усталости, голода и кошмарного нового знания, полученного в этом походе, она перестала четко ощущать, что происходит и где она находится. Мезозойский лес, старуха-вампир, кровавый клок, вырванный из сердца, сын, оставшийся в лапах Глафиры… Все это слишком, все чересчур для нее одной! Она привалилась к стене ущелья, и глаза закрылись сами собой; Майю начала стремительно обволакивать сонная тишина.
– А вот и Ванна молодости, – сказал Карим. Его голос звучал как будто из другого мира.
Майя попыталась, но не сумела приоткрыть глаза.
– Я не могу, – прошептала она, не в силах противиться сну, – хватит с меня, я устала. Нет больше сил.
– Нет, так будут, – долетел откуда-то голос Карима. – Вы для того и прошли весь этот путь, чтоб у вас появились силы. Ну, давайте, Майя! – Она почувствовала, как он поднимает ее на ноги. – Всего один шаг! Неужели все зря? Вы должны стать моложе и сильнее ее – иначе вам с ней не справиться!
Этой последней мысли удалось-таки пробиться в ее голову, и Майя рывком поднялась. Однако веки разлепить не удавалось никак; женщина со вздохом привалилась к Кариму и продолжала погружаться в сон, уткнувшись в его плечо. А из глубин сна уже всплывало лицо Глафиры. Юная старуха победоносно улыбалась, и рука ее лежала на плече стоящего рядом Никиты.
Именно в этот момент Майя и потеряла опору под ногами. И практически в ту же секунду ее обожгло ледяной водой – женщина с головой погрузилась в Ванну молодости.
XIV
– Нет, вы меня туда просто столкнули, – тихо, почти без сил возмущалась Майя часом позже. В машине было тепло, и Карим отпаивал женщину коньяком, кроме того, она натянула на себя все теплые вещи, что нашлись в обоих рюкзаках, однако холод не проходил.
– Ну хорошо, столкнул. Но сам-то я прыгнул вместе с вами.
– А вы-то зачем? Хотите совсем мальчиком казаться?
– Нет, я – за компанию. Чтобы вам не обидно было мерзнуть одной.
Майя почувствовала, что наконец-то начала отогреваться, и сменила тон на более благосклонный:
– Карим, а уже заметно?.. Ну что, я теперь другая? Присмотритесь, пожалуйста!
– Пока еще рано присматриваться, – уклонился Карим. – Не думайте, что это действует мгновенно.
– А когда должно подействовать?
– Ну… через несколько часов. А скорее всего – к утру.
Майя успокоенно откинулась на сиденье. Значит, завтра с утра она будет счастливо любоваться в зеркале своим новым лицом. Пять лет – долой! А может, и все десять, кто ее знает, эту Ванну? Нет, лучше – двенадцать! Двадцатитрехлетняя, еще не знавшая ни беременности, ни родов, без растяжек на бедрах и дряблой кожи на животе; с глазами, радостно открытыми миру, и незашибленной душой… Еще способная призывно улыбаться мужчинам и без внутренней дрожи смотреть на старух; с длинными, живыми, не испорченными в парикмахерских волосами; бегущая по свету в обнимку с целой чередой радужных надежд… Майя счастливо засмеялась, и Карим, выруливавший на дорогу, удивленно скосил на нее глаза – это был первый естественный смех, услышанный им от этой женщины за три проведенных вместе дня.
Майе становилось все теплее и теплее, и она по очереди расставалась со всеми предметами одежды, в которые только что отчаянно куталась: со штормовкой, флисовой кофтой, водолазкой. Надежда не только окрыляла ее, но и согревала и ласкала душу, преображая всю скопившуюся там горечь в умиление нашим несовершенным, но полным нежданных чудес миром. На обочине дороги в свете фар вдруг возникла припавшая к земле лиса, чуть дальше в гору – из-под самых колес метнулся заяц; еще выше – лежавшая на дороге палка оказалась судорожно извивавшейся змеей, пытавшейся уползти в безопасное место. Карим едва успевал притормаживать, пропуская то одного, то другого обитателя леса, а Майя всякий раз заинтересованно подавалась вперед, разглядывая потревоженных ими существ. Она не задавала даже вопросов, куда и зачем они едут, полностью полагаясь на то, что Карим спланирует ее будущее мудрее и правильнее, чем она сама. Бесконечный серпантин дороги вскоре заставил ее откинуться и прикрыть глаза; она задремала, а потом сквозь сон почувствовала, что Карим откидывает ее сиденье так, чтобы оно превратилось в ложе, и накрывает ее расстегнутым спальным мешком. И в тот же момент женщину окончательно окутал сон.
* * *
Майя проснулась от того, что стало жарко. Судя по высоте солнца, было никак не меньше десяти, а то и одиннадцати утра, и машина уже начала прогреваться, а тут еще и спальный мешок… Она поспешила выбраться наружу.
Карима нигде не было видно, но машина стояла прямо возле крохотного бревенчатого домика, где ее проводник, видимо, и провел ночь. Рядом возвышались какие-то загадочные железные конструкции, напоминавшие череду уходящих в гору футбольных ворот. А поодаль, на холме, потрясали взгляд и вовсе фантастические сооружения: это было скопление белых полусфер, точно на этом месте на землю опустилась флотилия летающих тарелок.
– Метеорологами любуетесь?
Из домика с приветливой улыбкой выходил Карим, и Майя улыбнулась ему в ответ.
– Спасибо, что объяснили, а то я уже перестала понимать, где нахожусь.
– Как где? На Ай-Петри. Я разве не говорил, что у меня здесь дом?
– Дом? – Майя окинула взглядом крошечное сооружение и рассмеялась. – И как же вы там помещаетесь? Стоя или на корточках?
– А вы зайдите посмотреть.
Майя с любопытством заглянула в домик. Один над другим по диагонали там располагались дощатые настилы, а снизу находилась печка-«буржуйка». При такой максимальной экономии пространства в домике могли одновременно ночевать два человека.
– Что же вы пороскошнее не отстроились? – смеялась Майя. – Вон у вас тут какой простор!
Она обвела рукой окружавшие их поляны и перелески. Здесь, на плоскогорье одной из самых высоких в Крыму гор, было прохладнее, чем внизу, и Майя с удивлением узнавала растительность средней полосы. Сосны, березы, еще не отцветшие одуванчики… Однако по сравнению с российскими пейзажами все было приземистым и мелким, точно прибитым постоянно дующими здесь ветрами.
– А зачем мне роскошнее? – пожал плечами Карим. – Мне и так хорошо.
– А почему вы живете именно здесь? – продолжала интересоваться Майя. – Почему не на побережье?
– Вообще-то здесь я живу только зимой, – ответил Карим, – обслуживаю вот этот бугельный подъемник. – Он указал на заинтриговавшие Майю «футбольные ворота». – Да, у нас тут тоже горные лыжи, не удивляйтесь! Знаете, как здесь метет в феврале? Вон те березы заметает по самую верхушку.
– Интересный у вас образ жизни! – с искренним удивлением констатировала Майя. – Постоянного дома, получается, что и нет.
– Вот он, мой дом, – весело сказал Карим, указывая на машину. – Чем плохо?
– Ничем, – признала Майя. – Наоборот, позавидовать можно! Знаете, я даже не думала, что человек может быть таким свободным, как вы, не привязанным ни к месту, ни к работе.
– Ну, не надо идеализировать! В ноябре и марте у меня мертвый сезон; проедаю то, что заработал за лето и зиму. Накоплений, как вы понимаете, никаких, разве что на лыжах раз в год позволяю себе покататься по-настоящему. В Приэльбрусье или на Балканах. А еще я от клиентов завишу очень сильно; они, правда, не переводятся, но все равно…
– Да, это образ жизни для молодого человека, – кивнула Майя, вновь забывая, сколько Кариму лет.
И вдруг ее словно тряханул электрический разряд. Молодость! Залюбовавшись красотой вокруг и впервые за долгое время почувствовав радость за другого человека, она забыла о себе. Забыла о том, зачем с такими мучениями преодолевала вчера Каньон. Она должна наконец-то воочию лицезреть свою награду.
– Зеркало! – воскликнула Майя, не давая себе труда объяснить Кариму, в чем дело. – У вас в домике есть зеркало?
Тот отрицательно покачал головой, и Майя заметалась в поисках зеркальной поверхности. Сперва она попробовала посмотреться в зеркало заднего вида машины, но то давало слишком уж искаженные пропорции. Следующим, к чему она бросилась, стало зеркальце под лобовым стеклом, но в машине было слишком темно, чтобы адекватно себя оценить. Майя закусила указательный палец, как это делала в минуты наивысшего волнения, но тут вспомнила, что взяла с собой в поход складную щетку для волос. На оборотной ее стороне было узкое зеркальце, и Майя бросилась к рюкзаку.
Раскрыв щетку, она жадно вгляделась в свое отражение. Немного отстранила зеркало от лица, чтобы захватить большую поверхность. Снова приблизила, чтобы рассмотреть детали. И, наконец, опустила, чувствуя при этом, как синхронно опускаются уголки ее губ, как становятся тяжелыми веки, да и вся кожа на лице вдруг начинает безжизненно стремиться вниз.
– Вы меня обманули, – безликим голосом сообщила она Кариму. – Эта ваша Ванна и ваш Каньон – байки для туристов! Я как была, так и осталась тридцатипятилетней старухой.
XV
Карим присмотрелся к женщине повнимательней, как если бы увидел ее впервые за это утро.
– А мне кажется, перемены есть, – пробормотал он.
– Бросьте! – Майя махнула рукой. – Нечего мне зубы заговаривать! Это вчера я вас как дура слушала, а сегодня…
– Сегодня будете умной и слушать меня не станете?
Майя хмуро молчала: именно это она и имела в виду.
– Майя, вы верите, что мне сорок лет? – спросил Карим.
Майя опустила глаза.
– А что моей бабушке – девяносто?
Майя мрачно хмыкнула:
– Это у вас, видимо, наследственное – молодо выглядеть.
– Ванна молодости обязательно должна была сделать свое дело, – проигнорировал ее насмешку Карим, – проблема, видимо, в том, что вы все-таки не до конца верите в себя.
– Ну да, теперь, конечно, найдется, на что списать неудачу!
– Вы можете относиться к моим словам как угодно, но я считаю, что люди всегда получают именно то, во что верят, хотят они этого или нет. Если вы даже искренне хотите помолодеть, но в глубине души сомневаетесь, то можно и не пытаться.
– А я и не буду больше пытаться, – ответила Майя, стараясь выговаривать слова ровным голосом. – Хватит с меня всех этих чудес! Фокус не удался, факир был пьян, – добавила она, все же не удержавшись от истерического смеха.
Теперь молчал Карим, невидящим взглядом глядя куда-то поверх зубцов Ай-Петри. Майя хмуро наблюдала за выражением его лица. Раскаивается? Переживает? Или придумывает, чем бы ее отвлечь и развлечь?
– Хотите есть? – спросил Карим, поворачиваясь к ней. – А то мы с вами не ели уже сутки.
При мысли о еде Майю тут же скрутил голод.
– Хочу! – с неожиданной яростью сказала она. – И за ваш счет, между прочим! И прошу отвезти меня в самое хорошее кафе, чтобы шашлык можно было разжевать и состоял он не из одного жира!
Карим с удивленной улыбкой приподнял брови:
– Можете мне не верить, но вы уже начали молодеть, – констатировал он, направляясь к машине.
Столик в кафе, за которым они разместились, был опоясан низеньким диваном в татарском стиле. Среди подушек с замысловатым узором мертвым сном спала разомлевшая на солнце кошка. Прямо над ней возвышался кальян, и казалось, что рыжая бестия попросту накурилась ароматного зелья и теперь не будет реагировать ни на какие внешние раздражители. Впрочем, солнце разлагающе действовало на всех животных вокруг: под машинами, припаркованными у кафе, развалились собаки, а чуть поодаль вяло лежало в пыли несколько лошадей, которым не находилось тени нигде на этом полностью открытом солнцу плоскогорье.
Обильный завтрак и душистый, настоянный на травах чай несколько примирили Майю с судьбой и помогли выстроить внутреннюю защиту от в очередной раз рухнувших ожиданий. Что ж, видимо, ей не дано помолодеть. Старухе дано, Кариму дано, а ей самой… Но надо смириться и во всем видеть только хорошее: не спустись она с Каримом в Каньон, не узнала бы всей правды о старухе, не узнай она всей правды, не имела бы столь четкого, как сейчас, плана действий по возвращении в Москву. Возможно, Карим в чем-то и прав: она уже хотя бы частично ощущает в себе свойственные молодости силы. Силы для борьбы.
– Майя, а о чем вы мечтали в детстве? – неожиданно спросил Карим.
– Не вставать по утрам в школу.
– Нет, серьезно?
– А если серьезно, то не хочу об этом вспоминать.
– Почему?
– Потому что мечтать уже поздно.
– Может быть, самое время сделать то, о чем мечтали?
Майя почувствовала в его интонации какой-то скрытый смысл.
– С чего это вас вдруг интересуют мои мечты? – напрямик спросила она.
У Карима было просительное выражение лица, и она смягчилась.
– Я дал слово вас омолодить и должен его сдержать.
– Даже если это невозможно?
– Кто сказал, что невозможно? С одного раза у нас не получилось, это верно – но, значит, надо пробовать еще и еще.
– Предлагаю не мучиться больше в Каньоне, а ехать сразу к пластическому хирургу!
Карим предпочел не обращать внимания на ее насмешку.
– Я тут думал о том, что может вернуть человеку молодость, – начал он, – и нашел три таких вещи. Первая – это любовь.
– А вторая? – с устыдившей ее саму поспешностью перебила Майя.
– Вторая – это борьба.
«Нас водила молодость в сабельный поход», – всплыли в памяти строки из пионерского детства.
– На борьбу-то я и делал ставку, когда вел вас по Каньону, но, как видите, этого оказалось мало.
– Что же третье? – невольно подалась вперед Майя.
– Третье – это мечта, – сказал Карим.
– Мечта… – непроизвольно повторила женщина.
– Да, она самая. Когда человек встречается со своей мечтой, он непременно молодеет. Вот это-то мы и должны сейчас попробовать.
– Скажите, – насмешливо сузила глаза Майя, – вы всегда такой философ?
– Образ жизни располагает, – невозмутимо ответил Карим.
Оба смотрели друг на друга пристальнее, чем следовало бы.
– И что вам далась моя молодость?
– Я же сказал, что должен выполнить обещание.
– Может быть, лучше оставить меня в покое?
– Не оставлю.
Майя откинулась на подушки, сдавая свои позиции. У Карима было спокойное лицо, но женщина ясно ощущала внутреннюю непреклонность этого человека. Впервые она начала по-настоящему верить в то, что, взявшись за ее омоложение, Карим добьется своего.
– Так что у вас была за мечта?
Вместо ответа Майя взглянула на импровизированный вольер напротив их кафе. Там две лошади, соловая и темно-гнедая, положили головы друг другу на холки, словно сплетая в этом любовном движении свет и тьму. С печальной полуулыбкой Майя повернулась к Кариму.
– Я мечтала стать жокеем, – ответила она.
XVI
…Сперва я никак не могла понять, откуда в манеже столько воробьев. Потом догадалась: они выклевывают остатки овса из конского навоза. Запах навоза, запах слежавшихся опилок… Я знаю людей, которые находят эти запахи тошнотворными, но для меня это были запахи мечты. Увы, несбывшейся мечты.
– Группа, повод! Учебной рысью марш! Галопом марш!
Боже, чего он только не проделывал со мной поначалу! Лошадь очень тонко чувствует, уверен всадник в своих силах или нет, и, если нет, непременно задаст жару человеку, усевшемуся в седло. Наш манеж был перегорожен на три части высокой сеткой, чтобы в нем могли заниматься три группы одновременно, и Горизонт, мой первый конь, имел обыкновение в разгар занятий устремляться прямо на половину другой группы; сетка не была закреплена и легко поддавалась его напору. Я, двенадцатилетняя мелюзга, пыталась одновременно сдержать треклятое животное и выпутаться из сетки; не получалось у меня, естественно, ни то ни другое. Трибуны, поднимавшиеся вдоль манежа, громко хихикали, а тренер, подавляя смех, отдавал команду добровольным помощникам вернуть беглеца. Горизонта возвращали в строй, а я мечтала стать невидимкой от стыда.
А седловка! Горизонт обожал стоять в деннике крупом ко входу, и я, пришедшая к нему с уздечкой и седлом, терялась, не зная, как поступить. Нас многократно и строго предупреждали, что подходить к лошади сзади опасно, но подойти к моему скакуну с какой-либо другой части тела не представлялось возможным. К тому же стоило мне приоткрыть дверь денника, как Горизонт начинал угрожающе приподнимать заднюю ногу с явным намерением лягнуть незваную гостью. От этих мучений меня могли избавить только конюхи, уверенно входившие в денник и разворачивавшие лошадь в требуемом ракурсе. Однако едва я приближалась к морде коня с уздечкой, как начинался второй виток мучений. Горизонт вскидывал голову и стискивал зубы, не давая мне вставить трензель ему в рот. Я пыталась перехитрить животное, преподнося ему трензель на ладони вместе с кусочком сахара, но Горизонт ловко прихватывал зубами белый кубик и вскидывал голову, по-прежнему не давая себя взнуздать.
Едва мне удавалось справиться с уздечкой, как начинался черед подпруг. У меня никогда не хватало сил затянуть их как следует, и едва я ставила ногу в стремя, собираясь оказаться у лошади на спине, как оказывалась вместе с седлом у него под животом. Ведь хитрый мерин во время седловки еще и надувал свое пузо, чтобы не дать подпругам хоть сколько-нибудь себя стеснить.
Наконец я в седле, полумертвая от волнений и свекольно-красная от усилий. Минут десять цепочка лошадей, разминаясь, идет шагом, и Горизонт обманчиво спокоен. Но через десять минут начнется рысь, а затем мы пустим коней вскачь, и вот тогда… О, тогда меня ждут путешествия через сетку, отказ подняться в галоп после слабого посыла моих шенкелей, вылет в центр круга, образуемого нашей группой, несколько удалых толчков крупом – и я обнаруживаю себя на опилках манежа в непосредственной близости от недавно наваленной кучки навоза. Из последних сил сдерживая слезы, я вскакиваю и бросаюсь ловить Горизонта, победоносно рысящего по манежу. Он дает ухватить себя за уздечку и удержать на месте, но при моей попытке сесть в седло снова двигается вперед, и я, уже поставив одну ногу в стремя, никак не могу оттолкнуться второй, чтобы перекинуть ее по другую сторону лошади. Пару раз я беспомощно подпрыгиваю на одной ноге, а затем, изловчившись, повисаю у Горизонта на боку, вцепившись в обе луки седла. Еще чуть-чуть – и мои усилия будут вознаграждены…
– Группа, шагом!
Это знак того, что занятия закончены. Пытаться сесть в седло уже не имеет смысла – еще минут пять, и наших лошадей передадут другим всадникам. Так и не взгромоздившись на Горизонта, я сползаю на опилки и, не поднимая глаз, вожу его в поводу, пока новый наездник не приходит мне на смену. Вот эта девушка по имени Рита уже на манеже. От одного ее облика веет уверенностью в себе и умением подчинить себе лошадь. Приветливо, но властно потрепав Горизонта по шее, Рита легко взлетает в седло, и конь как шелковый подчиняется едва заметным посылам ее шенкелей. А мне предстоит глотать слезы в темноте конюшни и в раздевалке пить воду из-под крана, под которым после езды моют конские удила. Мой Горизонт и на сей раз остался непокоренным.
Однако, каждый раз с замиранием сердца приближаясь к Школе верховой езды при Центральном московском ипподроме, я твердо знаю, что по большому счету мне повезло. Ведь я попала в группу! Тогда, в восьмидесятые годы, мест, где учили верховой езде, было наперечет, а девчонок, помешанных на лошадях, гораздо больше, чем самих лошадей, и Школа при всем желании не могла предоставить место в седле всем желающим. Счастливчикам удавалось прибиться к группе, а несчастливчикам – часами ждать от сеанса до сеанса, пока в какой-нибудь группе не образуется свободное место; тогда и им перепадал шанс почувствовать себя всадниками. Так попала в группу и я. Приметила, у какого тренера какой сеанс частенько пропускает одна из учениц, и постоянно отиралась рядом. Меня стали брать на свободное место, и мало-помалу ученица-халявщица выбыла вообще, а мои птичьи права сменились гражданскими – я стала полноправным членом группы.
Мне повезло, что и говорить! К тому же вдвойне: ведь родители выдавали мне на лошадей по целому рублю, да еще два раза в неделю: конный спорт и в советские времена был удовольствием недешевым! А скольким девчонкам приходилось вечно стрелять по двадцать копеек там и тут или фотографировать лошадей и продавать более состоятельным всадницам портреты их любимцев. (Портрет Горизонта лежал под оргстеклом на моем письменном столе и значил для меня на порядок больше, чем все школьные предметы и все мероприятия, вместе взятые.) Мне повезло, надо лишь чуть-чуть набраться опыта… стиснуть зубы… приноровиться…
Детям несвойственно рефлексировать; тогда, в двенадцать лет, я не смогла бы внятно объяснить, что так безумно влечет меня к лошадям через все тернии конюшни и манежа. Теперь могу. Ни один другой спорт, кроме верховой езды, не дает такой всеобъемлющей, яркой радости, как чувство полета, отрыва от земли в слиянии с другим живым существом. Ни один не приносит подобного упоения своей внутренней силой: что твои бицепсы и шенкели по сравнению с мощью твоего скакуна, а вот поди ж ты, слушается и летит! И уж точно верховая езда не знает себе равных по части восторга и пытки преодоления: ты преодолеваешь не только себя самого, не только своих соперников, но и поставленную самой природой границу между человеком и лошадью. А награда все та же: полет, полет, полет! Полет вдвоем. Не это ли, кстати, принято называть любовью?
Я любила Горизонта, и только сейчас понимаю, насколько сильно. Я терлась щекой о его морду и обнимала за шею, кормя морковкой. Для меня было счастьем почистить его серую шкуру щеткой и накрыть попоной. У меня колыхалось сердце, когда я накладывала сено в его кормушку. Чего же боле? И только сейчас я осознаю, почему именно конный спорт, который, как ни один другой, требует от человека исконно мужских качеств – смелости, веры в себя, стремления покорять, – на девяносто процентов состоит из девушек. Для всех нас это был опыт первой любви. Прекрасной, чистой, без предательства и слез в подушку. Едва твой конь начинал тебя уважать, вы становились парой, верной и слаженной. И – Боже! – какой красивой парой!
Надо было видеть меня в школе, невзрачную, с опущенным взглядом среди цветущих одноклассниц, чтобы оценить, насколько преображалась я в манеже. Теперь едва я выходила из конюшни, чтобы сменить в седле предыдущую всадницу, как Горизонт сам вырывался из строя мне навстречу. Я оглаживала его, с наслаждением втягивая конский запах, легко бросала себя в седло… Мне было уже четырнадцать, и, разбирая поводья верхом на коне, я считала себя всемогущей. Теперь он легко поднимался в галоп от малейшего прикосновения моих шенкелей; чтобы сделать красивый вольт, мне достаточно было лишь слегка набрать повод. Я легко обхватывала ногами его стройные бока и умело резонировала телом в такт его скачкам. Теперь меня часто ставили головной в цепочке лошадей, и на галопе я, бывало, задыхалась от восторга.
Однажды после занятий тренер между делом вручила мне какие-то бумаги и велела дома их заполнить. Когда я разобралась, что это были за документы, мне показалось, что Бог на руках поднял меня в небо. Анкета для собирающихся сдавать норматив третьего юношеского спортивного разряда. Это означало, что меня переводят в спортивную группу.
Если и был в моей жизни миг абсолютного, яркого, безукоризненно чистого счастья, то он сверкнул именно в тот день. Весь вечер я ходила по квартире из конца в конец, прижимая к себе бумаги, беспричинно смеясь и изумляя родителей. Спортивная группа! Большой спорт! Жизнь в слиянии с лошадьми! Я видела себя на соревнованиях по троеборью, забрызганную грязью, стиснувшую зубы и яростно рвущуюся к победе через полосу препятствий. Видела стремительно летящие навстречу травы и серую шею Горизонта, мчащего меня за горизонт. Видела, как, сидя на нем без седла, в одном купальнике, я, откинувшись, спускаюсь к реке и въезжаю в теплую воду. За этот единственный в жизни вечер я прожила с десяток жизней, проскакала десятки километров в лесах и полях, искупала своего Горизонта в морях и реках и уснула в степи, примостившись рядом с теплым конским боком.
Прозрение пришло не сразу. Передав тренеру заполненную анкету, я отдалась счастливому ожиданию, не задумываясь о том, сколько оно должно продлиться. А через месяц вдруг увидела спортивную группу занимающейся на соседней половинке манежа. Группа сплошь состояла из мальчиков; тех единственных экземпляров, что с трудом отыскались во всей Школе верховой езды. Видимо, считалось, что девочек в будущем обременит семья и материнство, а посему они не будут столь ревностно отдаваться спорту… Но это я понимаю сейчас; тогда мой вывод был совсем иным: меня не сочли достойной. Значит, я недостойна той жизни, о которой мечтала. Ну что ж… ну что ж…
Как бы ни была убита я сама, убить во мне любовь к лошадям не удалось даже таким манером. Еще несколько лет занималась я в Школе верховой езды, и лишь когда успехи спортивной группы, тренирующейся по соседству, стали слишком очевидны, я не выдержала. Мой уход от лошадей совпал с окончанием школы, и боль от прощания с Горизонтом была слегка заглушена горячкой подготовки к экзаменам. Но лишь слегка.
Впрочем, я сделала еще одну попытку. Пошла на день открытых дверей в Тимирязевскую академию, естественно, на факультет коневодства. Но основной задачей выступавшего перед абитуриентками мужчины было убедить их в том, что рафинированные горожанки академии не нужны. Вот по направлению из колхозов – пожалуйста! А для таких, как вы, влюбленные в лошадей девочки, оставим, так и быть, пять процентов мест. Но все равно – не надейтесь!
После этого я сдалась. Моя настоящая жизнь уже не могла состояться, и я зажила какой-то другой. Где за мной неожиданно быстро явилась старость.
XVII
– Так вы больше ни разу не ездили верхом? – спросил Карим.
Майя отрицательно покачала головой.
– А почему? Ведь верховая езда сейчас так доступна.
– Почему? – печально повторила Майя. – Не хочу вспоминать, вот почему! Не хочу себе напоминать, что мечта не сбылась. Ведь я мечтала жить так же, как и вы, на воле, в скачке, в полете. Чтобы душа все время летала, вы понимаете? Хотелось свободы, радости, покоя… Знаете, я ведь выросла в городе, но город терпеть не могу! Мне кажется, что все эти высотные коробки, весь этот блеск вперемешку с выхлопными газами, вся общественная установка на то, что «рвись вперед или проиграешь» – это не для людей. Люди не могут выдержать такой нечеловеческий темп – они или ломаются, теряют к жизни интерес, или становятся офисными роботами. Но при этом считают, что все у них удалось: чем бешенее спрессовано время, чем больше отдача – тем они ценнее в собственных глазах. Вы можете считать меня неудачницей, думать, что я просто не вписалась в свою эпоху, но для меня настоящее мучение так существовать. Для меня человеческая жизнь – это делать то, что радостно, а отдыхать – лежа в поле и глядя в небо. А еще я хочу – наверное, это уж совсем невероятно о таком мечтать! – чтобы я видела сына не только поздно вечером и по выходным, но весь день напролет. Чтобы он жил одной со мной жизнью – такой же вот простой и славной. Я понимаю, конечно, школа… Но, с другой стороны, думаю: а зачем она нужна? Ведь человечество тысячи лет обходилось без того, чтобы столько часов в день убивать за партой. А чего ради? Неужели кто-то станет счастливее, если выучит закон Бойля – Мариотта? Я скажу вам, зачем нужны школы – чтобы готовить новых офисных роботов. Ведь школа отучает думать о том, что жизнь можно устроить и по-другому – не таращась целый день в компьютер.
Она смолкла и опустила глаза. Выплеснув все то, что теснилось на сердце, она почувствовала себя невероятно беззащитной перед Каримом. Она как будто положила свою душу ему в руки и вот теперь с трепетом ожидала, как он поступит с этой добычей. Глафира не замедлила бы ее растерзать и доказать Майе, что та не более чем жалкие ошметки человека. А что сделает ее внук?
Она почувствовала, как Карим берет ее руку в свои. Теперь Майя еще больше боялась поднять на него взгляд и все взволнованней ощущала, как он притягивает ее к себе. Она вслепую ткнулась лицом в его грудь, в ту ее часть чуть ниже подключичной ямки, где Глафира имела обыкновение носить кулон. «А что же дальше?» – с безвольным ужасом подумала она.
– Теперь я знаю, что нам делать, – сказал Карим.
– Что? – прошептала Майя.
– Ты должна вернуться к лошадям.
– Куда же? В прошлое?
Карим раздумывал над ответом, но тут у Майи в голове неожиданно вспыхнули слова: «Эту местность издревле называли “Край прекрасных лошадей”».
– Каппадокия! – изумляясь собственной догадке, произнесла она.
– Каппадокия? Где это?
– В Турции.
– А почему именно туда?
– Потому что «Каппадокия» означает «Край прекрасных лошадей». По-персидски.
Последовало молчание, во время которого Майя пыталась оценить, сошла ли она с ума или вышла на новую, полную риска, но полную и непередаваемой прелести дорогу.
– Значит, едем в Каппадокию, – произнес Карим, наклоняясь губами к ее голове так, что она почувствовала на макушке его теплое дыхание. – Из Севастополя в Стамбул ходит паром. Загранпаспорт у тебя есть. Визу ставят по приезде. Видишь, как все просто! Если только захотеть…
XVIII
– Скажи, а я похож на свою бабушку? – спросил Карим поздним вечером два дня спустя, когда они стояли на палубе парома, облокотившись на релинги.
Майя покачала головой:
– Внешне – нет, по характеру – тем более. Для нее главное – уничтожить человека, ты, наоборот, даешь силы жить. Хотя с молодостью, – Майя лукаво улыбнулась, – у тебя и вышла осечка.
– Должны же у меня быть какие-то недостатки!
Оба рассмеялись.
– Я все время думаю, – продолжала Майя, – сейчас, когда ты рассказал мне о том, что она сделала в прошлом, я никак не могу понять: за что она так к нам, ко всем? Ко всем своим близким людям? Что мы ей сделали?
– Дело не в том, что вы ей что-то сделали, – откликнулся Карим, – а в том, что вы к ней были ближе всех. Именно от вас она и могла набраться сил. А с людьми, с которыми близко не сошелся, такого не проделаешь. Их сначала нужно очаровать, подпустить к себе на близкое расстояние, а уж потом… выпотрошить всю душу.
– Откуда ты все это знаешь? – поразилась Майя тому, насколько точно была описана тактика Глафиры. – С тобою такое тоже было?
Карим промолчал. Майя поняла, что он не хочет откровенничать о своем прошлом.
– Но зачем нас потрошить?
– Затем, что таким людям, как она, для жизни нужно очень много сил. А где их взять? В других людях. В их чувствах, точнее. Будешь по-хорошему к ним относиться – получишь любовь, а с точки зрения энергии это совсем немного. Вот когда то любовь, то ненависть – это настоящая батарея с двумя полюсами.
Майя передернула плечами:
– Никак не могу свыкнуться с тем, что весь этот ужас – наяву.
– Для тебя уже нет. Ведь ты к ней больше не подойдешь на опасное расстояние.
– И останусь одна, – неожиданно для себя проговорила Майя.
– Почему? – удивился Карим.
Майя смотрела в непроницаемую черноту моря.
– У меня и так-то было не слишком много знакомых. Когда родился Никита, все силы стали уходить на него, а последние три года я все вкладывала в Глафиру. Даже с подругами созваниваться перестала. Так что будешь смеяться, но никого у меня сейчас нет, кроме нее.
– А сын?
– Сын… – У Майи дрогнули губы. – Для него теперь Глафира вместо матери.
– И что, ты так и собираешься оставить его ей? Чтобы он стал следующим?
– Следующим после кого?
– После моего деда и дяди.
Майя замерла: отвлекшись мыслями о Каппадокии, она и забыла, к чему приводит любовь к Глафире. Мать, пожирающая собственных детей… Достойная дочь своей кровавой родины, перерезавшей половину сыновей в гражданской войне, высосавшей кровь у крестьян, выгрызшей «врагов народа» и завалившей трупами дорогу Гитлеру. Да, у такой страны не могло быть никакого другого знамени, кроме вампирски-красного!
– Я не отдам его ей, – твердо сказала она. – Я вообще не должна была оставлять его в Москве. Он бы так сейчас радовался поездке в Каппадокию! Верил бы, что найдет здесь свои сокровища…
– Какие сокровища? – заинтересовался Карим.
– Ах да, ты не знаешь! У него хобби такое… – И Майя вкратце рассказала о кладоискательском увлечении Никиты и об их каппадокийских приключениях.
– Ты его недооцениваешь, – подвел итог Карим, выслушав ее рассказ. – А если там действительно было что-то спрятано?
– Но что я должна была сделать? Задержать группу?
– Вернуться туда на следующий день, как он и предлагал.
– Но неужели ты действительно веришь…
– Я – да, а вот ты почему-то упорно отказываешься верить в чудеса, хотя они за тобой просто ходят по пятам. Знаешь, в чем твой сын молодец? В том, что, живя с тобой, он до сих пор верит в то, что найдет свой клад.
Майя была задета:
– По-твоему, жизнь со мной – для людей, лишенных воображения?
– Ты еще помолодеешь, – пообещал ей Карим, – помолодеешь и будешь верить в то, во что взрослым дядям и тетям верить не положено. Да ты уже начала молодеть, разве не чувствуешь? Ведь если бы ты не прошла Каньон, ты бы и думать сейчас не стала ни о какой Каппадокии!
Майя молчала. Она не знала, молодеет ли она, но, по ее собственным ощущениям, глупела она стремительно.
В каюте было хорошо освещено настенное зеркало, и, перед тем как лечь в постель, Майя вгляделась в свои черты. Сколько она себя сознавала как личность, столько ей было больно сталкиваться с собой лицом к лицу. Отражение в зеркале неизменно являлось свидетельством ее несовершенства, причем несовершенства, которое Майя при всем желании бессильна была исправить. В отроческом возрасте ей жестоко пригнули голову гормональные бури – засоренные поры воспалялись, передавая друг другу эстафету, словно бегущие друг за другом красные огни на гирлянде. Впоследствии она прочла, что безумие пластических операций Майкла Джексона началось именно с того, что подростком он мучился от буйства собственной кожи. Абсурд? Но как прекрасно Майя его понимала! Ведь лишь к институтскому возрасту она впервые отважилась поднять глаза на сверстников, и то подняла их так, чтобы ни в коем случае не выдать в себе юную женщину. Она не привыкла ею быть и стеснялась играть подобную роль в своей учебной группе.
Единственным спасением было то, что в их техническом вузе обделенные женским обществом однокурсники все же уделяли Майе крохи внимания. Но тут Майя, привыкшая бороться со своим лицом, присмотрелась к фигуре, и результатом от увиденного стала черная тоска. Долгие годы усердно учась, она волей-неволей придала своему телу форму максимально удобную для сидения за письменным столом. А именно: выступающий дряблый животик, плосковатые ягодицы, тонковатые икры. Майя в ужасе бросилась стройнеть и одновременно наращивать мышцы; и на какое-то время единственным для нее мужчиной стал тренер на занятиях по шейпингу (тогда, в середине девяностых, еще не слышали слова «фитнес»). Должно быть, тренер заметил собачью подобострастность в глазах не слишком привлекательной ученицы, потому что решил смилостивиться над ней. В результате именно от него Майя родила сына. И вновь на долгое время забыла о мужчинах как о людях, способных войти в ее жизнь.
Первые годы после рождения ребенка были единственным промежутком в жизни женщины, когда ей временно стало не до внешности – уцелеть бы под грузом забот! Но к тому моменту, как Никита пошел в сад, его мать вновь с пристрастием разглядывала себя в зеркале и вновь чуть не рыдала. Правда, нехватка времени на еду помогла ей достичь того, с чем не справился шейпинг, – похудания, но… но собравшаяся в мелкую складку кожа на животе… но испещренные пломбами зубы… Чуть позже Майю стали сводить с ума волосы: они сильно поредели после беременности и, выходя на работу, женщина решилась на химию. В итоге зрительно объем увеличился, объективно при этом уменьшившись, а регулярные окраски придали ее волосам их теперешнюю безжизненную сухость. Едва Майя успела свыкнуться с новым фокусом проблем, как стали наступать приметы возраста: расширенные поры на крыльях носа, стянутая кожа щек… словом, в какой бы момент жизни женщина ни взирала на саму себя, делала она это с глубоким прискорбием.
Но сегодня при взгляде в зеркало Майя удивленно нахмурилась. Глаза! И откуда они взялись на ее лице? Она никогда не замечала их раньше. Но возможно, во взгляде долго и глубоко страдавшего (а можно ли не страдать от общения с Глафирой?) человека и впрямь есть нечто, что не дает отвести взгляд? А еще – брови! Прежде Майя и не замечала, что они столь картинно, трагически надломлены. Кроме того, ей показалось, но, возможно, лишь показалось, что оставшиеся с юности дефекты кожи не просто скрыты под свежим загаром, но перестали существовать вообще. Майя глядела на саму себя с таким неподдельным изумлением, что вышедший из ванной комнаты Карим тоже удивленно присмотрелся к ее отражению.
– Есть перемены? – вкрадчиво осведомился он.
Майя покачала головой – она боялась на словах признать то, что видела воочию. Слово сильнее мысли. Слово заставит ее саму поверить, что купание в Ванне молодости не прошло бесследно. А там недалеко до того, чтобы всерьез отдаться мыслям о чуде.
* * *
Безмятежно заснуть ночью женщине не удалось по множеству причин. Во-первых, какая уж тут безмятежность, когда чувствуешь себя медленно, но верно лишающейся рассудка! Юная старуха пытается ее уничтожить. Философски настроенный старухин внук пытается возродить ее к жизни. Собственный сын пытается променять ее на ту, что кажется ему воплощением бодрости и силы. А память так и стремится вновь превратить ее в девочку, впервые ставящую ногу в стремя. Что же в итоге? Каппадокия. Майя обреченно перевернулась с боку на бок.
Теперь при желании она могла бы открыть глаза и вместо серой стены увидеть напротив спящего Карима. Но подобная перспектива вызывала у женщины внутренний трепет. А вдруг он тоже не спит? И что тогда? Одни, ночью, в этой каюте… Нет, она по-прежнему далека от мысли, что Карим может проявить себя неподобающим образом, но что ей сказать ему, если он тоже далек от сна? Уже не прикинешься просто туристкой, не сошлешься на то, что устала от жизни… Веришь ты в это или нет, но ты уже давно в его руках. Вопрос только в том, когда эти руки окончательно сомкнутся вокруг тебя, освобождая от цепких объятий старухи.
– Майя…
– Да?
– А ты уже знаешь, зачем тебе молодость?
Молчание. Вздох.
– Ну, для начала я хочу хорошо выглядеть.
– Замечательно, а дальше что?
Молчание. Раздумья.
– А разве должно быть что-то дальше?
– Конечно, иначе какой смысл!
Молчание. Наигранная бодрость.
– Ну, надо же набираться сил и что-то решать с работой! Ни она меня не радует, ни я ее…
– Ты не задумывалась о том, что можно просто влюбиться? Так иногда случается с людьми, когда они молоды.
Майя в испуге распахнула глаза. Но нет, Карим не мог вести с ней этот разговор. Его лицо сосредоточенно, как это часто бывает у людей во сне, а поза и дыхание свидетельствуют о том, что этот сон глубок. И кто же он тогда, ее ночной собеседник?
Вновь закрывая глаза, Майя вдруг ощутила, как неудержимо расплываются под веками слезы. Влюбиться! Вместе с опостылевшими приметами возраста взять да и скинуть с себя наконец жесткий корсет устоявшихся взглядов, непробиваемую кольчугу благоразумия, отодрать от сердца коросту недоверия и отчуждения. Влюбиться! Как отчаянно все-таки хочется любить! Поднять над головой все то, что составляет твою теперешнюю скорлупу обитания, какой бы верной и надежной она ни казалась, швырнуть ее под ноги кому-то одному на земле и, упав коленями на острые осколки, прижаться лицом к его ногам. Чтобы твое счастье и твое наказание за счастье слились в одно. Наказание? А как иначе! Она уже не девочка и наперед знает, что к чему. Знает и то, что рано или поздно, поднявшись с изодранных в кровь колен, будет долго и мучительно залечивать свои порезы, а потом еще годы тоскливо ждать, пока рассосутся рубцы. А затем однажды взглянет на себя в зеркало и грустно усмехнется: «Любовь, говоришь?» И обреченно двинется жить дальше.
Майя вновь перевернулась на другой бок и уткнулась лицом в стену. Ее плечи были сведены судорогой так и не прорвавшегося плача.
XIX
…Он действительно очень молодо выглядит, хотя и не отдает себе в этом отчета. Считает, что именно так и должен выглядеть человек в его возрасте. Идеалист! Неужели он никогда не замечал, что у других мужчин, его ровесников, отвисшие животы и усохшие от сидячей жизни голени? Вялые руки, не привыкшие поднимать ничего тяжелее телефонной трубки, и чуть ли не по-женски свисающая грудь? Красные от компьютера глаза и расползающийся по стулу зад? Нет, у них могут быть светлые головы и успехи на работе, но в физическом смысле это начинающие дедули. Все до одного. В том числе и те, что крутятся сейчас вокруг меня. Такой вот «контингент личного состава», как говорил, вернувшись из армии, брат. И куда же мне теперь? За ними в старость? Ведь за Каримом в молодость уже не получится…
Проворонила свое счастье? Да нет, признаться честно, не было никакого счастья. Попытка была, а результат… Но поймите меня правильно: на дворе девяностые годы, люди сколачивают кооперативы, мотаются челноками в Турцию, благо нам до нее рукой подать, поднимают нешуточные деньги, а он все ходит по своим горам. А квартира? Я же в конечном итоге на нее заработала! Он и сам это честно признавал, когда нас разводили. И ни на что не претендовал. А я ведь просила его тогда спуститься с неба на землю. Или хотя бы с гор. Но нет, не барское это дело заниматься вопросами жилплощади. Он не захотел. А я знала, что иначе не могу, что должна обеспечить. Вот и сижу теперь одна на своих квадратных метрах. А он один в своих горах. Или уже не один?
Что у него периодически возникают какие-то временные варианты, это даже не вопрос. Это ежу понятно. Но постоянный? Ну, посудите сами: какая нормальная женщина согласится жить в этой вечной молодости без ответственности и обязательств, с мужем, которого носит неизвестно где, без семейных вечеров, без того, чтобы вместе решать какие-то ежедневные проблемки? То взлет, то посадка – это только в песне хорошо, а в жизни хорошо, когда надежно и спокойно. А какой тут покой, когда на уме одно: что бы еще такое придумать, как бы извернуться, чтобы только лишний раз его дома оставить. Тут уж мне и «болеть» частенько приходилось, и бить на жалость. Иногда выходило по-моему – он оставался. Но надо было видеть, с каким лицом! Я, конечно, пыталась не упускать такие моменты – втягивала его в свой бизнес потихоньку. Сначала – по мелочи: «Видишь – я болею, может, съездишь туда-то и туда-то – отвезешь то-то и то-то?» Ездил, отвозил. Потом, чтобы он начал осваиваться, просила его вместо меня развесить товар, посидеть на моей точке денек-другой. Развешивал. Сидел. Прибыль в эти дни была нулевая, потому что вместо того, чтобы завлекать покупателей, он читал какую-то чушь о крымских пещерных городах. А если покупатель сам что-то спрашивал, отвечал: «Вы знаете, хозяйка болеет, приходите через пару дней». Ну что тут скажешь? Когда соседки по точке мне обо всем этом рассказали, я его убить была готова. А он ни капли не чувствовал себя виноватым и сказал мне еще так уверенно, спокойно: «Ты хочешь, чтобы я жил твоей жизнью, а я хочу – своей».
Я тогда, конечно, сорвалась, наговорила кучу всего: мол, твоя жизнь приносит одни копейки, а благодаря моей у нас в итоге будет квартира. Тогда он усмехнулся и говорит: «А ты спрашивала, нужна ли мне эта квартира?» Я говорю: «И спрашивать не собираюсь! Не нужна – так будет нужна. Ты ведь рано или поздно перестанешь быть мальчиком и скакать по своим горам, а вспомнишь о том, что ты женатый человек, и тут не радоваться жизни надо, а выполнять обязательства!»
Он тогда из дома ушел недели на три. А когда вернулся, то принес несколько серебряных монет. Явно древних каких-то. Я их потом одному нумизмату сбыла, так он – уж на что скупердяй! – дал такую цену, что мне на ремонт в санузле хватило. Да еще и на кухню осталось. Так вот, Карим брякнул их на стол и говорит: «Этого хватит, чтобы ты больше не отнимала у меня силы?» На полном серьезе, клянусь! Я тогда просто в трансе была. Это мне-то такое сказать, когда я пашу как проклятая ради нашего с ним будущего?! Он тогда помолчал, как будто жалел меня немного, а потом говорит: «Да нет у нас с тобой никакого будущего». И пошел собирать свои вещи.
Я пахала, он жил, как душа велела, и кто из нас в итоге оказался прав? Да никто, похоже, каждому – свое. Мне – квартиру, ему – весь остальной мир. Тут недавно соседка по точке на рынке видела его в Стамбуле. Чуть не упала, говорит, от такой встречи. А он ничего, спокойный, поздоровался, спросил, как торговля. Сказал, что собирается в Каппадокию. Светка попросила узнать, какие там цены на кожу, но он сказал, что вряд ли найдет время, потому что будет заниматься лошадьми. Тут уж я чуть не упала: что за лошади, какие лошади?! Тут своих-то девать некуда, неужели на турецких будет спрос? В общем, когда человек по натуре не бизнесмен, нечего ему в бизнес и соваться – прогорит как пить дать! Неужели Карим до сих пор о себе этого не понял? Ведь не мальчик же он, в конце концов! Впрочем, черт его знает…
У него всегда были какие-то странные, полудетские понятия о жизни. Ну, например, он верил в чудеса. Не в то, что Дед Мороз из Великого Устюга, конечно, а в то, что чудеса случаются по жизни. Нет, поймите меня правильно: я тоже в церковь хожу и знаю, что все не так просто, но всерьез верить в свою судьбу? В то, что она тебя ведет, что посылает какие-то знаки? Ну до какого возраста можно быть таким романтиком? Все мы обламываемся рано или поздно, а он… Однажды, через пару лет после развода, мы с ним случайно встретились на улице; у меня тогда дела в гору шли, я и одета была, и выглядела – супер! А Карим… ну, явно не на коне. Зашли в кафе поболтать – я даже подумала: а денег-то у него хватит расплатиться? Ну, сидим, кофе пьем, он честно рассказывает, что с клиентами напряг, да и не сезон, так что он работает на перспективу – разведывает новые маршруты. Я говорю: «Ты смотри, если захочешь делом заняться, могу тебе это устроить. Работать у себя я тебе, понятное дело, не предлагаю, но у кого-нибудь из моих партнеров – запросто». Он на меня тогда посмотрел, как будто я была не в себе, и спрашивает: «Ты что, хочешь меня убедить, что я занимаюсь чем-то не тем?» Я говорю: «Да ты посмотри правде в глаза: кто из нас двоих добился успеха? Значит, я имею право давать тебе советы». Он, конечно, напрягся, но отвечает спокойно: «Ты живи своей жизнью, ладно? А я знаю, что должен делать, что буду делать и что у меня получится». Я разозлилась и говорю: «Ага, сейчас! Кому он нужен теперь, наш Крым, когда заграница открыта? А если и нужен, то пляжи, а не мотаться твоими маршрутами. Сейчас еще люди едут по старой памяти, а скоро у тебя вообще клиентов не останется». И тогда он сказал такую странную фразу: «Я верю, что у меня все будет так, как я хочу. А если верю, то так оно и будет. И клиенты найдутся, и маршруты им понадобятся, и проводники. А сейчас судьба специально дает мне время как следует к этому подготовиться».
Ну что тут скажешь? Спятил? Спятил! Эх, будь у меня сейчас возможность вернуться и спятить вместе с ним! Ведь в итоге-то именно так все и вышло: он подготовил почву, а люди, наездившись по забугорью, начали возвращаться в Крым. А поскольку Карима каждая собака знала – от смотрителя маяка на Казантипе до ребят с биостанции, где в советское время выращивали дельфинов-подрывников, – он мог предложить какие угодно экскурсии, даже самые экзотические. И пошло, и пошло… Благодарные клиенты его буквально передают с рук на руки. Почти без передышки.
Вы не подумайте, по большому счету я не жалею, нет. Сумасшедшая это все-таки была бы жизнь. Говорят, конечно, что разлука обостряет чувства, но это только говорят, никто не знает, как оно было бы на самом деле. И еще, одного я до сих пор не могу понять: откуда он знал? Почему верил, что именно так все и произойдет? Но ведь верил и знал! И жил так, как будто неудача – это просто подход к дистанции, а дистанция обязательно будет.
Я еще понимаю, если бы он к бабке сходил, чтоб она карты на него разложила, или к старцу какому-нибудь за советом – я-то так частенько делаю. Так ведь нет, наоборот, смеялся над этим всегда. И говорил: «Ты же чувствуешь свои ноги, когда идешь, так почему не чувствуешь свою дорогу?» Ну что тут скажешь? Не было бы у нас с ним нормальной жизни, это как пить дать.
Я бы дорого дала за то, чтобы увидеть, с кем он сейчас. Знаете, я не хвастаюсь, но я всегда считала, что внешне я очень даже ничего. Фигура – как у девочки, и лицо, когда захочу, могу сделать очень интересным. Ко мне всегда, куда б мы ни пришли, мужики клеились. А Карим этого как будто не замечал; обидно было до смерти! И когда мы разбегались, я ему сказала сгоряча: «Посмотрим еще, найдешь ли ты кого-нибудь, чтобы данные были не хуже, чем у меня». Он знаете, что на это сказал? Нет, знаете, что сказал? Он странно так улыбнулся и сказал: «Обязательно посмотрим». Как будто что-то знал загодя. Посмотреть бы и мне теперь! Должна же я наконец понять: знал он что-то заранее или нет?
XX
Майя с задумчивым интересом разглядывала свои запястья, переводила взгляд на щиколотки, затем доставала пудреницу и ловила в зеркальце основание шеи и мочки ушей. Ну не глупость ли накупить этих простеньких и очаровательных браслетов, бус, сережек в виде стилизованных голубых глазков? Глупость, а потому особенно приятно! Тем более что прежде она никогда не была любительницей украшений, не видя повода их надевать. Перед кем красоваться при ее-то образе жизни? Однако вот она, новая жизнь, неумолимо вырисовывается из небытия, а стало быть, есть повод слегка преобразиться перед ее приходом.
Созерцая браслеты на своих щиколотках, Майя вдруг обратила внимание на то, что икры ног, всегда угнетавшие ее своей худосочностью, сейчас показались ей куда более округлыми, чем раньше, точно налитыми силой. Неужели это результат ее многочасовых мучений в Каньоне? Столько часов непрерывной тяжелой нагрузки… Видимо, они и смогли преобразить ее ноги к лучшему.
– Ты улыбаешься, – с приятным удивлением отметил Карим.
– А что, я редко это делаю?
Он кивнул. Майя смутилась: ей хотелось поделиться с ним радостью, но она по-прежнему опасалась произнести свои мысли вслух. Слово делает невозможное – оно заставляет верить, а Майя все еще не в силах была всерьез воспринимать, что становится другой.
– Я подумала… как это странно – ужинать на кладбище. Но почему-то не грустно.
– Хотя настраивает на мысли о вечном, – добавил Карим.
Бесчисленное множество стамбульских мечетей были окружены небольшими старинными кладбищами – узкими белыми каменными стелами, по которым, словно украшение, вились узорные арабские письмена. Некоторые из надгробий были увенчаны каменной чалмой – Карим объяснил ей, что здесь похоронены мужчины. А чуть поодаль от могил располагались уютно освещенные кафе, хозяев которых (да и посетителей) ничуть не смущало подобное соседство. Похоже, наоборот, вид на могилы придавал особую остроту блюдам и разговорам. Майя сперва была слегка шокирована, когда поняла, что за место они облюбовали для ужина, а затем махнула на все рукой. Расцвет и угасание столь тесно сплелись в ее жизни в последнее время, что не все ли равно, где именно они встретятся и завихрятся на этот раз?
– Я звонила в Москву, – сообщила Майя, – там вроде все нормально. А Никита нашел на улице золотой кулон, представляешь? Я не удивлюсь, если он когда-нибудь найдет золотой слиток!
Она рассмеялась.
– И я не удивлюсь, – серьезно сказал Карим. – Судя по тому, что ты о нем рассказываешь, ценностям нравится быть у него в руках.
– Ну что ты говоришь! Просто он вечно ходит, уткнувшись себе под ноги.
– Вот-вот, он высматривает свое, понимаешь? Когда человек пытается найти свое, оно само к нему идет. Представь себе, что когда-нибудь твой Никита отыщет клад там, где сотни человек прошли и ничего не заметили. На этот клад вы купите квартиру, и ты окончательно поймешь, что Глафиру надо было давным-давно обойти стороной.
Майя хмыкнула:
– Ты предлагаешь мне поверить, что не надо разумно обустраивать свою жизнь?
Карим вздохнул:
– Я предлагаю тебе поверить, что в жизни надо идти туда, куда тянет. Тогда придешь ко всему, чего хочешь.
Майя задумалась: а тянуло ли ее когда-нибудь к чему-нибудь? Или, похоронив свою юношескую мечту, она в каком-то смысле похоронила и себя саму? Не эту ли обреченность ощутила в свое время Глафира, начав подминать ее под себя? Словно хищник, почуявший запах пролитой крови…
– Ну, вот я иду, куда меня тянет – к лошадям в Каппадокию, – медленно проговорила она. – А что из этого выйдет?
– А вот и увидим, – отозвался Карим.
Майя покачала головой. Почему он так легко относится к будущему? И подняла на него глаза. Этот взгляд… Веселый и внимательный одновременно, уверенное спокойствие в осанке, молодость, разлитая по лицу… Словно очнувшись от забытья, она наконец поняла, что так безумно тянуло ее к этому человеку все это время – тот невероятный сплав мудрости и юности, что дается лишь немногим любимчикам судьбы, устоявшим на своем пути после всех ее толчков и подножек, а значит, пришедшим к победе.
– У тебя ведь есть зеркало? – сказал вдруг Карим. – Посмотри на себя.
Майя недоуменно достала пудреницу и повернулась так, чтобы свет падал на лицо. Что, интересно, нового он в ней увидел? И вдруг заметила, что сухая, стянутая кожа между крыльями носа и щеками разгладилась, а расширенные поры наоборот сжались, исчезли мимические морщинки на подбородке и у глаз и лицо выглядело настолько свежим и гладким, что Майя отказывалась вполне доверять отражению. «Возможно, – попыталась она мысленно объяснить необъяснимое, – это всего лишь освещение. А направь свет под другим углом – и старость вернется».
– Ну? – нетерпеливо спросил Карим, едва она захлопнула крышку пудреницы.
Стараясь не выдавать своего состояния, Майя пожала плечами:
– Я, конечно, посвежела за это время – отпуск как-никак…
Карим усмехнулся и обреченно покачал головой.
XXI
– Дрянь, – сказала Глафира. – Дрянь – вот ты кто. Предала ты меня, и не говори ничего, предала!
Майя попыталась оправдаться:
– Но, Глафира Дмитриевна, я же просто немножко задержалась; мы и не договаривались с вами точно, на сколько дней я уеду.
– Ты кому поверила? – с болью в голосе вопрошала Глафира, вцепившись руками в стол и в упор глядя на Майю. – Этой мерзавке, дочке моей? Да это она у меня всю жизнь на коленях прощение вымаливать должна! Бросила меня, когда мне страшнее всего в жизни было. Ты представь себе только – сына потерять! Это какое же сердце надо иметь, чтобы мать после этого одну оставить?!
Старуха принялась утирать слезы, а Майя испытала то самое состояние, которое принято называть «сердце разрывается». Она вскочила на ноги и бросилась к старухе:
– Глафира Дмитриевна! Ну простите меня, ради Бога! Господи! Вы же сами мне дали адрес…
– Все ведь хотела, как лучше, и что я за это получила? – продолжала жалобно бормотать Глафира. – Хотела, чтоб ты деньги не тратила – к себе пустила жить. Хотела, чтоб Никита твой на продленке не болтался – стала за ним присматривать. Хотела, чтобы мальчик порадовался, на салют сходил – и все тебе не так! Сама-то ты что ему можешь дать? Ни отца, ни семьи, ни возможностей… Думаешь, этому – как его? – внуку этому моему с нерусским именем – думаешь, ему ты будешь нужна?
Потрясенная, Майя отступила от старухи.
– А почему вы считаете, что нет?
Глафира раскаркалась смехом:
– Да ты на себя в зеркало-то посмотри? Авось поймешь почему!
Майя чувствовала, как у нее отказывают ноги, но все же ей удалось шагнуть к зеркалу. Боже! Вместо волос – безжизненные патлы, устало наплывшие на глаза веки, собравшийся в морщины подбородок… Сухость, вялость, бледная обесцвеченность… И ни следа загара, словно была она не на юге, а на Крайнем Севере. Майя чуть отступила от зеркала, чтобы лицезреть свою фигуру. Да, все вернулось на круги своя: дряблый, выступающий животик, сухие ноги, устало повисшие плечи. А на заднем плане в зеркале проступила подошедшая к ней со спины Глафира. Величественная стать, осанка балерины, нежность и твердость, безупречно слитые в лице. Майя застонала.
– Что, завидуешь? – улыбаясь, спросила сибирячка.
Майя опустила голову, не желая выдавать себя взглядом.
– И кому ты такая нужна? – задалась вопросом Глафира. – Думаешь, хоть один охотник отыщется? И не мечтай! Ну, где он там, твой Карим? – уже с большим оживлением продолжала она. – На улице ждет? А ты пригласила бы его сюда! Поговорим, чайку попьем…
– Ты с ума сошла? – в ужасе выговорила Майя. – Ты что, не понимаешь? Он же твой внук!
– Внук? – с недоуменной улыбкой подняла брови Глафира. – Да ты посмотри, сколько мне лет! Откуда у меня внуки?
Она сделала шаг в сторону входной двери.
И тогда Майя закричала. Сперва она вскрикивала: «Нет, нет, не смей!» – но по мере того, как юная Глафира двигалась к дверям, женщина зарыдала. «Нельзя!» – навзрыд кричала она, думая этим жалким словом остановить продвигающуюся к цели старуху. «Нельзя-а-а!!!» – это был и крик, и плач, и стон. И все это, вместе взятое, оказывалось бессильно.
Майя билась на сиденье и мотала головой так, что соседи по ночному автобусу мало-помалу стали просыпаться вокруг нее. Послышались недовольные восклицания по-турецки. Карим как можно крепче прижимал ее к себе, пытаясь успокоить, но никак не мог преодолеть власти сна, а во сне Майя все еще оставалась наедине с Глафирой.
– Нельзя! – захлебываясь, шептала Майя, но она уже открывала глаза.
Она была настолько потрясена увиденным и пережитым, что, придя в себя, не смогла сразу осознать, что происходит. Ночь. Мерное покачивание. Шум мотора. Она полулежит в объятиях какого-то мужчины. Майя не узнала во всем этом ни единой реалии своей привычной жизни, а потому сочла происходящее новой частью сна.
– Куда мы едем? – едва разлепляя губы, пробормотала она.
– В край прекрасных лошадей, – отозвался державший ее мужчина.
Майя была не в состоянии осмыслить этот ответ; он камнем провалился куда-то в подсознание. Вскоре тепло отгородивших ее от ночного ужаса рук стало делать свое дело – женщина вновь задремала. В новом сне она чувствовала, что покачивается так, как если бы сидела на скачущей галопом лошади, однако не прикладывает при этом ни капли сил. Свобода. Счастье. Полет. Перед ней расстилалось немыслимое разнотравье; яркость синевы, зелени и солнечного света сливались в какую-то фантастическую симфонию, а она продолжала качаться и качаться в седле. И губы потихоньку складывались в умиротворенную улыбку.
Карим осторожно опустил женщину на сиденье. Она не проснулась, и он облегченно вздохнул, вновь закрывая глаза. Конечным пунктом их маршрута был Гёреме – городок в самом сердце Каппадокии, сказочной страны розовых гор.
XXII
Карим сосредоточенно изучал выданную им на рецепции рекламную брошюру на английском, пытаясь по немногим знакомым ему словам установить, есть ли в Гёреме прокат машин. А Майя блаженно раскинулась на кровати, отдыхая после ночных неудобств. Двенадцать часов в автобусе! Сон в сидячем положении оставил в теле столько ломоты, что сейчас хотелось лежать и лежать. Впрочем, почему бы не расслабиться после такой дороги? Торопиться в кои веки некуда, четкого плана действий у них нет, как нет и приблизительного плана. Впервые в жизни Майя ощущала себя в роли перекати-поле, которое не знает, куда его погонит по земле очередной порыв ветра. Было в этом что-то одновременно безумное и пленительное – утратить контроль над происходящим.
– Кажется, нашел, – довольно сообщил Карим, протягивая ей брошюру, чтобы поделиться своей находкой. – Вот здесь. «Rent a car» – это ведь прокат, да?
Майя кивнула, но не проявила к прокату машин ни малейшего интереса. Она как раз рассматривала свою босую ступню, приподняв ее в воздух. У женщины с детства было плоскостопие, а потому обувь на каблуках искривила ей пальцы ног: на том, что был ближе всего к большому, стала выпячиваться косточка; соседний же с мизинцем, наоборот, выгнулся горбом. Но сейчас на фоне обоев гостиничного номера Майя наблюдала то, что напомнило ей выводок молодых маслят – ровных, гладких, трогательных на вид. Она подняла другую ногу – та же картина. «Очаровашки!» – вспыхнуло в уме.
Майя уже почти перестала удивляться происходящим с ней переменам и задумывалась лишь о том, насколько далеко они зайдут. Неужели и зубы, над которыми некогда в поте лица потрудились дантисты, вдруг вернутся к исходному здоровому состоянию? Рассосется ли бесследно рубец от ушивания паховой грыжи? Покинут ли шею начавшие выпячиваться несколько лет назад родинки? А если пойти еще дальше – какие открываются перспективы! У нее перестанет разламываться голова перед грядущими скачками погоды, а боли в пояснице – последствие беременности – прекратят одолевать ее в конце сидячего рабочего дня. Она наконец-то позволит себе всерьез задуматься о гардеробе, косметике, украшениях – обо всем, что раньше считала несовместимым со своим лицом и фигурой.
Майя улыбнулась этим мыслям и поймала взгляд Карима. Он смотрел на нее так же, как иногда Никита, с надеждой выжидающий, что вечно усталая мама возьмет да и сводит его в зоопарк.
– Ну, теперь-то ты веришь? – с видимым волнением спросил он.
– Чему? – попыталась прикинуться Майя.
– Тому, что видишь.
Майя вдруг ощутила, что не может сказать ему «да». «Да» означало бы, что она наконец-то признает себя женщиной. Юной женщиной, привлекательной женщиной, женщиной, которая хочет видеть рядом с собой мужчину, а не нечто среднее между товарищем, учителем и врачом, – именно это место в ее системе координат до сих пор занимал Карим.
– Что ты хочешь от меня услышать? – Майя повернулась к нему. – Да, я выгляжу лучше, чем когда мы с тобой встретились, но этому есть вполне логичное объяснение: в отпуске все хорошеют. А вернусь в Москву…
– Почему ты не хочешь признаться? – с неожиданной яростью спросил Карим, вставая с места. – Почему держишь меня за идиота? Я сделал все, чтобы ты стала такой, какой ты становишься, а послушать тебя – я тут ни при чем!
– Я тебе очень признательна, – опешив, пробормотала Майя, – ты действительно очень много для меня сделал и делаешь.
– Да оставь ты свои казенные словечки! – (Майя всерьез испугалась, потому что до сих пор видела Карима исключительно в уравновешенном состоянии.) – Ну скажи ты мне что-нибудь… по-человечески!
Майя лихорадочно прокручивала в голове варианты ответа. Требовалось озвучить тот, что будет достаточно теплым, но тем не менее не подаст никаких ложных надежд. Она решилась на классический:
– Карим, ты очень хороший человек.
Он горько усмехнулся:
– Хороший человек?
– Ну да! – поспешила добавить Майя, сочтя, что взяла верный тон в этом нелегком разговоре. – Другому было бы все равно, что со мной происходит, а тебе… а ты меня поддержал.
Поскольку Карим молчал, Майя нервно добавила:
– И вообще, проявил небезразличие.
Она боялась поднимать на него взгляд и потому сидела с опущенными глазами, когда услышала:
– И на том спасибо!
А затем – звук хлопнувшей двери.
XXIII
Какое-то время после этого Майя продолжала в прострации сидеть на кровати, думая о том, что именно она сделала не так. Нет, вроде бы ничего, все слова были выверены и взвешенны. Она не допустила ни единой фразы, которую можно было бы счесть обидной, она вообще не высказала ему ничего, кроме благодарности. И вот результат.
Майя была далека от того, чтобы бежать вслед за Каримом, хватать его за руки и с рыданиями объясняться, устраивая шоу для персонала гостиницы, однако с его уходом ей стало очень неуютно. Словно она лишилась какой-то чрезвычайно значительной части себя самой, той части, без которой все дальнейшее существование ставится под вопрос. Карима нет – и что она, спрашивается, делает в этой гостинице? Что она делает в Каппадокии? В Турции? Что ей теперь вообще прикажете делать?
Майя нервно поднялась на ноги, вышла из номера, стала спускаться по лестнице. Карима нет – и куда ей, скажите на милость, идти? Чего искать? К чему стремиться? Край прекрасных лошадей простирался вокруг нее до самого горизонта, но в отсутствие Карима женщина не знала, где именно ее горизонт.
Выйдя из гостиницы, Майя направилась вдоль дороги, на которую выходили окна ее номера. Она не ошиблась в направлении – этот путь уводил ее вон из города. За первым же поворотом Майя увидела зеленую, еще не сожженную летним солнцем степь. А вдалеке – в нескольких километрах, если она правильно оценила расстояние, – розовые горы. Женщина двинулась к ним навстречу.
Тяжесть в ее душе словно напрямую передавалась телу – Майя едва шевелила ногами. С неба невидимо, но немилосердно давил полуденный зной. При взгляде вдаль, на дорогу, воздух плавился от жары, и казалось, на ней могли возникнуть какие угодно миражи. Но перед женщиной не появлялись ни пальмы, ни верблюды, ни бедуины, даже мысли и те как будто покинули голову, и Майя чувствовала себя бесконечно одинокой и потерянной.
Она должна была бы думать о Кариме. Гадать, где он находится, или мысленно возвращать к жизни их разговор и пытаться по-другому исполнить свою роль. Но вместо этого Майя почему-то вспомнила об одной из своих подруг. Эта подруга была замечательна тем, что не мыслила ни дня своей жизни без любви. Будучи замужем, она влюблялась во всех друзей своего мужа, будучи разведена – во всех, с кем так или иначе тесно пересекались ее пути. Начальник на работе, зубной врач, менеджер в турфирме, уже несколько раз удачно отправлявший ее в отпуск… Последней страстью подруги был актер Евгений Миронов; не довольствуясь фильмами, она пересмотрела все его спектакли, где брала билеты на первые ряды и уверяла, что актер узнавал ее и во время монологов останавливал взгляд именно на ней. А как болезненно переживала она слухи о якобы появившейся у актера невесте! Слушая подругины излияния, Майя порой еле сдерживалась, чтобы не высказать напрямик, что она думает по поводу этого впадания в детство, а сейчас вдруг поняла, что подруга впадала отнюдь не в детство, а в юность. Точнее, она страшилась расстаться с юностью и потому без остановки перескакивала от одной любви к другой. Словно с камня на камень в бурном потоке; лишь бы не поддаться течению, отыграть у времени свою молодость.
Молодость. Молодость. Молодость. Незамутненный обидами взгляд, неистоптанная душа, целый кладезь неразбитых надежд на заветной полочке в сердце. Молодость. Шаг с отрывом от земли; смех, прорывающийся в каждое слово; игра, проступающая в каждом движении. Молодость. Ветер в голове, ураган в душе, свежий бриз приключений, веющий в лицо каждым божьим утром. Молодость.
Молодость. Молодость. Молодость. Каждое горе – сквозь сердце навылет. Молодость. Кровь из ран никак не унять, ее еще не научило устало свертываться время. Молодость. Шоры на глазах, позволяющие смотреть лишь вперед и ввысь и упорно, упорно, упорно не замечать, в чем по колено увязли ноги.
И все же, и все же, и все же… И все же молодость – единственная точка во времени, когда душа может встретиться с любовью. Сколько бы лет ни насчитали тебе твои бесстрастные документы, ты молод, пока ты любишь, и любишь, пока ты молод. Все остальное – ложные способы исчисления возраста.
И, осознав это, Майя вдруг замерла как вкопанная, будто кто-то натянул невидимые поводья. Не об этом ли говорил и Карим? Борьба, мечта и любовь – вот три потока, что, сливаясь, должны наполнить ванну ее молодости. Борьба вдохнет силы. Мечта вдохнет душу. Но именно любовь заставит ее задышать для новой жизни.
Она должна позволить себе полюбить, только так она сможет победить старуху.
Майя сделала шаг вперед, но тут же остановилась. Еще шаг – и вновь она не смогла тронуться с места. У нее перехватило дыхание, как это всегда бывает в преддверии слез.
Легко сказать «полюби»! А что делать тем, кто давным-давно научился плотно кутать свою душу, едва возможность любви начинает сиять сквозь пасмурные будни? Как быть, если солнечное прикосновение чувства до сих пор причиняло тебе одни ожоги? Зачем рисковать, когда сгораешь в одночасье и зарубцевавшаяся корка годами держит под собой едва затянувшуюся розовую ткань? И стоит ли нарушать утвержденный для самой себя суровый закон: жизнь может продолжаться лишь в отсутствие любви? Вспыхнувшее чувство испепелит и развеет тебя по ветру.
Майя глубоко вдохнула воздух, но легче ей не стало. Лишь сейчас, испытывая головокружение, она в полной мере ощутила, до чего сильно припекает солнце. Стоял самый разгар дня, а голова у нее не была прикрыта ничем, кроме собственных коротких и негустых волос. Что за безумие было тронуться в этот путь без головного убора и бутылки с водой! Жажда уже дает о себе знать и с каждой минутой будет только усиливаться. Вот идиотка! Она же не взяла с собою даже телефона! Оглянувшись и увидев, насколько далеко она удалилась от города, Майя испытала трепет: как же теперь? Куда же теперь?
Молодость. Любовь. Карим. Слезы. Еще один шаг навстречу розовым горам. Но нет, бесполезно – она не раскроется никогда. Она благодарна этому человеку, более чем благодарна, и, когда они встретятся вновь, она, несомненно, найдет для него более теплые слова. Но поддаться влечению, разрешить себе радость вновь стать беззащитной перед призраком счастья? Нет, она не сможет, и надо будет заранее попросить Карима ее за это простить. Прежняя жизнь не отпускает просто так, ей нужен какой-то выкуп. А какой, поди пойми!
Майя вновь замерла на месте – откуда они взялись? Ведь она совсем недавно окидывала взглядом степь – в ней не было никого. И вот – пожалуйста! А она-то думала, что ее трясущихся от плача плеч никто не видит… Тыльной стороной руки Майя быстро утерла слезы.
Прямо на ее пути, точнее, в траве возле самой дороги, под укрытием одного-единственного дерева, сидел пастух. Он присматривал за стадом очаровательных разномастных козочек; рядом, привязанная к дереву, чтобы оставаться головой в тени, пощипывала травку его лошадь.
– Гюнай дын! – еле выдавила Майя из пересохших губ.
Старик обернулся, приветливо закивал. Он был еще крепок и весьма колоритен со своими белыми усами, в вязаной шапочке с традиционным орнаментом и шароварах.
Не возлагая никаких надежд на английский язык здесь, в глубокой провинции, Майя знаками попросила пить. Старик проворно подал ей фляжку, завернутую в какие-то тряпки, и женщина с наслаждением напилась еще довольно прохладной, словно бы чуть сладковатой воды. Она поблагодарила кивком головы, и старик вновь заулыбался.
Майя поднялась – ей больше нечего было здесь делать, но уйти она почему-то не могла. Подойдя к лошади старика, она потрепала ее по шее, и та подняла голову. Это был светло-серый, довольно молодой еще жеребец, на боках которого ясно обозначалось несколько белых «яблок». Совсем как у Горизонта… Да и худощавой статью обе лошади походили друг на друга, и грива у турецкого коня шла возле шеи такими же мелкими волнами. Майя испытала острый приступ тоски.
Внезапно она увидела, что улыбчивый старик стоит рядом и знаками предлагает ей взобраться на лошадь. Сам же он будет водить ее в поводу. Майя в ответ сделала отрицательный жест и, как могла, изобразила, что умеет ездить верхом. Старик понимающе закивал.
В числе прочих необходимых вещей, которые отсутствовали у Майи в этом абсолютно не продуманном походе, был кошелек. Чем же ей заплатить за право вновь оказаться на коне? Не видя ни единого другого решения проблемы, женщина сняла с запястья часы-браслет и отдала их в сожженные солнцем морщинистые руки пастуха. Часы выглядели достаточно дорогими, хотя на самом деле таковыми и не являлись, и старик, судя по всему, остался доволен. Он отвязал от дерева лошадь, взнуздал ее… Но тут возникла заминка – на коне не имелось седла. И действительно, зачем оно, если тихо ездишь шагом вслед за овцами? Однако Майя решила, что это и к лучшему: если сесть в седло в одних кроссовках и шортах, то стремянные ремни непременно натрут или защемят кожу на икрах. А так ничто не помешает ей слиться со скакуном в единое целое.
Она не боялась не удержаться у лошади на спине. Навык верховой езды не забывается, как и навык плаванья или езды на велосипеде. Можно годами не садиться в седло, а сядешь – и ноги сразу же вспоминают, как стискивать конские бока, а руки чувствуют контакт со ртом лошади через повод. Старик подбросил Майю на спину коню, и она с колотящимся от возбуждения сердцем разобрала поводья. Ну, с Богом! Безрассудно улыбаясь, Майя тронула шенкелями конские бока.
* * *
Он слушался ее не хуже, чем оставшийся в прошлом Горизонт, а возможно, и лучше – ведь теперь Майя была, как никогда в жизни, уверена в себе. Сперва она пустила коня рысцой, разогревая ему мышцы, а затем, когда устала от тряски, послала его вскачь. И Горизонт (так она мысленно окрестила своего скакуна) с готовностью ринулся галопом к розовым горам.
Он галопировал удивительно мягко и плавно, так что Майя не испытывала ни малейших затруднений, резонируя поясницей в такт его скачкам. «На Горизонте – до горизонта!» – вертелся в голове придуманный ею еще тогда, в конноспортивной юности, победный клич. «На Горизонте – за горизонт!» – захотелось крикнуть теперь. Розовые горы стремительно приближались; сказка, в которой она однажды побывала и которую вынужденно покинула, теперь сама летела навстречу.
Розовые горы. Горы в виде слоев разноцветного желе. Горы с шапочками. Горы, похожие на что угодно, только не на горы. То там, то здесь выступает из земли каменная пятерня, или стайка каменных грибов, или каменный канделябр со свечами. Каппадокия. Место, которого не должно было бы существовать на нашей суровой земле, чтобы люди не начинали верить в чудо. Край прекрасных лошадей. Нет, оно все-таки существует! Сказка обступала ее со всех сторон, и Майя, теряя ощущение реальности и не испытывая ничего, кроме страстно овладевающего душой восторга, понукала и понукала коня.
Застоявшийся Горизонт не выказывал признаков усталости. Долины стремительно разворачивались перед ними и так же стремительно оставались позади, и Майя как никогда прежде была близка к чувству полета. Свист, точнее, свистящий рев, с которым горячий воздух бил ей в уши, создавал полное ощущение того, что вот сейчас ими начнет завладевать пространство, ноги скакуна оторвутся от земли и, оттолкнувшись от розовых вершин, он начнет возносить ее все выше и выше над этой невероятной землей.
Внезапно она испытала странное чувство – точно что-то легонько хлопает ее по спине при каждом скачке лошади. Все больше и больше поддаваясь удивлению, Майя спустилась с небес на землю и перевела Горизонта на рысь, а затем – на шаг. Заведя руку назад, она начала ощупывать свою спину и вдруг обомлела. Волосы! Густая и пышная, взбаламученная ветром грива спускается ниже лопаток. Но ведь она не носила длинные волосы уже… да, уже семнадцать лет – ровно половину жизни. Впервые она решила постричься, когда после неудачного посещения Тимирязевки окончательно стало ясно, что жизнь ее никогда не будет связана с лошадьми. Да и лето тогда было кошмарно жарким – под Москвой горели торфяные болота… Майя ошеломленно проводила рукой по голове и все никак не могла поверить, что вместо вялой, почти неживой на вид, едва облагороженной в парикмахерской поросли ее ладонь скользит по гладким черным волнам, а пальцы зарываются в тугие и сильные пряди. Не направляемый более поводом, Горизонт остановился, потянувшись к придорожной траве, а Майя со слезами на глазах все гладила и гладила свои волосы, вздымала их пальцами вверх, опускала себе на лицо, вдыхала их давно забытый чуть сладковатый запах. Свой запах.
Наконец, придя в себя, она взялась за повод, но что-то точно кольнуло ее, не позволив его натянуть. Майе вдруг показалось знакомым то место, где она очутилась. Да, определенно! Здесь, за крутым поворотом дороги, причуды природы, то так, то сяк обветрившей горные породы, были особенно живописны. Вспомнила! Именно здесь останавливался год назад их автобус, и именно здесь она едва не потеряла Никиту, обнаружившего странную горизонтальную пещеру. Разобрав поводья и выслав лошадь, Майя заставила Горизонта сойти с дороги и направила в ту сторону, куда она когда-то побежала, отыскивая сына.
Горизонт осторожно ступал по неровной почве, к тому же скрытой под травой, и поминутно спотыкался. Но вот показалась та самая гора, которую она отыскивала, а когда Майя подъехала совсем вплотную, ей открылся узкий темный проем пещеры на высоте метров трех. Тщетно пытаясь противостоять страху, Майя спешилась и привязала лошадь. И начала взбираться по конусообразной поверхности.
Это оказалось до того трудно, что женщина всерьез подумала о том, не отступить ли сразу. В мягкой породе не было ни единого углубления, зато весь склон крошился прямо под ногами, и, едва преодолев какое-то расстояние, Майя съезжала вниз. Теперь она горько корила себя за то, что тогда заставила сына отказаться от результатов столь трудной победы. Кое-как укрепившись на склоне на несколько мгновений, но чувствуя, что вот-вот покатится вниз, она вытянулась настолько, что ее глаза оказались на одном уровне с нижним краем пещеры. Отчаянно пытаясь не сорваться, Майя вглядывалась в темноту. В пещере, несомненно, что-то было, вот только что? Мало-помалу она начала различать нечто коричневато-желтое, округлое, небольшое… А в следующее мгновение она, визжа и обдирая локти, покатилась вниз. Она увидела человеческий череп.
Отвязывая Горизонта и вскарабкиваясь ему на спину с высокого камня, Майя проявляла чудеса скорости, а едва выбравшись на дорогу, вновь пустила лошадь вскачь. Воспоминание о черепе подхлестывало ее, а она, в свою очередь, понукала коня, и притомившемуся на жаре Горизонту никак не удавалось перейти на рысь – Майя заставляла его идти широким галопом. Неожиданно быстро они выбрались из долины, перед ними развернулась степь, и вдалеке замаячило то дерево, под которым Майя встретилась с пастухом; однако женщина не могла приметить, чтобы поблизости по-прежнему паслось стадо. Впрочем, видимость ухудшилась, потому что за недолгое время ее скачки и обследования пещеры небо не на шутку затянуло и поднялся преддождевой ветер.
Подскакав к дереву, Майя похолодела – пастуха действительно не было. Причем ни его самого, ни стада не было видно нигде вокруг, даже на большом отдалении. Ну куда, скажите на милость, они могли исчезнуть?! Ведь прошло максимум полчаса! Ну, от силы сорок минут… Майя снова потерянно огляделась вокруг. Безрезультатно.
Она зачем-то спешилась, хотя логичнее было скакать по полям и искать пастуха верхом. И вдруг, снова бросив взгляд под дерево, словно старый турок мог в любой момент возникнуть из-под земли, она с удивлением заметила, что трава, на которой он наверняка просидел не один час, не примята. Более того, вся трава вокруг казалась совершенно не тронутой, будто на ней и не паслось козье стадо. Майя растерянно бродила взад и вперед, пытаясь разглядеть хоть один участок со скушенными верхушками стеблей, но не могла такого обнаружить. Как не могла обнаружить и столь характерного козьего помета, который всегда в изобилии устилает подобные пастбища.
За спиной она услышала частый перебор копыт и, обернувшись, с ужасом увидела, что Горизонт мчится прочь. Она рванулась вдогонку, но практически сразу же осознала, что конь уже вне досягаемости. Она утешала себя лишь тем, что лошади прекрасно находят дорогу к дому, а дом старого пастуха явно не мог находиться далеко отсюда.
Майя с волнением смотрела вслед скачущей прочь лошади, но тут Горизонт пропал из виду – его заслонила стена стремительно хлынувшего дождя. А к тому моменту как эта стена немного поредела, лошади уже не было видно нигде, даже на горизонте.
XXIV
Стучась в их гостиничный номер (на рецепции ей сказали, что ключ уже взят), Майя мечтала только об одном: войдя, немедленно рухнуть на кровать. Ноги отказывались не то что двигаться – стоять: мышцам по-прежнему казалось, что они продолжают сжимать конские бока. Поясница, за семнадцать предшествующих лет отвыкшая от галопа, отказывалась удерживать корпус в вертикальном положении. Ободранные при падении с горы локти горели и требовали бинтов. Перебаламученная до крайности душа взывала к покою. И все продрогшее от дождя тело жаждало тепла. Поэтому когда Карим отворил ей дверь, Майя едва удержалась, чтобы не упасть прямо в его руки. Но все же удержалась и не упала.
Карим поспешно отступил на несколько шагов назад. Он ошеломленно разглядывал стоящую на пороге женщину. Этот вороной поток волос, струящийся по плечам и спине… Эта горделивая, точно у породистого скакуна, стать… Это пламя, наконец-то расцветшее в глазах… Не говоря уже о том, что промокшая до нитки одежда идеально обрисовывала тело, делая его куда более соблазнительным, чем нагота.
– Ты что, была в парикмахерской? – еле нашедшись, выговорил он.
Майя покачала головой и, странно улыбаясь, тряхнула мокрой гривой. Черные пряди взметнулись и облепили лицо и шею. У Карима еще больше расширились глаза.
– Тогда откуда?..
– Ванна молодости, – торжествующе объявила женщина, пересекая комнату и исчезая в ванной. Вскоре она вышла оттуда в уютном гостиничном халате; черный водопад изящно перетекал с ее головы на белую бахрому.
– Ванна молодости, – повторила она, – и Край прекрасных лошадей. Как видишь, все твои безумные идеи воплощаются в жизнь!
Она засмеялась непонятным Кариму смехом. Словно это была уже и не она…
Майя откинулась навзничь на постели и принялась массировать свои измученные икры. Ей доставляло удовольствие наблюдать за лицом Карима: сказать, что он был потрясен, означало ничего не сказать. Ее спутник выглядел как человек, над которым пронесся Тунгусский метеорит.
Карим присел на край кровати и осторожно дотронулся до ее руки. Майя замерла.
– Я никак не пойму, ты это или не ты, – честно сознался он.
– Ну конечно, я! – Майя передернула плечами. – Ты же обещал, что я помолодею, вот я и молодею. Можешь потрогать волосы – настоящие.
Карим осторожно прикоснулся к ее голове, провел по ней рукой, запустил пальцы в черные пряди. Майя невольно замерла, сладкой дрожью откликаясь на эту ласку.
– Невероятно, – тихо произнес Карим.
– Почему? – притворно удивилась Майя. – Мы же с тобой верили, что так произойдет – вот оно и произошло. Сперва – твоя ледяная ванна, а сегодня я нашла лошадь и проскакала на ней по здешним долинам – вот тебе и молодость!
– Признаться, я не думал, что все случится так скоро.
– А зачем тянуть?! – Майя радостно расхохоталась. Для нее было в новинку, но она наслаждалась тем, что может держаться как женщина, счастливо уверенная в отсутствии у себя физических изъянов. Ведь только что в ванной комнате она убедилась, что дряблая кожа на животе, последствие беременности, отравлявшая ей каждый взгляд в зеркало после душа, теперь была гладко натянута на крепкие мышцы. Такой фигуры у нее не было не то что в юности, а никогда вообще.
Карим продолжал поглаживать ей волосы, но делал это уже словно по инерции, несколько растерянно. Майя догадывалась, в чем дело: ее спутник привык быть тем, без кого она никак не могла обойтись – ее надеждой, опорой, путеводной звездой, наконец. Теперь же, когда такие козыри, как молодость, красота и уверенность в себе, были на руках у Майи, он не представлял, что ему делать дальше. Разве что пожелать ей счастья, сложить рюкзак и вернуться в Крым.
Намазывая лекарственной мазью свои злополучные локти, Майя вновь подумала о том, что, пожалуй, совершила сегодня ошибку: нужно было не шарахаться как черт от ладана от этого черепа, а исследовать пещеру до конца. Она ведь заранее предполагала, что там могут быть захоронения – чего же теперь пугаться? Сбывшихся ожиданий? К тому же где, как не в захоронениях, искать сокровища? Счастье обретения клада почти всегда идет рука об руку со смертью.
– Карим…
– Да?
– Скажи… – она не собиралась задавать этот вопрос, он вырвался как естественное продолжение мыслей. – Скажи, что бы ты сделал, если бы нашел клад?
– Насколько большой?
– Ну… – Майя еще не задумывалась об этом и применила единственный значимый для нее критерий. – Скажем… достаточно большой, чтобы купить на него квартиру.
Она замерла, с интересом ожидая ответа, но ждать пришлось считанные секунды.
– Отдал бы половину тебе, – ответил Карим.
– Почему? – Майя потрясенно вскинула на него глаза.
– Ну, тебе же нужна квартира – вот и будет, с чего начать.
– А тебе не нужна?
Карим пожал плечами:
– Ты же видела мои дома. Других мне и не надо.
– Так и будешь всю жизнь перекати-поле? – спросила Майя, печально чувствуя, что разговор кренится куда-то не туда.
– Зато мхом не обрасту! – Карим засмеялся.
– А вдруг тебе когда-нибудь захочется иметь семью?
Карим вновь рассмеялся, но уже несколько принужденно:
– Думаю, ни одной нормальной семье не захочется иметь такого мужа, как я.
– Ладно. Понятно. И что же ты все-таки сделаешь со своей половиной клада?
Карим поднялся с кровати и подошел к окну, так что теперь Майя не видела его лица, один черный силуэт на фоне подсвеченных розовым закатных облаков.
– Тоже отдам тебе, – услышала она. – Пусть у тебя будет дом, и семья, и все, что ты хочешь.
XXV
Майя была бы рада отправиться к заветной горе другой дорогой, чтобы не сталкиваться вновь с пастухом, но боялась, что в этом случае не сумеет правильно сориентироваться. Впрочем, ее опасения оказались напрасны: на сей раз старый турок не возник на ее пути. Более того, с дороги исчезло и то дерево, под которым он вчера сидел, а ведь оно было таким приметным! Невысокое, раскидистое, сплошь в розово-фиолетовых цветах, растущих прямо из почек вдоль ветвей… «Иудино дерево», как назвал его однажды, еще в Крыму, Карим, и сейчас Майя размышляла: как у Иуды поднялась рука повеситься на такой красоте? Ведь тогда в Палестине тоже была весна и все цвело.
– Ты смотришь на дорогу? – спросил Карим.
– Уж это место я не пропущу, – откликнулась Майя.
Она была возбуждена авантюрностью их экспедиции, но как никогда в жизни тверда в желании достичь горы. Словно она двигалась к давно поджидавшей ее цели и требовалось лишь не испугаться в третий раз, а спокойно протянуть руку и получить свое. С утра они с Каримом взяли машину напрокат, с трудом отыскали в хозяйственном магазине достаточно мощные фонари, запаслись батарейками и веревкой. Карим пожалел, что в крошечном Гёреме негде раздобыть альпинистское снаряжение, а как пригодились бы сейчас крюки, чтобы загнать их в розовое тело горы!
– Будем вгрызаться зубами! – серьезно пошутила Майя.
Карим в очередной раз поглядел на нее с удивлением. Он, видимо, никак не мог привыкнуть к тому, что в новом юном теле его спутницы поселилась новая, в чем-то беспечная, а в чем-то бесстрашная душа.
Они уже въезжали в горную долину. Глядя в окно, Майя с удовлетворением отмечала, что сегодня не так изнуряюще жарко, как вчера, потому что небо с утра затянуто. Из-за этой мглы не поймешь, который час… Она привычно бросила взгляд на запястье, но не увидела там циферблата. Мысли мгновенно прокрутились во времени назад, к тому моменту, как она сняла часы, отдав их в качестве платы старому турку. Вот так. Если вспомнить, что произошло с ней после расставания с часами и поверить теориям Карима, то это похоже на сделку: время берется больше не замечать, сколько ей лет, если сама она берется не следить так пристально за своим календарным возрастом. Обдумывая эту мысль, Майя на какое-то время перестала обращать внимание на горный пейзаж, а затем, бросив взгляд в окно, торопливо воскликнула:
– Вот здесь! Приехали!
Они выбрались из машины. Глядя, как Карим навьючивает на себя все их нехитрое снаряжение и стройно выпрямляется вслед за тем, Майя думала: и почему никогда раньше ей не приходило в голову любоваться его молодостью? Отмечала. Завидовала. Пыталась доискаться до причины. Пыталась повторить. Но почему не любовалась и не гордилась? Почему не смотрела на него с той глубокой и светлой радостью, которую вызывает у любящего любимый человек. И что за неуловимая граница отделяет чувство от отсутствия чувств? Уж, казалось бы, в эти минуты их души стремились к одной цели, слаженно, как никогда прежде, но попробуй преодолей эту коварную дистанцию между дружбой и любовью! Будь Карим ее случайным попутчиком, ей было бы проще. Будь он ее врагом, ей тоже было бы проще. А вот идя рука об руку, было бы странно вдруг ни с того ни с сего повернуться друг к другу лицом и положить руки друг другу на плечи. Вчера, когда он сказал ей, что отдал бы ей свой клад, она чуть было не вскочила с постели и не бросилась к нему, стоящему у окна. Но побоялась, что он воспримет ее порыв как проявление меркантильности. А после порыв прошел, и вновь пальцы их рук сплетены, и ноги шагают в такт, но объятия уже невозможны.
Они остановились. Карим без каких-либо комментариев с Майиной стороны узнал то место, что им предстояло исследовать.
– Тебе уже приходилось раскапывать могильники? – почему-то шепотом спросила женщина.
– Приходилось.
– Они были похожи на этот?
– Нет. Я раскапывал курганы, а они похожи на маленькие холмы. Даже холмики, если похоронен незнатный человек. Были еще дольмены – гробницы тавров, но это просто крупные камни, сложенные в виде домика с плоской крышей.
– Так ты работал археологом?
Карим усмехнулся:
– Черным археологом. Слышала про таких?
Майя кивнула. Сердце опасливо всколыхнулось.
– И где вы копали? – вновь прошептала она.
– Под Феодосией в основном. Там, недалеко от крепостной стены, если двигаться в сторону Коктебеля, что ни бугор, то курган. Но особо нам не везло – все золото нашли до нас. Там даже откопали восьмое чудо света: греческие серьги в виде бога Аполлона на колеснице.
– Как на Большом театре? Ну, как на российской сотенной купюре?
– Вот-вот. У этих серег были подвески, а крепились они к золотым каплям, каждая из которых, в свою очередь, была спаяна из четырех других капель. Но что интересно: современная техника не может эту пайку повторить – четыре капли сливаются в одну. А у греков они как зернышки: бок о бок, но не одно целое.
– Поразительно! – пробормотала Майя. – И в какую же страну это сокровище ушло?
– В Эрмитаж, в золотую кладовую. Это нашли государственные археологи.
– А что находили вы?
– Кости в основном. – Карим вновь усмехнулся. – Ну, понятное дело, черепков немерено. А из серьезного – наконечники оружия, подвески всякие из серебра. Иногда украшения с сердоликом.
Майя вдруг вспомнила, что, гуляя утром по Севастополю на следующий день после приезда (Карим занимался подготовкой к походу), на одном из ярусов Центральной горки – тихого центра города – она обнаружила оживленную торговлю. Продавали как раз предметы древности – монеты, наконечники стрел, пули времен Крымской войны. Майя спросила, не там ли Карим и компания сбывали свои находки, но он пренебрежительно махнул рукой.
– Там – ширпотреб, а значит, процентов на восемьдесят – фальшивка. Ну подумай сама: может железо столько лет пролежать в земле и не проржаветь? Вот видишь, а на толкучке-то все гладенькое, ровненькое, чтобы приятно было положить на полку. Бывают и там, конечно, настоящие вещи – стрелы ведь и в огородах люди находят, – но их надо уметь распознать. И стоить они будут не двадцать гривен. А мы продавали находки по другим каналам. По тем, где люди разбираются и дают настоящую цену.
Майя не могла не улыбнуться:
– Не сильно ты на этом разбогател!
– Не сильно, – согласился Карим. – Но именно тогда я понял, что деньги меня не очень-то любят. И липнуть ко мне никогда не будут. А значит, нечего за ними и гоняться.
– А здесь ты что тогда делаешь? – лукаво осведомилась Майя.
Карим промолчал. Взяв топор, который составлял часть их снаряжения, он принялся вырубать в мягком камне углубления для ног. Майя следила за обстановкой вокруг. Покамест все было тихо, но небо затягивало все сильнее и сильнее.
– Сейчас будет ливень, – прокомментировала она вскоре события на небе, – вон и ветер поднимается. Может, попробуем забраться?
Карим оторвался от своего дела, чтобы напиться.
– Еще одна ступень, – хрипло сказал он, вытирая губы. – Иначе мне не подтянуться.
Он работал топором уже на высоте собственного роста, и дело продвигалось медленнее: руки требовалось постоянно опускать, чтобы дать им роздых. Наконец, когда Майя уже нервно гадала, скоро ли набухающее темнотой небо разразится молнией, Карим остановился. По его мнению, углубления были уже достаточно большими, чтобы забраться по ним в пещеру.
Он снял кроссовки и перекинул сумку с фонарями и веревку через плечо. Ловко ставя пальцы ног в углубления, Карим принялся взбираться наверх. Он преодолел дистанцию довольно быстро, затем подтянулся на руках и исчез в пещере.
Майя взволнованно пританцовывала внизу. Она едва дождалась, пока Карим сбросил ей веревку, но, взявшись за нее, вдруг спохватилась:
– А там не страшно?
В ответ она услышала смех.
– Но там был череп…
– А у тебя самой разве нет черепа? – спросил Карим, показываясь наружу. – Может быть, ты и его боишься?
Женщина рассмеялась и приготовилась карабкаться наверх. Но почему-то ей все равно было не по себе. Тот азарт, с которым она пыталась исследовать пещеру вчера, то возбуждение, с которым они этим утром готовили свою авантюру, бесследно исчезли из души. Теперь ею владел даже не страх неизвестности, а предчувствие чего-то рокового, что неизбежно ждет их внутри.
– Что-то случилось? – крикнул сверху Карим.
Майя покачала головой и, покрепче ухватившись за веревку, сделала первый шаг вверх по горе.
XXVI
Потолок пещеры был настолько низким, что даже сидеть приходилось, слегка пригибая голову, а уж перемещаться только на четвереньках. Едва женщина вползла в пещеру, раздался первый удар грома, но Майя не обратила на это внимания. Она напряженно уставилась на два скелета, лежащие головой к стене пещеры слева от нее. Поначалу выделялись лишь черепа, затем, когда привыкли глаза, Майя разглядела и весь остальной костяк. Желтовато-бурые кости сливались с каменным полом и, казалось, вросли в него за те века, что им пришлось здесь провести.
– Это мужчина и женщина? – тихо спросила Майя.
Карим кивнул и направил на скелеты луч фонаря. В его свете кости побелели, а у Майи замерло сердце: те, кто здесь покоился, словно помолодели на много веков. Она не смогла преодолеть внутренний барьер и не стала обыскивать могилу сама – лишь подсвечивала Кариму, пока он тщательно обшаривал скелеты, сметая с них пыль заранее припасенной щеточкой и заставляя двоих усопших все больше и больше проступать из камня. Однако никаких сокровищ не появлялось на свет; Карим тщательно обследовал у покойных область шеи, запястья, щиколотки, фаланги пальцев, но фонарь ни разу не выхватил из вековой пыли золотое сияние.
– Кажется, бесполезно, – констатировал он наконец. – Здесь наверняка побывали до нас.
Майя облегченно вздохнула: одно дело – искать сокровища, а другое – нарушать покой мертвецов. Впрочем, последним их украшения, кажется, уже ни к чему… Хотя как знать… Майя задумалась: завещают же люди и сейчас положить к ним в гроб ту или иную вещь – значит, хотят ощущать ее рядом с собой в последующем пути. А что испытают их души, когда столетия спустя эту вещь заберет археолог с лопатой, лучше и не пытаться себе представить.
– Карим… – прошептала она.
– Что?
– Давай уйдем отсюда.
– Подожди, надо поискать еще в глубине. Иногда дары оставляли там.
– Давай уйдем! – с надрывом в голосе воскликнула она, неожиданно испытав такую боль в душе, на которую давно не считала себя способной. – Так нельзя! Нельзя делать то, что мы делаем! Они же люди, они любили друг друга и хотели лежать вместе даже после смерти; а тут приходим мы и как будто… Не по-человечески это! Представь себе, если бы мы с тобой…
Ее последние слова накрыло ударом грома.
Карим оставил свою щеточку там, где его настигли эти слова, и придвинулся вплотную к Майе.
– Если бы мы с тобой – что?
– Пойдем отсюда! – крикнула Майя, пытаясь выбраться наружу. Однако едва она высунула голову, как тут же шарахнулась обратно – небо грохотало и разрывалось на части.
Карим схватил ее за плечи, предотвращая дальнейшие поползновения покинуть пещеру.
– Да не бойся ты! Они же мертвые, что они могут нам сделать?!
– Вот именно! – кричала Майя, чувствуя, как слезы струятся по лицу. – Они мертвые, они любят друг друга, а мы… что мы делаем?! Они же не могут себя защитить! Тот, кто любит, никогда не может себя защитить, поэтому нельзя его обижать, понимаешь, нельзя! Никогда!
Она рыдала, отказываясь понимать, что именно вызывает в ней такое отчаяние. Но подсознательно чувствовала: он наконец-то треснул, тот ледяной корсет, в который она себя заключила столько лет назад, не позволяя ни единому ростку чувства пробиться наружу.
Карим потрясенно сжимал ее содрогающееся от рыданий тело. Майя слышала, как он растерянно говорит:
– Но ты же сама предложила… Ты ведь знала, что здесь могила…
– Но я же не думала, что можно быть вместе и после смерти! Я вообще уже не помню, что это такое, когда можно быть с кем-то вместе.
Он молча прижал к себе ее голову.
Теперь грозовой фронт шел прямо на них. Мрак раскалывался от молний с такой частотой, что гром не умолкал ни на секунду. Майя и Карим скорчились в углу возле выхода из пещеры, стараясь держаться как можно дальше от мертвецов. Но пещера была слишком мала в длину – ступни скелетов почти касались их согнутых колен.
– Надо бы отползти подальше, – сказал Карим, глядя, как Майя судорожно поджимает ноги.
Та кивнула, но не тронулась с места: чернота внутри пещеры была, пожалуй, страшнее белого полыхания снаружи.
Неожиданно молния ударила в склон горы буквально в полуметре от них. Майя оцепенела, увидев, как огненно-белый росчерк стихии соприкоснулся с потемневшим от дождя камнем у них под ногами. И хотя никаких последствий, кроме грома, этот удар с собой не принес, ужас от столь близкой опасности заставил ее немедленно рвануться внутрь. Карим последовал за ней.
В глубине пещеры Майя измученно привалилась к стене. Она была обессилена всем пережитым, ледяной корсет ее уже не поддерживал, а душа была перепахана состраданием к тем вросшим в камень возлюбленным, что лежали подле них. Женщина чувствовала, что перестает быть той, кем ощущала себя многие годы напролет. Привыкшая жить с несгибаемо прямой спиной, сейчас она, словно стелющееся растение, искала себе опору.
Карим придвинулся к ней вплотную. «Он знает, он всегда чувствует, как следует поступить». Он полуобнял ее, пропустив свою руку между женщиной и той стеной, к которой она прислонялась. Человеческое тепло! Майя судорожно вздохнула.
– Я надеюсь, они больше на нас не сердятся, – тихо сказал Карим.
Женщина кивнула; ее голова соприкасалась с грудью мужчины. Прижимаясь к нему и вдыхая его запах, она чувствовала себя невероятно слабой, потрясенной, отчаянно нуждающейся в помощи; должно быть, так ощущает себя младенец, едва появившийся на свет. И вдруг осознала, как долго по милости Глафиры и по своей собственной трусости она пребывала в царстве мертвых – в мире, лишенном любви.
Она никогда бы не подумала, что первый поцелуй после стольких лет одиночества застигнет ее в столь невероятном месте, как погребальная пещера, по сути дела, в могиле. Но страха не было – женщина словно возвращалась к жизни. Она лежала, закрыв глаза, у него на коленях, и он вдыхал в нее жизнь своими губами. Тепло его тела становилось ее теплом, его существо – ее существом, и Майя знала: когда она вновь откроет глаза, мир будет совсем другим. Ее взгляд будет взглядом новорожденной, а изо всей безбрежной палитры действительности, где так щедро разбрызганы несмываемые черные пятна, она будет видеть одну белизну.
Майя открыла глаза. Она улыбалась и думала, что встретится с улыбкой Карима, но он почему-то смотрел не на нее, а в глубь пещеры. У него был до странности напряженный взгляд, а мгновение спустя Майя почувствовала, как деревенеют обнимающие ее руки. В замешательстве она обернулась…
Если это возможно – закричать одним вздохом, то женщина издала именно такой звук – не то вздох, не то крик. Здесь же никого не было еще несколько минут назад! Никого, кроме них и двоих усопших. Но отрицать бессмысленно – она пришла. Она перед ними.
На ней было белое платье с вырезом на груди, буфами вместо рукавов и расклешенным подолом, перетянутое изящным лаковым пояском. Гладко натянутые чулки. Туфли на высоком каблуке. Короткие белокурые волосы были уложены набок холодной волной. Очевидно, она явилась прямиком с того самого танцевального вечера, где познакомилась со своим будущим мужем. Глафира лежала в дальнем углу пещеры, закрыв глаза. На груди ее было заметно какое-то украшение. Можно было не сомневаться, что это оранжевые гранаты.
– Это она? – хрипло спросил Карим.
Майя была не в состоянии даже ответить. Она начала пятиться, но за спиной была стена. Глафира лежала не шевелясь. Быть может, она и в самом деле была мертва?
Ужас намертво приковал ее взгляд, и Майя физически ощущала, как не отпускает ее, не дает броситься наружу под молнии лицо Глафиры. Губы… на них как будто улыбка. Глаза… неужели раскроются прямо сейчас? Тело… а вдруг оно приподнимется? И вот тогда-то и распахнутся глаза и приоткроются губы и, сладко улыбаясь, юная старуха проговорит:
– Ты что же, Маюша, одну меня бросила? А я вот тебя не брошу. Никогда. И не проси, и не думай. Вот ведь в какую даль ты меня заставила тащиться! Разве можно так со старым человеком?
И Майя увидела, как у внешнего края Глафириного века что-то блеснуло. А затем поблескивание стало заметно все ниже и ниже – на висок старухи сползала слеза.
После Майя не помнила, что именно она кричала в тот момент, но кричала так, что испуганным мертвецам впору было вскакивать из могилы. Она истерически вопила и вжималась в стену, и если бы Карим не схватил ее в этот момент и не потащил вон из пещеры, она наверняка получила бы кровоизлияние в мозг и, парализованная и перекошенная, осталась бы без сознания на полу бок о бок со скелетами. Шок от ужаса перед Глафирой был до того глубок, что женщина даже не понимала, почему она вдруг оказалась не внутри пещеры, а снаружи и почему грохочет небо, а раскаленные белые нити то и дело связывают его с землей. Карим тащил ее прочь от горы, прикрывая своим телом, как спецназовец спасенного, а Майя, словно потеряв рассудок, хваталась за пучки высокой травы, в кровь резавшие руки, не давала ему двигаться вперед и умоляла спасителя повременить, не разлучать ее с Глафирой.
Когда она обессилела от крика настолько, что начала приходить в себя, то осознала, что стоит, прижатая спиной к какому-то крутому склону, а сверху ее прикрывает от грозы каменный козырек. Не давая ей вырваться из этого нового укрытия, Карим обнимал ее с такой силой, что Майя чувствовала себя спеленутой по рукам и ногам. Впрочем, гроза уже уходила.
– Где она? – едва сумела выговорить Майя, поднимая на мужчину трезвеющий взгляд. – Ее здесь нет?
– Успокойся, ее больше не будет, – ответил он. – Никогда.
XXVII
Она сама не понимала, как ей удалось заснуть в тот вечер – должно быть, подействовало вино, за которым Карим помчался, как за лекарством для умирающего, едва они вновь достигли города. Майя совсем не умела пить и быстро пьянела, но тут она вновь и вновь прикладывалась к бутылке, пока не убедилась, что нервная дрожь стала слабеть. Она не отдавала себе отчета, сколько вливает в себя алкоголя, а потом вдруг резко ощутила омерзительную тошноту и мутность сознания. Пытаясь преодолеть это кошмарное состояние, Майя со стоном рухнула на кровать, и какое-то время адское самочувствие не оставляло ей возможности мыслить. А затем перед глазами стали вставать бессвязные видения, и женщина поняла, что ею овладевает сон.
Она отключилась от действительности очень рано, задолго до наступления темноты, и потому проснулась одновременно с рассветом. Разбудили ее, как ей показалось, собственные нервы, наскоро усмиренные вчера, но так окончательно и не утихшие. Впрочем, взглянув на мерно светлеющее окно и мирно спящего рядом человека, она облегченно вздохнула: тени развеялись!
В эти часы ожидания перед пробуждением мира Майя оставалась полностью наедине со своими мыслями и в итоге вынуждена была признаться себе: в отсутствие любви она пропустила полжизни. Впрочем, жизнь не насмеялась над ней за это преждевременно высохшими и стянутыми в бледную линию губами, не наказала безжизненным, выгоревшим взглядом, не отпечатала одиночество на лбу горькими линиями морщин, а, улыбнувшись, разрешила попробовать еще раз. И женщина потрясенно осознала, что не просыпалась по-настоящему еще никогда. Потому что никогда еще ей не случалось с нежностью смотреть на мужчину, спящего бок о бок.
Приподнявшись на постели, она как завороженная всматривалась в лицо лежащего рядом человека. Неужели это и есть ее нежданно обретенная вторая половина? В предрассветном полумраке, который еще не успел превратиться в настоящий свет, все, на что падает взгляд, видится почти нереальным, и у Майи возникло ощущение того, что, вчера забывшись сном между жизнью и смертью, сегодня она очнулась в сказке. Улыбка сама собой освещала ей губы, а взгляд вбирал в себя черты спящего с такой кропотливостью, с которой впору собирать рассыпанный по земле клад.
«А ведь мы похожи!» – вдруг с удивлением подумала Майя, любовно скользя взглядом по взметнувшейся на подушке черной пряди Карима. Многие годы осветляя в парикмахерских волосы, она и забыла, что природный ее цвет – черный; создавая себе химические кудряшки, она и не вспоминала, что ее стихия – ровные и гладкие линии. Дни напролет под лампами дневного света среди угарной атмосферы города обесцветили ее лицо, лишили его живых природных красок; под солнцем все утраченное вернулось к ней сполна. Майя физически ощущала на своих щеках теплый румянец, точно такой же, какой она всегда привыкла видеть на лице своего спутника.
А губы! Она ясно помнила тот день в Памуккале, когда из-за поджатых почти до полного отсутствия губ она испугалась своего отражения в зеркале. Сейчас (она не видела себя, но чувствовала это) губы отчетливо выделялись на лице. Даже слегка выдавались вперед, точно, почуяв волю, с надеждой тянулись к другим губам.
Полжизни без любви… Но ведь было же что-то в этой половине жизни, что не отпускало ее, держало на коротком поводке и не позволяло пуститься в путь, чтобы наконец-то найти свою половину, обрести себя и стать единым целым. Сейчас она понимала, что: страх. Страх, что, меняя личину, по-хамелеонски прикидывался то покоем, то благоразумием, то заботой о ребенке. Страх усыпил ее разум и принял облик умирающей старушки, чтобы предстать под конец во всей своей красе неукротимым жадным вурдалаком.
Но сейчас, когда очертания того, что так долго гнуло ее к земле, стали поистине чудовищны, Майя ощущала, что больше ему не подвластна. Она победила. Она смогла полюбить. И недостойный живого человека страх перед жизнью больше не возьмет ее сердце в свой ледяной кулак.
Карим повернулся во сне. На мгновение он чуть приоткрыл глаза, но тут же закрыл их – еще не время просыпаться. С улыбкой скользя взглядом по его лицу, Майя вспоминала, какой разной казалась ей его внешность в различное время их недолгого, но фантастически насыщенного знакомства. Сперва удивила своей непривычностью: этот косой разрез глаз, эта линия губ, изогнутая, точно лук у Чингисхана… Затем, в горах, она ощутила, как мягкая темнота его взгляда словно вбирает в себя все ее горести и тревоги. Позже, в Каньоне, она оценила спокойную твердость в его чертах, а в кафе на плато Ай-Петри, где она повествовала о своей мечте, Майя впервые отдала себе отчет, что ей хотелось бы смотреть на собеседника не отрываясь, жадно вбирая взглядом и душой его молодость – это волшебное лекарство от тоски по несбывшимся ожиданиям. И потом каждый раз, когда она поднимала на него глаза, у нее возникало такое чувство, будто Карим берет ее за плечи и твердо ставит на единственно верную дорогу, по которой можно вернуться в потерянный рай. На дорогу к себе самой.
Он не мог не почувствовать, что на него пристально смотрят, и вновь открыл глаза. Его лицо было напряженным, точно он не мог отрешиться от какой-то серьезной мысли даже во сне.
– Что случилось? Опять она?
Майя с улыбкой покачала головой:
– Все хорошо. Ее больше нет. Я люблю тебя. Спи.
Днем, устав гулять по долинам среди розовых скал, они улеглись передохнуть на траве. Люди им не встречались, животные – тоже, и единственной приметой того, что Карим и Майя находятся в обитаемых местах, был воздушный шар, медленно двигавшийся у них над головами. Сперва он пролетал настолько низко, что Майя могла разглядеть периодически рвущееся из гондолы пламя, но затем стал все больше и больше удаляться ввысь.
– Это лучше делать на рассвете, – сказал Карим, наблюдая за пестрым куполом.
– Делать – что?
– Летать. Тебе не приходилось?
Майя с улыбкой покачала головой:
– Мне еще много чего не приходилось делать. А почему на рассвете лучше?
– Потому что только тогда по-настоящему видишь, как борются стихии. С одной стороны горизонт фиолетовый, с другой – белый, а в гондоле – и огонь, и лютый холод. А потом, когда начинает подниматься солнце, темнота все больше и больше становится похожей на лужу, а в какой-то момент замечаешь, что ее и вовсе нет.
– Совсем как в жизни…
– А шар вообще похож на жизнь, – задумчиво продолжал Карим. – Им ведь невозможно по-настоящему управлять: только подниматься и опускаться на какую-то высоту и учитывать, где какой дует ветер.
– Он что, разный на разных высотах?
– Как ни странно, да. На некоторых ветра нет вообще. Поэтому и невозможно назначить себе точное место посадки. Можно только к нему стремиться.
– И верить.
– Да, и верить. Но иногда смиряться с тем, что не все в наших руках. Да и сжатый воздух может закончиться раньше, чем хотелось бы.
– Ну, не грусти! – расстроенно попросила Майя. – Что с тобой вдруг?
– Мне просто интересно, по каким адресам мы с тобой разъедемся, когда у тебя закончится отпуск?
Он пристально посмотрел на нее.
– У меня нет адреса, – медленно и тяжело проговорила Майя, садясь на траве. – Я жила у Глафиры. И у тебя, по-моему, тоже нет адреса – ты живешь на колесах.
Карим молчал.
– А у меня есть ребенок, которому нужна какая-то определенность.
Воздушный шар над их головами больше не двигался. Казалось, что он застыл в одной и той же точке неба. Вероятно, именно на этой высоте и не было ветра.
– Тебе еще не надоело считать, что в жизни бывает какая-то определенность? – мрачно улыбнувшись, спросил Карим.
– Я не имею права считать по-другому.
– Тогда что ты делаешь здесь?
Майя молчала.
– Нет, серьезно? Ты объясни мне, потому что я не понимаю, что такого определенного мы забыли в Каппадокии? Твою молодость?
Майя не могла не улыбнуться.
– Ты не имеешь права считать, будто что-то знаешь наперед! – твердо сказал Карим, стискивая ее руку и глядя ей в глаза. – Просто подумай: чего ты хочешь?
Майя сделала глубокий вдох и продолжала молчать.
– Ладно, – грустно усмехнулся Карим через некоторое время, когда затянувшееся молчание стало невозможно не нарушить. – Рано или поздно я все равно узнаю о твоих планах – когда мы будем брать билеты.
Он отпустил ее руку, поднялся и отошел на несколько шагов. Майя сидела не шевелясь. Она знала, что не может позволить себе вскочить и, рывком прижавшись к любимому человеку, прошептать, что остается с ним. Перед ней стояло лицо ее ребенка – ее будущего, у которого она до сих пор продолжала оставаться в заложниках. Ребенку необходимы столичная прописка, столичное образование и столичные перспективы. Как бы ни молодела его мать, она не имеет права…
Болеро Равеля – звонок ее телефона – зазвучало настолько неожиданно и неуместно, что Майя не сразу осознала, что прошлая жизнь, оставшаяся где-то за чертой, в другой реальности, достала ее и в Каппадокии. На определителе номера значилось: «Глафира дом», и у Майи на мгновение встало сердце от нехорошего предчувствия.
– Мама, это я.
Женщина немного перевела дух, но когти предчувствия не отпускали.
– Здравствуй, мой хороший, я так по тебе соскучилась!
– Я тоже.
Но по торопливому тону мальчика мать сразу поняла, что он спешит сказать ей что-то выходящее за рамки выражения сыновних чувств.
– У вас все в порядке?
– Мам, тетя Глаша заболела.
Карим приблизился.
– С ней что-то серьезное?
– Она какая-то странная стала: лежит целыми днями, массаж не делает, только обед мне сварит и снова ляжет. И не говорит со мной совсем: я ее что-нибудь спрошу – а она отвернется к стенке и молчит. Или бормочет: «С матерью со своей разговаривай!»
Майя чувствовала, как каменеет ее лицо.
– А еще… мам, ты слушаешь? Еще она какая-то старая стала.
– Это как?
– Ну, у нее теперь все лицо в морщинах и волосы – как у старухи, такого же цвета, белого.
Карим тревожно вгляделся в Майино лицо.
– А дядя Сеня к нам больше не приходит: тетя Глаша на него накричала, и он ушел.
Майя прижала свободную от трубки руку к лицу и стала нервно его потирать.
– Мам, ты когда вернешься?
Она услышала в голосе сына отчетливый страх.
– Завтра, – тихо, но твердо произнесла Майя, собирая в голосе всю силу, на которую была способна в этот момент. – Завтра я вернусь. Ничего не бойся. Ну, заболела тетя Глаша – с кем не бывает?
– Мама… а вдруг она умрет?
А действительно, вдруг роковой окажется именно эта ночь? Майя лихорадочно пыталась нашарить в памяти хоть одного взрослого человека, к которому ее сын в случае чего мог бы немедленно обратиться.
– Никита, слушай меня внимательно, ты ведь знаешь Марию Сергеевну? Ну, тетю Машу, которая всегда на лавочке сидит, когда мы куда-то идем?
– Знаю.
– Так вот, ее квартира – на третьем этаже и расположена так же, как и наша. Если что случится, беги сразу к ней и звони, сколько бы ни было времени…
Мария Сергеевна была ближайшей приятельницей Глафиры Дмитриевны, пока с последней не начались метаморфозы. После превращения старухи в молодуху соседкам было объявлено, что Глафира Дмитриевна совсем плоха и к ней приехала внучка, названная в честь бабушки – заботиться о последней. А поскольку ухода требовалось очень много, то Майя – законная наследница квартиры (о завещании в доме знали) – тоже переселяется к ней. Теперь у подъезда вовсю судачили о том, как поделят между собой квартиру две наследницы.
– Тетя Маша теперь сама к нам каждый день заходит.
– Правда? – Майя испытала облегчение и не дала себе труда задуматься о том, почему соседка вдруг зачастила в их квартиру. – Вот и хорошо. Вот и бояться нечего. Жди меня спокойно.
– Завтра?
– Завтра!
Положив трубку, Майя подняла взгляд на Карима.
– Вот они, мои планы, – еле слышно проговорила она.
XXVIII
Вещи были собраны в дорогу, и Майя в одиночестве поджидала Карима, ушедшего за билетами на ночной автобус. Она стояла у окна, прощаясь взглядом со страной розовых гор, краем прекрасных лошадей и всей той фантастической точкой пространства, где оживает спавшая вечным сном любовь и пускаются вскачь стреноженные мечты.
Она обернулась на звук открывшейся двери – Карим входил в номер.
– Ну вот, – безупречно бодрым, но не выражающим ни малейшего удовольствия голосом произнес он, – утром, около семи, мы будем в Стамбуле – и сразу в аэропорт. Думаю, с билетом не будет проблем – еще не сезон. Так что ты выполнишь свое обещание – вернешься завтра.
Майя молча кивнула. Ее резануло единственное число слова «билет».
– До отправления – еще часа четыре, – продолжал Карим, – погуляем? А то мы так толком и не видели этот Гёреме.
– Да, пожалуй, – откликнулась Майя, чувствуя, что и ее собственный голос становится таким же искусственно бодрым, как и у Карима. – Надо же расширять свой кругозор!
Она неестественно рассмеялась, и на душе стало тяжелее вдвойне.
Если бы они могли забыть о том, в каком невероятном месте находится приютивший их Гёреме, то этот турецкий городок не представлял бы собой ровным счетом ничего примечательного. Он тянулся вдоль довольно широкой речки с камышами в два человеческих роста и стайками белых гусей на темной вечерней воде. Типичные для подобных селений, словно сросшиеся между собой крошечные домики. Дань современности – яркие витрины. Несколько однотипных мечетей. Кофейни по берегам реки. Но стоило повернуть голову – и на фоне приземистых строений вырисовывались конусы первых каппадокийских гор, вторгшихся в городскую черту. В них были вырублены вполне современные пещеры, освещенные изнутри и служившие не то для VIP-жилья, не то в качестве клубов и ресторанов.
– Интересно, каково это, – проговорила Майя, облокачиваясь на перила моста, – постоянно жить среди сказки?
– Если в чем-то живешь постоянно, значит, для тебя это уже не сказка, – проронил в ответ Карим, опираясь на перила рядом с ней.
– Значит, невозможно и любить постоянно, – рассудительно, словно успокаивая саму себя, произнесла Майя. – Потому что тогда это уже не любовь.
– А что же это?
– Не знаю – мне не приходилось в ней задерживаться надолго. Нырнула – вынырнула, дышишь дальше.
– По-твоему, если любишь, дышать уже нельзя?
– Нет, – с грустной убежденностью покачала головой Майя. – Если любишь, тебя это захлестывает с головой. А потом всплываешь, радуешься, что уцелела, начинаешь ценить то, что имеешь…
Она засмеялась, чувствуя, как все более и более неживым становится ее голос.
– Мне жаль тебя, – коротко откликнулся Карим.
– Напрасно! – с нарочитой веселостью воскликнула Майя. – Я ведь теперь молода!
– Вот потому и жаль: если живешь не любя, то лучше быть старухой. Это по крайней мере не вызывает вопросов.
Майя не нашлась что ответить и молча повернула вслед за Каримом к гостинице.
Перед тем как сдать ключи, она заглянула в ванную комнату – не осталась ли на полочке зубная щетка. Полочка была девственно чиста, но, закрывая за собою дверь, Майя краем глаза поймала свое отражение в зеркале. Она замерла. Затем, как под гипнозом, сделала шаг к самой себе. Несколько секунд она, все более мертвея, вглядывалась в беспристрастное стекло, а потом…
…Потом Майя увидела над собой лицо Карима. Она почему-то лежала на кровати и испытывала тупую боль в затылке. Одновременно у нее горел висок. С трудом осознавая происходящее, женщина поднесла к нему руку и нащупала вспухшие ссадины.
– Хорошо, что на полу был коврик, – сказал Карим, – а виском ты задела держатель для туалетной бумаги.
– Я что, упала?
Карим кивнул.
Майя резко села на кровати: она с ужасом вспомнила то, что предшествовало ее падению.
– Посмотри на меня! – прошептала она. – Посмотри внимательно! Это я?
Карим улыбнулся в недоумении:
– А кто еще это может быть?
– Она! – не смея сделать голос хоть на йоту громче, шептала Майя. – Там, в ванной, в зеркале была она. И она еще, знаешь, усмехалась. И я поняла, что это – все, что она никогда не отпустит меня, ведь она – во мне. Господи! За что мне это?!
– Не трогай Бога – это не от него, – медленно произнес Карим. Сведя брови, он смотрел мимо Майи, словно напряженно что-то обдумывая в этот момент.
– Она все равно прикончит меня, – с трудом преодолевая слезы, бормотала Майя. – Я думала: она умрет – и я смогу забыть, а она не умирает, она поселилась во мне. Она больше не даст мне ни любить, ни мечтать, ни бороться за счастье. Уже не дает! Ведь я уже не верю в то, что мы с тобой можем быть вместе.
Застонав, она отвернулась и крепко закрыла глаза. Но воспоминание о том, что она только что увидела в зеркале, не отступало: дрябло обвисшие бледные щеки, овраги морщин, ведущие к проваленному рту, высохшая шея… Но главное было не это: ее преследовал тот жестокий, темный взгляд, что мрачно пылал из глубины глазных впадин. Неужели теперь это ее взгляд? Взгляд ненависти ко всему живому, что есть в человеке, а более всего – к способности любить. Взгляд, наполненный не теплом сердца, а жгучим холодом бездонного провала в душе. Взгляд старухи… но это взгляд не мудрой, усмирившей страсти старости, а бессмысленной яростной смерти.
– О Господи, – шептала Майя, пытаясь зарыться лицом в подушку как можно глубже и словно страус спрятать голову от действительности. – Господи! – Она вцепилась в руку Карима. – Не отдавай меня ей!
– Не отдам. Если ты, конечно, сама не уйдешь.
Майя со вздохом привалилась к нему головой. Ей было изнуряюще тоскливо оттого, что веру в любовь и надежду на счастье ей столько раз в жизни приходилось с корнем выдирать из души. И вот сейчас, когда и то и другое наконец-то пришло к ней, любовь никак не может прочно укорениться и едва образовавшаяся завязь то и дело готова сморщиться и увянуть. И пустить взамен себя кладбищенский холод – старуху.
– Что мне сделать, чтобы она больше не возвращалась? – прошептала Майя.
– Закрой глаза, – услышала она.
Майя покорно смежила веки. Сперва под ними было просто темно, порой что-то поблескивало, порой наплывали какие-то пятна. Потом перед мысленным взором встало поросшее маками поле, розовые горы. Они приближались и двигались то вверх, то вниз, точно женщину по-прежнему нес на себе Горизонт. Затем она ощутила воспламеняюще нежное прикосновение поцелуев к своему лбу, векам, вискам. Обнимавшие ее руки сжимались все крепче, и Майя все явственней ощущала, что ее собственная воля не имеет сейчас никакого значения. Да у нее и в мыслях не было противопоставлять свою волю происходящему. Теперь поцелуи прикасались к ее обнажившимся плечам и груди, и Майе стало казаться, что скачка ее подошла к концу и сейчас она лежит в поросшем маками поле, а небо распахивается над ней во всем своем безбрежном великолепии. Она раскинула руки, и волосы разметались по подушке, а обнаженное тело трепетало, как маки под ветром. Вот и все. И все на удивление просто. Но как невероятно смешно, что ей пришлось добраться аж до Каппадокии, чтобы понять, что человек приходит на землю для любви. И что смерть незримо идет с ним бок о бок, всякий раз готовая взять свое, если любовь сворачивает знамена.
Ей казалось, что сердце исходит нежностью, словно перезревший и чудом спасенный от губительной гнили плод. Неужели когда-то в ее жизни случались другие прикосновения, и шепот другим голосом, и трепет в других руках? Если это и было, то она никогда по-настоящему не отдавала себя этим людям, а лишь пыталась получить в их постелях жалкое убежище от страха. Страха перед неприкаянным будущим. А судьба смеялась и каждый раз выставляла ее за дверь, чтобы она наконец-то могла нащупать дорогу, ведущую к любви. И как ей было не понять этого раньше?
Розовые горы. Мчащийся галопом Горизонт. Воздушный шар, подгоняемый огнем, победоносно взмывает в каппадокийское небо. Если кто-то и имеет право торжествовать над другими, так это любящий человек. Человек, распахнувший душу настолько широко, что в ней не осталось ни закутка для страха. Человек, превратившийся для другого в безбрежное, заливаемое светом поле. На этом поле нет ни единой тени и ни единой преграды, и твой возлюбленный будет ступать по нему легко, нежась на солнце и раздвигая грудью травы.
Она вслепую обняла склонившуюся к ней голову, прижала ее к своей груди. Ею владел невероятный, умиротворяющий покой. Молода она или нет, она не подвластна смерти. Той смерти, что несет с собою старуха – безжизненному холоду ко всему живому.
– Что с тобой? – спросил Карим, тревожно заглядывая ей в лицо.
– Я жива! – прошептала Майя, широко распахивая глаза. И, вдруг обретая голос, расхохоталась:
– Жива, понимаешь? И больше ее не боюсь!
XXIX
В стамбульском аэропорту им очень повезло с билетами – их удалось купить практически сразу и на ближайший рейс. Карим и Майя пили кофе, поджидая, пока будет объявлена регистрация, когда женщина заметила среди пассажиров, прилетевших последним самолетом и готовых выйти в город, знакомое лицо. Она до того разволновалась, что тут же вскочила и, забыв сказать Кариму хоть пару слов в объяснение, бросилась наперерез идущему по залу мужчине.
– Арсений!
Тот удивленно обернулся. В еще большем удивлении обернулась его спутница. Как бы ни была взволнована Майя, она узнала в этой девушке одну из постоянных героинь его ток-шоу, появлявшуюся на экране так часто, как это только дозволялось редактором программы – раз в три месяца.
– Арсений, ты что, меня не узнаешь?
Он искренне хмурился, пытаясь догадаться, кто эта женщина, с таким нетерпением ждущая от него ответа. Одновременно Арсений не мог не отметить, что незнакомка весьма интересна внешне, не сказать что красива, но именно интересна: яркие, выразительные глаза, роскошная вороная грива до середины спины, спортивная фигура. Кем бы она ни была, он не прочь возобновить знакомство.
– Вы участвовали в нашем ток-шоу? – наконец попробовал предположить он.
– Я Майя – соседка Глафиры.
Майя многократно слышала выражение «округлились глаза», но впервые увидела это воочию: глаза у Арсения стремительно расширились и стали значительно круглее, чем были.
– Не может быть! – до предела банально произнес он.
Майя торжествующе кивала; Арсений ошеломленно качал головой.
– А что с тобой случилось? Как… Откуда у тебя такие волосы?
Майя с улыбкой тряхнула головой:
– Это не парик – можешь проверить!
Спутница Арсения демонстративно громко поставила стоймя сумку, которую тянула за собой. Арсений не обратил внимания.
– Ты как будто… другой человек.
– Просто я хорошо отдохнула, – вдоволь натешившись его потрясенным видом, решила объяснить Майя. И нарочито невинным тоном спросила:
– Как там, в Москве? Какие новости? Расскажи мне, если не спешишь…
Арсений не спешил: они со спутницей приехали в Стамбул прибарахлиться дизайнерской одеждой в сезон весенних скидок, и не было повода полагать, что те закончатся в ближайшие полчаса. Отведя Майю в сторону (девушка из ток-шоу пристально за ними наблюдала), Арсений сообщил ей следующее: Глафира форменным образом сошла с ума. Первые пару дней после отъезда Майи она держалась мрачно и замкнуто и отменила все встречи с клиентами, а затем в нее и вовсе точно бес вселился. Хамство по малейшему поводу, а то и без повода, бесконечные язвительные шпильки, раздраженные замечания… А ужинать с ней стало просто невозможно.
– Ты представляешь, я прихожу, а на столе – колбаса, из которой жир так и выпирает, и овощи майонезом ну просто залиты! Я полез в холодильник, нашел там пару йогуртов – их и съел, а она меня на смех подняла: «Что, – говорит, – за фигурой следишь, метросексуал? Ногти у тебя еще не накрашены?» И это при твоем Никите! А вдруг он не знает, что такое «метро» и спутает с «гомо»? И потом: да, я слежу за фигурой, у меня работа такая! И за ногтями слежу – я же не землекоп. Не понимаю, зачем издеваться? Или звонит мне кто-нибудь на сотовый, а она встанет рядом и слушает. Я ухожу в другую комнату, а она начинает: «Иди-иди, любезничай со своими поклонницами! Пойдешь на работу – презервативы не забудь!» Нет, ну представляешь? И опять все при ребенке. А вдруг он еще не знает, что такое презервативы? И вообще: зачем она так?
Арсений выглядел искренне расстроенным и возмущенным, и Майя успокоительно коснулась его рукой. Увы, она могла бы во всех подробностях объяснить, зачем Глафира вынимает душу из близких людей, но формат короткой встречи в аэропорту к этому не располагал.
– И так каждый день. Ну, в итоге я, конечно, на все это плюнул…
«Вот и молодец!» – мысленно одобрила Майя. Она была рада тому, что хотя бы Арсений вырвался из объятий Глафиры с неповрежденной психикой, и в его воспоминаниях это невероятное существо окажется всего лишь ангельски прекрасной женщиной с адским характером.
– Не по-человечески она как-то себя ведет.
Майя замерла: неужели и он почувствовал? А Арсений тем временем отвлекся от Глафиры и вернулся к действительности.
– Слушай, Майя, ты потрясающе выглядишь! Надо нам будет пересечься в Москве – обсудить, где ты так отдохнула.
Он посмотрел на нее профессионально-обаятельным взглядом, и Майя, окрыленная мужским интересом, на который была так скудна вся ее жизнь, не могла не пококетничать в ответ:
– Обсудим, не вопрос!
– Прошу прощения, что я вас отвлекаю, – сказал подошедший Карим, в чьем голосе нельзя было угадать ни малейшего намека на раздражение, – но объявлена регистрация на наш рейс.
* * *
– Это ведущий ток-шоу с нашего канала, – торопливо начала объяснять Майя, когда они встали в очередь.
– Да, вид у него соответствующий, – откликнулся Карим, – настоящий метросексуал.
– Ты знаешь, как они выглядят? – удивилась Майя.
– Я иногда спускаюсь с гор.
Он протянул билеты девушке за стойкой регистрации.
Майя колебалась: сперва она хотела честно объяснить, какую роль в ее жизни играл Арсений и что ей требовалось от него узнать, но затем проснувшееся в ней женское начало взяло верх. Немного таинственности в ее отношениях с другими мужчинами не помешает. Майя игриво продолжала:
– Так что мы просто коллеги, можешь не ревновать.
– А кто тебе сказал, что я ревную?
Майя замерла на месте от неожиданности, но ее дорожная сумка уже въезжала в темное чрево рентгеновского аппарата, и женщине волей-неволей пришлось пройти вперед.
– Не ревнуешь?
– А зачем?
Карим снял свой рюкзак с черной ленты и направился к паспортному контролю.
Майя растерялась: ревность казалась ей настолько естественным проявлением неравнодушия, что полное ее отсутствие, которое сейчас демонстрировал Карим, задевало самолюбие.
– Как это зачем? Ревнуют не зачем, а потому что.
– Потому что дураки, – согласился Карим, – те, кто это делает.
– То есть как?
– Ты же не моя собственность, – сказал он, оборачиваясь к ней с легкой насмешкой, – у тебя свой путь. И с кем ты пойдешь вместе, ты будешь решать только сама.
Он пересек ограничительную линию и встал перед офицером паспортного контроля. Одновременно Майе пришлось встать перед другой кабинкой. Турецкий офицер долго вглядывался в ее лицо, сравнивая его с фотографией в паспорте, но, целиком захваченная волнением, Майя и не вспоминала, насколько ее фото теперь отличается от нее самой.
Свобода… А ей-то всегда было сладко считать, что любящий человек твердо ведет любимого за собой по жизни и не отпускает раз протянутую руку, что бы ни случилось. И, если уж на то пошло, Карим заново создал ее, а значит, в какой-то мере она действительно его собственность.
Заметив, что турецкий офицер смотрит на нее выжидательно и устало, Майя поняла, что, задумавшись, замешкалась. Она проворно сгребла со стойки свои документы и последовала за Каримом, который шел в зал ожидания, не поворачивая головы. С перебаламученной душой она созерцала его уверенно распрямленную спину, расслабленную и вместе с тем пружиняще-собранную походку. Такая осанка и такие движения – у людей, которые знают, чего хотят, и умеют этого добиваться. Они готовы противостоять любым неожиданным выпадам судьбы и, оправившись от удара, уверенно следовать выбранным путем. Эти люди не боятся жить, бороться и завоевывать, но не боятся и оставлять за спиной то, что навсегда потеряло цену. И с небывалой прежде четкостью Майя осознала, что ей никогда не сделаться частью этого человека; только его спутницей, только равной, а значит, так же сильно верящей в себя, как и он.
Она остановилась, расправила плечи и сделала глубокий вдох. Поймала взглядом свое отражение в витрине ближайшего магазина duty free и победоносно улыбнулась. Ей нечего бояться свободы. Как и во всех остальных дарах Карима, в этом нет ничего, кроме блага. Спокойными, четкими движениями Майя убирала в нагрудную сумочку свои документы и не переставала улыбаться. Да, она свободна. Молода, хороша собой, уверена в себе и свободна. Свободна для любви.
Карим почувствовал обращенный на него взгляд и обернулся. И что-то изменилось в его лице, точно он увидел другого человека. Майя дорого дала бы за то, чтобы узнать, что он думает в этот момент: восхищается, удивляется, воспринимает как должное? Он сделал шаг ей навстречу, и Майе вдруг подумалось: а ведь это первый его шаг по направлению к ней; до сих пор он вел ее за собой. Но теперь она идет своим путем, а он ступает ей навстречу по той же самой дороге… Они встретились на полпути друг к другу и, не произнося ни слова, бок о бок направились к двери, откуда им предстояло пройти на посадку.
XXХ
Неуверенно дернувшись, лифт остановился на лестничной площадке возле квартиры Глафиры.
Майя опустила свою дорожную сумку на холодный кафель и приложила руку к груди, словно пытаясь унять вдруг зашедшееся в ударах сердце. Она казалась себе полностью обессиленной, да так оно и было. Что ее ждет за этой дверью, обитой черным дерматином? Лучше и не пытаться себе представить. Едва переставляя ноги, Майя приблизилась и нажала на кнопку звонка.
Открывший ей дверь сын крепко обхватил ее руками и прижался всем телом; Майя почувствовала себя немного лучше. Она начала знакомить его с Каримом и вдруг поняла, что не знает, как представить своего спутника. Впрочем, Карим нашелся и отрекомендовал себя мальчику так:
– Мы с твоей мамой вместе исследовали одну пещеру в Каппадокии. Помнишь, ту самую, куда ты пытался залезть?
– И что вы нашли? – Никита едва не подпрыгнул на месте.
– Сейчас узнаешь. Прежде всего я хочу сказать, что твоя мама была права: без подготовки в такую пещеру забираться нельзя. Там может оказаться довольно опасно…
Майя была благодарна Кариму за то, что он занял ребенка разговором. Оставив обоих кладоискателей беседовать в коридоре, она на ватных ногах прошла в комнату Глафиры.
Старуха лежала в постели, закрыв глаза. Да, это вновь была старуха, причем гораздо более дряхлая, чем Майя помнила ее до перевоплощения. Ее лицо напоминало своим цветом то застиранное неживое, раз и навсегда потерявшее белизну белье, которым застилают больничные койки. Словно бы уже припорошенное могильной пылью… Множество морщин погребали под собою щеки, шею, подбородок; лишь лоб оставался каменно выпуклым и гладким, но и он был испещрен бесчисленными коричневыми пятнами, точно его уже одолели лишайники. А вот нос, совершенно крошечный в присутствии такого лба и такого количества морщин, показался Майе единственным, что живого еще оставалось в старухе. Маленький, беспомощный, прямо-таки детский, если бы не дряблая кожа, нос… Прилив сострадания перевернул в ней душу, хотя, казалось бы, эта душа раз и навсегда похоронила старуху.
– Глафира Дмитриевна! – едва одолевая рыдания в горле, прошептала она. – Я вернулась.
Старуха приоткрыла глаза. Как ей мучительно трудно поднимать веки! Она шевельнула губами, но голос не прозвучал. Тогда Глафира взглядом указала Майе на поильник, стоявший возле нее на тумбочке. Женщина проворно бросилась помогать, предусмотрительно приподняла старухе голову, но та, начав пить, все равно закашлялась, и кашляла долго, прежде чем наконец-то смогла произнести приветственные слова.
– Дрянь! – прохрипела Глафира.
Майя вздрогнула и отпрянула – что ни говори, она отвыкла от старухи! Несколько капель клюквенного морса пролилось из поильника на простыню прямо возле лица ее мучительницы.
– Дрянь! – уже с наслаждением повторила Глафира, опуская голову на подушку. – Ну что, довольна, что меня бросила? Довольна, довольна, мужика себе подцепила! Так это не ты его подцепила, кошка ободранная, а квартира твоя московская. Вот скажи ему сейчас, что квартира тебе не достанется, посмотришь, как быстро он удочки смотает.
Прежде чем Майя смогла прийти в себя от услышанного, в комнату зашел Карим. Он поздоровался. Старуха не ответила.
– На что в тебе польститься-то можно? – продолжала она, демонстративно повернувшись к Майе. – Ни рожи, ни кожи. Волосенки – как пух. Хоть бы ты их нарастила в парикмахерской, что ли!
– Глафира Дмитриевна, – в ужасе закричала Майя, пораженная последней фразой больше, чем всеми предыдущими унижениями, – разве вы не видите, какие у меня волосы?!
Она яростно выдернула из волос заколку (первую заколку за семнадцать лет, изящной работы, подаренную Каримом в Турции) и тряхнула волосами. Вороная грива послушно разлетелась по плечам.
– Ну и что ты тут головой трясешь? – насмешливо осведомилась Глафира. – Волос-то как не было, так и нет.
В этот момент Майе показалось, что у нее неминуемо что-то взорвется в голове. Или же она не справится с собой и растерзает это распростертое на кровати полуживое зло. Однако ни тому ни другому не дал осуществиться Карим. Быстро подойдя, он обнял женщину за плечи и заставил встать со старухиной постели.
– Идем отсюда! – решительно, как никогда прежде, заявил он. – Идем, тебе здесь больше нечего делать.
– Квартира! – обессиленно прошептала Майя в ответ. – Я должна дотерпеть до конца.
– Да не будет этому конца!
– Ну как же не будет? – шепотом продолжала женщина, как ни передергивало ее от необходимости обсуждать подобное с любимым человеком. – Вот он, уже почти конец.
Карим покачал головой.
Одновременно с его невеселым пророчеством хлопнула входная дверь. Вскоре в комнату уже торопливо семенила Мария Сергеевна, та самая соседка, к которой Майя велела сыну обращаться в случае чего.
– А, Маюша приехала! – без тени радости констатировала она.
– Да уж, приехала, – раздалось с Глафириной постели, прежде чем Майя успела поздороваться, – чуть в гроб меня не вогнала своим приездом!
– Глафира Дмитриевна! Да не может быть! – Соседка бросилась к старухе с такой подобострастностью, что Майе стало не по себе.
А у Глафиры по бороздкам между морщинами текли слезы.
– Вот, Мария Сергеевна, поглядите, до чего она дошла! Как узнала, что квартира ей не достанется, так решила хоть что-нибудь ценное отобрать напоследок. Вот, полюбуйтесь на нее!
Майя еще не успела осмыслить слова об ускользнувшей от нее квартире, когда ее наотмашь ударило обвинение в воровстве. К вящему ее ужасу, и Карим, и Мария Сергеевна смотрели на нее широко раскрытыми глазами. Направление их взгляда не оставляло сомнений, и Майя, цепенея, схватилась за шею.
Она не понимала, каким образом он мог там оказаться, но он оказался там. Кулон с оранжевыми гранатами был слишком необычным произведением искусства, чтобы спутать его с чем бы то ни было, даже на ощупь. И сейчас он лежал на груди Майи, чуть ниже подключичной ямки, там, где загорелая, гладко натянутая кожа выгодно оттеняла сияние камней.
– Это неправда! – панически вскрикнула Майя, и ее руки метнулись расстегивать замок цепочки. – Это неправда! Я ничего у нее не брала!
– Не брала ты, как же! – со слезами выдохнула Глафира. – Аж нос мне раскровенила, пока отнимала.
И она, выпростав скрюченные пальцы из-под одеяла, ткнула на пятна, оставшиеся от клюквенного морса.
– Это неправда, – как заклинание шептала Майя, которая, будучи не в состоянии расстегнуть замок, глядела на всех глазами приговоренного к смерти человека. – Карим, ты веришь, что это неправда?
– Я верю.
Он подошел к женщине, легко справился с замком, который никак не давался ее пальцам, и швырнул кулон старухе на постель.
– Вы бы лучше шли отсюда от греха подальше! – стала неожиданно наступать на них Мария Сергеевна. Черты ее лица преобразились и из приятно-безликих стали отталкивающе-бесчестными. – Что вам тут делать-то теперь? Квартира-то все равно не ваша.
– Как не наша? – еле выталкивая из горла слова, переспросила Майя. – Она же мне завещана!
– Была тебе. А теперь вот – мне.
Четвертью часа позже Карим вошел в ту комнату, где Майя сидела на полу, прислонившись к стене, и невидящим взглядом смотрела в пространство. Примостившийся рядом Никита держал мать за руку, словно боялся, что она вот-вот ускользнет от него в то четвертое измерение, где находилась теперь ее отчаявшаяся душа.
– Квартира действительно записана на нее, – тихо проговорил Карим. – Она показывала мне договор дарения: все чин чином. Теперь завещание не имеет силы.
– За что мне это? – прошептала Майя.
– Ты неправильно ставишь вопрос, – вздохнул Карим, усаживаясь на пол с другой стороны и беря ее за свободную руку. – Не за что, а для чего. Я могу ответить: для того, чтобы ты стала сильнее. А зачем еще нужны испытания?
В дверях комнаты показалась Мария Сергеевна.
– В общем, так, – решительно начала она, – делать вам тут всем больше нечего, поэтому давайте, освобождайте помещение. Я в хозяйки не сама напросилась, это Глафира Дмитриевна так порешила, когда Майя сбежала, а ее одну, больную, бросила. Да еще и ребенка на нее повесила.
Майя вскинулась возразить, но Карим сжал ее руку: любые доводы чести и рассудка здесь были уже бесполезны.
– Пока вы там в Крыму загорали, я с ног сбилась, за ней ухаживая. Вот она и оценила все по справедливости.
– Мне некуда идти, – глухо сказала Майя, не поворачивая к престарелой ехидне головы.
– Как это некуда? Ты разве не москвичка? Вот и возвращайся к родителям!
Майя покачала головой:
– Мама умерла, когда я была еще студенткой. А теперь у отца новая семья и двое новых детей. И все это в нашей двухкомнатной квартире. Уж кого-кого, а меня там не ждут.
– Но у тебя же есть там площадь? По закону? – допытывалась Мария Сергеевна.
– По закону – да.
Наступила пауза, во время которой Мария Сергеевна собиралась с силами для новой атаки, но тут слово взял Карим.
– Мы уедем, – спокойно заверил он пособницу Глафиры, – но не прямо сейчас. Майе нужно доработать две недели до увольнения. Так положено. По закону.
– Куда это вы уедете? – заинтересовалась Мария Сергеевна.
– В Севастополь.
Майя ясно ощутила, как что-то непредсказуемое произошло с ее сердцем в этот момент: оно не то ухнуло вниз, не то взмыло вверх; во всяком случае, ему не хватило места в груди.
– В Се-ва-сто-поль? – по слогам повторил Никита, неожиданно оживляясь. – А Балаклава от него далеко?
– Не очень, – откликнулся Карим. – А что?
– Да ведь там затонул фрегат «Черный принц»! А на нем везли жалованье солдатам во время русско-турецкой войны. И это сокровище до сих пор не найдено!
– Вот и хорошо, – невозмутимо проговорил Карим. – Значит, тебе будет чем заняться.
XXХI
Те две недели, что Майя передавала свои дела новой сотруднице на работе перед тем, как отправиться в крымскую неизвестность, были, пожалуй, самым странным временем в ее жизни. Впервые она не имела ровным счетом никаких четких представлений о будущем, но впервые ни о чем не беспокоилась. В ней жила небывало твердая уверенность, что все сложится именно так, как должно сложиться. А не сложится – значит, не из чего было и складывать. Лишив Майю московской квартиры, судьба безапелляционно, как хирург, освободила ее от старухи и связала с Каримом – так жаловаться ли ей теперь на это? И, задумываясь о том, какая невероятная цепь случайностей должна была сложиться, чтобы соединить ее с любимым человеком, Майя впервые за много лет ощущала улыбку на губах во время работы.
Карим и Никита вместе бродили по Москве. Звоня им время от времени, Майя заставала свежеиспеченных друзей то на Поклонной горе, то в зоопарке, то в каком-нибудь игровом центре, где оба с одинаковым воодушевлением носились на виртуальных мотоциклах и палили по виртуальным мафиози. Встречаясь с ними вечерами, она затруднялась определить, кто из двоих получил большее удовольствие от проведенного подобным образом дня.
Глафира существовала как будто в другом измерении. Будучи не в состоянии подняться на ноги, она не выходила из своей комнаты и если и напоминала о себе, то разве что громко работающим телевизором. А оборотистая Мария Сергеевна, которую Карим окрестил «квартирной воровкой», старалась переделать все дела по уходу за своей благодетельницей и убраться из квартиры пораньше – до прихода Майи. Как бы уверенно она себя ни чувствовала с точки зрения закона, видимо, нечистая совесть давала о себе знать.
Кстати, вскоре обнаружилось, что ловкая тетушка уже вовсю начала извлекать пользу из дарованной ей недвижимости. Карим и Никита рассказывали, что «квартирная воровка» стопками носит из Глафириной комнаты какие-то старинные книги. Само наличие таких книг не стало для Майи откровением: еще когда она сама ухаживала за Глафирой, она была заинтригована наличием в книжном шкафу многочисленных томиков на немецком языке в кожаных переплетах. По-настоящему удивляло другое: 1) что будет делать с этими библиографическими ценностями недалекая любительница «мыльных опер»? 2) откуда у Глафиры, в чьем роду не водилось аристократов, взялись прижизненные издания Гете и Гофмана, а также Библия, иллюстрированная гравюрами Доре?
Ответ на первый вопрос, хоть и окольными путями, но удалось найти довольно скоро. Мария Сергеевна таскала книги в некий аукционный дом, и, судя по ее неизменно довольному в последнее время виду, немецкие классики имели там успех. Правда, на гардероб «квартирной воровки» этот успех никак не повлиял, но Майя была уверена, что тетушка складывает в полиэтиленовый пакетик под своим облезлым ковром довольно приличные суммы.
За разъяснением второй загадки Кариму пришлось позвонить матери, и неожиданно выяснилось следующее. После победы в Великой Отечественной войне наши офицеры вывезли из Германии огромное количество подобных раритетных книг. Причем это не было даже мародерством: любому мало-мальски образованному человеку было бы жаль оставлять в полуразрушенном, покинутом хозяевами особняке, где временно разместились советские солдаты, ценнейшие книжные коллекции. Ну что их ждет? Ведь или дожди зальют, или крысы съедят. Офицеры честно писали рапорты начальству – начальство устало отмахивалось: до книг ли тут! И тогда немецкие фолианты стали находить приют в чемоданчиках советских офицеров. Одним из них был Леонид Петрович, муж Глафиры.
Однако переездом в Советский Союз посмертные странствия немецких классиков не заканчивались. Большинство офицеров сдавали привезенное в библиотеки, а те переправляли книги с готическим шрифтом в центральное книжное хранилище страны – Библиотеку имени Ленина. Послевоенная Ленинка, обремененная несметным количеством проблем, не нашла ничего лучше, как складировать Гете и Гофмана в сыром и неотапливаемом одноэтажном строении за Пашковым домом. Только в шестидесятые годы о немцах снова вспомнили, но лишь затем, чтобы наконец-то освободить занимаемое ими помещение. Набрали людей для сортировки и укладки, заполнили стопками в кожаных переплетах несколько грузовиков и… вывезли на еще более неблагоустроенный склад в Подмосковье – догнивать там. Чтобы через какое-то время можно было честно списать в утиль никому не нужные порывы души, запечатленные на бумаге.
Однако ничтожный процент приговоренных книг все же уцелел, как это всегда бывает с приговоренными. Сортировщикам – родственникам и знакомым сотрудников Ленинки – удалось под одеждой вынести из этой братской могилы часть обреченной коллекции. За сортировщиками следили не слишком строго: в мае, когда начались работы, в помещении стояла такая пыль, что невозможно было зайти туда без респиратора и очков. Проверяющие не часто заглядывали внутрь – и книги оставались в живых. А одним из сортировщиков по стечению обстоятельств был Петя, сын Глафиры, подрабатывавший тайком от нее, чтобы обеспечить будущего ребенка. Он вполне логично рассудил, что мать не станет пересчитывать количество старинных немецких книг, уже стоящих дома на полке благодаря отцу.
До поры до времени его расчет оправдывался, но в итоге Петя все же был разоблачен. Последовал скандал, и антикварная коллекция, заложенная Леонидом Петровичем, навсегда перестала расти. А сейчас Глафира и вовсе дала добро на то, чтобы книги, хранящие память о двух самых близких ей людях, разлетелись с аукциона. Майя горько покачала головой: она дорого дала бы за то, чтобы понять, есть ли у Глафиры душа.
Доживая последние дни рядом со старухой, она пыталась иногда представить себе Глафиру в детстве. Ведь была же та когда-то маленькой девочкой с большими серыми глазами и смешной челочкой над выгоревшими бровками. Ведь когда-то и она засыпала на руках у матери, училась вставать на собственные ножки и падала, пытаясь пробежать по первой весенней траве. Когда, почему, как переродилась она в то, что одной своей близостью приводит к смерти? Восхитительной красоты девушка, которой было отпущено столько даров… Содрогаясь от этих мыслей, Майя порой вспоминала, что в библейском предании именно светлейший из ангелов – Денница – в итоге стал сатаной.
Однако, что бы она ни передумала в эти дни о Глафире, в их с Каримом разговорах старуха более не всплывала. Словно оба не сговариваясь решили, что это невероятное существо, обитающее в соседней комнате, принадлежит прошлому. Их же собственные отношения принадлежат будущему, а потому напоминанию о когда-то возможной, но несостоявшейся смерти в них не место. Будущее же само напоминало о себе бесконечными звонками клиентов Карима. Разгорался туристический сезон, и Крым настойчиво звал его к себе. Впрочем, уже не его одного – их обоих.
Мало-помалу наступило время, когда Карим отправился брать билеты на поезд Москва – Севастополь, а несколько дней спустя, в пятницу, Майе устроили отвальную на работе. Навсегда покидая офис, женщина задавалась только одним вопросом: как она могла допустить, чтобы на протяжении стольких лет ее жизнь протекала настолько уныло? Год за годом без веры и любви, даже почти без надежды, которые она продержалась лишь благодаря намертво стиснутым зубам и ледяному корсету, сжимавшему душу. Обернувшись, Майя в последний раз окинула взглядом безликие белые стены, еще более безликую серую оргтехнику, своих замурованных в этой безликой серости коллег и с облегчением распахнула дверь, ведущую в светлый июньский вечер.
На следующее утро, перед тем как отправиться на вокзал, она зашла к Марии Сергеевне – передать ключи от квартиры. Входная дверь была почему-то лишь прикрыта, а не захлопнута, но Майя решила тем не менее позвонить. На звонок откликнулись сразу – дверь распахнул человек в милицейской форме.
Женщина непроизвольно отшатнулась. Что тут могло произойти? Но прежде чем задать милиционеру вопрос, она зацепилась взглядом за зеркало в прихожей и окаменела: зеркало было занавешено простыней.
Одновременно из глубины квартиры донеслись рыдания, и Майя увидела дочь Марии Сергеевны, которая закрывала лицо руками и, раскачиваясь, брела по коридору. Затем показался и ее сын. Изрядно принявший по случаю смерти матери, он находился в том самом состоянии, которое принято называть «никакой». Плюхнувшись на ободранный пуфик в прихожей, он привалился к стенному шкафу и перестал подавать признаки жизни.
Попрощаться с покойной Майя не смогла – тело было уже в морге. Точнее, на судмедэкспертизе: требовалось определить, каким орудием совершено убийство. Если бы Марию Сергеевну не застали дома, то, по словам милиционера, дело бы ограничилось квартирной кражей, но, на беду, в это время шел тетушкин любимый сериал, и она как привязанная сидела у телевизора. Устранив хозяйку квартиры, грабители перерыли все шкафы и скинули все книги с нескольких несчастных книжных полок.
– Вы не знаете, что они могли искать? – спросил у Майи милиционер.
Та покачала головой.
– Может быть, антиквариат?
– Да откуда у нее антиквариат?! – рыдая, выкрикнула из комнаты дочь. – Всю жизнь в магазине, в овощном отделе, проработала.
– А откуда столько квитанций из аукционного дома?
Майя снова окаменела – на сей раз оттого, что теперь твердо знала разгадку смерти Марии Сергеевны. По наводке из аукционного дома грабители пришли за старинными книгами. Не могли же они знать, что ловкая тетушка таскает их из другой квартиры! Очевидно, ни сын, ни дочь Марии Сергеевны не были в курсе ее книжного бизнеса – та держала рот на замке, чтобы плохо устроенные в жизни дети не начали клянчить у матери деньги.
– А вы, собственно, кто? – строго спросили у Майи.
– Я соседка, – медленно выговорила та. – Вот, уезжаю в отпуск, хотела попросить, чтобы Мария Сергеевна поливала мои цветы.
И она показала зажатый в руке ключ.
– И что же теперь делать? – одновременно спросили Карим и Никита, когда Майя сообщила им горестные новости. Их голоса звучали на удивление похоже: тихо, подавленно.
Как всегда в минуты волнения, Майя провела рукой по лицу. Время катастрофически поджимало: если сейчас не выйти из дома, они не успеют на поезд. Но оставлять Глафиру на произвол судьбы… Прежде необходимо выяснить, собираются ли наследники Марии Сергеевны продолжать дело матери и ухаживать за старухой.
– Придется, куда мы денемся, – мрачно согласилась Лида, ее дочь (сын по-прежнему находился в невменяемом состоянии). – Много ей осталось-то? Как ты думаешь?
– Понятия не имею, – резко ответила Майя.
– А то переоформит еще квартиру на кого-нибудь другого… С нее станется.
– Не волнуйся, не переоформит, – презрительно бросила Майя. – Это завещаний можно составлять сколько угодно, а договор дарения регистрируется государством, так что вы с братом, считай, уже собственники. Ну, через шесть месяцев вступите в наследство и будете собственниками. Ладно, я пошла – мы на поезд опаздываем.
– Погоди-ка! – Лида шагнула к ней с обеспокоенным лицом. – Где это он регистрируется, этот договор? Мать ничего такого не делала.
– Ну как же, а Мосжилрегистрация?
– Мосжил… чего?
Майя остановилась на полпути к дверям; ею стало овладевать странное подозрение.
– Покажи-ка мне свидетельство о собственности, – велела она.
Взамен свидетельства о собственности на квартиру государственного образца Лида принесла ей две распечатанные с компьютера странички, гордо озаглавленные «Договор дарения». В конце текста от руки были вписаны имена: «Глафира Дмитриевна» и «Мария Сергеевна», а под ними стояли две старушечьи подписи.
– А где печать нотариуса? – недоуменно спросила Майя.
– А что, нужен был нотариус?
Пока обе женщины приходили в себя от изумления, в квартире раздались требовательные звонки. Карим и Никита стояли на лестничной клетке с вещами.
– Кажется, мы никуда не едем, по крайней мере сегодня, – объявила им Майя с истерическим смешком. – Договор-то недействителен.
– Я его сам из Интернета скачал, – вступился за договор Никита, – с юридического сайта.
– А что потом?
– А потом распечатал, и они его унесли к себе в комнату.
Майя опустила руку с бесполезной бумагой. Она, пожалуй, расхохоталась бы, если б не необходимость щадить чувства Лиды. Ну, старухи, ну, ловкачки! И откуда им, никогда не вступавшим в сделки с недвижимостью, было знать о целом пакете документов, который нужно собрать для оформления такого договора? Откуда им было задуматься о нотариусе? О государственной регистрации? Впрочем, о нотариусе могла бы вспомнить Глафира, уже оформлявшая завещание, но… хотела ли она это сделать? Или предпочла держать Марию Сергеевну в счастливом неведении относительно того, что их договор не имеет ни малейшей юридической силы?
Карим взглянул на часы.
– Ну, можно уже не торопиться, – констатировал он.
XXXII
– Итак, – сказала Майя, когда все трое, вернувшись в Глафирину квартиру, сидели за кухонным столом, – итак… – Она из последних сил собралась с силами и произнесла: – Похоже, единственная наследница по-прежнему я. Но кажется, с меня хватит.
Карим молча кивнул, а Никита отреагировал по-своему:
– Так мы все-таки поедем в Севастополь?
– Поедем, – измученно вздохнула Майя, – ну конечно, поедем. Надо только придумать, что нам делать с тетей Глашей – кто за ней будет ухаживать?
Поскольку никаких предложений не прозвучало, Майя продолжала:
– Надо оформить ее в какой-нибудь пансион в обмен на продажу квартиры. Никита, ты поищи в Интернете предложения.
Заняв таким образом ребенка, Майя отправилась в комнату Глафиры. На пороге она остановилась, будучи не в состоянии двигаться вперед, но все же заставила себя открыть дверь.
Старуха в тот день явно чувствовала себя лучше: она сидела в подушках и смотрела на Майю, как на своего злейшего врага. Женщина тихо поздоровалась.
– Судно вынеси! – велела старуха в ответ.
Вернувшись в комнату с вынесенным и вымытым судном, Майя сказала:
– Глафира Дмитриевна, Мария Сергеевна умерла.
Глафира никак не изменилась в лице. То ли она так хорошо владела собой, то ли ей было все равно.
– От чего? – холодно осведомилась она.
Майя рассказала. На лице Глафиры по-прежнему не отразилось ни скорби, ни даже волнения.
– И кто теперь за мной будет ухаживать? – задала она вопрос.
– Об этом-то я и хотела поговорить, – сказала Майя. – Дело в том, что ваш договор дарения недействителен…
Она подробно объяснила причину недействительности договора и в заключение добавила:
– Так что, сами понимаете, дети Марии Сергеевны не будут о вас заботиться.
Старуха молчала. Майя собиралась с духом.
– Вам надо подумать о том, чтобы продать свою квартиру какой-нибудь организации. С пожизненной рентой, разумеется.
– А ты на что? – спросила Глафира.
– Я? Я уезжаю. Мне больше ничего от вас не нужно.
Старуха усмехнулась:
– Ребенка обездолить хочешь?
Майя была готова к этому удару и смогла его парировать:
– Я хочу, чтобы он был счастлив, а у несчастной матери не может вырасти счастливый ребенок.
Это был удобный повод для того, чтобы вылить на Майю поток оскорблений. Женщина стойко выдержала их и продолжала:
– Но пока не найдутся люди, которые о вас позаботятся, мы останемся с вами.
– Чего это ради? Раз квартира тебе не нужна, так и убирайся отсюда поскорее. В свою Тмутаракань.
– Да как же я могу отсюда убраться?! – срываясь, выкрикнула Майя. – А вы?
– А что я?
– Но вам даже воды некому подать!
По лицу старухи поползла мрачная ухмылка:
– А если я и сдохну, что тебе-то? Неужели жалеть меня будешь?
И тут Майя не выдержала:
– Что мне?! Да как я потом буду жить, если брошу вас тут одну, без помощи?! Вы же… Кем бы вы ни были, вы ведь тоже человек!
При словах «тоже человек» Глафира словно отшатнулась от Майи, вжавшись в подушки. Рот ее приоткрылся, словно она хотела что-то сказать, а затем старуха резко повалилась вперед и захрапела, точно в ту же секунду впала в глубокий сон. Несколько мгновений Майя ошарашенно стояла, не зная, что предпринять, а затем, чувствуя неладное, принялась трясти старуху и кричать Кариму, чтобы он вызывал «скорую». Полчаса спустя врач, осмотрев пациентку, покачал головой:
– От силы два-три дня еще протянет, но в сознание уже не придет. Это инсульт, и очень обширный.
– И что же нам делать? – потерянно спросила Майя.
Врач пожал плечами:
– Поите время от времени. Если удастся.
Ужинать Майя не могла. Несмотря на плотно закрытые двери, она продолжала слышать старухин храп. И Никита, и Карим тоже едва притронулись к еде.
– Мама, – спросил мальчик, – а почему тетя Глаша так быстро постарела?
Майя была не в состоянии говорить. Выручил ее Карим, выдавший что-то околонаучное про генетические болезни.
– А она была такая красивая! – вздохнул Никита.
Майя вдруг разрыдалась: про такую красоту, как у Глафиры, принято говорить «дар Божий», но как она распорядилась этим даром? Создала ад на земле для себя и для всех своих близких.
Вернувшись в комнату старухи, Майя присела на постель у ее изголовья. Глафирино лицо было скошено на одну сторону, рот неестественно открыт, храп не прекращался, язык вываливался наружу, точно все еще что-то хотел сказать, и сейчас белокурая красавица представляла собой страшную карикатуру на человека. Майя с состраданием провела рукой по ее волосам и неожиданно встретилась взглядом с яростно сияющим на груди оранжевым кулоном. Вздрогнув, она убрала руку с головы старухи.
В комнату вошел Карим и присел рядом с ней. Оба молчали, но Майя чувствовала: ее связь с этим человеком становится еще глубже, чем прежде. И еще ей казалось, что в эти минуты они трое словно бы расходятся в разные двери: она с Каримом – в одну, а Глафира – в другую. И, не оборачиваясь, захлопывают эти двери за собой.
Она легла спать на сдвинутых креслах в старухиной комнате и просыпалась несколько раз за ночь. То ей казалось, что старухин храп стал еще страшнее, чем был, то ее просто поднимала тревога. А проснувшись на рассвете, она не поверила своим глазам и ушам: старухино дыхание стало ровным, перекошенное лицо как будто разгладилось, и Глафира выглядела как мирно спящий человек, слыхом не слыхивавший ни о каких инсультах. Успокоенная увиденным, Майя с облегчением провалилась в сон.
Зашторенное окно постепенно светлело, но для ее измученного сознания эта короткая летняя ночь никак не могла закончиться наступлением утра. Во сне Майя видела молодую женщину в длинной, до пят, холщовой рубашке, которая собиралась вброд перейти небольшой ручей. Была ли это Глафира, она различить не могла, поскольку женщина стояла к ней спиной. Горделивая стать сибирячки не проглядывала в этой женской фигуре – плечи и голова ее были скорбно опущены. Цвет волос было тоже не разобрать: пряди слиплись и потемнели, точно женщина побывала под дождем. Подобрав полы рубахи, женщина вступила в воды ручья, и только сейчас Майя заметила, что на другой его стороне стоят двое мужчин. Один из них, средних лет, статный и представительный, был одет в форму морского офицера; Майя различила даже кортик на перевязи у его бедра. Второй, молодой, казался точной копией первого, с той только разницей, что на нем были штатские брюки и рубашка. В руках он как-то бессмысленно комкал широкий лоскут белой ткани, напоминавший детскую пеленку.
Женщина брела и брела по воде к ним навстречу, но узкий ручей почему-то никак не кончался, а разливался все шире и шире, превращаясь в настоящую реку. Затем по воде пошли волны, и Майя осознала, что это море, а берег, где ждали двое мужчин, вместо того чтобы приблизиться, удалился. Женщина брела уже по пояс в воде, когда стало заметно, что справа и слева от нее простирается минное поле и черные шары, утыканные взрывателями, покачиваются на тросах, словно чудовищные ядовитые грибы. Неожиданно навстречу ей по воде поплыли книги, старинные книги в пергаментных переплетах, и женщина беспомощно пыталась отстранить их руками, а вслед за книгами одиноко, точно потерянный в вечности корабль, на волнах закачалась прозрачная кювеза, куда в роддоме кладут новорожденных детей. И этого последнего видения Майя уже не выдержала. Ее буквально вытряхнуло из сна, словно летчика, успевшего катапультироваться перед тем, как его самолет врежется в землю.
Очнувшись, она облегченно перевела дух и, не открывая глаз, вернулась к обрывкам вчерашних мыслей: надо как можно скорее подыскать для Глафиры опекунов. Она приподнялась на локте, чтобы взглянуть на больную… и увидела, что голова старухи обмотана полотенцем, чтобы удержать на месте челюсть, а веки придавлены пятирублевыми монетами. В коридоре и ванной комнате слышались какие-то звуки: очевидно, Карим занавешивал там зеркала.
XXXIII
– Она не забыла взять с собой служанку, – сказал Карим, когда они сидели в похоронном автобусе, направляющемся в крематорий.
Майя непонимающе посмотрела на него.
– Я имею в виду Марию Сергеевну.
Майя продолжала не понимать.
– Ну, знаешь, как это было принято у скифов, да и у некоторых других народов: когда умирал знатный человек, вместе с ним убивали его слуг, жен, лошадей.
– Не надо! – тихо попросила Майя. – Я больше не могу.
Дальнейший путь они проделали в молчании. В крематории, когда для прощания с покойной подняли крышку гроба, Майя вдруг подумала о том, что Глафира отправляется в огненную геенну без единого цветка. И без единого поцелуя: и у нее самой, и у Карима вызывала содрогание одна мысль о том, что можно приложиться ко лбу умершей. Однако когда гроб стали переносить с каталки на постамент в центре зала, Майя заметила, что Карим что-то положил к обутым в строгие черные туфли ногам. Она перевела на него взгляд и увидела, что в ухе у Глафириного внука больше нет серьги с оранжевым гранатом. Ни единой вещи, которая напоминала бы о Глафире, на земле не оставалось. Гроб начал опускаться вниз, и вскоре над ним сомкнулся зеленый покров.
– Прощай! – еле слышно произнесла Майя.
Они медленно вышли на улицу. После всего пережитого обоим с трудом верилось в зелень июньской листвы, в запах липы, в солнечные блики. Оба не сговариваясь замерли на месте, словно заново привыкая к распахнувшейся для них жизни.
В эти минуты Майя заметила, что на другой стороне улицы кто-то пристально на них смотрит. Она подняла голову и дрогнула: это была та самая женщина… да, та самая женщина, лицо которой когда-то возникло перед ней как видение в доме Богородицы. Губы, распахнутые в веселой улыбке, светящиеся счастьем глаза, от лица так и веет беспечальной молодостью… С заколотившимся сердцем Майя сделала шаг ей навстречу, но женщина, светло улыбнувшись, исчезла за стволами деревьев.
– Кто это? – спросил Карим. – Ты ее знаешь?
– Все хорошо, – проникновенно, как молитву, прошептала Майя, – да, теперь все будет хорошо.
По возвращении домой оба не могли говорить ни о чем, кроме каких-то бытовых мелочей: новые билеты на поезд, новые сборы в дорогу. Лишь ближе к вечеру Майя завела разговор о том, что никак не оставляло ее в покое.
– Карим, я тут подумала: мне же надо подавать завещание в нотариальную контору… Ну, чтобы потом вступить в наследство…
– Да, и что?
– Мне только сейчас пришло в голову: твоя мама – она ведь тоже наследница. Я знаю, где лежит ее свидетельство о рождении. Она тоже должна претендовать…
Карим пожал плечами:
– Зачем столько сложностей? Квартиру ведь все равно потом придется продавать. А там уж, я надеюсь, мы договоримся, как поделить деньги.
Потрясенная, Майя подумала, что при этих словах Глафира должна перевернуться в гробу: там, где она пыталась взрастить ненависть и беду, выросла небывалая сплоченность душ. Что же касается продажи квартиры, то об этом она еще не задумывалась, но сейчас, услышав мнение Карима, поняла, что другого продолжения этой безумной истории, собственно, и не существует. Пусть кто угодно живет в тех стенах, где обитала старуха, только не они!
– Знаешь, я тут однажды нашла кое-что, что имеет отношение к твоим маме и дяде, – торопливо, чтобы унять волнение, заговорила она. – Мы должны обязательно взять это все с собой! Пойдем, я покажу.
Однако, открыв заветный ящик в шкафу, Майя потерпела фиаско. Коробка из-под документов была на своем месте, но на сей раз она оказалась пуста. Ошеломленная, Майя рассказывала Кариму обо всем, что ей тогда довелось обнаружить, и одновременно обыскивала все другие закутки, где могли храниться документы, но безрезультатно. Очевидно, Глафира как следует постаралась, чтобы память о ее детях исчезла вместе с ней.
– Не переживай, – сказал Карим, глядя на ее опечаленное лицо, – она права. Тем, кто был с ней как-то близок, лучше об этом не вспоминать.
Он поднялся на ноги.
– А посмотрите, что я нашел!
Оба с удивлением повернулись к стоящему в дверях Никите. За всеми событиями этого тягостного дня и Карим, и Майя как будто забыли о мальчике, а сейчас он вновь стоял перед ними и протягивал какой-то дряхлый, коричневатый от времени листок бумаги. Майя развернула его. Это было письмо, написанное, видимо, десятки лет назад, но так и не отправленное. Да и не законченное – внизу не было подписи.
– Откуда это? – спросила Майя.
– Да вот в коробке лежало.
Лежало в коробке… Но тогда, когда Майя перебирала здесь бумаги в первый раз, она не заметила никакого письма. Впрочем, женщина уже перестала удивляться происходящим невероятностям. Она начала читать, и Карим, встав бок о бок с ней, тоже принялся пробегать глазами строчки.
Дорогая доченька!
Мне очень непросто писать тебе это письмо. Я до сих пор не могу смириться с тем, что ты меня бросила, до сих пор надеюсь, что ты еще вернешься и у меня опять будет семья. Это ведь так страшно – потерять своих детей! Ничего страшнее нет на свете.
Стоит мне на улице услышать за спиной детский голос, как я останавливаюсь и не могу идти дальше – все кажется, что это вы меня зовете; стою и дрожу, а обернуться нельзя. Я чувствую детское тельце – твое или Петино – на сгибе своей левой руки, а правая так и тянется накрыть вас махровой простынкой. Я опускаю руки, а руки ждут, что вы вот-вот возьметесь за них своими варежками. Я сажусь на скамейку, закрываю лицо, чтобы не было видно слез, и мне так ясно кажется, что сейчас подбежит кто-то из вас, отведет мои ладони от мокрых глаз и спросит: «Мамочка, что с тобой? Кто-то тебя обидел?» И когда я прихожу в себя, то думаю: ну как со мною могло случиться то, что случилось? Как я могла потерять вас всех: и Леню, и Петю, и тебя? Где бы вы ни были, неужели вам лучше от того, что вы меня оставили? Но раз вас нет, то и меня уже почти нет: я подхожу к зеркалу и вижу, что вместо меня оттуда глядит какая-то старуха. И эту старуху больше некому любить.
Теперь, когда я осталась одна, меня одолела бессонница. Я просыпаюсь в четыре – в пять утра, встаю, брожу по квартире и мечтаю разбить голову о ее проклятые стены. Зачем она мне, если в ней нету вас? Есть только страшная память о Лене и Пете, а о тебе – ничего, точно ты никогда и не жила со мной рядом. А я и не знала, что ты забрала в Севастополь все свои вещи; верила, что ты меня оставляешь на время, что еще вернешься. А потом открыла твой шкаф и все поняла. Поняла, что вся моя жизнь осталась в прошлом.
Сейчас ты живешь в том городе, где мне когда-то было так хорошо, пока я почему-то не решила, что именно меня, жену героя, должен узнавать на улице каждый встречный. Пока не послала мужа на мины… Доченька, разреши мне приехать к тебе! Только приехать, посмотреть, где ты, как ты, счастлива ли ты. Если счастлива, то больше мне ничего и не надо, я сразу уеду обратно. И буду доживать спокойно все, что мне осталось. Нет жизни без любви! Что бы там ни говорили, нет. Мне бы только тебя увидеть! Ты меня любишь, доченька?
Карим осторожно сложил хрупкую бумагу по истончившимся линиям сгиба. Майя видела, как дрожат его пальцы и как он не может совладать с лицом. Наконец, справившись с собой, Карим повернулся к Никите.
– Считай, что ты нашел свой клад, – приглушенным, но не вызывающим сомнений голосом сказал он. – Вот теперь пора ехать домой.
Дорогие читатели!
Автор будет рад узнать ваше мнение об этой книге.
agileta@gmail.com





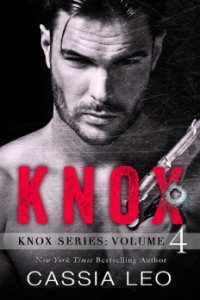


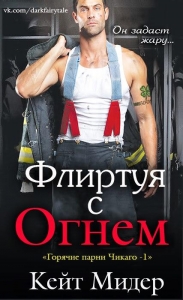
Комментарии к книге «Забудь меня такой», Евгения Валерьевна Кайдалова
Всего 0 комментариев